Арсений Ващенко, Александр Кашкаров Бом Булинат. Индийские дневники
© Издательство «Европейские издания», 2008
© Текст: А.Ю. Ващенко, А.В. Кашкаров
© Фото: А.Ю. Ващенко, А.В. Кашкаров
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Пролог
«Нет счастья человеку, который не странствует.
Живя в обществе людей, даже лучший человек становится грешником. Итак, странствуй!»
Айтарея БрахманаМы сидели на диване клуба «Дача», когда это заведение еще было клубом, и, чтобы попасть туда, надо было придумать пару хороших знакомых и иметь визитную карточку. Совсем недавно кончились новогодние праздники, и все страдали похмельем. Мы – это Кашкет, Арсений и Митяй.
Митяй – наш приятель с копной спутанных волос на голове. Три года назад он заработал прозвище «Бомж», за очень длительное и трепетное ухаживание за своей будущей женой, когда дневал и ночевал возле ее подъезда.
Кашкет – роста среднего, предпочитает короткую стрижку и частенько отпускает бороду, становясь похожим на араба-террориста, как только борода становится длиннее волос на голове. В лице его и впрямь есть нечто восточное, большие глаза и губы выдают в нем добрый нрав. Спокойный, невозмутимый характер, крепкое телосложение, открытый взгляд и уверенная манера говорить сразу располагают к доверию.
Во времена нашей юности Кашкету доверяли все родители. Если я шел гулять в компании Кашкета, мама никогда не волновалась. На любую юношескую авантюру родители смотрели благосклонно только в том случае, если не обходилось без участия Кашкета.
Его рассудительная манера говорить вызывает в слушателе желание верить всему сказанному, а интонация не оставляет сомнений в том, что Кашкет безоговорочно прав. Самомнения и уверенности в себе ему не занимать. Пользуясь этим, Кашкет может порой сморозить какую-нибудь нелепость с видом знатока, и все доверчиво кивают головами, загипнотизированные логической последовательностью повествования. Нередко в такие моменты я тоже делаю вид, что соглашаюсь, так как если уличить Кашкета во лжи, то разгорится неминуемый спор. Кашкет всегда прав, и его правда не подлежит сомнению. В древней Греции он был бы состоятельным гражданином, упражняясь в софистике и риторике.
Великими его достоинствами являются добрый нрав, спокойствие и умение хранить молчание, когда это особенно кстати. Не помню ни одного случая, чтобы я с ним поссорился, мы всегда находим компромисс, в чем, впрочем, есть и моя заслуга. Небывалая уверенность в себе и своих силах прочно держит его на ногах. Он никогда не поддается панике, волнению, суете и речеобилию.
Подобно мудрецу, Кашкет на все взирает со спокойствием и улыбкой. Это распространяется и на чувства. Кашкета не увидеть замеревшим перед небывалым пейзажем или бурно реагирующим на чудеса природы. Какой бы силы ни была радость – она никогда не выливается через край, а тихо булькает на дне его души. Единственное, что заставляет вскипать его кровь – это алкоголь и женщины в одном флаконе. Такая «бесчувственность» моего друга отражается и на его отношении к здоровью. Кашкет никогда не болеет, а если уж заболеет, то не признается в этом даже самому себе. Ну, а коли уж случается подняться температуре, он отвергает любые лекарства и просит купить побольше сигарет и бутылку рома.
Еще в школьные времена Кашкета привлек образ Брюса Виллиса и, стараясь во всем походить на своего героя, он некоторое время успешно воплощал его в жизнь. Минимум удобств, трехдневная щетина, волевой, сосредоточенный взгляд, синдром похмелья, пачка «Lucky strike» в кармане и сигарета натощак стали правилами, а вскоре утвердились в привычку. Кое-что навсегда впиталось в его характер и уже не принадлежало одному Брюсу, а стало неотъемлемой частью моего друга.
Кашкет без сигареты – все равно, что пляж без моря! Дома Кашкет чаще всего возлежит, согнув одну ногу, на своем спартанском диванчике с книгой в руках и сигаретой в зубах. На тумбочке у изголовья – несколько пустых пачек, пепельница, зажигалка, стопка самых разнообразных книг и мобильный телефон с оглушительным звонком, напоминающим трель дискового аппарата.
– Сигареты купил?
– Держи.
– Привет!
– Салют!
С этого начинаются почти все наши встречи, или:
– Привет!
– Салют! Послушай…
– Сейчас погоди, сигареты возьму, – говорит Кашкет, направляясь к вешалке.
Кашкет – надежный человек, на него всегда можно рассчитывать. Но на что я, бывает, злюсь, так это на его вселенскую лень, может, отчасти потому, что тут мы похожи, и нередко вступаем прямо-таки в состязание, кто кого перелентяйничает. Кашкет по большей части побеждает.
Мой друг может провести несколько дней прикованным к кровати с книгой в руке и в блаженной дреме, без еды и воды, но не без сигарет. Однажды в деревне Кашкет пролежал неделю, пока не прочел все что имелось от корки до корки и не выкурил все до тла. После этого он как ни в чем не бывало вскочил с постели и пешком отправился в магазин за пять километров купить сигарет.
Правда, надо отдать ему должное – уж если он поднялся и взялся за дело, то доводит все до конца.
Кашкет наделен тонким чувством юмора, самообладанием и он всеяден – в общем, всем тем, что нужно для хорошего друга и прекрасного попутчика.
Арсений. Не так просто двумя словами описать Арсения – и его внешность, и характер заставляют задуматься. Мне он чем-то напоминает Артюра Рембо, после того, как тот вернулся из Африки. Со светлыми редкими волосами, греческим профилем, он бы неплохо смотрелся в напудренном парике с длинными локонам в эпоху Людовика XIV. Ему также подошел бы Париж начала прошлого века, Арсений жил бы на бульваре Монпарнас, сидел бы в кафе, попивая абсент, закутанный в длинный шарф ядовитого цвета. Есть еще в нем «барчуковость» – эдакая врожденная ленивость избалованного молодца.
Для такого человека жизнь в нынешней Москве невозможна. Но этого не видно с первого взгляда – с друзьями, в больших компаниях и обычных пьянках он весел, говорлив, и может искренне и увлеченно болтать о всякой ерунде, заболтать какую-нибудь барышню, увести ее в злачный клуб, натрескаться там чем ни попадя, а на утро мучиться совестью и испытывать нечто вроде душевного похмелья, и позже, целую неделю также искренне раскаиваться в содеянном.
Арсений пессимист, романтик и идеалист, он во всем ищет подвох и обычно его находит. У него доброе сердце, душа не знает покоя, а вот мозг ему, судя по постоянным мигреням, просто ни к чему.
Арсений очень трепетно относится к своему здоровью. Утро его невозможно представить без геркулесовой кашки или перепелиных яиц, еще он делает зарядку по утрам и прочие упражнения для повышения тонуса, правда, обычно это каким-то невероятным образом сочетается с алкогольными возлияниями на традиционных пятничных, субботних и воскресных вечеринках.
– Как ты можешь это есть, Кашкет?! – возмущенно восклицает Арсений, указывая на жареную курицу. – Это же сплошной холестерин и канцерогены!
– Некоторым это полезно!
– Побереги свое здоровье! И сходи на обследование!
Прием у врача – это единственное исключение, когда мой друг не опаздывает. Во всех остальных случаях он умудряется опаздывать минут на двадцать, тридцать, делая вид, что сам не понимает, как такое могло случиться, хотя на самом деле причины банальны – не успел доесть геркулес с йогуртом.
– Ты когда-нибудь и на свои похороны опоздаешь!
– Типун тебе на язык! Да, позвонили с работы, потом надо было к сестре забежать, ну а там… сам же знаешь – Москва! – трагически произносит Арсений. Это типичная отговорка.
Одно я знаю наверняка – он хороший друг, который всегда опаздывает.
* * *
На нашем месте мог бы быть кто угодно – обычные люди двадцати пяти лет отроду, имеющие работу, досуг, депрессии, не знающие, что делать в ближайшем будущем, ищущие относительную свободу там, где обычно находят лишь заблуждения, страдающие «от нечего делать», жаждущие того, чего сами не ведают. Но сидели на удобном диване именно мы…
– Эх, скучно! Надоело все – чесать «бобиком» в офис, ждать выходных и ходить по клубам, мучиться похмельем по воскресеньям, и все это с календарной точностью! − провозгласил Арсений.
– Я себе специально работу выбирал, чтоб каждую неделю в командировки − самолет, поезд, проводник – куда-нибудь в чужой город… − меланхолично поддержал Кашкет. – И хоть бы что! Так же скучно.
– Чего мучиться? – воскликнул Митяй. – Езжайте куда-нибудь подальше, да на подольше!
– Ну да, и все бросить? – засомневался Арсений. – И где денег набрать?
– Перемещение не поможет – проверено! – убежденно сказал Кашкет. – Надо себя менять, а себя не бросишь!
Митяй хитро прищурился, философски подпер свою косматую голову рукой и назидательным тоном произнес:
– Прописная истина, старик, но путешествие обновляет и позволяет оторваться от поглотившей тебя обыденности, и взглянуть на все по-новому, в том числе и на себя самого.
Официантка принесла текилы, поставила каждому по рюмке и удалилась обслуживать двух англичан, которые все это время сражались в бильярд за нашими спинами и громко обзывали друг друга нецензурными английскими выражениями. Арсений проводил взглядом официантку, взглянул на бильярдистов, которые замолчали, припав к пивным кружкам, и сказал:
– Вот, паразиты, им хоть бы что – уважаю англикосов! Нигде не пропадут. – Арсений снова повернул голову в сторону официантки. – А кроме денег… Где там женщин искать?
– Найдете где-нибудь.
– И где ж это «где-нибудь», Митяй? – поинтересовался Кашкет.
– Да, Бомж, ты ж все знаешь, сам себе жену тут нашел, а нас куда-то «туда» – вот и объясняй!
– Ну, говорят, на Кубе за бутылку колы можно такую мулатку найти, что… – Митяй, не договорил, вздохнул и теперь задумался сам. – В общем, есть места.
– Слышала б тебя жена, Митяй, ты б другие места нам рекомендовал, – резюмировал Кашкет. – Чего болтать, все равно никуда не свалим, будем сидеть вот так, пить и разглагольствовать, пока сорок не стукнет.
К нам снова подошла официантка, окинула любезным, усталым взглядом, спросила, что нам угодно, Арсений почему-то заказал три порции рома.
– Нет, Кашкет, нельзя так больше! Поехали на Ямайку или в Индию!
– Мне лично надоели сотовый телефон, менты, снегоуборочные машины и дети возле цирка на Цветном бульваре, которых фотографируют дерганные родственники – я уже, наверное, засветился на тысяче фотографий с детьми разных лет, с надувными шариками и без… Так вот, если этого всего не будет – я готов!
– Чего это в Индию? – удивился Митяй. – Почему не на Кубу? Я ж говорю, там за колу…
Арсений не дал договорить Митяю.
– Недавно к моим родителям приезжала их подруга из Италии, рассказывала, что купила домик в каком-то городишке в Индии, нас звала… Говорит, что подобного нигде не найдешь.
– Ага, хороший выбор! Прекрасный! – вскипятился Митяй. – Там же тотальная жесть!
– Жесть тут! – сказал Кашкет и пристально посмотрел на Митяя. – Там, может, и индийская жесть, но московской я сыт по горло.
– Ну ладно, – согласился Митяй и повернулся к Арсению. – Слушай, братец, а что за домик? В каком городе? С прислугой, уроками камасутры? Все что угодно, лишь бы не к кришнаитам!
– Я знаю не больше твоего, но Карла сказала, что райское местечко!
– Ага, райское! В Индии таких нет!
– Итальянцам я доверяю, Митяй, у них тонкое чувство прекрасного!
– Да там же миллиард индусов! – не унимался Митяй.
– Не индусы, а индийцы! Индус – это приверженец религии, а если говорить о национальности – то индиец! – сказал Кашкет.
– По сути Кашкет прав, но мне все же больше нравится «индусы» – так звучнее! И плевать, сколько их там, главное – уехать!
– Ну, если это случится – я разведусь!
Мы поспорили на митяевский бракоразводный процесс, скрепив спор выпитым ромом.
* * *
Как только я принял твердое решение отправиться куда подальше из Москвы, я испытал облегчение, будто уже отправился в путь, хотя все еще продолжал сидеть в офисе и выполнять работу, которая мне осточертела.
Я предвкушал, что скоро все вокруг меня изменится, станет новым и прекрасным. Чувство опасности только усиливало все остальные. Я знал, что путешествие взбудоражит кровь, встряхнет мозги и чувства, и всего меня.
Я не думал о своей жизни после возвращения, так далеко вперед я не заглядывал, мне просто все надоело в Москве, прежде всего размеренный график жизни по календарю от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты. Дни мелькали, как минуты, а недели как часы, чувство ограниченной свободы просыпалось в субботу, а к вечеру следующего дня виновато удалялось. Будни представлялись обыденно серыми и таяли, не задерживаясь в памяти. Время неслось неумолимо вперед, и я уже представлял себя в летах, с пузом и лысиной, лениво плетущимся на работу или в бар, скучным мещанином, не допускающем даже мысли о чем-то необычном. Будучи молодым и полным сил, я не хотел соглашаться с тем, что жизнь, которую я вел в данный момент, можно вообще назвать жизнью. Мне хотелось движения, чувств, эмоций, приключений – настоящей жизни, черт побери! Может быть, я и не был к этому готов, но что-то так и толкало меня вперед.
Больше всего на свете мне хотелось, ни с кем не считаясь, послать все к черту и хоть раз сделать так, как хочется только мне.
Почему бы и нет, подумал я и объявил боссу, что увольняюсь. Босс решил, что меня что-то не устраивает, но когда услышал, что я собираюсь в Индию и надолго, только и сказал: «Мы силой никого не держим».
Оставшееся до отъезда время я пребывал в состоянии сладостного предвкушения. Я вдруг взглянул на всю обыденность по-новому, многое меня перестало раздражать. Я мечтал быть то Робинзом на безлюдном острове в тени кокосовых пальм, то колонизатором в пробковом шлеме, смакующим стаканчик джина в тени баньяна. Мне было плевать на карьеру и на все блага городской жизни.
Я не представлял, что буду там делать и, честно говоря, ничего не планировал, мой мозг требовал отдыха, душа – пищи, а я искал ответа на вопрос, которого сам не знал. Хотелось сменить обстановку, глотнуть свободы, и с головой окунуться в неизвестность. И все равно Индия или что-либо другое. И еще хотелось настоящей экзотики.
Мне хотелось стряхнуть с себя гнет городских предрассудков. Я чувствовал, что надо уехать, и уехать надолго!
* * *
Не знаю, что побуждает человека путешествовать в наше время, явно не жажда приключений. Покинуть свой уютный дом, отказаться от работы, большой зарплаты, женщин и телевизора ради длительного и сомнительного путешествия по такой стране, как Индия, многим покажется довольно неразумным поступком и, более того, решением идиотским, не сулящим ничего хорошего.
Перед отъездом, в то время, когда мне еще надо было сидеть на своем рабочем месте и сдавать дела новоиспеченному сотруднику, я получал по электронной почте письма от Арсения. Все его письма были исключительно о том, какие разновидности вредоносных бактерий существуют в Азии, сколько видов ядовитых пресмыкающихся обитает в Индии, и как отличить обычную диарею от дизентерии или тифа.
Альберт Камю как-то заметил, что в Индии умирают либо безумными, либо счастливыми. Я совершенно не собирался там умирать. Однако все наши сборы отчасти напоминали похороны, и иногда мне казалось, что обратно нам не вернуться.
Когда сборы стали походить на поминки, я подумал, что если уж нам и суждено помереть в Индии, то Арсений покинет этот мир безумным и вряд ли счастливым.
Я как-то уж больно просто решился на эту затею. Семь лет назад также запросто мы купили дом в деревне на последние деньги. Но приготовления к любой поездке отвлекают, а предвкушение дороги, ожидание чего-то неизведанного действуют, как хорошая порция текилы. Например, методично обсуждая противопоказания «Делагила», Арсений ни с того ни с сего принимался мечтать вслух о будущих днях где-нибудь в Варанаси, где вооброжал себя исключительно в роли колонизатора. Дальше его воображение рисовало другие, но всегда соблазнительные и экзотические картины. Так он фантазировал до самого отъезда, ни разу не усомнившись в том, что все может выйти совершенно иначе. Но я его не расстраивал, потому что и сам имел весьма смутное представление о ближайшем будущем, и это ощущение не прошло даже тогда, когда мне, наконец, вручили паспорта с визами и билеты.
В детстве я имел несчастье посмотреть фильм «Танцор диско». Я на всю жизнь запомнил, как главный герой, Митхун Чакраборти, дерется с дюжиной усатых негодяев, подкидывая высоко вверх катушечный магнитофон и раздавая оплеухи, больше похожие на смачные пощечины. Звуки ударов походили на хлопки в ладоши. В конце эпизода Митхун избил всех негодяев под собственные аплодисменты. Неизгладимое впечатление! Примерно такими же были мои представления об Индии. Когда я задавался вопросом «что там будет?» – передо мной вырастал танцор диско с магнитофоном под мышкой. Нет, я, конечно, знал что-то об Индии, и довольно много, но это ровным счетом ничего не давало, и поэтому я просто не имел права разоблачать иллюзии моего друга.
В какой-то момент Арсений решил, что он все-таки художник, и мы поехали за холстами и красками. По дороге он без умолку говорил о том, как это здорово – вырваться на свободу, в неизвестность, а, главное, творить, когда у тебя в распоряжении куча свободного времени, целый дом и пара слуг с опахалами.… Сам я мало фантазировал на этот счет, постоянно натыкаясь на усатых негодяев и аплодисменты. Я вполне понимал, от чего уезжаю…
Не могу сказать с точностью, когда во мне зародилось это чувство – чувство раздражения и гадливости.
На работе утром я никогда не работал – читал книги. Однажды на обложке книги, которую я взял с собой, было написано «читать модно». И я, признаюсь, злорадно ухмыльнуться: кого модно читать? Всех подряд? Гоголя, Толстого? Гете, Данте? Маринину, Шопенгауэра? Кого? Непонятно. Какой кретин мог это выдумать!? Окончательно меня добил канун праздника – День города! Более невыносимого праздника в календаре нельзя вообразить! Утешением служит лишь то, что он в сентябре и всегда можно уехать в глушь, в деревню, подальше от пластиковых стаканов, разбитых бутылок и толпы идиотов на Пушкинской площади.
Все это известно и не ново. И много сейчас книг про то, что Москва – не город, а «краткосрочный проект для амбиций», вокруг актуальные профессии, престижные должности, менеджеры всех возможных звеньев, их истории о взлетах и падениях, о растленном мегаполисе и проч. Такие истории, похоже, должны служить отдушиной или собственным оправданием для читателя. Порой я спрашивал себя – не убегаю ли от всего этого? Не злобный ли я дезертир? Отчасти это было именно так – я улепетывал с поля боя, но с чистой совестью, потому как думал, что такие баталии не по мне. Я не сомневался, что в Индии с нами случиться нечто «значительное»! Жизнеутверждающие, позабытые подростковые иллюзии!
Я по-прежнему не мог согласиться со все более утопичными мечтаниями Арсения – они казались мне подозрительными и чересчур наивными. Единственное, что все еще омрачало жизнь моего друга, так это болезни, климат, насекомые и «азиатчина». Он боялся этой азиатчины, как укуса королевской кобры, но разъяснить, что он имел в виду, никак не мог. Встретились с Константином Хасиным – аюрведическим[1] врачом, который выдал нам рулон бумаги с дикими названиями из индийской народной фармакологии. И Арсению стало гораздо лучше. Совсем уверенно Арсений почувствовал себя, когда нам вкололи прививки от гепатита и брюшного тифа.
Костя Хасин, казалось, предупредил обо всех возможных индийских напастях, но когда я сказал ему, что планируем сразу, по прилету, ехать в Варанаси, он как-то скис, пожал плечами и дополнил список лекарств еще дюжиной названий.
На этом все приготовления были закончены, и мы наконец поняли, что уезжаем, однако я никак не мог найти в себе мысли об обратном возвращении. С другой стороны, фактическое возвращение не только предполагалось, но и навязывалось – об этом говорила и дата в билетах, и друзья, и близкие, и что-то еще – вроде военкомата и неоконченной аспирантуры. При этом я вдруг обнаружил, что и родственников, и друзей очень быстро и легко забыть даже до отъезда. Меня изумила собственная черствость.
Итак, у нас были билеты до Дели, карточка «Travel Visa» с двумя тысячами долларов на счете и девятьсот долларов наличными, два фотоаппарата, холсты, краски, плеер, аккумуляторы, заряжающее устройство и еще куча ненужных в будущем вещей.
Перед отъездом мы, по обыкновению, устроили грандиозную вечеринку, с обилием алкоголя и тостов, причем многие пили не чокаясь. Нас не провожали – нас хоронили: сулили голодную смерть, нескончаемый понос, половое воздержание и прочие неприятности. Многие обещали обязательно приехать, другие советовали, куда ехать, но никто не сказал, зачем.
Я решительно не знал, чего ждать, и оттого радостно и глупо улыбался всему и вся.
Однако ж эта идиотская улыбка исчезла с моего лица тотчас, как мы очутились на Мэйн базаре [2]…
* * *
Опасения, что Арсений умрет в Индии безумным, подтверждались. Он лежал в душном номере без окон отеля «Хари Рама», на квадратной кровати, уставившись в потолок, на котором, грозясь сорваться, бешено крутился вентилятор. Крохотная комната была отделана розовой кафельной плиткой и напоминала душевую или операционную. Вид Арсения вызывал уныние, он отказывался разговаривать и шевелиться.
Несмотря на свое название «Хари Рама» – «израильский» отель, на третьем этаже размещается подобие синагоги. В маленьком грязном вестибюле я повстречал раввина, который пытался зазвать всех постояльцев на молебен – но практически все израильтяне были наглухо обкурены и без передышки били в таблы[3], не обращая на раввина никакого внимания. Этот самоотверженный человек с пейсами так строго посмотрел на меня, указав в сторону комнатки-синагоги, что я чуть было не подался в иудеи. Английского я не знал, иврита тоже, поэтому неловко вытащил из-под рубахи православный крестик, и тогда он печально покачал головой и снисходительно улыбнулся: «У всех свои недостатки».
Вернувшись в розовый склеп, я застал Арсения в том же положении. После прилета он сказал всего одну фразу: «Жесть! Надо обратно, в Москву!».
Варанаси
Варанаси – город Шивы, одно из самых священных мест Индии. Название Варанаси происходит от имен рек Варуна и Асси, между которыми стоит город. Более двух тысяч лет Варанаси явлется культурным центром страны и считается древнешим обитаемым городом планеты. Первое упоминание о городе относится к XIII в. до н. э. В прошлом известен как Бенарес, Каши.
«Моя душа, восхищенная этим величественным созерцанием, возносилась к Божеству; и, глядя с этой высоты, как мои ближние в слепом неведении идут по пути своих предрассудков, своих заблуждений, несчастий, преступлений, я кричал им слабым голосом, которого они не могли услышать: «Безумцы, вы беспрестанно жалуетесь… Узнайте же, что все ваши беды исходят от вас!».
Жан Жак Руссо. «Исповедь»«Ты есть то».
Уддалаки АруниКогда курю – всегда хочется писать! Так и сейчас, затушив биди[4], пожалуй, черкну пару строк.
Вот уже несколько дней мое настроение напоминает грибной трип, волна эйфории сменяется волной депрессии, вторая обычно длиннее первой. Наверное, это в порядке вещей, но сегодня это меня уже не утешает, и я снова в аду, добро пожаловать назад, заходите, мы вас ждали, присаживайтесь вот сюда, здесь не так жарко, голову лучше отложить, а мозг вынуть!
Поразительно, что может проделывать воспаленное сознание!
Зачем я приехал сюда, что делать дальше, как жить? Когда я в Москве, меня все бесит и хочется вырваться оттуда, а когда это удается, наступает скука, хандра и хочется обратно. Замкнутый круг, где меняются только декорации, а главное неизменно – будто едешь в поезде, а мимо, сменяя друг друга, проносятся цветные картинки, какое-то время это тебя занимает, затем надоедает, как и все в этом мире, и начинаются новые поиски, чтоб не сойти с ума.
Я ставлю опыт – буду записывать все, что со мной происходит, а когда все пройдет, в чем я не сомневаюсь, предамся самоанализу, будет развлекуха на какое-то время, оттянусь как следует.
Индусы иногда просто бесят своим женским любопытством и назойливостью. С другой стороны, они умиляют меня своей любовью к жизни, тем, как просто и радостно они по ней топают, ни капли не заботясь о материальной стороне, тут я им честно завидую…
Так вот, помню, как неделю назад задавался теми же вопросами и вначале также лез на стену, то ли от тоски, то ли от уныния. Помнится, лежал и думал, почему ж мне так плохо и неспокойно, когда причин для этого нет. Наоборот, все вокруг складывается очень позитивно. Я в полной мере мог бы считать себя вполне счастливым человеком, но чувствовал себя при этом абсолютно несчастным.
На некоторые вопросы я нашел ответы, но многие так и остались неразрешенными. Тем не менее, как-то раз, проснувшись поутру, я почувствовал, что все прекратилось, мрачные мысли, как ветром сдуло, никаких забот, полная безмятежность – чудесная метаморфоза. Я почувствовал себя настолько счастливым, насколько им и являлся, и дальше с каждым днем это чувство только возрастало. Угрюмые мыслишки потеряли тропинку к своему дому и растворились в чаще сказочных ощущений. Надо сказать, что когда ты счастлив, зная отчего и почему – то счастье умножается во сто крат.
Бенарес. Комната на втором этаже старинного дома с мраморными полами и колоннами, расположенного в самом сердце древнего города за полуразрушенным дворцом магараджи, который дышит прохладой пустых окон на залитый солнцем Ганг[5]. На улице галдит детвора, в комнату крадется дым благовоний из уличных алтариков, смешиваясь с ароматом еды и специй, мрамор пола холодит ступни, пролетает комар и все тот же Кашкет все так же читает. У меня по-прежнему все замечательно, я цел и невредим, я не спился, не сторчался, не скурился, денег на путешествие хватает, но я попрежнему угрюм и недоволен. С ужасом думаю о том, что если мне так плохо, когда вокруг так прекрасно, то что же будет, если вокруг станет плохо? Вы спросите, а с чего я взял, что будет именно так? Отвечаю, обязательно будет, не может же все всегда идти гладко, да и вообще я пессимист.
Бананы – 1 рупия за штуку. Мандарины – 25 рупий за кг. Ананас средних размеров – 25 рупий. Джем – 54 рупии за банку. Так закончился еще один день.
* * *
Вне всякого сомнения – что-то не так. Где я? И зачем?
Два вопроса, на которые не так просто ответить.
Бенарес, Индия, штат Утар Прадеш?
Да.
На другой планете?
Да.
Я избавился от шума снегоуборочных машин, пробок, суеты и телефона. Это положительная сторона. Однако сообразить и осмыслить, что я по доброй воле застрял в этом городе, мне кажется абсурдом. Виноват в этом, конечно, Варанаси. Сказать, что это странный город – ничего не сказать. Варанаси самый мистический город, из всех, которые я видел. Таких городов нет, и больше не будет. Нигде.
Вид на Варанаси с противоположного берега
Варанаси, на первый взгляд, обладает всеми атрибутами того, что обычно называют древним индийским городом: улицы, дома, бесконечные лавочки, липкий запах специй, ленивые коровы и собаки, словно сошедшие с полотен Иеронима Босха, грязь, жители, которых тут должно быть около двух миллионов или больше. Нагромождение домов, клубки сплетенных узеньких улиц и тупиков, кучи людей, живущих вне времени, существующих как иллюзия, каким-то мгновением.
В Бенаресе ощущается истинная религиозность, суть индуизма, квинтессенция культуры и обычаев, без понимания и разъяснений. Про это место можно сказать только то, что в Варанаси существует только сам Варанаси. Недаром даже Марк Твен, человек с большим чувством юмора, не стал иронизировать по этому поводу, сказав, что «Варанаси древнее самой истории, древнее традиций и легенд – древнее, чем все это вместе взятое».
Варанаси всегда будет выше традиционных литературно-исторических определений, которые дают городам, потому что этот город больше похож на затерянную Трою Гомера, на ветхозаветный Вавилон, когда в нем принялись строить башню, или на Атлантиду, которой, возможно, никогда не было. Но Бенарес есть. Он вырастает из матери Ганги, он – вскормленое ею дитя, и его взаимоотношения со священной рекой не так просты… Париж и Сена, Каир и Нил, Лондон и Темза – город и река, в то время как Варанаси и Ганг – это мистический союз двух осязаемых символов.
По преданию Варанаси вырос на месте, где упала слеза богини Парвати, а Ганг вытекает из головы самого Шивы.
Бенарес вошел в легенды как самостоятельный элемент. Известный арабский путешественник Абу Бируни[6] объясняет один из мифов так: «У индусов есть места, которые почитаются в связи с их религиозной жизнью, каков, например, город Варанаси. Отшельники направляются в этот город и остаются там навсегда, подобно тому, как соседи Каабы навсегда остаются в Мекке. Они желают, чтобы там завершился их жизненный предел, дабы после смерти их награда была наивысшей. Они говорят, что проливший кровь отвечает за свое преступление и наказуем соответственно со своей виной, разве что он войдет в город Варанаси, где получит прощение и отпущение грехов, и рассказывают легенду о том, что «Брахма обладал четырьмя головами в одном обличье. Между ним и Махадевой[7] произошла ссора, и последовавшая схватка завершилась тем, что одна из голов Брахмы была оторвана. В то время существовал такой обычай: победитель брал голову убитого противника в руку и держал ее подвешенной в знак унижения врага и собственной храбрости, вложив ей в рот уздечку. Голова Брахмы была таким образом обесчещена рукой Махадевы, который всюду носил ее с собой; куда бы он ни шел и что бы он ни делал, он никогда не расставался с ней пока, наконец, не достиг Варанаси. Как только он вошел в Варанаси, голова сразу выпала у него из руки и исчезла».
Чтобы разобраться в символизме этих легенд, нужно быть индусом. Арсению бесполезно что-нибудь объяснять про шиваизм или индуизм. Он считает всех индийцев дикарями, в крайнем случае, обзывает их язычниками. Мы ведем бесконечные дебаты, сидя на крыше нашего дома, вглядываясь в Ганг, покуривая чи́ллам[8] и попивая ром. Не знаю, чем вызвана такая категоричность моего друга, но он часто и честно говорит о собственных сомнениях и с еще большим удовольствием разглагольствует о внутреннем мире других. Иногда он даже отвечает за меня или за Махатму Ганди. Единственный индус, который его озадачил – Рабиндранат Тагор. Но я подозреваю, что его он индийцем не считает, причисляя к вымышленному племени философов.
Обитатель карнизов
* * *
Время остановилось!
Казалось, я не поднимался с этого плетеного кресла целую вечность, ноги так и лежат на небольшой медной табуретке с затейливым узором. В голове все те же мысли, но уже без мучительной тоски. Судя по красным цифрам на календаре, висящим на обшарпанной стене столовки, в которой мы вкушали завтрак – сегодня вечером будет какой-то праздник.
Календарь из столовки не соврал, часов около пяти мы вышли на Мунши Гат[9] и направились в сторону Асси. Еще не стемнело, но кое-где на гатах уже были расставлены балдахины, повсюду суета праздничных приготовлений. Ганг тихо ползет мимо, из-за далекой, сумрачной гряды зелени на другом берегу лениво выплывает огромная красная луна, декорации оживают, и уже не верится, как могло продолжаться представление без главного героя. Тучи ночных мотыльков осаждают освещающий набережную фонарь – такое впечатление, что идет снег.
Домой шли в кромешной темноте без фонарика, то и дело поскальзываясь на коровьих лепешках. Поднялись на крышу, зажгли свечи и пили ром. Кашкет все время повторял: «Хорошо сидим»; да, было действительно прекрасно! Внизу раздавались звуки праздника. Ганг вдруг замерцал оранжевой иллюминацией – это поплыли в красных черепках с цветами маленькие свечки. Сотни крошечных огоньков вытянулись в змею, все прибывая, словно выныривая из пучины – это плыла не видимая во тьме лодка, в которой кто-то зажигал и спускал на воду все новые и новые язычки пламени.
* * *
Время стоит.
Читаю Сартра. У меня с ним последнее время наладилась какая-то связь, что не замедлило подтвердиться, когда я прочел про «дворцы Бенареса», наверно и он здесь был, бродил по гатам и, возможно, так же страдал от одиночества.
Сартр, Бенарес, «Doors» и дым биди слились воедино в этой комнате. Вечер, а, кажется, что глубокая ночь, уже давно стемнело, но сейчас всего лишь полдевятого. Не знаю, писал я об этом или нет, но последнее время мне все лень. Лень писать, лень читать, лень курить, лень рисовать, лень выпивать, лень сидеть и лежать. Все это происходит само собой, без моего участия. Я – как растение, мысли роятся сами по себе, выводы рождаются и умирают, но не влекут за собой никаких действий. Все бессмысленно и неинтересно, жизнь кажется хрупкой, как сгоревшая спичка – только тронь, и все рассыпется в прах.
Сейчас Индия мне кажется какой-то враждебной.
Хочется оторваться от мыслей, забыться и ни о чем не думать, в голову лезет единственный способ – напиться. Гашиш надоел. От него мякнут мозги, становятся ленивыми, как и все тело. В стене сознания образуется брешь, в которую устремляются мысли. Когда все надоест и тут, вернусь домой, забыв, что и там все надоело, чтобы все надоело заново. Это бесконечная спираль, по которой можно двигаться до изнеможения.
Найти бы такое дело или занятие, которое заставит окунуться в него с головой, забыв обо всем остальном. Ведь живут же люди, делают свои дела, решают проблемы и считают себя счастливыми, не сходят с ума, может и мне поступить также!
Играли в шахматы, луна так и не показалась, несмотря на чистейшее небо. Странно! Даже все объясняющий Кашкет не знал, куда она делась.
Сидим сиднем дома. Хочется куда-нибудь двинуть из Бенареса, но, мне кажется, это бесполезно, никуда не деться от этих мыслей. Я уже не боюсь их, теперь мне просто интересно: «Чем все это закончится?».
Может, это отмирает во мне московская, бесплодная жизнь!? Мое состояние – это расплата за обманчивое счастье городского суетливого прозябания, оно как рвота – неприятный, но очищающий процесс, так и этот поток негативных мыслей – душевное очищение, итог которого – обновление и гармония чувств.
Собственно, я не хотел писать – сегодня мне хорошо. Соврал! Я стараюсь писать в дневник каждый день хоть что-то – это как утренняя гимнастика. Либо каждый день, либо нет смысла.
Поэтому когда проем окна озарился, как в грозу, вспышками яркого света, я понял, что будет, о чем рассказать. Назойливые мартышки доигрались до того, что одна из них, видимо, задела провод от вывески «BABA GUEST HOUSE», висящей как раз на уровне наших окон. Момент удара током бабуина, мы не видели, зато успели разглядеть, как бедное животное, ничего не соображая, металось туда-сюда по карнизу, а затем чесало уязвленную конечность тремя другими.
Это, пожалуй, единственное происшествие за сегодняшний день.
Все то же, что и вчера: завтрак, книги, шахматы, прогулка по гатам до Маникарники[10], остановка у центрального гата, покупка арахиса и поход обратно.
Играет «Doors», Кашкет пишет дневник. Если б Моррисон знал, что его музыка так умиротворяет, то наверняка бы впал в депрессию, а, может, такой ее сделало время. Сегодня не пили и не курили – чувствую себя прекрасно, пойду спать, уступив место за столом Кашкету.
* * *
Утром сняли лодку на главном гате, где все еще лежал труп с табличкой «помогите на сожжение бедняка», рядом куча мелочи и дров, оставленных сердобольными людьми. Мы переправились на ту сторону Ганга и, высадившись на обжигающий песок, двинулись в направлении зеленой полоски деревьев, слабо рдеющей на горизонте.
Противоположный берег Ганга – это широкая полоса отмели, на ней нет ни одной постройки, нет народа, только изредка можно заметить группу людей, переправляющихся на утлых лодках в город. И только в большие праздники, поздно вечером тут столпотворение от факельных шествий.
Пустынный берег Ганга
Пустынный берег считается проклятым, и умереть тут – великое несчастье. Смерть на ступенях Маникарники и ритуальное сожжение сулит искупление и новую жизнь, смерть же в проклятом месте – залог того, что в следующей жизни есть вероятность родиться презренной ящерицей или плешивой собакой. Именно тут, на изгибе реки, на откосах, находят свое последнее пристанище тела садху[11], которых глодают псы, и туши коров с выклеванными глазницами.
За первыми деревьями показались глинобитные хижины и огороды. Углубляясь все дальше от города в сельскую местность, мы были приятно удивлены райским местечком по сравнению с безлюдной пустыней и суетливым Старым Городом. В основном тут живут простые крестьяне-шудры[12], деревушки содержатся в кристальной чистоте, земля так выметена, что на ней нет ни соринки. Даже джунгли, с пальмами и зарослями тростника, кажутся ухоженными, чистыми и прохладными.
Вскоре дошли до крепости Рам Нагар, бывшей резиденции магараджей Бенареса, построенной в XVII веке. Сейчас это – музей. Музеем это, конечно, сложно назвать – в разбитых, заросших пылью витринах выставлены такие же пыльные, рваные и грязные символы былого величия Бенареса и его раджей. В оружейной галерее на стене висит выкрашенный в коричневый цвет планшет из фанеры, к которому прикреплено несколько серебряных бутанских щитов и мечей, и, видимо, для того, чтобы они составляли с ним некую творческую композицию, их тоже покрасили коричневой краской. Смотрители в музее выпрашивают по пайсу у посетителей и, по-моему, готовы за несколько рупий вынести из музея любой экспонат.
На обратном пути мы заняли места в общей лодке, в которой уже расположилось несколько крестьян в ожидании, пока наберется остальной народ. Мое внимание привлекли две старушки-крестьянки из деревни с другой стороны, едущие в город на рынок. Они, наверное, были сестрами, на руках у обеих блестели одинаковые серебряные браслеты, поражающие своими размерами, красотой и изысканной резьбой – каждый браслет представлял собой двуглавую змею со сплетенными языками; толщиной с черенок от лопаты, они казались толще черных запястий старушек, непонятно, как они вообще таскают на себе такую тяжесть.
В VII веке китайский путешественник Сюань Цзан[13] неоднократно подвергался нападениям разбойников, плавая по Гангу на таких же суденышках. Пираты захватили Сюань Цзана вблизи Варанаси и намеревались принести его в жертву богине Дурге[14]. Глядя на сотни лодок, стоящих по другую сторону, на «Вечный город», мерцающий в мареве теплых потоков воздуха, и на этих древних старушек, я охотно в это поверил.
Но вот лодка уже отправляется, подбирая последнего пассажира, – старушку, бредущую по колено в воде с гигантской корзиной сухих какашек.
Вид с крыши нашего дома
Бродяга
* * *
Я проснулся в холодном поту, не знаю, сколько я проспал – час или десять минут. И проснулся ли я вообще.
В левой руке у меня сигарета, она дрожит вместе с рукой – я дрожу: у меня приступ озноба. Это нормально, что меня знобит. Я еще не успокоился, но когда нервничаешь – чертовски приятно курить. И я радуюсь каждой затяжке, будто это моя последняя сигарета. Правда, приходиться постоянно откашливаться и поминутно ощупывать горло.
На индийских пачках из-под сигарет редко пишут о том, что «курение – причина смертельных заболеваний». На моей пачке «Capstan» нет упоминания ни о болезнях, ни об уровне никотина или смол, только название и место происхождения табака. Мне на это откровенно плевать. И чихать я хотел на все причины. Особенно сейчас, когда с радостью закурю еще одну. А причин может быть действительно сколько угодно. Хуже, когда их нет: последствия есть, а причин – нет…
Двадцать пять минут назад я чуть не помер, причем настолько идиотским способом, что, мягко говоря, нахожусь сейчас в крайнем замешательстве и недоумении. И очень злюсь на себя за то, что никак не могу выдумать хотя бы одну причину, которая привела меня к нынешнему положению. Поэтому нет ничего удивительного, что меня потряхивает и подмораживает в душной комнате.
Целый день я ходил по гатам, кормил мартышек нарезанным ананасом и кожурой от бананов. Дома я сел за стол и увидел крюк, вделанный в потолок. Бог знает, кто и для чего вбил его туда – скорее всего, он служил для подвешивания лампад, потому что раньше здесь была молельня. Должно быть, и дому, и этому крюку лет пятьсот, а то и тысяча. Справиться со временем мне тяжело: здесь время – аморфная категория. В этом городе считать дни, минуты не получается. На улице никто никогда не спрашивает, который час, башенные часы на вокзальной площади не работают, поезда приходят сами по себе, без расписания, и их ждут, лежа на платформе, укутываясь ночью в тонкие платки и покрывала. Поэтому кто и когда вбил этот крюк, построил этот дом, сотворил гаты, сломал вокзальные часы – не имеет ни для кого никакого значения.
Я опустил глаза с потолка на письменный стол, увидел стропу, которую второй день пытался вдеть в чехол спальника, опять посмотрел на крюк, взял стропу, вспомнил про мыло, намылил им потную шею и, накинув петлю, принялся за дело. Сделал я это быстро, спокойно, без раздумий – взял медную табуретку, накинул стропу, спрыгнул… Я равнодушно болтал в воздухе ногами, наткнулся на табурет, выпрямился, снял петлю, закурил…Так же бездумно и глупо, спросонья, я почистил зубы кремом для рук.
Трудно себе признаваться, но жизнь я люблю, безо всяких «зачем и почему». И я не псих. К тому же я очень спокойный, даже слишком, чтобы задумать удавиться. Поэтому я никак не могу объяснить себе то, что вытворял полчаса назад. Ведь не писать на каждой веревке, мыле и крюке, как на пачках сигарет, что они могут привести к таким последствиям. Единственное, что приходит в голову – любопытство. Оно зародилось где-то далеко в мозжечке и, не успев оформиться во что-нибудь отдаленно похожее на скрытое желание, воплотилось в конкретное, безумное, мгновенное решение повеситься. Но тогда я кретин – любопытный кретин.
За эти полчаса я многое передумал, но все без толку – «любопытный кретин» – это не причина. Может диагноз, но не причина, иначе бы я умер в детстве. Я сижу и жду ответа. Жду так, будто мне должны позвонить: я сниму трубку, скажу «алло» пересохшим горлом и кто-то незнакомый на другом конце провода мне все объяснит. Но никто не звонит.
Я что-то написал, перед тем как идти мылить шею. Конверт, на котором я это сделал, лежит рядом на столе. У меня нет никакого желания читать то, что я излил на этот прямоугольник: боюсь, ничего кроме глупости, ненужных извинений и слезливого прощания там не обнаружу – стыдно заглядывать, и я стараюсь не думать о том, что писал, вспоминая о куске мыла в душевой.
Буду сидеть курить, ждать «телефонного звонка» и думать. Нет, надо чем-нибудь себя занять, отвлечься… Обычно это всем помогает…. Арсений уже который день, занимается садистским самоанализом и ходит хмурый – ему тоже надо меньше думать.
В комнате бардак. Когда пройдет голова, надо будет прибраться, но сперва – покурить. Если покурю, а она не пройдет – убираться не буду. Вентилятор работает то медленнее, то быстрее. Совсем как мозг.
Еще вчера все было по-другому.
Например, вчера днем и сегодня утром я наблюдал за одним молодым японцем – все ждал, когда он сделает себе харакири. Он живет в доме напротив, окна его комнаты чуть ниже наших. Улица шириной не больше коровы, из-за этого мне все время кажется, что мы с ним живем в одной квартире. Я никак не могу привыкнуть к коровам, мартышкам, мусорщикам и узким переулкам – вчера, подходя к дому, я наткнулся на здоровенного быка и не смог его обойти – пришлось тащиться через квартал. Японца видно хорошо. Целыми днями он курит гашиш и стучит в таблы. Вчера я устроился возле окна, обложился фруктами с курдом[15] и стал наблюдать. Ничего не произошло: он по-прежнему курил чиллам, бил в барабаны, одиннадцать раз приложился к бутылке с водой, три раза вышел из комнаты на семь минут. Судя по всему, японцу не скучно. Лицо у него лишено всякого выражения, но это скорее признак национальной принадлежности, чем отсутствие эмоций. Заселился он сюда около недели назад, и с тех пор в его распорядке дня ничего не изменилось – четыре дня назад он еще играл на дудке, в перерывах между чилламом и барабанами. Сейчас почему-то дудку забросил. По моему, у японцев отсутствует понятие «тоска».
Сегодня утром он разбудил нас тем, что вышел на улицу и принялся дробить в чугунной миске горох. Это было в шесть утра, следом за ним по улице прокатились крики мусорщиков, вместе с первыми песнопениями идущих к Гангу паломников. Вечером начался праздник, и мы пытались разделить с толпой индусов радость хаоса в гегемонии звуков. Когда вернулись, мне было не до соседа. Сейчас в его окнах темно, наверное, спит. Нет, вряд ли он когда-нибудь задумывался о харакири. Завтра куплю себе барабан.
Вчера отправились прогуляться в сторону Золотого храма – сердца старого города. Вишванатх[16] – это святыня города, сакральный храм для всех индуистов, в особенности шиваитов. Внутри храма находится лингам[17], покрытый золотом. Внутрь могут заходить только индусы. Прежде на этом месте стоял другой храм, посвященный Шиве; он простоял более полутора тысяч лет, пока мусульманские завоеватели не разрушили его до основания. Аурангзеб[18] построил рядом с развалинами индуистского храма Великую Мечеть. Сейчас два храма разделены стеной, а территорию вокруг них охраняют сотни солдат и полицейских.
Когда мы вышли на прямую и очень узкую улочку, ведущую на Маникарнику, нас чуть не сшибла похоронная процессия: впереди бежали музыканты – били в бубны, свистели в дудки и терзали другие инструменты. Периодически они падали, изображая предсмертные конвульсии, катались по земле, не переставая стучать в барабаны. За ними родственники с гирляндами из оранжевых цветов несли тело на бамбуковых носилках, забинтованное в оранжевый саван и блестящую золотую бумагу, прикрывавшую лицо покойника. Замыкала шествие толпа людей с пучками курящихся благовоний, наверное, для того чтобы перебить трупный запах, коего я не почувствовал здесь ни разу, хотя сталкиваться с мертвечиной тут приходится ежедневно. Вообще, благовония – это прекрасное индийское изобретение. После того, как дым рассеялся, мимо меня пролетел огромный бык, следуя за процессией. Я еле успел отскочить на крыльцо, чтобы не оказаться на его рогах. Из-за угла вынырнула очередная процессия. Она, видимо, опаздывала; музыкантов не было, а покойник чуть не слетал с носилок, замыкающие шествие родственники еле поспевали следом. Не успел я и глазом моргнуть, как от шествия остался только дымок благовоний, перекатывающийся в солнечном луче.
На восходе солнца вся семикилометровая набережная заполняется народом. Сюда приходят для совершения ритуальных омовений в священной матери Ганге. Даже рядом с тем местом, где двадцать четыре часа в сутки сжигают умерших, люди купаются, чистят зубы, окунают в воду грудных детей.
По статистике на сто миллилитров воды из Ганга в районе Варанаси приходится около полутора миллионов бактерий при допустимом количестве в четыреста тысяч, то есть по правилам санитарии тут и в воду входить нельзя – но индусам на это плевать, они резвятся, полощут рты и радуются жизни. Справедливости ради следует отметить, что вода тут и вправду не воняет – помимо религиозных поверий существует мнение, что в русле Ганга находятся пласты серебра, дезинфицирующие воду.
Индусы же не заботятся о таких мелочах – для них Ганг чист по определению. Они верят, что раньше руслом Гангу служил Млечный путь. Но однажды царь Бхагиратха упросил Шиву спустить Священную Реку вниз на землю, чтобы кости его пращуров, совершивших в свое время много гадостей и недостойных дел, наконец, упокоились с миром. Считалось, что только Великий и гордый Ганг может смыть грехи почивших. Шива внял просьбе сердобольного и усмирил Ганг, прикрепив его к своей голове, а царь заставил среднее из семи разветвлений Ганга течь над костями своих предков, благодаря чему они освободились от наказания. С тех пор Ганг имеет второе имя – Бхагиратха.
Маникарника. Костры сожжения
Однажды во время прогулки по Маникарнике двое индусов завели меня в дом, окна которого выходили прямо на костры сожжения. Я сразу понял – это «приют вдов» Салмана Рушди[19] – хоспис, куда приходят бедняки, которые доживают здесь свои дни, прося милостыню на дрова для своего часа. Когда приходит время, их тела окунают в воды Ганга, потом кладут на костер и сжигают, а то, что не сгорает – челюсти, кости, зубы – выбрасывают в реку. Не сжигают только садху, беременных женщин, детей и укушенных коброй. Садху – так как они уже соединились своей жизнью с Шивой; детей – потому что ребенок это цветок жизни и сердце его безгрешно; беременных женщин – у них в чреве уже есть ребенок; укушенных коброй, потому что эта змея олицетворяет Шиву.
Повсюду сложены кучи кривых стволов, в которые вбивают клинья, раскалывают, а потом продают. Сожжение дело дорогое. Чтобы сжечь один труп, нужно от девяти до двенадцати тысяч рупий.
Выйдя на набережную, я остановился, чтобы поесть жареного арахиса. Наемные шудры, стоя по грудь в воде, охапками загребали смолистую поверхность воды у берега и выплескивали ее в корзины, затем промывали в поисках остатков украшений и золотых зубов. Пока я грыз орехи, появилась новая процессия – в золотом саване вынесли труп, уложили ногами в Ганг, затем втащили на сложенный из дров пьедестал. И вдруг из толпы к костру бросилась женщина в ярко синем сари и с отчаянным криком прыгнула в пламя, хватаясь за мертвое обугленное тело – волосы ее вспыхнули, красивое одеяние загорелось зелеными языками. Ее вытащили, облили водой, а она рвалась обратно, уже без криков, беспомощно обвисая на руках родственников. Когда она бросилась в костер – я испытал зависть. «Такого горя у меня никогда не будет» – подумал я и пошел домой, потому что начинало смеркаться.
Улица Бигали Тола
Странные воспоминания за сегодняшнюю ночь, наверное, они мне нужны. У меня есть любимые люди, друзья. Я – не герой, и если романтик, то только отчасти, я никогда не хотел стать летчиком или космонавтом. Я не японец и не индус. У меня все хорошо. Но я часто чувствую ноябрь, который воет, окутывает холодным туманом, сквозь который ни черта не видно.
Передо мной лежит прямоугольник конверта, мне уже не страшно и не стыдно – я посмотрю. Я знаю, что там написано – это не прощание и не завещание, криво выведено: «Зачем? Незачем. Секундная мелочная глупость в жизни, короткой или долгой – не суть важно…». Даже мне эта фраза ничего не объясняет. И вряд ли ее понял бы Арсений. Но я спокоен, что-то объяснилось само собой. Все выговоренные истории полезны, пусть и всплывают в моей памяти, как никчемные заплесневелые отрывки. А теперь надо успеть заснуть, перед тем как проснутся мартышки, японец с миской сухого гороха, пойдут мусорщики, послышатся шлепки босых ног, спешащих на омовение к Гангу – начнется привычное утро обыкновенного дня в необыкновенном городе. В конверте лежат билеты. Скоро мы уедем отсюда.
* * *
Половина второго – настроение хорошее. Лежу на кровати перед раскрытым окном. Передо мной уходящий в сторону Бигали Тола[20] переулочек с вывеской «Shiva Guest House». Дует теплый ветерок, заполняя комнату запахами специй и еды. Прямо под окном дети гоняют в футбол пластиковой бутылкой. Стрекотание швейной машинки внизу, цоканье шлепанцами по каменным плитам. Узкий переулочек утопает в проводах, как в паутине, по карнизам шныряют обезьяны, косые лучи солнца освещают стену справа.
Вот я покурил и забыл, о чем собирался писать, может, это и к лучшему. Как всегда, все закончилось чипсами. Сначала мы макали их в плавленый сыр, который я купил у бабки на Бигали Тола, а когда он кончился, я доел все в сухомятку. Растительное блаженство – мозг пустеет, взгляд стекленеет, приковываясь к одной точке, работают только челюсти, перемалывая остатки чипсов. Минута забытья – я растение.
Только собрались спать, как Варанаси затрясло от раскатов грома. Мы вылезли на крышу – невероятное зрелище: ослепительная молния разделяла необъятное небо как трещина на стекле, четкая и до того яркая, что песчаная отмель другого берега резала глаза. Мартышки забились по углам и, после каждой новой вспышки, между ними пробегала волна ропота и удивления, как в толпе детей пред небывалым фейерверком. Такие чудеса могут сниться только в детстве, а тут все было наяву. Долго наблюдать за этой красотой нам не пришлось, посыпали теплые капли, и мы отправились вниз.
Полдень на улице
За окном – все то же самое, что и месяц назад и, наверное, двадцать веков подряд. Бенарес потрясающе вневременное место, поняв это, я был приятно удивлен, прочитав то же самое у Киплинга в рассказе «Путешествие новобрачной», действие которого происходит в Бенаресе. Казалось, что он написал рассказ вчера. Даже завывание муэдзина, который вот уже вторую неделю не дает мне уснуть, заставили так же возмутиться и киплинговскую героиню: «Чего он так орет». – восклицает она!
Дни стали жарче, и приходится почти все время включать вентилятор. Жара не располагает к действию, единственное приятное занятие – это лежать трупиком под вентилятором и смотреть, как сквозняк играет занавеской в дверях. Около пяти дня. Город спит, погруженный в зной, я лежу на кровати, обливаюсь потом, смотрю на занавеску. В прикрытые ставни периодически врывается поток воздуха. Вместо прохлады он приносит жаркий дух камня, будто из печки. Иногда к нему примешиваются запахи специй или ворчание бабуина, примостившегося в тени на подоконнике. Полотно с изображением Шивы, обнимающего Парвати, висит на стене и дышит – струи воздуха волнуют ткань в нескольких местах. Провожу рукой по гладкой стене, цепляюсь кольцом о торчащий гвоздь, расслабляю мускулы, рука виснет на одном пальце, как червяк. Представляю, как палец отрывается и повисает рядом с Шивой…
Вечером на гатах намечается праздник Шиваратри[21].
Рассматриваю примостившуюся на стене в плетеном ведерке искусственную розочку. Издалека она выглядит, пожалуй, как настоящая, но когда берешь в руки – сразу понимаешь, насколько жалкими выглядят попытки человека подражать красоте природы. От этого искусственного цветка больше веет смертью, нежели жизнью. Думая запечатлеть жизнь, человек сам того не сознавая, мастерит символ смерти и кладбища.
* * *
Устав сидеть дома, мы взяли рикшу и отправились в Сарнатх[22]. Он расположен в десяти километрах к северу от Варанаси. Это место славится тем, что Будда произнес здесь свою первую проповедь. Одним из основоположений доктрины раннего буддизма считаются четыре благородные истины. Именно их перечислением открывалась проповедь в Сарнатхе. Суть этих «благородных истин» такова: жизнь в мире полна страданий; есть причина страданий; страдания можно прекратить; есть путь, ведущий к прекращению этих страданий.
Главными достопримечательностями Сарнатха считаются знаменитая ступа Дхамекх, построенная Ашокой[23] на том самом месте, где проповедовал Будда, а также колонна, капитель которой сделана в виде четырех львов, повернутых спинами друг к другу – в Индии изображение этой композиции принято в качестве национального герба страны.
Бродить по Сарнатху нам быстро надоело: несколько храмов различных буддийских течений, парк с оленями, пруд с кайманами, и больше ничего. Почти на каждом дереве висит по громкоговорителю, и по всему парку разлетаются отрывки проповедей или религиозных текстов. Настроены громкоговорители на полную и, вместо того, чтобы наслаждаться пением птичек и внимать природе, нам пришлось слушать речи невидимого оратора, даже не понимая, о чем он так распинается в жаркий воскресный полдень. Мы получили удовольствие только от пребывания в чистом месте после месяца лазанья по дерьму. Благоговение Сарнатх вызывает только у буддистов, которые толпами перебегают от одного храма к другому.
* * *
Вот уже второй день я пытаюсь осилить Керуака «На Дороге», но на второй части этого нескончаемого дневника мне стало скучно, и я отложил его до лучших времен. Теперь эта книга служит границей на нашей гигантской кровати. Ночью я подпихиваю ее в бок Кашкету, чтобы он не скатывался на мою половину. Кашкет спит, как червяк на сковородке, постоянно вертится и перекатывается из стороны в сторону. Он все время спит буквой «г», ногами упираясь мне в живот. Слава Богу, завтра переезжаем в другую комнату на последнем этаже, где две кровати, и Кашкет сможет спать любыми буквами алфавита.
Ближе к вечеру отправились на Главную площадь, где я постригся в местной парикмахерской. Цирюльник ловко орудовал ножницами и опасной бритвой, и очень скоро моя копна волос превратилась в прическу точь в точь, как у человечков из конструктора «Lego». Пришлось попросить парикмахера сгладить некоторые прямые углы моей шевелюры, чтобы хоть отдаленно походить на человека.
В воздухе уже чувствовалась атмосфера праздника, везде висели гирлянды, оранжевые драпировки, иллюминация и цветы.
Дома мы так сильно обкурились, что, когда вспомнили о празднике и выскочили на улицу, угодив в водоворот праздношатающихся нетрезвых индусов, просто растерялись от оглушительной какофонии звуков, и не знали, что делать. Только желудок знал, что именно ему надо, и вскоре людской поток выбросил нас на берег к подножию индийской забегаловки, засиженной мухами, людьми и тараканами. Подобно кормчему с веслом, возле входа восседал щуплый индусик. Весло оказалось поварешкой, которой он помешивал в кипящем масле шипящие само́сы[24]. Пара самос, и мы пошли шататься по площади, где через каждые два-три метра шумели представления и праздничные кутежи. Индусы любят шум – чем громче, тем веселее. Вокруг рвались петарды, рассыпались фейерверки, по силе сравнимые разве что взрывпакетами или фугасами. Вечерний Бенарес стал похож на какой-нибудь город времен вьетнамской войны, как в фильме «Apocalypse Now» Копполы или «Full Metal Jacket» Кубрика: развалины обшарпанных домов, налепленных друг на друга, мерцают от вспышек петард, салютов и костров – зрелище адское.
Из-за проблем с электричеством в Варанаси постоянно отключают свет. И тогда в каждом доме и лавке запускают генераторы. Сейчас, в разгар праздника, тарахтение генераторов напоминало звуки едущей по улицам бронетехники. Тени обезумевших бабуинов мелькали среди городских руин в поисках убежища.
Во время Шиваратри принято зажигать свечки в глиняных чашечках, украшеных оранжевыми цветами, и пускать их по реке. Освещенная нарядной иллюминацией, уходящая в легенду древняя набережная города пестрит яркими толпами праздничного люда. Вдоль всего берега сплошной чередой горят черепки со свечками, медленно уносимые течением на середину реки. Широкая Ганга полна лодок, река мерцает и переливается в огнях свечей и лампад, ломая отражения залитых лунным светом дворцов. На другой стороне, где нет города, простирается пустыня обмелевшего дна. По ней движутся караваны людей со свечами и факелами. Издалека видишь только линии огоньков, складывающиеся в причудливые узоры и приобретающие форму свастики у берега.
На крыше нашего дома мы зажгли свечки, откупорили бутылку джина и, осушив ее наполовину, снова отправились к набережной. Сидя в обычной лодке, я и Кашкет ждали остальных пассажиров, пока она не набилась так, что свисающие люди чуть ли не валились за борт. Поплыли по кишащему Гангу, наблюдая за праздником с воды. На Мникарнике даже в праздник не прекращаются ритуальные сожжения, похоже, в эту праздничную ночь костры горели даже ярче, чем обычно.
Пытаясь заснуть, я всю ночь крутился с боку на бок, а как только это удалось, проснулся от кашкетовых ног, упертых мне в живот. Керуак его не остановил.
* * *
Покупка курицы в Варанаси – это довольно забавное зрелище. Для любителей животных – это верх нравственного опущения, для индусов и мусульман – норма жизни. Рынок уже тысячу лет не меняет своего месторасположения, он находится между мусульманским и индийским кварталами, и на его мостовые были вылиты тысячи литров куриной и козьей крови. Столько крови не могли видеть все моголы, вместе взятые.
Ритуальное чучело
Взвешивают куриц живьем, то есть с головой, потрохами и перьями, сами курицы выглядят ужасно – маленькие, сухонькие, с исклеванной в кровь кожей. Пара живых целых куриц весит чуть более килограмма. Их виртуозно разделывают, но даже ярые мясоеды могли бы при этом превратиться в вегетарианцев.
Ловко схватив курицу, продавец вставляет между пальцами ног нож, другой ногой зажимает куриные лапы и обеими руками берется за тельце и голову, вытягивая птице шею. Медленно, не до конца режет горло, чтобы затем наклонить шею и дать вытечь крови. Еще с живой твари, быстрым движением рук снимает чулком кожу вместе с перьями, одновременно отрывая голову, после чего насаживает курицу брюхом на нож, приподнимет ее и запускает свободную руку во внутрь. Через секунду в его руке оказываются потроха, которые он отшвыривает себе за спину, в гниющее месиво и отрубает обе лапы, которые, отлетев, все еще двигаются, словно стараясь отбежать подальше от мясника.
Таким образом, мы, буквально за минуту стали счастливыми обладателями розового, теплого, шевелящегося тельца. К этому необходимо прибавить, что происходит все это на тесной маленькой улочке, заставленной клетками, туго набитыми сотнями живых птиц. Вокруг стоят лавки с подвешенными на крюках кусками козлятины. Мясные туши засижены плотным слоем насекомых, которых здесь не меньше, чем самого мяса. Прибавьте к этому кучи гниющих потрохов, куриной кожи и лужи крови, которую никто никогда не убирает, соответствующие запахи, и вы получите настоящую картину мясного ряда в Варанаси.
Дома Арсений недоверчиво присматривается к остывшим куриным тельцам и грустно смотрит на меня. Так и есть, просит выдержать их в воде с марганцовкой. Ужасная мысль, но если этого не сделать, мой друг потеряет аппетит на неделю. Нет ничего хуже вареной фиолетовой курицы. Вообще Арсений подозрителен к любой еде, самая безопасная пища для него – это чипсы, шоколадка «Кит Кэт» в двойной обертке и бананы. На все остальное он смотрит глазами старой овчарки. Вчера, когда я купил свежего винограда, он, улучив момент, прокипятил его в кастрюле – «для дезинфекции», как он объяснил позже. Обваренный, теплый виноград – редкостная дрянь. И уж поскольку я вынужден постоянно соглашаться на такие изуверские действия в отношении к продуктам, то ежедневно позволяю себе всяческие глумления над Арсением – рассказываю о симптомах амебиоза[25] и тифа, объясняю, почему инкубационный период лепры достигает трех лет, перечисляю болезнетворные бактерии, которые могут оказаться на столике в нашей забегаловке и прочее…
* * *
Самая страшная болезнь современности – это бесконечная суета. Она пронизывает человека насквозь, и ею без сомнения страдает каждый, кто живет в большом городе. В Индии это заболевание отсутствует, поэтому здесь легче найти путь к душевному равновесию. Со мной творилось нечто подобное, сейчас я нахожусь на финальной стадии этого нелегкого процесса. Уже несколько дней чувствую себя прекрасно, в голову не лезут недобрые мысли, и вообще очень странно вспоминать о минувшей депрессии, из которой, казалось, не будет выхода. Вдруг все прошло само собой, и я почувствовал себя новорожденным. Меня больше не мучают тоска, одиночество и чувство опустошенности. Из состояния тотальной хандры я попал в состояние полной эйфории. В основном это связанно с окончательным освобождением от суеты, как в физическом, так и в духовном смысле.
Это потрясающее ощущение. Ради этого я сюда приехал и только сейчас стал это понимать. Этот сложный душевный экзамен я выдержал стойко, не сбежав туда, где бы я чувствовал себя в своей тарелке, или где я мог бы отвлечься от самого себя. Я понял, что главное в момент такой внутренней борьбы и дискомфорта – не слинять из места, где с тобой все это происходит. Тогда рано или поздно все пройдет, и ты почувствуешь себя обновленным и внутренне свободным, а уж потом будет решительно все равно, где находишься и на что смотришь. Для достижения такого состояния необходимо быть выдернутым из всего знакомого и находиться как можно дальше от привычных норм и правил.
Все вещи, события и мысли имеют две стороны, и обратная сторона, считающаяся темной, на самом деле светлая. В каждом переживании, в каждом страдании открывается что-то новое, но понять и увидеть это невозможно, не пройдя через них. Все многообразие мира есть в каждой его детали. «Камень когда-то станет землей, из нее может вырасти цветок или родиться зверь или даже человек, значит, каждый предмет достоин любви и внимания»[26].
Выйдя из дому часа два назад, мы попали под настоящий ливень – этот факт непременно требует отображения в цепи событий. За какие-то доли секунды, пока я сидел в интернет-кафе, отправляя письмо на заснеженную родину, хвастаясь тем, что у нас тут парилка и светит солнце, по кафе разнеслись радостные крики, на лицах туриков изобразилось неподдельное удивление. Взглянув в окно, я и сам на секунду опешил от неординарного зрелища. Весь маленький рынок напротив моментально опустел, фрукты, овощи, разложенные в корзинах на земле, были прикрыты кусками грязных тряпок и полиэтилена. Продавцы исчезли, запоздалые велосипедисты ускорили темп, а взъерошенные мартышки, скользя по карнизам и крышам домов, в ужасе шарахались от искрящихся проводов и вспышек молний. Небо вмиг затянулось темно-коричневыми тучами, дождь хлестал, как из прорванной трубы. Мгновенно образовавшиеся лужи превратились в грохочущие потоки, которые на своем пути подхватывали все дерьмо, месяцами налипающее на каменные плиты, и несли его по извилистым узким улочкам. Перед тем как отправиться из кафе домой, мне пришлось исправить письмо, признавшись, что у нас «почти» все время солнце.
Шквальные порывы вскоре утихли, дождь почти перестал, с улицы веет свежестью и пахнет мокрым камнем. Стало прохладней, и сидеть дома возле распахнутых деревянных ставень – одно удовольствие. Сквозь бутылку воды, как через линзу, просвечивают печатные строчки листка, выпавшего из книги Тагора.
Я все время читаю, а Кашкет, похоже, решил стать писателем. Целыми днями и даже ночами он строчит что-то сразу в нескольких тетрадях. Стал читать мне свое произведение. Читает мой друг не ахти как, но в этот момент, чувствую, что вершится, так сказать, история. Порой мне представляется, что он, восходящая звезда новой русской литературы, я даже сделал несколько рисунков Кашкета за работой, чтобы потом, если вдруг, ослепленный славой, он начнет зазнаваться, предоставить вещественные доказательства моего присутствия.
* * *
Последние дни в Варанаси были похожи друг на друга и отличались от предыдущих только тем, что мы очень серьезно принялись за экономию, умудряясь жить на пятьдесят рупий в день. Экономия и умеренное питание придавали жизни в Бенаресе ощущение размеренности, аскетизма и оптимистичного фатализма.
Поезд уходил ранним утром. Из дома вышли в два ночи, дружелюбно распрощавшись с Манглой – домоправительницей, чрезвычайно любезной женщиной, ни слова не знающей по-английски, но в последнее время занявшейся исправлением этого недостатка. Воспользовавшись тем, что в доме кроме нас никого не было, Мангла обожралась красной жижи (бетелем[27]) и, найдя в комнате пупырчатый пакет, принялась им щелкать, радуясь как ребенок. Сегодня она выучила новое слово «finish», и теперь все время его повторяла, не переставая хохотать, обнажая красные зубы. Все у нее было «finish».
Крикет на гатах
Мангла еще немного постояла в проеме дверей, заслоняя собой фигурку Ганеши в прихожей, и вскоре скрылась из виду. На улицах ни души, полная темень и тишина, которую изредка нарушает лай собак и неугомонные крики обезьян. Иногда из темноты доносится чей-то кашель или отрыжка, где-то в закоулке шуршит одеяло – вот и все, что можно услышать ночью на Бигали Тола. Стоило приблизиться к площади Гадолии, как стоящие вдоль улицы повозки зашевелились, и самый шустрый рикша, смотав свое одеяло, подбежал к нам. Вскре мы были на вокзале Варанаси среди спящих индусов, лежащих вповалку прямо на платформе. Кроме пачки сигарет и бидис ничего не покупаем, в кармане несколько сотен рупий – деньги на автобус и дорогу. Стрелка часов приближается к четырем, но поезд не объявляют. Арсений идет к справочной, чтобы узнать, на какой путь должен прибыть поезд до Пуны. Над окошком справочной весит многообещающая надпись «Can we help you?»[28]. На вопрос, когда все-таки будет поезд номер 1034, честно отвечают, что не знают. Ровно в четыре из громкоговорителей объявляют, что поезд задерживается до восьми часов.
На улице становиться прохладней, хочется спать. Стоять среди толпы любопытных зевак надоело. Я покупаю газеты, мы раскладываем их на ступенях лестницы моста, перекинутого через железнодорожное полотно, и усаживаемся. Первым, сгорбившись, засыпает Арсений, я сижу рядом, курю. Через несколько минут подходят два поезда, и по лестнице бежит толпа пассажиров и носильщиков. Меня чуть не сшибают чемоданом, я вскакиваю, прикрывая Арсения, который, несмотря на шум и гам, а иногда и тычки чемоданами и сумками, не просыпается – симулянт, все это время жаловался на нездоровый, чуткий сон. Носильщики тащат на себе по пять, шесть чемоданов. Балансируя пирамидами багажа, они носятся как угорелые, с невероятной скоростью.
Завидев клиентов, подбегает мальчишка лет шести – продавец палочек, которыми чистят зубы. Все вокруг уже мусолят ими свои десны, отплевываясь шелухой на платформу. Мальчишка переключается на меня, я объясняю, что мне эти огромные зубочистки не нужны. Он очень удивляется, но не отходит.
Мимо спящего в позе «мыслителя» Арсения проползает хромая мамаша, волоча за собой маленькую девочку. Обе в лохмотьях, почти голые, с запутанными, слипшимися волосами. Девочка, похожая на старушку-карлика, не поспевая за матерью, хватается за перила, а, проходя мимо Арсения, хватается и за его плечо, потом за голову, спотыкается, падает. Если бы мой друг бодрствовал, то отпрянул бы от них как ошпаренный, а потом жаловался бы на аритмию и требовал немедленной дезинфекции.
Периодически к нам подходят мальчишки – продавцы газет. Зачем мне газета на хинди!? Подбегают попрошайки, подползают калеки и беззубые старухи, все просят милостыню, несколько рупий или пайсов. Стоят, смотрят, показывают на рот, трогают руками ноги, прикладывая руки ко лбу, тычут пальцем в свой ввалившийся живот, язвенные раны или культи, робко одергивают за одежду, если мы отводим глаза. Денег не даем, знаем, чем это закончится – счастливый бедняк убежит с мелочью в кулаке, а на его место прибежит еще с десяток, которые будут вести себя гораздо настырнее.
Очередное объявление о нашем поезде повторяют, как и положено три раза на английском и три раза на хинди: «Поезд номер 1034 будет в девять утра». Сейчас половина восьмого. Мы замерзли, хотим спать и есть, а потому жестоко ругаем всю железную дорогу Индии, ее работников, машинистов и вообще всех, включая себя, за то, что не спали ночью и так спешили на вокзал.
Уже вовсю светит солнце, Арсений перемещается на вокзальную площадь, там теплее и есть стулья. Не успел я устроиться на одном из них, как до нас долетает очередное объявление: «Поезд номер 1034 задерживается до одиннадцати утра». Как поезд, идущий из Дели в Варанаси тринадцать часов, может опаздывать на восемь – непонятно.
Шатаясь туда-сюда по вокзалу, Арсению посчастливилось обнаружить некое помещение – зал ожидания для иностранных туристов! Бог сжалился над нами, и мы перебираемся туда… О небо! в эту комнатушку не пускают индусов, тут нет толпы зевак и попрошаек. Треть пространства занимает мягкий диван, а на стене шепчет прохладой кондиционер. Комната ожидания для туристов – это другой мир.
Играем в шахматы и урезаем паек на два банана и тройку яиц. Звучит сообщение: «Поезд задерживается не до одиннадцати, а до двух часов дня». Думаем, не сдать ли нам билеты к чертовой матери, и не отправиться ли на ближайшем поезде до Бомбея. Дергаться, однако, не стоит, не та это страна, чтобы нервничать и следовать задуманным планам. К тому же сегодня пятница, тринадцатое, а в Индии верится в суеверия и совпадения гораздо легче, чем где бы то ни было.
В час дня решаем выяснить, не будет ли очередного опоздания. Арсений вернулся крайне удивленным и сообщил, что поезд наш стоит на седьмом пути. О задержке поезда сообщали по нескольку раз, но о том, что он прибыл, никто даже не шепнул. Таинственный поезд! Он опаздывает ровно на столько времени, сколько требуется ему на весь путь, о нем никто не знает, о его прибытии даже не объявляют. Бежим к перрону, ищем вагон и залезаем на боковые полки.
Проснувшись, иду покурить в тамбур, сажусь на железный ящик и гляжу в открытую дверь. Мимо несутся пейзажи «Великой равнины» – красная выжженная солнцем земля с редкими маленькими кривыми деревьями. Вдалеке одиноко стоит большое дерево, все оно усеяно птицами, из идущего поезда не видно, как они выглядят, но их ярко-белое оперение поражает в контрасте с выцветшим небом. Дерево будто накрыто шапкой снега посреди красной пустыни.
Вдоль полотна идет грунтовая дорога, она поворачивает и удаляется перпендикулярно железнодорожным путям к полю, за которым видны только невысокие пустые холмы и голая степь. У обочины на корточках, уперев локти в колени, сидит мальчишка. На другой стороне, словно зеркальное отражение, точно так же, склонив голову, сидит еще один. Кажется, что они сидят так очень давно, сидят молча, глядя друг на друга. Чего они ждут на дороге, по которой за целый день вряд ли кто пройдет?
Гоа
«Лежа на берегу моря в такую чудесную погоду, достаточно сознания того, что ты существуешь».
Фаулз. «Волхв»«Воздержание – это первая ступень на пути к нравственности».
Сенека– Братец, ты когда-нибудь такое видел?
– Нет. Никогда, – признался Арсений. – Смотри, как быстро солнце заходит. На грейпфрут похоже, а в Варанаси было похоже на апельсин.
– Солнце похоже на солнце, а все остальное на рекламу крема от загара. Ладно, давай выпьем.
– Эх, Кашкет, Кашкет – ты материалист и скептик!
Мы отхлебнули по глотку рома из бутылки.
– Господи! До чего приятный напиток! Мне осточертел виски «McDowell’s» и твой джин. Я не материалист, а загрубевший романтик и фаталист. И, вообще, нельзя клеймить друга такими вульгарными клише, я же не называю тебя мнительным нытиком.
– Я не нытик, – обиделся Арсений и, подумав, добавил, – и я не мнительный!
– Да черт с тобой! – ответил я. – Давай за твой грейпфрут!
Опускаясь к горизонту, солнце становится розовым, ветер шелестит листьями пальм, шумит океан, выбрасывая на песок мелких крабов, которые сразу спешат обратно.
Когда солнечный диск скрылся в океане, Арсений беспомощно растянулся на песке, а я, завидев рыбаков у лодок, отправился к ним.
Трудно было себе представить, что шестьдесят два часа восемнадцать минут назад мы прыгнули в вагон, добрались до Пуны, а потом бились головой о потолок рейсового автобуса, и мыкались по Панаджи, изнывая от жары. И все то прекрасное и заманчивое, что нас сейчас окружало, не могло влить ни сил, ни эмоций. Мы безумно устали и словно впали в подобие анабиоза.
Просыпаемся в полном беспамятстве относительно вчерашнего вечера, за исключением заката – это последнее, что помним – красное солнце, падающее в океан. Я где-то оставил свои шлепанцы, Арсений вернулся в одной сандалии, утеряна сумка с ромом, сигаретами, фризби и, главное, ключами от мопедов, на которых прокатились всего один раз. На кой черт он взял их с собой?
Напрягаю память… Дошел до лодок…. их было много… Возле одной остановился… рядом никого не было… я решил дождаться рыбаков в лодке, перелез через борт и… мгновенно уснул. Было холодно, и я накрылся сетями, в которых запутался, чуть не оторвав мизинец на ноге – точно, вот он, красный и опухший! Почему никто не взял сумку?
Грейпфрут
Бежим к берегу – ни сумки, ни бутылки рома, зато неподалеку валяются мои шлепанцы, в роще нашли сандалию Арсения.
Опечаленные, мы побрели в сторону дома и наткнулись на рыбаков, которые молча протянули нам знакомую сумку со всем содержимым. Радость чередуется восхищением перед добродетельностью местных рыбаков. Арсений несколько меняет свое скептическое отношение к туземцам.
* * *
Океан, пляж, завтрак из папайи и бананов – хорошее утро.
В целях экономии решили готовить сами. Я был не совсем согласен с тезисом Арсения: «С едой можно не париться, раз есть бананы и алкоголь!», и выпросил у Мануэля – хозяина бунгало, горелку. Мануэль – худосочный туземец с кривыми ногами, не говорит по-английски, ходит в дранной майке-алкашке, гоняет у нас под окнами стаю мелких черных свиней, варит feni[29] и сам его пьет.
На примусе, как известно, можно приготовить все, что угодно, оставалось дело за посудой. Алюминиевые кастрюли, ложки и тарелки продают на килограммы. Купили два килограмма посуды.
На рынке, где продают всякую морскую живность, обложенную льдом, мы купили мидий. На вопрос «почем мидии?», старушка индуска ткнула кривым пальцем в кучку, прошепелявив: «двадцать рупий», и отвлеклась на другого покупателя. Тут я схитрил, быстро вынув еще штук десять мидий из стоящего рядом таза, доложил их в кучку, сказав: «Берем!». Старушка, не взглянув на выросшую пирамидку, ловко сложила ее в кулек. Правда, дома обнаружилось, что содержимого всех ракушек хватило всего на две столовые ложки.
Мануэль не соврал и все-таки притащил керосинку. Увидев это замасленное и черное от копоти устройство с ручным насосом для нагнетания керосина, уж очень простое для применения, я растерялся и сказал Арсению:
– Я это поджигать не буду – боюсь, спалим бунгало, если не всю рощу с Арамболем.
– Я буду. Все просто! – бодро сказал Арсений. – С тебя готовка рагу!
Когда я зашел внутрь бунгало, то услышал сначала, как Арсений чиркает зажигалкой и дергает ручку нагнетателя, а потом что-то похожее на хлопок и громкое, протяжное матерное слово. Я выбежал.
Горелка, вместе с кастрюлей и мидиями, полыхала как вечный огонь в Александровском саду, а крыша веранды, выложенная пальмовыми листьями, чернела и готова была вспыхнуть.
– Туши, идиот! – крикнул я.
– Сам идиот! – крикнул Арсений, но все-таки схватился за бутылку с водой…Я хотел остановить его, но было поздно – Арсений плеснул водой на горелку, и пламя мгновенно увеличилось до размеров пизанской башни, обдав меня жаркой волной и шипящими брызгами. Арсений выкрикнул что-то нечленораздельное, взвизгнул и схватился за свои шорты, которые сушились на веревке, но тут, слава Шиве! прибежал Мануэль и еще полдеревни.
После ужина, состоявшего в основном из горелых мидий, уселись за шахматы, попивая фени. Окончив партию, Арсений невозмутимо прилип к матрасу и принялся то ли за книгу, то ли за дневник, а я отправился на пляж ловить крабов.
Со стороны, должно быть, я выглядел полным придурком. Поначалу я носился за мелкими крабиками, высвечивая линию прибоя лучом фонаря. Главное – не выпустить краба из пучка света. Бегают они очень быстро и ловко. За час я поймал всего восемь штук. Потом принялся за норы в песке – там крабы оказались крупнее, примерно с кулак. Надо признать, что закапываются они также ловко, как и бегают. К трем часам ночи в сумке копошилось двенадцать штук беспозвоночных, четверо из которых были приличных для позднего ужина размеров, но как только я разжег костер и открыл сумку, все они ринулись наутек, и большей части удалось скрыться, остальных я безжалостно съел.
* * *
Сейчас около двенадцати ночи. Кашкет, изрядно глотнув местного feni, который нам любезно впарил Мануэль, отправился на пляж проситься к рыбакам в лодку – видимо, он еще не оставил идею отправиться с ними в море.
Спать не хочется, и я валяюсь на матраце посреди нашей хибары, наблюдая за ночной жизнью насекомых. Жук, напоминающий большого таракана, благополучно миновав мой матрац, зарылся в кучку песка в углу; крупный ночной мотылек приклеился к синей стене возле лампочки. Комары и мошки были отравлены зеленой спиралью, купленной еще в Варанаси, а теперь курящейся на полу.
Заверещал сверчок, прерываемый мелодией «Cake».
Особенных событий не произошло, если не считать проблемы с керосиновым примусом, когда мы чуть не спалили дом, и того что, возвращаясь с рынка, я, по-моему, задавил кота…
Утром сидя в кафешке на пляже, попивая невкусный lassi[30] и докуривая косяк, наблюдали за двумя престарелыми пе́тусами[31]. Один был в красных стрингах, другой, сухой как Iggi Pop, с выцветшей татушкой на плече! Они, как дети, бегали по песку и играли в пляжный теннис. Тот, что в стрингах, после каждого удачного удара хлопал ракеткой по попе, а Iggi повиливал ею в разные стороны.
Допив lassi, отправились к пресному озеру за горой. Озеро! Слишком громко сказано – оно оказалось небольшим заливчиком, похожим на те, что остаются после схода большой воды или отлива. Там уже барахталось кверху попой несколько нудистов, и нам пришлось покинуть сей райский оазис и вернуться домой.
Последнее время мы озадачены поиском нового жилья и попыткой сбыть наши мопеды в обмен на более новые и дешевые – звучит утопически, но мы не теряем надежды!
Вернулся Кашкет, рассказал, что рыбаков опять не нашел, зато встретил каких-то нариков с бутылкой воды, блуждавших по пальмовой роще в поисках party. Взял мою красную сумку, перебросил через плечо и снова ушел, сказал: «Гулять».
От деревянного стола падает забавная тень на синюю стену, ломаясь при переходе на пол. Тишина! Покой!
Между верхушками пальм таращатся звезды. Все вокруг, кажется, уже дрыхнут, однако мне спать не хочется. Пожалуй, я так могу еще сто страниц исписать всякой ерундой, вот меня прервал муравей, заползающий под страницу – извлекаю мерзавца – ать!
Выходил покурить, вернулся – на подушке сидит сколопендра, одновременно смахивающая на муравья и гигантского таракана, величиной чуть больше спичечного коробка. Воевал с ней минут десять, сначала думал взять в плен, но в итоге казнил, причем на прощанье она издала такой пронзительный писк, из-за чего все это запахло убийством. Еще эта дрянь долго не хотела погибать, пришлось давить изо всех сил пластиковой бутылкой! Теперь будет мне снится.
Надо заканчивать эти ночные посиделки, гасить свет, а то набьется сюда всякой нечисти – выкуривай их потом всю ночь!
У Кашкета, правда, свое оружие – уговорил бутылку feni перед сном, а потом хоть тараканьи бега у него на лице устраивай – все равно не проснется.
Продолжаю сидеть на веранде. В темноте трещат сверчки, из дома плывут звуки «Blur», прошел какой-то мужик с фонарем, запах керосина все еще напоминает о сегодняшней аварии, под скамейкой клан муравьев дожирает трупик убитой мною твари, скоро от нее и следа не останется. Еще один пострадавший – летающий таракан – с третьей попытки был прихлопнут моим кожаным шлепанцем.
За картонными коробками, из под пива «Bello-Goa», раздаются слепые тычки – чую, предстоит очередная схватка. Что-то затрещало в кустах – не пойму, что?! За коробками явно затаился кто-то покрупней казненной сколопендры, звуки довольно громкие. Мимо веранды, похрюкивая, проходит свинья. Неоновый фонарь освещает снизу часть пальмовой кроны, макушка ее утопает в темноте ночного неба. Все вокруг тихо за исключением местной фауны. Звуков стало больше и, кажется, настало время перебираться внутрь бунгало, где, наверняка, придется опять лишить жизни какую-нибудь букашку.
Эх, а спать все не хочется! Черт, это Кашкет, похоже, заразил меня своей трезвой нетрезвостью, а сам учесал куда-то.
Эге! Залаяли собаки – кто-то идет. Пустота! Курить охота, а сигарет нет.
Напряжение растет! Хочется уж написать: «Вот и Кашкет», а этого оболтуса все нет! Где, интересно, он шляется темной ночью в прибрежной индийской деревушке?
Лодки
Резко перестала летать всякая ночная тварь!
Пойду, поищу сигарету… выкурю, пожалуй, одну «беломорину» из пачки, припасенной для дела! Мммм-дааа, «Беломорканал, Петербург 105» гласит отрадная надпись на мундштуке! А что? – не хуже местного курева, надо заметить!
Да где ж он шляется?!
Кстати, тут, напротив нас, живет дед – забавный персонаж, я вам скажу. Дымит гашиш без остановки. Я с утра еще и глаз не продрал, выхожу на веранду чистить зубы, а он уже во всеоружии – с косяком и газетой сидит у себя на веранде в красном пластиковом кресле. Так и проводит целый день, ни с кем не разговаривает, правда, никто у него ничего и не спрашивает. Он только наклоняет голову в знак приветствия, когда с ним здороваешься. Был тут у него один дружбан – молодой израильтянин. Они одно время вместе так сидели, да вчера он съехал. Внешне дед смахивает на Сократа, на вид ему можно дать лет семьдесят с копейками.
Вот мимо проехал на мотоцикле незнакомый белый в оранжевой майке. Дверной косяк снова облеплен парой экземпляров местной нечисти, «беломор» потух, «Blur» играет, спать неохота, Кашкета все нет.
Тишина.
Пожалуй, глотну остатки feni… Самогонный вкус и запах заставляют поморщиться… бе…
На коробке из под пива «Bello-Goa» изображены девушка-островитянка в цветастой юбке и усатый мужик с гитарой в руках, похожий на господина Леонсио из древнего сериала «Рабыня Изаура». Позади них океан с оранжевым солнцем, два черных силуэта пальм и край одноэтажного домика с торчащей скалой. Довольно правдоподобный штамп, иллюстрирующий местный колорит.
Здорово, я вам скажу, сидеть теплой ночью, попивая местный алкоголь, под доносящийся шум океана, в шортах и майке, уложив загорелые ноги на перила веранды, – чувствуешь себя плантатором, и уж точно матерым путешественником. Сознание рисует долгие дни такой жизни, и это наполняет все внутри беспечностью и спокойствием.
Сейчас я совершенно не могу представить себя в Москве, в городской обстановке. Далекими кажутся даже те дни в Дели и Варанаси. Но, несмотря на все преимущества местной жизни, я уже скучаю по этому удивительному месту – Бенаресу!
Заиграл Bob, стало еще тише и блаженней. «Comin-in, comin-in-comin-in from the cold… la la la…» Еще одна папироса напросилась на кремирование.
«5 рупий скидка», – написано на семилитровой бутылке питьевой воды.
«Pimper's paradise… la la la…»
Bob the best!!! Нахлынули воспоминания о деревне. Наверное, потому, что так прекрасно мне бывает только там. Вообще, я бы легко променял все это на родной покосившийся дом в заброшенной костромской деревушке. Конечно, здесь все ощущения другие, нежели в деревне, но, в общем, истоки их те же! Интересно будет махнуть в деревню после Индии – такой контраст и вместе с тем нечто общее! Наверное, некоторые вещи в деревне, на которые я прежде смотрел вскользь, будут чувствоваться сильнее после Индии.
Интересно, какой канал TV сейчас смотрит Митяй?!
Утро
Индия!!!
Замечательная страна!!! Она действительно способна изменить взгляд на мир, кем бы ты ни был. Забавно, но здесь ощущаешь себя далеко в истории.
Кашкет, должно быть, и вправду уплыл в ночь с рыбаками, – вернется без креветок – уши надеру!
Ого, крысы! Штуки три пробежали по балке под потолком и скрылись в стропилах крыши.
Зеваю – хороший знак, может, пора!? Посижу еще чуток. Стрекотание сверчка слилось с отдаленным звуком мопеда, истошно залаяли собаки, – должно быть, Кашкет!
Глупые твари – брешут понапрасну!
«Tu tu tu… could you be lo-o-ved… na na na..».
Ну все, last belomor и спать.
* * *
В четыре утра я добрался до бунгало и рухнул спать. Напротив, попахивая жженым керосином, похрапывал Арсений.
Вечером следующего дня он не стал связываться с новой горелкой и мучиться бессонницей, а, глотнув feni, вместе со мной отправился на «Crab Hunting», вооружившись фонарем и фризби – дабы метким броском накрывать самых шустрых из крабов. Арсений соорудил некое подобие остроги, привязав нож к палке. Ловля началась успешно, правда, оружие Арсений использовал не совсем по назначению, он просто бегал по пляжу с фонарем и долбил каждого замеченного краба тупым концом палки, превратив острогу в дубинку. От удара крабы смирнели и затихали, но чаще разлетались на составляющие – лапки, клешни, панцирь. Когда Арсений увлекался, бешено колотя по песку своей дубинкой, мне приходилось убегать или отпрыгивать от него.
* * *
Не знаю, во сколько встал мой друг, я проснулся позже него, но когда я добрался до пляжа, Арсений уже принял на себя изрядную дозу ультрафиолета и стал розово-красным.
Устроившись в тени от лодки, достали шахматы и принялись лениво переставлять фигуры. Рядом никого не было, только изредка подходили тощие мальчуганы с охапкой всяких тряпок на голове, но мы тут же их отшивали.
– Посмотри, Кашкет! – шепнул Арсений. – Ишь, искусительница!
Мимо, вдоль кромки прибоя, пробегала миловидная девушка в одних лишь стрингах.
– М-да, сволочь! – сказал я. – Видит же, люди, изнуренные половым воздержанием! Ведь специально бегает тут, каналья!
– Думаешь? – спросил Арсений. – А откуда ей знать про наше половое воздержание?
– А ты оглядись! Вокруг нас что, гарем? И кто б, отдыхая с девками, стал бы играть в шахматы, лежа в драных шортах, с таким унылым видом, как у тебя. Мы даже на педиков не похожи…
– Да, наверное, так – согласился Арсений. – Никогда не понимал женщин! а ты?
– Я во всем все понимаю, – убедительно ответил я, – более или менее…
Арсений задумался, провожая жадным взглядом бегунью, я невольно присоединился к этому зрелищу.
– Кашкет, как думаешь, а чего они хотят?
– В смысле?
– В смысле, вообще, чего женщины хотят? Вот она, например? – спросил Арсений, кивнув в сторону удаляющихся стрингов.
– Не могу сказать, ибо женщины сами того не ведают…
– Ну, нет! Знают. Есть же меркантильные сучки всякие. Полным полно. Они уж знают, чего хотят! – возмутился Арсений.
– Если так, дружище, то меркантильная сучка, фифа московская – это не женщина, а образ жизни и глубокое заблуждение. Род заболевания, типа клептомании! – сказал я… – В общем-то, нормальная женщина хочет только семью, детей, спокойствия, еще красивую свадьбу, зависть родственников и подруг, любовь до гроба и смерть с суженым в один день. Ну, иногда, мечтает о паре любовников-поклонников. И крепких тылов – в смысле денег, конечно.
– Да ладно, так банально? Не верю! – запротестовал Арсений.
– Так! Только так никогда не получается.
– Почему?
– Потому что правда жизни!
– Слушай, а наши подруги нас дождутся? – вдруг спросил Арсений.
– Меня точно никто не ждет, – не задумываясь, ответил я. – Вокруг женщин пустого места не бывает. Думаю, тебя тоже никто не ждет.
– Черт, настроение испортил! – сказал Арсений, – Кашкет, ну вот почему эти нежные создания, о которых мы все время думаем, оказываются такими вероломными?
Я перевернулся на спину, закрыл глаза и начал разглагольствовать:
– Насчет «нежных», братец, у меня сильные сомнения, а по поводу вероломства – это, наверное, что-то вроде врожденной привычки.
– Это что, опять правда жизни? Предательская действительность или капризы природы?!
– И то, и другое. Ну вот, если например женщина ошибается, и мужчина также ошибается, и говорит, что дважды два пять, то женщина ошибется по-другому, и скажет, что дважды два не пять, ни шесть, а блин на постном масле… Одним словом, выходит либо гадость, либо радость, но всегда нечаянно и всегда некстати. В любом случае, понять, а тем более объяснить их поступки мы никак не сможем.
Арсений громко вздохнул.
– Да, с этим точно не поспоришь! Ну, вот чего я понять не могу, так это, к примеру: живет с тобой подруга; говорит тебе каждый день, что любит, а в один прекрасный момент – раз, и нет ее! Они что, совсем ничего близко к сердцу не принимают, или врут так ловко? У них, что, совсем ничего святого не осталось, кроме своих меркантильных интересов? Просто диву даешься, насколько эти девки бывают меркантильны: они ж с одинаковой увлеченностью говорят про любовь и трещат про шмотки!!!
Я повернулся к Арсению и заулыбался:
– М-да, животрепещущий вопрос задел, судя по всему. Чего далеко ходить – и с тобой подруга жила, да ушла…
Арсений не стал дальше слушать и перебил:
– Слушай, мне кажется есть женщины, относящиеся к людям, как к вещам каким-то, не хотел бы на такую нарваться.
– Ну, не только женщины такие бывают. К тому же у тебя восемь из десяти шансов на такую глаз положить, а там пошло-поехало, не успел оглянуться – опять один; с депрессией, апатией и желанием смыться подальше. Однако и это проходит.
– Что, желание смыться подальше?
– Нет, депрессия проходит!
– Да все проходит! Жизнь, блин, проходит, нам уж скоро тридцатник, а мы все в иллюзиях и мечтах! Вот у них все совсем иначе, сидит сейчас какая-нибудь фифа в Москве да рот не закрывает. А послушать только, о чем она толкует; про шмотки, про деньги, про свои крашенные ногти, про свой телефон, про всякую чепуху, про себя. Живет, ничего кроме себя не видит, да еще с претензией на любовь! А какой-нибудь прекрасный юноша в нее влюблен и ночей не спит, чтоб потом с ним сыграли злую шутку! А мужики всё верят в сказки – я верю.
– Эге, Арсений! Молодец – верь. Я б тоже верить хотел, вот только не получается. Проблема в том, что мне и с женщиной хорошо, и без нее, то есть, другими словами и так плохо, и сяк плохо. Как всякая дилемма в жизни – ничего путного не придумаешь. А если так дальше рассуждать, то выйдет, что и все мужики, по определению – «козлы», а бабы – «суки». Значит, надо искать исключения, потому что я, например, себя за «козла» точно не держу.
– А какой козел держит?!!!
– Идиот! Чтоб тебе самая меркантильная фифа в душу запала. Чтоб ты с ней каждый четверг в Миксе «кислую» щелкал![32]
– Ща подеремся!!!
– Во! Вишь, че бабы с мужиками творят!
– Смотри, она опять бежит! Загорелые…части…..тела….Нельзя так издеваться!
– Мне папа говорил: «Никогда не бегай за троллейбусами и за женщинами – все равно не догонишь», а мама, что «жизнь одна, а женщин много». Пусть бежит!
Вечером, сидя на веранде нашего бунгало и допивая остатки фени, Арсений признался:
– У меня сейчас такой период, много о них думаю.
– А когда у тебя такого периода не было?
– Когда я не лежу, блин, в драных портках под пальмой с тремя месяцами одиночества в запасе.
– Действительно, еще три месяца, я даже не сообразил сразу. Черт, еще три месяца? Неправдоподобно звучит… что делать будем?
– Есть два варианта, – с готовностью ответил Арсений, – запереться в ванной наедине с собой или найти свободную женщину, способную понять комбинацию слов «взаимовыгодные условия»!
– Рукоблудство – позор! Есть третий вариант – воздержание! Звучит уныло, конечно, но как найти «понимающую» и готовую на «взаимовыгодные условия», я тоже не представляю. У тебя же нет словаря иврита в кармане или Энфилда с хромированным рулем у фазенды?
– Что-то ты не оставил им большого выбора, может, и на Pulsar[33] клюнут? Разговорник мне не нужен: Sex – international language. И вообще, гораздо приятней не знать, о чем они говорят!
– Ага, только надо не слушать, а самому лапшу на уши вешать! Или ты на языке жестов будешь свои потребности изъяснять. Таким методом на тебя только упитанная нимфоманка клюнет, и то после очередного фалафеля![34]
– Че ты пристал к израильтянам!? Ну фалафели, ну с картошкой – люди-то хорошие, веселые. Потом, зачем объяснять такие жесты – все и так ясно: мужчину тянет к женщине, и наоборот, – Арсений пригубил вонючий feni и продолжил, – чувствуешь, здесь все пропитано запахом любви, он разноситься на многие километры вокруг, им пропитаны листья этих пальм и шторы этих окон!!!
– Ты хоть себя слышал? Запах!? Шторы!? Фалафели!? Знаешь, как Миша Ухов в деревне говорит: «….А что баба? Захотел бабу – иду дрова колоть!», вот иди и помоги Мануэлю кучу говна возле бунгало разгрести! Хоть польза будет!
– Ты бросай эти восточные штучки, Мише Ухову скоро на пенсию, а без дров в деревне замерзнешь!
– Не хочешь Мануэлю помогать, так и скажи!
– Не можешь ничего придумать – так не философствуй! И, вообще, почему весь наш разговор опять перерос в разбирательства?!
– Потому что твое половое воздержание, Арсений, переросло в агрессию! А придумать можно все, что угодно, хоть «продажную любовь», только с твоей мнительностью подобная затея приведет к неизбежным последствиям, а именно, к поискам КВД!
– Только подумать! Арсений теперь в центре внимания! Ты, дружище, видимо, все спокойно переживаешь или, может, я чего-то не знаю?
– Чего ж ты можешь не знать, когда мы друг другу сутки напролет глаза мозолим – удивительно, что я тебя еще не удушил! А переживать мне нечего – я молод, чертовски привлекателен и, в принципе, есть возможность заманить женщину на костерок с бананами и ромом!
– Ты, Кашкет, чертовски самонадеян! В нашей ситуации – это плюс!
– Возможно, черт побери! Только в нашей ситуации, со всеми плюсами и минусами, остается два варианта, либо фалафели, либо … позор!
– Антисемит и рукоблуд!
– Мстительный извращенец!
– Какой же я извращенец?! Клевета! Я просто злобный романтик!
– Злобный извращенец, а потом уже романтик: «…Запах любви в шторах окон!». А за окнами Мануэль и его свиньи!
– Ты начисто лишен воображения и романтики, если решил, что я имел в виду наши шторы…
– Ты начисто лишен практического понимания смысла жизни, если решил, что, болтая со мной о подобных материях, за углом появится та красотка с пляжа и кинется тебе в объятия!
* * *
Сегодня понедельник, и по нашим, принятым с недавнего времени распорядкам, это означает разгрузочный день, то есть питаемся исключительно фруктами. Во-первых, это позволяет экономить, во-вторых, по словам Арсения, укрепляет здоровье, в-третьих, это хоть как-то позволяет ориентироваться во времени. Поэтому, когда я целый день вместо нормальной еды ем фрукты – это значит, что сегодня начало новой недели и, придется ехать на рынок за бананами и папайей, которую в совершенно диких количествах истребляет мой друг.
Наконец-то что-то стало на свои места: мы решили остаться там, куда изначально вселились, в принципе тут неплохо, пальмовая роща подходит к самой веранде, пляж в двухстах метрах и большое бунгало с черепичной крышей и просторной верандой. И наконец-то съездили в Чапору, где наш друг, Шульц, подмутил нам пару модных, абсолютно новых мопеда «Honda Аctiva». Заценили русский ресторан «Баба Яга» – обычная индийская клоака, только на стенах висит несколько плакатов совковых времен, связка бубликов, а повариха сказала мне: «А ну-ка, подвинься, дорогой!», когда я встал в дверях, a пара русских, местных друзей Шульца, оба чем-то обглюченные, лакомились сырниками.
По пути в Чапору, на арамбольской автобусной остановке видели мертвого индуса, он лежал, прислонившись к стене в неестественной позе. Вокруг шла обычная жизнь, кто-то покупал бананы, кто-то смеялся, кто-то пил утренний чай; мертвеца никто не замечал, как будто его там и не было.
Вечером нам рассказали, что накануне был какой-то местный праздник и этот индус напился – сердце бедняги не выдержало обратной дороги по жаре, и он упал замертво, не дождавшись автобуса.
За нашей дверью несколько туземцев под командованием кривоногого Мануэля строят спроектированный нами тент из бамбука. Работа кипит – то и дело слышны суетливые команды Мануэля рабочим.
Этот сухой черный туземец, уроженец здешних мест, небольшого роста с короткими курчавыми, наполовину седыми волосами, неизменно в своей потертой до дыр грязной майке-алкашке, в засаленных шортах, по-английски все-таки говорит. Но вместо «I» употребляет «My», что в русском эквиваленте означало бы не «Я», а «Моя». Еще он знает три-четыре выражения, наиболее употребляемое из которых «My happy»[35].
На днях мы ему сказали, что неплохо бы убрать кучу мусора перед нашей верандой, в которой нежатся свиньи. И, вообще, расчистить чуть-чуть территорию. Потом было бы кстати установить тут тент из бамбука, поставить стулья, столики и развесить гамаки, и тогда все смогут проводить здесь райское время в часы сиесты. А главное, будет красиво, и туристы потянутся сюда рекой, и бунгало можно будет сдавать дороже.
Последнее его убедило окончательно. Мануэль загорелся этой идеей, и вот уже три дня здесь бурлит работа. Мы уже жалеем, что рассказали ему все это, так как куча не была убрана, а просто переехала на три метра дальше, а туземцы воздвигают какое-то аляповатое сооружение из пальмовых бревен, грозящее развалиться прежде, чем закроет нам остатки вида на пальмовую рощу.
Monsoon
Сегодня, как я уже говорил, начался разгрузочный день. Но, поразмыслив и как следует проголодавшись, передумали. И в данный момент я разделываю курицу, еще пятнадцать минут назад топтавшую песок двора. За ней Арсению пришлось съездить на небольшую куриную ферму. Вернувшись, с восторженном видом он сказал мне: «Дружище, какой это кайф нестись на мотике по петляющей дорожке, обсаженной пальмами! За океаном рдеет закат, в ушах играет музыка. Мимо проносятся пустынные пляжи, сверкает океан в лучах заходящего солнца, покрытый синей дымкой у самого горизонта, в лицо бьет теплый воздух и лучи вечернего солнца, очки делают все четким и контрастным. Можно позволить себе даже чуток порокерить!». «Ты что, покурил перед выездом?». «Ага». «В общем, это ничего не меняет».
До позднего вечера мы пировали на пляже. Лежали на песке возле костра и, слушая шум океана, смотрели на непривычное звездное небо – созвездие Кассиопеи буквой «W» здесь перевернуто как-то вбок и вкривь, так что надо еще его отыскать, а само небо кажется намного ближе.
* * *
Незаметно подкрался канун католического рождества. Поэтому нам пришлось съездить на Flea Market[36], для меня это подвиг – я ненавижу рынки. Но надо было облагораживать грязное бунгало Мануэля, раз уж мы решили провести в нем еще больше месяца.
Fleа Market – самое не подходящее место для покупок, на котором отовариваются все туристы, в том числе и отечественные, отчего он имеет некоторое сходство с «Черкизовским». Огромное пространство возле берега, неподалеку от Анджуны, уставлено палатками, и подъезжая к этому рынку, кажется, что едешь вдоль лагеря албанских беженцев.
Между рядами с сувенирами, тряпками, одеждой и прочим толкаются туристы и такое же количество свободных торгашей, которые подбегают и принимаются стучать в таблы непосредственно рядом с вашими ушами, покрикивая: «Cheap, my friend! Verrrrry cheap!»[37] То же самое проделывают продавцы дудочек и прочих музыкальных псевдоинструментов. Помимо этого ходят какие-то мужики – показывают на уши, потом хватаются за одно ухо, засовывают в него палочку, а, высунув, демонстрируют неимоверное количество ушной серы, потом требуют деньги… Иногда они гордо показывают документ, похожий на водительские права, на котором обозначено, что это не просто какой-нибудь Абу из Мапусы, а профессиональный, лицензированный «Доставатель ушной серы». Высматривая товары, приходится все время материться на продавцов тамтамов и мальчишек, которые то и дело норовят протереть резиновые шлепанцы черным гуталином.
С неимоверным усилием воли я таскался по пространствам рынка, периодически вздрагивая от таких фраз: «Мань, глянь! Глянь, какие шортенции, а? Возьмем, а Мань?», на что Маня, упитанная хохлушка лет под сорок, кричала: «Ах, шорты! Ты ребенку плавки смотри, дурак!».
Все отечественные туристы мужского пола ходят по «маркету» с неизменной бутылкой пива. Индийцев, по привычке, называют «чурками» или «неграми». Еще они привнесли сюда обычай из Турции одевать несколько маек или шорт на себя, расплачиваясь только за один экземпляр. Их привозят тоннами на автобусах, выгружают, а через пару часов загружают обратно, поэтому они перекрикиваются между рядами, обнаружив что-нибудь «экзотическое», и всегда очень суетливо бегают. И все же мы купили два гамака и три тряпки, чтобы задрапировать стены бунгало.
Мы спешно отправились в Чапору, где встретились с Шульцем. Он жил неподалеку на задворках обычного лысого бетонного поселка с черепичными крышами. В доме было три комнаты, стеклянный стол, которым гордился Шульц, и телевизор с кучей кабельных каналов. Я немедленно залип у телека, бесконечно терзая пульт. Пришел Нияз и засел за рисование афиш на мятом ватмане для оформления утреннего меню «Бабы Яги». Арсений пытался выяснить, что с тусами в рождественскую ночь. Шульц рассказал, что готовятся несколько party, но никакой организованной тусовки не предвидится. Все будут просто ездить с одного party на другое в поисках наркотиков, а потом будут «угорать». Нас такая перспектива не обрадовала, и мы двинули назад в тихий Арамболь, уже зная, что ни на какие party «угорать» не поедем.
В Арамболе, сидя за прекрасным ужином и наблюдая, как солнце падало в рубиновый стакан с портвейном, мы повстречали Аркашу из Челябинска, с которым случайно познакомились месяца два назад на Бигали Тола в Варанаси.
Это был долговязый парень лет тридцати, в образе которого просматривался отпечаток сильного влияния кришнаитов. Он второй раз в Индии, а в первый, как выяснилось, действительно мотался с сектантами по ашрамам. Но, как выражался он сам, «сейчас слез». Больше Аркаша кришнаитом себя не считал, однако часто экспериментировал с галлюциногенами. Поэтому я не удивился, когда вместо полноценного ответа услышал невнятное бурчание. Спустя несколько минут он нас признал и присоединился к трапезе.
Аркадий был крайне удивлен, узнав, что сегодня рождество, по его расчетам оно должно было быть через пару дней. Просидев в ресторанчике до темноты, отправились к нему. Прикончив остатки нашего непальского гаша, отведали его травы и выпили по стаканчику рома.
Потом решили пойти в недавно отстроенный русский бар под названием «Butterfly». Когда мы вышли за стены жилища, Арсений понял, что чертовски нетрезв и, ориентируясь лишь на мелькающие впереди пятки Аркадия, кое-как добрел до этого места.
«Butterfly» – огромный шатер из парусины, внутри от потолка спускались полосы полупрозрачной ткани, прижатые к песку бамбуковыми палками. Несколько таких полос, образовывали комнатки-купе, где лежали полосатые матрасы, забавно мерцая в флюоресцентном свете. Играл «chillout music».
Отправились за Аркадием в одно из таких купе, где сидело уже пять человек – три парня и две девушки. Девицы осведомились у Аркадия, кто мы такие и что – типа «нерусских нам здесь не надо», но, признав соотечественников, сказали: «Ласково просимо», отправив, тем не менее, в другую комнатку. Нам это не понравилось. В Индии, где все счастливы и доброжелательны, где каждый новый человек тебе друг и брат, где белые люди по-приятельски здороваются с тобой на улице, такой прием могут оказать только русские. Эти, однако, оказались белорусами. Просидев перед пустым столом в пустом клубе с добрых полчаса, нас известили, что тут и вход платный, и что, мол, с каждого по двести рупий, тогда и бар на халяву. Алкоголь в бар еще не завезли, а кухню еще не построили – что можно было взять в баре бесплатно кроме минералки, для меня осталось загадкой!
«Мы, пожалуй, пойдем», – сказал Арсений, и тогда нам предложили остаться за сто рупий. Оставив Аркашу заложником в белорусском плену, мы послали всю эту жадную, негостеприимную компашку и отправились на пляж.
Тут было намного приятней – шум океана, темнота, ни души вокруг, на горизонте линией огней светятся рыбацкие кораблики, справа вдали мерцают огоньки центра Арамболя, небо усыпано звездами.
Закат
Мы шатались по пляжу, пока наконец, не набрели на какое-то одинокое бамбуковое кафе, тускло освещенное голой лампочкой – еще одна жалкая попытка туземцев организовать свой бизнес, разумеется, нелегальный. Арсения прибило поесть и, взглянув на цены, он решил все же попробовать, что же такое этот «Russian salad», заказав еще чапати с сыром и чесноком. Я довольствовался ромом и рассчитывал на кусочничество. Не прошло и двух часов, как ему принесли то и другое. Салат представлял собой возвышающуюся на дне тарелки кучку рубленой капусты с кусочком морковки, прикрытой четвертинками очищенного грязными пальцами вареного яйца.
Проходя мимо перетяжки, призванной рекламировать «Butterfly», я презрительно поморщился, дав себе слово больше там не появляться. В этот момент у Арсения начались приступы змеефобии, ему стало казаться, что весь пляж просто кишит змеями. Он принялся высоко поднимать ноги и шуметь, дабы отпугнуть мнимую нечисть подальше. Выглядело это забавно, его, вдобавок ко всем движениям, еще и штормило. Таким образом, Арсений домаршеровал до бунгало и умудрился взгромоздиться на мопед. Спустя пятнадцать минут мы сидели в непальской кафешке, ожидая chowmin[38] с морепродуктами, и cheese naan[39], в толщине и качестве которого я был уверен.
Отправив все вышеперечисленное в желудок, я почувствовал себя на пике обжорства. Погрузив распухшие, как шар, животы на скутеры, вернулись домой, где перед сном поклялись друг другу, что больше никогда не будем есть в ресторанах в таком количестве.
* * *
Не помню, что было утром, но, наверное, как всегда Арсений ходил купаться и дымил гашиш, грел опухшее пузо и, подозреваю, даже бегал вдоль пляжа, чтобы от него избавиться, а я тем временем досматривал сны, убивая кого-то в страшных сражениях. Сны у меня всегда отдают криминалом. Вернувшись с пляжа, Арсений сообщил, что у него похмельный синдром.
Ближе к полудню на своих кривых и тонких ногах приковылял Мануэль. Он еще с самого нашего приезда обещал свинину, от которой, конечно, я не мог отказаться. Шли дни, но мяса не было, а на все вопросы относительно оного Мануэль, качая головой, как болванчик из табакерки, отвечал одним словом – «тумороу».
Абу
На этот раз Мануэль принес добрые вести – свинья заколота! Но для получения заветного килограмма нам надо ему помочь – съездить к знакомому, прихватив еще и его друга, Абу. Пока на языке жестов и двух английских слов «My» и «Go» Мануэль пытался нам это объяснить, я заметил бегущего к нам индуса с круглым животиком, в очках и семейках, вооруженного кривыми страшными ножами. Это и был Абу. Он так ловко поместился позади Арсения на мопеде, что порой мой друг был вынужден оглядываться, дабы удостовериться, не слетел ли Абу на одном из поворотов; но когда замечал отблеск засаленной линзы в несуразной оправе, успокаивался…
За моей спиной сидит Мануэль, одной рукой он держится за мое плечо, а в другой у него ножи разной длины и формы, больше похожие на орудия пытки. Он дышит перегаром от фени мне в шею и все время болтает. В зеркале заднего вида я наблюдаю страшную картину – явление красно-черной богини Кали. Красный Арсений в темных очках, с шевелюрой Сида Вишеса, с торчащими коленками, за ними торчат две темные коленки Абу, из шеи Арсения выросла плешиватая голова, черная как уголь, и в очках на «-12», с кривыми редкими зубами. На руле две руки, а из подмышек торчит еще пара со страшными изогнутыми лезвиями.
По дороге Арсений чуть не угодил под грузовик, Абу примолк, в отличие от Мануэля, который всю дорогу кричал, размахивая ножами за моей головой. Дорога спускается вниз к заливу, Мануэль взмахивает в миллиметре от моего уха своим тесаком и указывает на белый глинобитный домик.
У дома, под прибрежными пальмами, стояло человек пять полуголых туземцев, некоторые были одеты в майки-алкашки и обладали округлыми животиками. Они расположились вокруг кучи горящей соломы. Когда куча прогорела, под ней очутилась черная от копоти, довольно крупная свинка – «опаливали щетину», пояснил Кашкет.
Мануэль и Абу принялись соскребать со свиньи копоть, обнажая белую кожу. Тут мы искренне посетовали на то, что не прихватили с собой фотоаппарат.
Вот уже несколько туземцев держат ее за ноги вверх тормашками, а Мануэль вспарывает живот. Еще мгновение, – и Абу перевязывает ниткой желчный пузырь…
В этот момент нас любезно приглаcил в дом хозяин, тоже давний приятель Мануэля, похожий на Абу, да и на всех индусов вместе взятых. Поднявшись по каменным ступенькам и миновав веранду, мы очутились в довольно просторном холле. Около стены, выкрашенной в желтый цвет, стоял стол, накрытый клеенкой. Повсюду висели клетки с неугомонно чирикающими птичками. Из окон был виден залив, на столе стояла бутылка из-под знакомого виски «McDowels», замызганная до такой степени, что о марке напитка можно было догадаться только по характерной фигурной форме стекла. Внутри был feni. Нам было предложено, и мы не отказались. Закусили маринованным манго, один в один – соленый огурец. Затем всюду за нами по пятам следовал хозяин, неся два стула, бутылку и закуску. Вспомнив о скончавшемся бедолаге на остановке, я решил не злоупотреблять в такую жару, зато Кашкет старался за двоих.
На улице вся честная компания занималась вытаскиванием внутренностей. Под трупик были заботливо подложены переплетенные крест на крест сухие пальмовые листья. Вспоротую свинью подняли за передние лапы и как бы поставили на задние, при этом внутренности вывалились, и кровь хлынула рекой. Зрелище потрясающее – яркая, тропическая зелень, контрастно падающий свет, огромная, яркая лужа блестящей на солнце крови.
Опустошив тушку, перетащили ее ближе к дому и уложили на чистый пальмовый лист, потом Мануэль с Абу уселись на деревянные бруски и принялись рубить тушу в клочья. За этим действом с жадностью наблюдали хромая собачка и два плешивых кота, то и дело сующие свои усатые мордочки под руки и тут же получая по ним ножом. Непонятно, как вообще эти животные оставались живыми! Раз, сунувшись в кучку мяса, кот получил от Абу такой удар ножом по рыльцу, что я был уверен – животное вот-вот развалится надвое, как в кровавом боевике, что его голова съедет с шеи от бритвенного пореза. Но нет – ничего такого не случилось, и спустя пять минут неугомонное животное уже пыталось прорвать тылы со стороны Мануэля.
Мануэль рубил с плеча! Кости, хрящи и жилы летели во все стороны! Отрубив хвост и ловко раскромсав его на четыре кусочка, Мануэль так же ловко упрятал их себе за щеку и проглотил в момент ока, успев предложить нам. Кашкет было задумался, но здравый смысл победил.
Всего за каких-нибудь десять минут свинья была превращена в двадцать одну кучку готового продукта. Все части животного пошли в дело, выброшены были только четыре копыта, которые тут же стали предметом баталии между котами и собакой – победила последняя!
Лапы, череп, кости, ребра, глаза, челюсти – все было мелко порублено и аккуратно распределено между кучками. Я взглянул на одну из кучек – там лежал кусок, являющий собой белую десну с небом и единственным клыком, уцелевшим после молотилки. Мне стало интересно, для чего он вообще здесь нужен – в пищу его не употребить, на полку не поставить.
Началась дележка, и все вокруг оживились, даже животные прекратили свои набеги и, усевшись в стороне, терпеливо выжидали. Мануэль, тыча в кучки поочередно то грязным пальцем, то морщинистой пяткой, считал их количество. После первого подсчета было произведено еще пять, чтобы каждый из присутствующих был доволен. После этого принесли старые весы, больше похожие на музейный экспонат периода инквизиции. На правую тарелку положили килограммовую гирю, а на левую Мануэль шлепал по кучке, уравновешивая ее добавлением очередного позвонка или еще какого-нибудь несъедобного куска скелета животного.
Когда наконец все было подсчитано и проверено – не досчитались пятачка, обоих ушей и хвоста. Хвост съел Мануэль, в чем не замедлил признаться, уши списали на Абу, который при начале судебных разбирательств незаметно ретировался к заливу якобы помыть руки. Пятачок был съеден зубастым индусом, сыном хозяина.
В заключение все мясо разложили по пакетам и всей гурьбой ринулись в дом обмывать добычу.
Закат на заливе
* * *
Последний день уходящего года. Его начало мало чем отличается от остальных, скорее всего, и конец будет похож на другие.
На пляж сегодня опять выбросило несколько морских змей и рыбу-шар, метрах в пятидесяти от этого террариума, на песке валялся Арсений. Мы позавтракали, и я принялся за набоковский «Подвиг». Арсений взялся было за сборник Борхеса, но мгновенно уснул.
Новый год встретили сидя в океане с бутылкой рома, а на песке пылал новогодний костер из пальмовых листьев и обломков от рыбацких хижин.
Утром первого, с похмелья, мы решили выбираться из Индии на корабле – доехать до Бомбея, а там устроиться хоть помощником кока на любое судно.
Вечером встретились с нашим приятелем Юрой и его подругой Аней, которая работала на юге Гоа – внешне она походила на мерзкую, некультурную толстуху, а на деле оказалась доброй русской девушкой. Юрик развеял все наши планы относительно морского пути на Родину – дорого, долго и не получится. Аня, в свою очередь, предложила нам ехать через Пакистан и Афганистан на автобусах. И уже через пятнадцать минут Кашкет уговорил меня согласиться с предложением Анны. Я, конечно, считал эту затею безумством, но я также думал и насчет Индии, а вышло совсем не так, как я себе это представлял, кроме того – это еще одно путешествие, и это замечательно. И вряд ли я когда-нибудь специально соберусь колесить по Афганистану…
Ночь – индийская, южная ночь – вязкая, густая, липкая, наполненная звуками и шорохами. Во всех углах скреблись крысы, завывали кошки, стрекотали сотни кузнечиков, ползали пауки, тараканы, раздавались шлепающие звуки сколопендр, храп Кашкета – все это мешало мне заснуть. Я лежал на спине с фонарем в руке и думал…
В голову лезли эшелоны мыслей, то ли от выпитого рома, то ли от количества впечатлений. Я представлял наш переход через пакистанскую границу, схватки с талибами, наезд нашего автобуса на мину, обвал на горной дороге! Смертельная опасность подстерегала меня повсюду. Мысли о смерти решительно прогнали сон. Вскоре все слилось в один большой кошмар, и мне казалось, что я уже никогда не засну. Никогда я так не ждал рассвета. Наконец я все же заснул и проснулся довольно свежим, принял душ, приготовил омлет, и теперь сижу, покуривая bidi.
Ну, друг, Кашкет, что ты там строчишь строчку за строчкой? Все уже написано, и мы лишь создаем жалкую пародию, блеклые подобия ярких мыслей и ярких людей. Давай-ка лучше выпьем рома и перемоем кому-нибудь косточки.
* * *
Устроив солнцу продолжительную фото-сессию, я стал спускаться с горы к нашим мопедам. Ночь наступила почти мгновенно, сразу после того, как розовая полоска над горизонтом побледнела и исчезла. Арсений потерялся, и я прождал его около скутеров почти час. Вынырнув из кустов, он растерянно огляделся по сторонам и сообщил, что потерял ключ от своего мопеда. Я оставил его у скутеров и пошел на поиски ключа один. Но было темно, не помогала даже луна, я вернулся ни с чем. Замаскировав скутер, поехали домой, где немедленно выпили рому за успешные утренние поиски.
На запах рома к веранде подошел Мануэль, он был вдрызг пьян. Изъясняясь тремя словами, повторяя свое неизменное «my happy», он упоминал какие-то деньги, отмахивался и, называя нас своими сыновьями, стал дергать Арсения за щеку и нежно пожимать его ступню вместо руки. Его дочь смущенно стояла рядом, не зная, что делать, и только хихикала, когда Мануэль в очередной раз пытался выразить свою любовь к нам.
Проснувшись, сразу двинулись в сторону горы. Спешить нужно было по одной простой причине: на этом холме пасли коров, а, учитывая соблазнительный зеленый цвет шнура, на котором висел ключ, скудную растительность и полную всеядность местных коров, шанс того, что они сожрут ключ прежде, чем мы его обнаружим, был крайне велик. Задача казалась легкой. Кашкет все время приводил пример из фильма «В августе 44-го» и говорил: «Ну раз они там огурец в лесу отыскали, то кислотный ключ на лысой горе мы уж точно найдем».
В течение трех часов лазили по всему склону горы, сверяясь с вчерашними фотографиями местности и определяя по ним, когда шнура, торчащего из моих штанин, не стало видно на фотках, но все было напрасно – вокруг ходили молчаливые коровы и поедали траву – опоздали! Ждать, когда ключ выпадет из коровы естественным путем, не имело смысла – их насчитывалось более двадцати голов, и осматривать каждую оставленную ими лепешку казалось малопривлекательным и утомительным занятием. Поэтому я отправился в Чапору, чтобы сделать копию.
За изготовление нового ключа я отдал двести рупий, а это почти три акульих стейка! Ладно, черт с ними…
* * *
Очередные посиделки на веранде нашего бунгало за бутылкой рома и косячком закончились бурными фантазиями относительно ближайшего будущего. Решив кардинально поменять нашу эпикурейскую действительность, мы задумали отправиться на мопедах до Гокарны[40], а там «видно будет».
В дорогу взяли только необходимые вещи – а именно: спальники, два гамака, пару маек, по книжке, дневники, шахматы и фризби.
Доехали до Чапоры, где в «Бабе Яге» застали наглухо укуренного Нияза. Перед ним лежал опустошенный чиллам и стакан сока, который он дал нам продегустировать, сказав, что это новый способ приготовления шейков с добавлением какао. Oт Мапусы отправились по шоссе в сторону юга. Дорога отличная. Проехав часа полтора, остановились в кафешке, я посмотрел карту – оказалось, что отмахали больше половины Гоа. В запасе было полно времени, и мы заскочили к Юре с Аней на Мобор[41], чтобы встретить с ними православное Рождество.
В интернет-кафе наткнулись на Ибрагима, молодого кашмирца, хорошего малого, который питал страсть к Анне.
Ибрагим рассказал, что первого числа Юра и Аня ехали от нас из Арамболя и разбились на мопеде. И что Юра содрал порядочный кусок мяса с ноги, и что спустя три дня у него начался абсцесс, и теперь он в больнице на какой-то перевязке. А Анна пошла заканчивать свои дела в офис. Ибрагим предложил нам подождать ее в своей ювелирной лавке, за шахматами и холодным пивом.
Мобор, я вам скажу – это полный кал. По дороге к пляжу стоит комплекс бетонных коттеджей, какие можно увидеть и в Турции, и в Египте – с вымощенными дорожками и всем прочим – эдакий санаторий. Посреди него – бассейн с парой мальчуганов в очках и шапочках!!! По дорожкам в сторону пляжа прохаживаются тетки в нелепых белоснежных шлепанцах и соломенных шляпах или пузатые мужики со своими отпрысками. Повсюду стоят шезлонги и лежаки, там тоже валяются толстопузы. Там где кукольный пансионат заканчивается и начинается песок, расстелены ковровые дорожки к кафе.
Искупались прямо в шортах и сели попить пивка. Рядом сели еще трое – полная женщина лет тридцати пяти, в красной чуть ли не шерстяной юбке, и такой же майке, обтягивающих тело, как оболочка от сосисок; и ее дети: одному толстячку в убогих шортах было лет тринадцать, он мусолил леденец, другому – бледному и прыщавому было около двадцати. Оба в одинаковых бейсболках и майках. В меню они не смогли разобраться, и бармену пришлось тащить им дощечку, где русскими буквами величиной с чайник было написано «ЛОБСТЕР».
У всех троих были мобилки, хотя уверен, они не выходили из своего оазиса более чем на два метра. Но все равно, они предупреждали друг друга о каждом последующем шаге. Покончив с лобстером, мамаша позвонила по мобилке и сказала кому-то: «Мы идем плавать». Cделав пять шагов из кафе в сторону моря, она стянула свою красную обертку и с треском повалилась на топчан. Младший толстячок, семенившей за ней по пятам, снял майку, но так и остался стоять возле нее, бросая мечтательные взгляды на океан в ожидании разрешения своей родительницы. Тем временем старший толстячок говорил кому-то в трубу, что он, мол, «с мамой на Гоа в кафе лобстеров кушает».
Надышавшись атмосферой тухлого курорта, мы поспешили свалить.
* * *
На границе с Карнатакой нас не остановили и, соответственно, ничего не проверили. На скутерах вообще редко останавливают, мы даже паспорта с собой не брали.
В три часа дня поняли, что проехали поворот на Гокарну, но разворачиваться и ехать обратно сил уже не было.
Останавливаемся прямо на шоссе рядом с невысокой группой грязных построек: бар, wine shop, столовка. Первым делом мы посетили «бар», который располагался прямо в винной лавке. Чудеснейшее место – темное, крохотное помещение с грязно-зелеными стенами, три столика прилеплены к одной из них, неработающий вентилятор и липкий запах местного алкоголя. Если смотреть на выход, в открытую дверь, то ничего кроме квадрата яркого света не видно, словно выход в мир иной. Взяли пару бутылок пива – очень крепкое и невкусное, однако пить его было приятно – оно было холодным.
Сидеть тут надо было до заката, потому что жара и солнце нас окончательно утомили. Мы были покрыты черным налетом копоти, которую успели собрать по дороге, казалось, что голова от солнца и жары сейчас лопнет, как раздутый шарик. Вся оголенная кожа на теле и лице стала бордовой и набухла от раздражения. Сгореть я уже был не в состоянии – только пух…
Check Post
Проехав около пятнадцати километров назад, увидели нужный поворот, еще несколько километров, – и перед нами полуостров, на котором раскинулась Гокарна. Путь преградил шлагбаум. Нас останавливает полицейский и просит паспорта, которые остались в Арамболе под грязной циновкой. Меня и Арсения провожают в будку при шлагбауме, усаживают за стол и выдают анкеты, расспрашивают, что везем, цель поездки, откуда и т. д. В анкете я наобум ставлю номер паспорта, год своего рождения, везу: спальник, фотоаппарат, фризби. Отпускают с миром.
Остановились в чай-шопе на пляже вблизи рыбацкой деревушки. Спали в гамаках за доллар в неделю. Неподалеку, среди густой тропической зелени, отделенный от моря грядой пальм и огородами, где на грядках растет какая-то трава, напоминающая чай, стоит маленький домик. Тут обитает целая коммуна русских ребят – семь человек живут в этом месте уже несколько лет – совершенно адекватные созерцатели местной жизни. Они сразу дали нам понять, что не очень-то довольны вторжением «чужих» в свой уединенный оазис.
Чай-шоп являл собой бамбуковый тент с тряпичными стенами и каменными скамейками, сооруженный прямо на песке. Обслуживают его пара индусов.
Вечером взяли бутылку рома, сели у самой воды, воткнули свечки в песок и наслаждались полнолунием.
К нам подошел лысый фрик. Разговорились, покурили и выяснилось, что c лысым, Лёхой, мы давно знакомы и часто тусовались вместе у общих друзей. Леха все время приговаривал «ача», что на хинди значит – хорошо или ладно. А я думал о том, что весьма забавно встретить московского знакомого на пустынном пляже у одинокого чай-шопа за девять тысяч километров от дома!
* * *
Начался сезон паломничества. В Гокарну заезжают автобусы и колонны джипов, набитых пилигримами. Все одеты в черное, в такую жару это кажется издевательством. В городе я насчитал всего три основные улицы – все остальное пародия – переулки и тупики. На их перекрестке, образующем нечто вроде площади, стоит огромная телега, одни деревянные колеса почти в человеческий рост. Телега вся покрыта изображениями, украшена цветами, флажками и лентами, разноцветными тряпками и лоскутами. В праздник ее поджигают, катят по улице к океану и сбрасывают туда фигуру божества.
Огороды Гокарны
В один из вечеров я зашел в Net и увидел в своем ящике пару писем. В первом говорилось о том, что наша английская подруга Клем сейчас в Каниякумари[42] и едет со своей подругой в нашу сторону через всю Кералу[43]. Во втором Дубс сообщал, что он с Надей, Щербой и Катей думает навестить нас, и что они приезжают всего на четыре дня. Каково же было наше удивление и негодование! Удивление – быстрому решению и скорому свиданию с друзьями, негодование – их привезут в самое отстойное место в Южном Гоа – в Мобор, и что их развели, как дураков. Я отыскал Кашкета, чтобы позвонить Дубсу. Как только он снял трубку, мы выбранили его за то, что он не спросил нашего совета. Выслушав все, Дубс сказал, что он снова станет отцом, и попросил заехать на обратном пути – посмотреть обстановочку.
* * *
Последние дни гуляли по окрестностям и переписывались с Клем, которая была где-то на подъезде к Карнатаке и хотела с нами встретиться. Проходя как-то раз в сторону пляжа мимо кафе, я услышал оклик из темноты помещения. В следующую минуту мы уже радостно обнимались с Клемкой. Еще одна забавная встреча!
Засели в кафешке, ели какую-то вегетарианскую еду, болтали. Решили ехать вместе в Арамболь завтра же. Если только все наши общие пожитки поместятся на скутер. Для этого отправились на Кудли[44], где Клем ожидала ее подруга, Эльза.
Эльза оказалась симпатичной и веселой француженкой, живущей в Лондоне. Взяли их рюкзаки, бросили последний взгляд на живописный Кудли и тронулись в обратный путь. Проехав границу штатов, останавливаемся, чтобы выпить по бутылочке холодного пива.
В поисках поворота на Палолем[45], я притормаживаю у обочины, позади раздается скрип и грохот, оборачиваюсь и вижу, как катится «Хонда», за ней Арсений и Эльза. Мопед укатился на середину проезжей части шоссе, Арсений растянулся на обочине, рядом по-пластунски лежит Эльза. Подбегаем с Клем к пострадавшим, прохожие индусы кидаются к мопеду, отволакивая его на обочину дороги. Усаживаем Эльзу и Арсения на парапет. У Эльзы поцарапана рука, ссадина на коленке; Арсений пострадал больше – на большом пальце ноги содралась кожа, которую он тут же оторвал, на голени глубокая царапина, ушиб и ссадина на коленке, из затылка хлещет кровь, но все несерьезно. Я их бинтую, Клем бегает за водой и разводит марганцовку. Индусы очень участливы, стараются всячески помочь, прикуривают мне сигареты, откуда-то достают ключ на «14» и быстро прилаживают отвалившееся от мопеда зеркало. Мопед только процарапал крыло и боковину. До поворота на Палолем не доехали двести метров. По дороге на пляж нам попадается больница, и мы запускаем туда Эльзу и Арсения.
Продавец тростникового сока
Судя по табличке на двери кабинета, перед которым усадили увечных, их будет обслуживать некто Dr. Mahrаnt. Я и Клем ждем на улице, в то время как несчастным промывают раны, бинтуют. Арсению всаживают прививку от столбняка. Последним наставлением доктора Махранта и его девяти медсестер, которые всем скопом принимали участие в процедурах, становится запрет на купание и перевязка каждый день. За медицинскую помощь взяли восемьсот рупий.
Палолем оказался действительно красивым пляжем с длинной пальмовой грядой, уходящей в море слева, и островом справа.
* * *
После долгого пути с несколькими остановками – то пожрать, то на перевязку, мы открыли железную калитку веранды нашего бунгало…
Вечером пировали у непальцев, после чего изрядно надрались «Олд Монка»[46], лежа при свечах в нашей комнате, болтали и слушали Клемкин Ska. Где-то рядом в роще на полную катушку играл транс. Вдруг за дверью во дворе стали раздаваться неистовые звуки, как будто кого-то заперли в соседнем гестхаусе, и кто-то, что есть мочи, дергает дверь в попытке выбраться наружу. Вначале никто не обращал на это внимания, но когда к этому звуку добавился звон разбитого стекла, мы с девчонками выбрались наружу посмотреть, что происходит. Оказалось, что вечно дымящий и мирный дед сошел с ума – он хлопал дверью и кричал из темноты своего номера: «Boom, boom, boom!». Потом дед выбежал на веранду, разбил о парапет бутылку и шепеляво проорал: «I want the music stopped!»[47], после чего скрылся обратно.
Молодая миловидная индуска опасливо выглядывала из двери соседнего номера. Транс не стал тише. Тут снова вышел дед с фонарем в одной руке и с «розочкой» от бутылки в другой и резво зашагал в вечернее марево в сторону звуков музыки, но не перейдя речку-вонючку, резко свернул в противоположную сторону к жилому дому, повторяя на ходу, что-то вроде: «I have been here for five years, and never seen such a mess»[48].
Догнав безумца, развернули его в сторону дома. Дед был в полном непотребе, отвечал невпопад, не называл своего имени и бормотал какой-то бред, но настроен был весьма серьезно.
Вернулись в бунгало. «Олд Монк», ганджа, отличное настроение и нежелание спать навели на мысль пойти на это party и потанцевать, но тут я снова заметил деда при своем оружии, решительно идущего в сторону пальмовой рощи. Вместе с Кашкетом двинулись за ним, предвкушая забавное зрелище! И мы его не пропустили, попав в самый эпицентр.
Музыка, по нашему нетрезвому мнению, исходила из клуба «Баттерфляй», но мы ошибались, это было какое-то другое party в пальмовой роще рядом с пляжем. Фигура деда была уже близко, но тут мимо нас стали проходить группы индусов, казалось, они шли домой. Один из них что-то спросил у старика, на что тот стал орать: «Boom, boom, boom» при этом он трясся, согнув руки в локтях и сжав кулаки. «Stop the music!» были его последние слова, поскольку он тут же получил в торец и, отлетев, упал в кусты. Теперь перед индусами остался один Кашкет, а я бросился к старцу и стал его поднимать, пока Кашкет пытался сдержать индусов.
Со стороны пляжа подошел какой-то тип в белой майке с длинными дредами, я поднял деда и увидел, что толпа темнокожих окружила Кашкета, и черный локоть держит его за шею сзади. Толпа сомкнулась, и послышались глухие удары, в темноте ночи мелькнули светлые шорты Кашкета, из чего я понял, что его, наконец, повалили, чувак с дредами тоже было кинулся к деду, но его поглотила надвигающая темная масса, и глухие удары умножились.
Майка, как и шорты, рухнула на землю. Подняв деда, я заметил подкаченного индуса, метившего мне в лицо. Однако он не перешел к действию, спросив что-то типа: «You want too?»[49]. Я вежливо отказался и оттащил деда на безопасное расстояние, тут появилась белая майка с дредами, оказавшаяся побитым испанцем. Я передал ему пациента и двинулся на помощь к Кашкету.
За эти несколько метров до места битвы я представил, как меня отметелят по забинтованным болячкам, и будет наверняка больно. Алкоголь, правда, подогревал вскипавшую ярость, и я решил, что озверею, схвачу какой-нибудь бамбук, и начну колотить им всех подряд, а там будь, что будет! Но тут из кустов мне навстречу вылетел Кашкет с окровавленным носом и опухшим глазом.
Он рассказал, что его там отколошматили почем зря и, когда он наконец был отпущен, то воззвал к тому, кто прицельно подбил ему глаз – мол, выходи один на один. Из толпы с готовностью выскочил какой-то индус и тотчас был сражен Кашкетом. Тут индусы повторили экзекуцию, и Кашкет был бит вторично. Получив напоследок пинок, он и выкатился навстречу мне, решив больше не возвращаться.
Мы взяли деда под руки и оттащили обратно в номер, после чего я проводил испанца с фонариком, ошеломленного и помятого, в соседний гестхаус. По дороге испанец сказал мне, что всего лишь хотел послушать музыку.
Вернувшись к нам, я застал продолжение застолья, героем которого теперь был Кашкет. Дальше было, как в геройском кино. Кашкет в роли Брюса Виллиса держался за ребро и хрустел шеей, все подливали ему рому в двойных дозах, я хлопал его по плечу и благодарил за то, что он не посрамил Отечество. Ну и кончилось все также, когда под конец герою достается вся слава, победа и женщины. Кашкет мял Эльзу, дышал перегаром, потом курил и сотрясал хлипкие стены бунгало оглушительным храпом. А утром я без удивления нашел его с Эльзой в одной постели.
Утром пришла делегация с прошением не идти в полицию. Потом было продолжение Кашкетовской славы, все было как вечером, за исключением рома – на столе стояли запотевшие бутылочки «Kings beer».
* * *
Как только стемнело, мы разожгли костер на пляже и часа четыре жарили шашлыки и пели песни, курили, смотрели на звездное небо. Вдруг из темноты, чуть ли не из волн, вышел какой-то мудрец – лысый загорелый старик с белой бородой, огромной серьгой в ухе, весь в белых парусиновых одеждах и такой же белоснежной чалме. Мудрец присел к костру, просушил рубашку и ушел. Он оказался танцором диско.
Спустя какое-то время, также внезапно появился немец – худощавый, скуластый хиппи, как назвала его Клем. Он сидел и крутил косяк, и постоянно смеялся заразительным смехом. Между делом немец сказал, что недолюбливает англичан, чем сразу разонравился Клем. Кашкет назвал его фашистом, и, докрутив косяк, немец исчез. Тут Кашкет с косым взглядом объявил, что идет спать и забрал Эльзу с собой, а мы с Клем еще долго вели философские беседы о жизни. И только когда свечи догорели, костер дотлел, косяк потух, пошли спать.
Клем читает на веранде, местные бабки стирают белье, эмануэлевская свинка лежит в тени, Кашкет спит, Эльза уехала, я слушаю Ska, курю и пью чай с ромашкой.
На прощание Клем закатила ужин, а на утро, поменяв наши скутеры на мотоциклы марки «Honda CBZ», мы отправились встречать наших друзей.
* * *
«Право сказать, я не охотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издале по походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением настороженности и робости… Человек внезапно весь настораживался, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! Не соврал ли я, не смеются ли надо мною», – казалось, говорил этот уторопленный взгляд. Проходило мгновение – и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением».
Тургенев. «Ася».Встречать рейс «Москва – Гоа» – зрелище крайне забавное и в то же время… пугающее…
Выходят какие-то престарелые мужички с зализанными на лысину редкими волосами, в серых костюмах и каким-то значком в петлице, похожие на депутатов из дотационного региона; за ними следуют ожиревшие, рыхлые мадамы за пятьдесят, в кожаных юбках и обтягивающих блузках; далее выползают тощие, общелканные кислотники; молодые девки в топиках и джинсах; быки в спортивных костюмах; рядом с ними встречаются (в таких же костюмах) старушки, только без золотой цепи, но в таких же кроссовках. Вот, сквозь толпу видно Надю, которая тут же начинает махать нам обеими руками; Дубса, Щербу и Катю.
Увидев свои номера в отеле «Old Anchor», Надя и Федя принялись возмущаться, оперируя сравнениями с Турцией, Египтом и каким-то пансионатом в Тверской области. И только Дубс был всем доволен. Особенное удовольствие ему доставляло местное пиво «Kingfisher» и «Kingfisher Premium» («Kings» в меньшей степени). Пил он его бутылка за бутылкой и оправдывал свой аппетит местным благоприятным климатом и прочими особенностями Гоа.
Весь остальной день был посвящен креветкам и пиву. В перерывах обсуждались московские новости, от которых мне становилось тошно. Периодически я вздрагивал от звонка сотового телефона.
Так пролетели три дня. Утром и вечером объедались лобстерами и другими вкусностями, ни в чем себе не отказывая. Первый раз, когда все сели на пляже в кафешке и попили пивка с лобстером на полторы тысячи рупий, мы были шокированы, ну, а потом привыкли и больше не удивлялись. Правда, прощальный обед на шест тысяч в самом пафосном отеле самого пафосного места нас удивил, но очень обрадовал Щербу, который все время повторял, что тратить здесь не на что.
Свозили ребят в Гокарну на такси, Кашкет ехал сзади на мотике и, на обратном пути в темноте попух от холода и ветра, так как приходилось поспевать за такси, а водитель гнал как сумасшедший.
В Гокарне ходили пешком на Кудли и провели там целый день, а затем на лодке отправились назад. Сидя на дне этой посудины, Щерба все время кричал: «Не будь я Билли Бонсом!». Вышли на пляж, где Надя шарахалась от могилок в песке, а Дубс, приласкав одноглазого пса, хотел их сфотографировать. Затем, накупив кучу всяких сувениров, мы отправились в обратный путь, и по дороге мне приходилось прятаться в багажнике, чтобы менты не обнаружили шестого человека в машине. Кашкета тормознули из-за отсутствия документов на мотик, и пришлось дать бакшиш в сто рупий. Затем опять пиво, лобстеры, «Олд Монк», прогулки по пляжу. Так настал день отъезда – аэропорт, слезы, обещание писать и тысяча рупий в подарок.
Катя осталась – она молча разорвала обратный билет, спросила, сколько денег ей нужно, чтобы пробыть с нами еще месяц и убежала в телефонную будку звонить родителям. Катю посадили на такси до Чапоры, а сами отправились следом на байках. Там нас уже ждал Нияз, который разбился на мотоцикле и теперь был похож на прокаженного. Мы сидели в «Бабе Яге», пили lassi и прощались с Гоа.
Юг
«Наше естество – движение, полный покой – это смерть».
Б. Паскаль. «Мысли»«Странствия не проклятье, а средство исцеления от меланхолии – иначе говоря, от уныния, которым чревата оседлая жизнь».
Роберт БертонОстановка. Бежим торопливо вдоль вагонов, все «АС» и «слиперы» наглухо закрыты и кажутся вымершими. Но «дженерал»[50] определить можно безошибочно – только сюда и бежит толпа местных оборванцев с целым набором диких выкриков. Бежим за ними. Гудок, и поезд трогается…
Катю запихиваем первой, прямо в кучу тел, которые даже в тамбуре не умещаются. За ней на ходу впрыгивает Арсений с рюкзаком, а я лишь успеваю ухватиться за поручни и встать ногой на подножку. Мне кто-то пытается помочь, удерживая одну из лямок рюкзака, который тянет меня наружу, и за которую, вдобавок, хватаются бегущие по платформе. Поезд набирает ход, я что есть мочи подтягиваюсь на руках и ставлю вторую ногу на ступеньку. Я слышу, как с платформы доносятся отчаянные ругательства тех, кто не успел.
Первая мысль «несчастная Катя» – в вагоне, похоже, полная мясорубка, если уже в тамбуре воздуха не хватает. К тому же она тут единственная белая женщина – крайне любопытный нонсенс для обычных пассажиров «дженерала».
Обе двери вагона открыты, но это не спасает – все пространство забито кучей коричневых тел, половина из которых умудрилась улечься на пол. Кто калачиком, кто лежа на спине, кто полусидя, а некоторые вообще в самых невероятных позах. Теперь я понимаю, что «йога» в Индии – это преимущественно практика повседневной жизни.
Во всем этом темно-коричневом месиве мелькают два светлых лица: Арсения – угрюмое и корчащее какие-то немыслимые гримасы, и Катино – готовое излить слезы и устроить истерику.
В тамбуре, не считая нас троих, едет около двадцати пяти – тридцати человек, еще человек шесть лежит на полу, их почти не видно. Один из спящих очень трогательно прикладывается к ноге моего товарища, который, в свою очередь, пытается побольнее лягнуться, но ему явно мешает ограниченное пространство. Я умудрился развернуться-растолкаться таким образом, что, в конечном счете, сел на вторую ступень подножки поезда и свесил ноги, придерживаясь за поручни руками. Весь подставился ветру и начал мерзнуть. В наушниках Витя Цой: «Электричка везет меня туда, куда я не хочу»…
Так мы ехали четыреста тридцать пять километров до города Мангалор[51] долгих семь часов восемнадцать минут. Город Мангалор встретил нас душным, но еще прохладным утром. Воспаленными от бессонницы глазами пытаемся определить, в какую сторону следует идти. Переползаем через путевой мост к центральному выходу, без торга соглашаемся на такси. Отель «Mana Rama». Берем номер и тут же засыпаем мертвецким сном.
* * *
Улыбчивая сотрудница туристического агентства города Мангалор по имени Ану составила нам список достопримечательностей. В списке было всего две строчки, которые требовалось показать первому попавшемуся рикше.
По этой записке нас доставили на широкий проспект, рядом с которым располагалось нечто, похожее одновременно на оптовый рынок, небольшой пустырь аттракционов и концертную площадку. Делать тут было нечего, поэтому Арсения с Екатериной я отправил на какой-то идиотский аттракцион, а сам попытался выиграть в тире необходимый нам будильник. Потратил десять рупий, и остался без будильника.
Мангалор – столица штата по торговле орехами кешью, чаем и кофе. Чистый, опрятный городок, почти без коров и нищих, деловой, и с первого взгляда ничем не примечательный – широкие улицы, украшенные неоновой рекламой, современные здания с магазинами на первых этажах.
Вечером наши представления о Мангалоре радикально изменились. Свернув с одной из центральных улиц в переулок, мы попали в старую часть города. От широких проспектов и неоновой рекламы не осталось и следа.
Узкие кривые улицы, старые, но ухоженные дома с замысловатыми дверьми и окнами, огромные мандиры[52], запрятанные в храмах, исполинские деревья среди строений и украшенная огнями площадь с колониальными особняками. Посреди площади две огромные телеги, похожие на ту, что в Гокарне. Высотой с двухэтажный дом, они увенчаны огромными деревянными шарами, украшенными оранжевыми цветами и лоскутками разноцветных тряпиц.
Вся площадь перетянута гирляндами-мантрами, привязанными к столбу в центре. Повсюду горят свечи, идет торговля петардами, сахарной ватой, напитками, сладостями и прочей праздничной мишурой. Нарядно одетые, веселые толпы прибывают со всех сторон. По царящей обстановке мы поняли, что попали к началу огромного праздника и наконец увидим, как катят эти пресловутые телеги.
Проходя мимо огромного экрана, транслирующего праздник, мы увидели группу растерянных туристов. Не без труда опознав самих себя, заметили, что на крыше небольшого дома расположилась съемочная группа, которая еще долго не выпускала нас из объектива.
Примостившись на цоколь продуктовой лавки с красной черепичной крышей, принялись созерцать происходящее.
Повсюду – на заборах, парапетах, столбах, крышах и в каждом уголке торчал народ. Глядя по сторонам, создавалось впечатление, что озорных детей оставили дома одних и разрешили вытворять все, что душе угодно.
Вдруг хаотичные толпы праздношатающихся стали выстраиваться вдоль улицы, по которой, двигаясь с оглушительной музыкой и ослепительным светом, показалась процессия. Впереди шли два полуголых крепыша и несли проволочную арку с тряпкой посредине, они несколько раз останавливались и поджигали тряпку. За ними двигалось несколько осветителей с чем-то вроде подсвечников, в которые был насыпан порошок, при поджоге он вспыхивал, молнией освещая всю улицу. Затем шестьдесят человек разбились на две шеренги и потащили огромную телегу за канаты толщиной с ногу.
Освещенный изнутри шар медленно поплыл над черепичными крышами. У подножия шара была водружена фигура какого-то божка, сидящего в позе лотоса. Процессия то и дело останавливалась, и улица сотрясалась от громогласного пения, а молитвенные гимны заглушались хлопками петард, затем все двигались дальше. Замыкали процессию куклы-великаны с крошечными ножками кукловодов, непропорционально торчащими снизу.
* * *
Наверное, впервые мы сели в правильный автобус – такого комфорта никто не ожидал – огромные с подлокотниками и подставкой для ног кресла раскладываются, как кровати. При этом ноги не упираются в спинку!
Однако, несмотря на сей небывалый комфорт, поспать нам не удалось. В салоне висел телевизор, по которому всю ночь и на полную громкость нас кормили душещипательными, звукообильными боливудскими мелодрамами. Одна из них тронула меня до слез. История про горбатого раскоряку-аптекаря, который вылечил слепую красавицу. Прозрев, она не сразу опознала своего спасителя и чуть не вышла замуж за другого, мерзкого типа в кожаных штанах, обладателя недобрых замашек, черных усов и мотоцикла «Bajaj»[53]. Но под конец фильма «плохой» оказался в тюрьме, а горбун заполучил красотку.
Покачиваясь, как кит на волнах, автобус мчался по ночным улицам города, и вскоре вырвался на сельские просторы. В лучах фар мелькнула табличка «Добро пожаловать в штат Керала».
С тех пор, как мы выехали за город и бороздили сельскую местность, я заметил, что изредка то левое, то правое колесо как-то странно подпрыгивают. Причиной тому оказались коты, которые, сидя у дороги, пугались яркого света фар и бросались прямо под автобус. Водила, глазом не моргнув, намотал на колеса пятерых!
Начинало светать, и уличные бродяги еще кутались в свои пледы, лежа на тротуаре, когда автобус повернул на широкую улицу спящего города Эрнакулам[54]. И только бдительные рикши были начеку! Не успели мы высадиться на пустынном перекрестке возле парка, как они выросли из ниоткуда. Радостно пробуждая тишину своей тарахтелкой, пугая полусонных псов на поворотах, авторикша помчал нас навстречу восходящему солнцу.
Кочин[55] умещается на небольшом полуострове – это несколько уютных улочек вокруг церкви святого Франциска – самой старой португальской церкви в Индии, построенной в 1503 году португальским францисканским орденом, который снарядил экспедицию, возглавленную Педро Альваресом Кабрале[56]. По словам «Lonely Planet»[57], Кочин похож на средневековую Голландию или Португалию.
На рикше объехали несколько отелей, все они были битком. Разочарованные и усталые, мы уселись на каменные скамейки в прибрежном парке, чтобы взбодриться глотком рома. К нам присоединились два индуса, один из которых оказался моряком, две недели назад приплывшим с нашей родины. Он то и дело сыпал русским словами, чем ужасно развлекал Катю.
* * *
Поиски мотоциклов. Находим два – знакомый «Honda CBZ» и совсем незнакомый «Royal Enfield». И если с первым все понятно, то второй требует обкатки – первые ощущения – тяжело, непонятно, смогу ли я на нем куда-нибудь доехать? Выселяемся из номера-скворечника, который сняли накануне в старом португальском строении, и привязываем вещи к мотоциклу.
Мотоцикл по габаритам стал раза в три шире из-за прикрепленных по обеим сторонам рюкзаков и спальников. Сам мотоцикл за всеми этими пожитками еле угадывается и больше напоминает микроавтобус. Чтобы опробовать силы и окончательно понять, смогу ли я на этом чудовище проехать дальше полукилометра, я снова трогаюсь с места и через сто метров понимаю, что дальше проехать не смогу – мотоцикл шарахается в разные стороны, руль ходит ходуном, еле удерживаю равновесие, руки трясутся, ноги не слушаются. И за эти сто метров я раза четыре покрылся потом – искренне завидую щупленьким израильтянам, которые с неимоверно напыщеным видом гоняют на подобных монстрах.
По дороге на Чарай
Подъезжаем к агентству, где брали мотоциклы, говорим: «Так и так, руль ходуном ходит, может, подкрутить чего?». Помощник хозяина ловко прыгает на сидение, заводится и едет, описывая полукруг, подъезжает ко мне, бросая руль и подкатываясь «без рук». Говорит, что надо подкачать заднее колесо. Окидывая кучу привязанных рюкзаков, добавляет: «И попрактиковаться часика с два».
Попрактиковаться решили по дороге на Чeрай, этот пляж находится на соседнем острове и считается крайне живописным местом. Погрузились на паром, влившись в шеренгу мотоциклов и машин. Жара стояла адская, солнце палило прямо в темя, воздух был вязкий и липкий, зажатые со всех сторон раскаленным транспортом, казалось, мы плывем по кипятку.
Дорога на острове оказалась очень красивой и спасительно тенистой.
Узенькая южная улица сплошь была усеяна маленькими лавочками и деревушками, мостиками через заросшие тропические речушки. То и дело встречались озера или куски заливов с «китайскими» сетями, по виду напоминающих «Разводной мост» Ван Гога.
Пляж и вправду являл собой живописное местечко – длинный и узкий, словно не имел ни начала, ни конца, обеими сторонами уходя в неизвестность и растворяясь в бледной дымке на горизонте.
* * *
На следующее утро двинулись в путь к следующей цели: Аллапей[58].
По дороге видели, как купают слона – повалили бедное животное в грязный пруд и давай тереть его щетками.
Приехав в Аллапей, долго не могли снять жилья, не помогал и «Lonely Planet». Руководствуясь советами местных, мы все же отыскали маленький домик с садом, где жила дряхлая бабулька-католичка. Она сдала нам очень уютную комнату c белеными стенами, душем и двумя узкими окнами в живописный садик.
Вечером, в кафешке, нам принесли Ginger Lemon Tea[59], куда, видимо, не ограничиваясь обычными составляющими, добавили изрядное количество чеснока, и пить его никто не смог. Кашкет чувствовал себя препаршиво, похоже, простудился и поэтому, зажмурившись, приложился, но осилить вонючий напиток смог только на половину.
Заросший канал
Кафе находилось на небольшой пыльной улице, вблизи лодочной станции почти в центре Аллапузы, на этой же улице стоял один из немногочисленных государственных магазинов по продаже алкоголя (в Керале запрещена частная торговля спиртным). То, что творилось вокруг, очень напоминало отечественный «винный» в начале восьмидесятых. Две длинные очереди штурмовали железные решетки и что-то орали продавцам. Некоторые счастливцы, пробравшись к прилавку и заполучив заветную бутылку, ловким броском перекидывали ее своим подручным через линию штурмующих, и сразу требовали «еще парочку», так как в руки выдавали только по две бутылки. Покончив с трапезой, мы присоединились к этому увлекательному действу. Арсения почти сразу пропустили без очереди, наверное, как представителя более благородной, по их мнению и, надо признать, более пьющей нации.
* * *
Чуть только солнце показалось над крышами города, мы были уже на лодочной станции, устроенной на одном из заросших каналов с позеленевшей каменной статуей обнаженной русалки. Нам показали катер, и я договорился с капитаном зафрахтовать его на четыре часа.
На крыше этой посудины был сооружен тент, под которым все растянулись, грея животы, в предвкушении прекрасной поездки. Было приятно отдохнуть от мотоциклов, с воды дул прохладный ветерок, все были в замечательном настроении. Все, кроме Кашкета! Он сидел мрачный, как туча, и боялся пошевелиться, я всячески над ним подшучивал, тогда еще не подозревая, что мой друг подхватил страшную штуку – амебиоз!
Вокруг открывалась живописная картина индийской Венеции, а Кашкету грезились совсем иные виды, так как он, не переставая, морщился и взирал по сторонам с крайним недоверием.
Утром в тумане
На маленьких каналах и речках с низкими, иногда укрепленными камнем берегами, царит идиллия. Мелкие островки земли утопают в пальмах и тропической растительности, приземистые домики стоят у самой воды. Вместо мотоцикла или машины у каждого жилища – челнок с веслом. Повсюду лабиринты тропинок, каналов и перекинутых мостиков. Иногда встречаются хрупкие мостки с красными флагами и толпой крестьян – это остановка маршрутного такси, огромного каноэ с моторчиком.
Неожиданно катер выплывает в огромный залив, необъятный как море, и где-то на горизонте, окаймленном грядой одиноко стоящих пальм, угадывается проход в океан.
Мы попросили заглушить мотор посреди этого залива, и ныряли с крыши катера в темную, чуть солоноватую воду. На обратном пути, когда уже стало смеркаться, капитан решил срезать путь, и катер, усиленно тарахтя, начал продираться по тесным каналам, сплошь покрытым ряской и тиной. Иной раз от плотно сомкнувшихся пальм наш путь напоминал туннель. Сгущались сумерки, и вместе с темнотой темнело в животе у Кашкета. Добравшись до дому, он, казалось, навсегда затворился в сортире.
Утром Кашкет был несвеж и походил на мученика. Он сказал, что всю ночь не спал «из-за мегадиареи», а к утру ему «снился всякий бред и пельмени».
Сердобольная Катя хотела перенести отъезд, но Кашкет геройски отверг это предложение, робко перенося ногу через сидение Энфилда.
– Как ты, дружище? – заорал я, поравнявшись с ним через пару километров.
– У меня сейчас два варианта: не нажимать на тормоз, когда это будет нужно, или нажать, одновременно обделавшись! – сказал Кашкет, стиснув зубы.
Однако первые шестьдесят километров прошли без приключений. Я ехал, слушая плеер, и размеренно глотал дорожную пыль. Пренебрегая торможениями, Кашкет задавал скорость и не делал ни одного лишнего или резкого движения, слившись с мотоциклом в одно целое. Все обошлось, и к вечеру спазмы исчезли, наверное, помогла «амебика»[60] – хвала индийской медицине и Константину Хасину!
* * *
По местной карте от Аллапеи до Варкалы[61] двадцать километров, на самом деле их пятьдесят три.
На центральной улице мелкого городишки из-за какого-то праздника движение остановилось, и нам пришлось ехать в объезд. Безумные пробки в Колламе[62]. Из малюсенькой точки на карте он вырос в гигантский город с двухэтажными дорожными развязками на трассе.
Только миновали Колам, у мотоцикла сломался гудок, и стала барахлить фара. До Варкалы оставалось еще тридцать километров.
Без гудка и света Арсений наотрез отказался ехать дальше в темноте. Решено было добраться до ближайшей кафешки и решить, что делать дальше. Ехать пришлось километров десять, за это время глаза привыкли к ночному движению, и он решил продолжить путь.
У поворота к Варкале, наткнувшись на автосервис, остановились для ремонта.
Через пять минут около мотоцикла, припаркованного в пучке света, падающего от тусклой лампочки, образовалась толпа мастеров и подмастерьев. В ремонте принимали участие все – советом, шуткой или молчанием. Проезжающий мимо водитель мототелеги остановился, почесал затылок и тоже присоединился к процессу.
Разобрав половину мотоцикла, все долго возились со старым гудком, а спустя полтора часа велели купить новый. Он продавался в соседнем магазине автозапчастей, и из двух предложенных вариантов Арсений взял тот, что подороже: с самым зверским звуком, чтоб пугать всех по дороге. В Индии одно правило дорожного движения: «Кто оглушительней гудит – тот и прав!».
Еще через полтора часа ремонт был закончен, и все девять человек, включая водителя телеги, стали жать нам руки и давать разные напутствия. Трехчасовой ремонт обошелся в двадцать рупий.
В связи со всеми этими препятствиями в Варкалу въехали уже в кромешной тьме.
Рыбацкая лодка. Варкала
На опустевшей дороге повстречали индуса, который предложил нам собственную комнату за пятьдесят рупий, откуда он предварительно выгнал жену с ребенком. Комната была площадью в два квадратных метра, замызганная до потолка, с деревянными решетками на крошечных окошках, настольным, древним вентилятором и зеркалом. Привыкнув к полумраку, мы заметили, что потолок – это просто соломенная крыша. Все пространство занимала двуспальная кровать.
* * *
Утром за стаканом бананового lassi и морковного сока, который жадно поглощал мой друг, оставляя оранжевые следы на подбородке и столе, решено было искать новое жилище, так как планировали провести здесь не меньше недели. Всю ночь Екатерину мучили угрызения совести – она переживала за ребенка и мать меркантильного хозяина, которые по нашей милости оказались на улице. Совесть уступила сну лишь под утро, поэтому Катя отказывалась просыпаться, и завтракать нам пришлось без нее.
Вся «прибрежная жизнь» в Варкале располагается на высокой скале, у подножья простирается «главный» пляж, влево, насколько хватает глаз, тянутся оранжевые скалистые берега с песочной полоской пляжа у основания.
Отвергнув около дюжины жилищ, мы добрели до северной части скалы, здесь было не так шумно и совсем мало туристов. В итоге нашли отличный домик в десяти метрах от обрыва, рядом с непальским ресторанчиком. Это было большое помещение, прямо в середине которого стояла огромная кровать с марлевым балдахином от комаров. Два больших окна на разные стороны – на бесконечный океан и пальмовую рощу. А главное, он отвечал нашим правилам поиска жилья – «Cheap price and good view!»[63].
* * *
Мы провели целую неделю на обрывистом берегу в желтом бунгало, среди пальм и солнца. Жизнь текала лениво и спокойно.
Завтракали сыром, фруктами и багетами из ближайшего ресторанчика, оттуда же нам носили чай, соки и лепешки из большой, похожей на муравейник глиняной печи. Иногда поднимались на второй этаж ресторанчика, являвшего собой двухэтажную бамбуковую хижину, запутавшуюся в стволах пальм. Здесь, развалившись в плетеных креслах, можно было часами созерцать бесконечную гладь океана или читать книжку, наслаждаясь легким бризом.
По ночам наша веранда часто подвергалась нападению ворон, однажды утром пришлось расплачиваться за разбитый ими бокал. Купались и читали. За четыре дня Кашкет прочел все, что имелось, за исключением философского словаря.
Однажды вечером прошел тропический ливень. В это время мы сидели в креслах на веранде, пили ром, закусывая его арбузом и ананасом. Со всех сторон низвергались потоки воды, а бесконечные молнии ярко дополняли картину потопа, царящую вокруг.
Все небо было устлано густыми, тяжелыми облаками, но оставалось небольшое пространство, в которое, как в лузу, попала полная луна. Свет падал на мокрые края пальмовых листьев, отчего они походили на лезвия бритв.
Это была последняя ночь в Варкале.
После постоянных переездов – эта неделя явилась спасительным отдыхом и, восстановив силы, мы двинулись на Ковалам[64] – последнее пляжное пристанище перед мысом Каниякумари.
* * *
Кофе по-кераловски (необжаренные зеленые молотые зерна) очень похож на советский «Кофейный напиток» – в дорогу… через Тривандрум[65] до Ковалама.
Выехали в самое пекло. От черного бака моего мотоцикла несет бензином и парит, ноги жжет от двигателя, снизу обжигают раскаленные потоки воздуха от асфальта. Пыль с дороги на встречном движении бомбардирует воспаленную кожу, впиваясь в нее, как рой озлобленных ос. Через час останавливаемся у придорожного кафе передохнуть, утолить жажду и вылить на распухшие головы литр-другой прохладной воды.
Около полудня Арсений уже стоял на одном из пляжей Ковалама и недоумевал, что произошло с мотоциклом – он вдруг заглох и больше не заводился. По обыкновению, вокруг него выросла толпа зевак. Они по очереди вынимали свечи, продували их и пытались завести, это не помогало, и теперь все просто стояли, глазея на мотик, тоже недоумевая.
Просушка сетей. Варкала
Я отправился на поиски мастерской, но вместо этого привез двух ребят, которые, не мудрствуя лукаво, представились как «отличные механики». Неизвестно, так ли это было, но когда они прочистили воздушный фильтр и систему выхлопа, мотоцикл завелся.
Скатившись по кривому спуску к другому пляжу, мы уселись в очередном кафе с намерением подкрепиться и найти комнату. Катя зашла в соседний магазин и купила себе очки, очень необходимые для поездок на мотоцикле. Занятие это у нее заняло почти столько же времени, сколько потребовалось для поисков жилья. Она выбирала пару очков и устраивала нам пытки, вопрошая, какие именно ей подходят больше, причем делала она это с таким видом, будто заведомо знала, что мы специально наврем.
Ковалам – это небольшая уютная гавань между скал, на одной из них расположился полосатый маяк. Повсюду кафешки, лавки и магазинчики сплошной стеной отрезают пляж от джунглей. Кругом полно туристов, в основном среднего возраста европейцев, все как-то уж слишком цивильно. Все это неприятно напомнило Южное Гоа, да и не так уж тут красиво! Арсений был вдвойне разочарован, потому что на днях собирался отметить здесь свой день рождения.
За чередой лавок начинались настоящие джунгли, тропический лес с высоченной растительностью, сквозь которую с трудом проникало солнце, стало заметно прохладнее и пахло цветами. Сквозь лес по искусственной насыпи шла сеть тропинок. Около затерянного индуистского храма повстречали крестьянина, он проводил нас к себе в жилище, второй этаж которого мы сняли за небольшую плату. Маленькая комнатка на крыше с окном, смотрящим в лес, где изредка среди буйства растительности можно было различить фигурку крестьянки в ярком сари или полуголого туземца с серпом.
Катя с Кашкетом устроили мне отличный день рождения. Для начала они вытурили меня из дома на пару часов. Это время я убил, катаясь на лежачей доске в прибрежных волнах. Вернувшись домой, я на сей раз был заперт в комнате на полчаса, по истечении которых мне завязали глаза и усадили на стул. Первое, что я увидел, когда снял повязку, был накрытый праздничный стол, водруженный прямо на крыше, а в моей тарелке лежали аккуратные сверточки с подарками. Вокруг мерцали свечи, а ровно над нами повисла огромная луна в обрамлении черных макушек кокосовых пальм. За общим весельем, танцами и задушевными разговорами подкралось утро, и крепкий сон объял наши тела. Естественно, в намеченный назавтра день отъезда мы никуда не уехали, я сгонял за пивком, и началось автопарти.
* * *
Ко дню рождения Арсения я с Катериной решил устроить фейерверк на пляже, для чего я, чрезмерным усилием воли поборов лень, в три часа дня отправился в Тривандрум покупать фейерверки и майонез.
Доехав до города, я припарковал мотоцикл и нанял рикшу. Для начала я попытался объяснить ему, что мне нужно купить. Про винный магазин он понял, про майонез я умолчал (вряд ли он знал, что это такое), сложнее было объяснить про фейерверки. Мне потребовалось все мое воображение и словарный запас, чтобы рикша понял про «fire rockets and small bombs for holydays»[66], пришлось даже рисовать ему салют и ракеты на пыльной мостовой. Наконец он закивал, заулыбался и даже сбегал к своим коллегам посоветоваться, что не очень обнадеживало, ибо нет более уступчивого народа, чем индусы, которые в любых обстоятельствах рады согласиться с кем угодно и с чем угодно.
Первым делом заехали в wine shop, где я купил «Олд Монк» и бутылку портвейна. После чего рикша долго петлял по городу, останавливался и спрашивал что-то на тамили у своих соплеменников, а спустя полчаса на языке жестов объяснил мне, что надо ехать в другой город – ракеты в Тривандруме не продают.
Это новость меня насторожила, но я согласился, и мы поехали в город, который назывался Пумба. Через несколько минут, я попросил его остановиться, вышел и еще раз спросил у него, правильно ли он меня понял, вновь нарисовав салют, петарды, ракеты (нарисовал очень доступно и правдоподобно). Рикша кивал в ответ, но улыбался реже – это настораживало еще больше.
Рикша мчал меня вдоль длинных бетонных заборов, от этого сомнения только усиливались, но оставалась надежда, что меня везут на пиротехнический завод. Мы остановились у КПП, рядом с которым стояла чуть ли не рота солдат, выряженных в парадного вида форму. Рикша высунулся, что-то пробормотал офицеру и надолго замолк. Офицер подошел ближе, заглянул в кабинку, увидел меня, улыбнулся, поздоровался и вежливо попросил паспорт. Не успел я открыть рот, как офицер что-то крикнул солдатам, и те стали подымать шлагбаум, под который юркнула трехколесная повозка вместе со мной. Сомнений не оставалось – белые казенные дома, эшелоны вагонов, высокое здание с национальным флагом и эмблемой, на которой изображены ракета, щит и автомат. Меня завезли в ракетную часть. Идиотизм, конечно.
Всю дорогу рикша молчал и слушал меня, говорил я ему на русском и исключительно матом. Он меня понимал. После того, как я выговорился на русском, сказал ему на английском всего одно слово: «Comeback».
На трассe
Непонятливость рикши не имела предела, вместо того, чтобы отвезти меня назад к мотоциклу, он привез меня к железнодорожному вокзалу. Терпение мое лопнуло – два часа впустую. В течение десяти минут я тщетно пытался объяснить рикше, чтобы он отвез меня обратно, «туда, где меня в первый раз увидел». Он не понимал, он не знал английского, он ничего не знал. Тогда я нашел двух молодых ребят, которые знали английский и тамили (похоже, это единственное наречие, которым владел рикша) и попросил их перевести ему буквально следующее: «Хочу, чтобы он отвез меня туда, где я в первый раз сел в его гребанную повозку!». Ему перевели, выслушали ответ и, выслушав, расхохотались. Рикша не помнил. Я чуть было не удушил его на вокзальной площади. Мне пришлось садиться опять в эту чертову конструкцию и указывать руками, в какую сторону ехать.
* * *
После продолжительной и однообразной дороги, насыщенный бурной растительностью, штат Керала начал постепенно таять в рыжей сухости Тамил Наду. Мимо замелькали грязные придорожные поселения, а наша кавалькада все дольше задерживала на себе взгляды изумленного населения. Мы вновь ощущали, как углубляемся в чуждый всему европейскому, неспешный мир индийской действительности.
Проехали сорок семь километров. Справа, по противоположной стороне дороги, ведут стадо буйволов, их головы крепко перевязаны между собой за рога. Всем скопом, не в силах разбежаться по отдельности, они жмутся к обочине. Позади них бегает погонщик и что есть мочи лупит их бамбуковой палкой. За горбами буйволов мелькает надпись «Entrance Tamil Nadu»[67]. Это граница штатов Керала и Тамил Наду, об этом также напоминает заброшенный и поросший лианами шлагбаум.
До Каниякумари двадцать шесть километров. Начался мелкий, почти незаметный дождь, хотя на небе, вопреки всем законам природы, ни одного облачка.
Опять несемся по просторной сельской дороге, вдыхая свежесть наступающего вечера. Вдоль обочины с полей тянутся домой полуголые крестьяне с серпами для тростника или охапками хвороста. Женщины в ветхих сари, с кувшинами на головах, контрастно выделяются на фоне ослепительно зеленых рисовых полей.
Еще один поворот, и в душе рождается новый крик восхищения при виде синеющей в вечерней дымке гряды Западных Гатов[68]. Кажется, что горы вырастают прямо из четко очерченных квадратов полей и пышных пальмовых рощ. Сами пальмы начинают менять форму и расцветку. Из обычных изогнутых кокосовых пальм, с похожей на взрыв салюта кроной, они превращаются в абсолютно прямые, с острой и колючей как у ананаса верхушкой, чтобы затем эволюционировать в длинные, как бамбук, стволы, венчающиеся крохотным пучком остроконечных листьев.
Сильный порыв ветра, едва не сбросивший меня с мотоцикла, знаменует приближение к океану.
* * *
Наши ожидания Каниякумари никак не оправдал. Ожидания никогда не сходятся с действительностью, они либо приписывают местности больший колорит, чем она являет в натуре, либо наоборот лишают ее того, что потом удивляет и радует. Так и сейчас, поставив себе целью добраться до этого местечка, описанного в путеводителе как место столкновения трех морей, нам представлялось нечто сказочно красивое, так сказать, апогей тропической природы, нетронутый уголок туземной культуры, а попали в задрипаный портовый городок, наводненный индийскими пилигримами, съезжающимися сюда со всей страны.
Решено было долго тут не засиживаться и ехать в Мадурай[69], причем поездом, так как город находился довольно далеко, и хотелось чуть-чуть отдохнуть от мотоциклов. Оттуда мы собирались махнуть в самое сердце Западных Гатов, на чайные плантации в Кодайканал[70] и Муннар[71].
* * *
С самого раннего утра Катя смотрела из окна на возвышающуюся на островке статую. После трапезы, поддавшись ее нелепым уговорам и выйдя на улицу, мы обнаружили, что ветер стих, и два суденышка, прежде стоявшие на якоре, снова бороздят океан. Встали в z-образную очередь на паром до острова. У плавательного средства имелось два трапа, и конец живой цепочки раздваивался – по одному трапу запускали женщин, по другому мужчин.
Несмотря на малые размеры кораблика, в него набилось очень внушительное количество народа. Перегруженное суденышко, надрываясь единственным винтом, плюхалось с волны на волну, и если бы не плотная стена пассажиров, я бы промок насквозь. Индусы визжали, пугались и громогласно выражали свой восторг так, словно все они были первоклашками, попавшими на аттракцион. В который раз я искренне порадовался их неподдельной способности вести себя непринужденно, глядя на все окружающее и происходящее детскими глазами.
Скалистый выступ, по которому, глядя под ноги, следовало добраться до храма, ориентируясь по многочисленным стрелкам и пунктирным разметкам, увенчивался статуей. Поднимаясь вверх и вниз по ступеням и обойдя кругом центральное сооружение раза три, мы наконец, оказались перед его воротами. Все это очень походило на организованную игру в «казаки-разбойники».
В храме, помимо колонн, резных стен и статуй, ровным счетом ничего не было. И вообще это здание оказалось вовсе не храмом. Постройка имела статус мемориала и возведена была относительно недавно в честь Свами Вивекананда[72], который медитировал на этом клочке суши в 1892 году.
Погода снова переменилась, волны бунтовали, перепрыгивая через парапет и забрызгивая всех штурмующих катер. Теперь на «М» и «Ж» деления не было. Всех запускали без разбора. На обратном пути кораблик подбрасывало, кренило и швыряло в разные стороны. Казалось, что он вот-вот пойдет ко дну.
* * *
В восемь вечера мы уже были на вокзале города Нагаркоил, грязной, вонючей дыре, впрочем, как и сам городок. На поиски вокзала потратили больше времени, чем на всю дорогу от Каниякумари, прохожие опять показывали в разные стороны.
Отправились в багажное отделение сдавать мотоциклы. Лысый босс этого ведомства сказал, что принимают багаж только за час до отхода поезда. При попытке купить билеты ответ был аналогичным. Все это уже не удивляло, до поезда оставалось еще два часа, и мы спокойно уехали подкрепиться. Ужин состоял из нескольких порций paratha[73], так как thali[74], приносимое на Юге на банановом листе уже закончилось, а больше в привокзальной закусочной ничего не было. Еще я накупил кучу разных бананов: маленьких зеленых, здоровых красных и желтых, почти круглых (походят на вытянутые лимоны).
Подумав о том, что, возможно, придется ехать в злополучном «джененрал-классе», мы купили ром и успешно его осушили.
Отправление мотоциклов оказалось процессом на удивление простым. Подходишь к боссу багажного отделения, заполняешь бланк, где указываешь номер мотоцикла и страховую сумму (какую захочешь), уплачиваешь по тарифу и все. Единственная неприятность – заставляют слить из баков бензин, которого у нас было достаточно много, при этом деньги, конечно, не возвращают, бензин тоже. Но Арсений успел подговорить грузчиков, и когда босс вышел вон, они влили нам за полтинник несколько литров обратно.
Оставив мотоциклы в заложниках министерства путей сообщения, отправились покупать билеты себе на тот же поезд. Продавали только «дженерал». Наученные горьким опытом, мы все равно забрались в вагон «слипер», решив что, гори все огнем, а без боя его не покинем. Однако все сложилось как нельзя лучше, и за небольшую доплату нам достались третьи полки.
Скульптуры Shree Menakshi
* * *
Из багажного отделения, в окошко которого мы сунули квитанции, нас отправили к грузчикам мадурайского вокзала. Там мы снова предъявили бумажки на выдачу мотоциклов.
Служащий, важно восседающий за столом, строго посмотрел на квитки, потом на нас, затем снова на бумаги и, вновь серьезно оглядев пространство вокруг немигающим взглядом, задал вопрос, который поставил в тупик: «А где ваши мотоциклы?». Вопрос был настолько нелеп, что на тридцать секунд я просто замолчал.
Первым в адекватное состояние вернулся Арсений. По его словам, первое, что ему захотелось сделать – это оттаскать негодного служку за усы по всему вокзалу. Еле сдерживая себя, Арсений объяснил, что это мы должны задавать такие вопросы и, что, вообще, он начинает терять терпение от глупости некоторых субъектов. Переадресация вопроса не прошла даром, служка тут же захлопал глазами, уставился на пустой стол и сказал, что мотоциклы «скоро будут».
«Скоро» длилось минут сорок. Потом к нам подбежал грузчик и сказал, что так можно прождать вечность.
На платформе № 6, на седьмом пути станции Мадурай, с бирками на рулях стояли наши мотоциклы. Перевозить их к грузовому отделению никто и не пытался. Устав катать тяжелые мотоциклы по платформе от одного закрытого выезда до другого, мы просто завели их и выехали через главное здание вокзала, объезжая недоумевающих пассажиров.
Предприимчивый индус, полунищенского вида мужичок, завидев выражение наших лиц и, смекнув, что к чему, сразу предложил свои услуги. Он пообещал нам показать дешевую и «чистую» гостиницу.
В течение пятнадцати минут он босиком бежал впереди наших мотоциклов по площадям и грязным улицам, покрытых зловонными лужами и коровьими лепешками и еще бог знает какими выделениями индийской урбанизации.
Отель действительно оказался чище и гораздо дешевле предыдущего. Судя по всему, в нем даже не было тараканов, которых, помимо Арсения, боялась и Катя.
Окно нашей новой комнаты выходило на улицу, которая упиралась в небольшую площадь. На ней стоял шиваитский храм, окруженный разрисованными в оранжевую с белым полоску стенами. У резных ворот храма готовились к ритуалу. Служители рисовали разноцветными мелками узоры перед входом, а к воротам в это время подводили слона. Дабы не осквернить внутреннее помещение храма, слона принудили (или он пожелал сам) справить нужду на улице, и он одним махом смыл все старания художников, вдобавок окатив струей нескольких рикш и водителя грузовика, нетерпеливо подталкивавшего капотом перегородившее половину улицы животное. После этого его торжественно запустили внутрь.
Знакомство с городом началось не очень дружелюбно. Я был позорно изгнан из храма, в который только что запустили писающего слона – я забыл снять носки. И ограничился тем, что обошел его вдоль полосатых стен.
Посредине города возвышается главный храмовый комплекс Шри Минакши[75], одна из древнейших святынь страны. Это двенадцать каменных башен по пятьдесят, семьдесят метров вышиной, сплошь покрытых раскрашенными скульптурами, изображающими чуть ли не весь пантеон индийских божеств и мифологических сцен. Расположены башни по периметру большого двора, окруженного высоченной полосатой стеной. Из окна нашего отеля торчащие над крышами посреди города башни храмов чем-то очень напоминали софиты стадиона «Динамо» в Москве.
Когда я обошел двухуровневый храм, его квадратные мрачные коридоры с древними лингамами, статуями и сплошной резной колоннадой, я понял, что ничего не смыслю в Индии, индусах и индуизме. Этого нельзя понять, для этого действительно надо родиться индусом. Все, что вы читали у Миллера, Бловатской, Ильина, Швейцера и всех других про Индию, ее явные и тайные учения – полная чушь. Описать это невозможно, осмыслить – тем более. Особенно это ясно, когда смотришь на тысячелетнюю статую Ганеши на первом уровне храма и понимаешь – перед тобой изящная статуя гуманоида в скафандре с далекой планеты.
Целый день шатались по городу в поисках и осмотрах достопримечательностей, страсть к которым нам всячески прививала Катя. Посетили музей Махатмы Ганди. Музей довольно большой и, как все музеи в Индии, абсолютно запущен, единственное отличие – вход бесплатный. Этот музей напомнил мне опустевшую «красную комнату» с надорванными фотографиями В.И. Ленина и агитационными досками, с кратким содержанием истории местного парткома.
* * *
Решили прокатиться на автобусе до местечка Рамешварам[76], носящего по утверждениям путеводителя, статус южного Варанаси, расположенного в начале тонкой песчаной косы, почти соприкасающейся со Шри-Ланкой.
Добыв билеты на автобус до Рамешварама, позавтракали прямо на станции – банан, самоса и шоколадка.
Из предыдущего опыта мы знали, что задние сиденья в автобусе – ад кромешный, поэтому разместились впереди, на плоском сидении прямо за водителем, отделенным от нас спаянной из железных прутьев решеткой. Это было ошибкой.
Водитель оказался настоящим меломаном, спереди стояли две огромные колонки, а на месте приборной панели автобуса красовался усилитель. Лишь только тронулись, водила включил местную радиостанцию, и нас просто оглушило чем-то вроде музыки. Иногда волна пропадала, и вместо нее из колонок летели скрежеты помех и скрипучие шуршания.
Сиденья, рассчитанные на трех местных жителей, очень нехотя вмещают трех русских туристов.
Сам водитель сидел в плетеном кресле, какие бывают в пляжных кафешках. По своему виду кресло возрастом не уступало автобусу. Ручка переключения скоростей выглядела настоящим произведением современного искусства. Где-то в полутора метрах позади нас из пола высовывалась водопроводная труба. Изгибаясь и раздуваясь от количества спаянных друг с другом кусочков металла, труба, подобно змее, подползала к водителю и под прямым углом вдруг вздымалась кверху, увенчанная отполированным прикосновениями круглым набалдашником.
Переключая скорость, водителю приходилось чуть ли не на шаг отходить от руля. При переключении коробка издавала звук, напугавший бы даже глухого, при этом автобус начинал подпрыгивать.
То, что происходило дальше, напоминало смесь езды по горам с компьютерной игрой, где необходимо давить пешеходов и сбивать транспортные средства. Катя снова была в шоке, но после боевого крещения «дженералом» держалась достойно.
Спустя несколько часов довольно живописного маршрута мы въехали на длиннющий мост, с которого открывался поистине завораживающий вид – дикие, пустынные пляжи, редкие рыбацкие деревушки, состоящие в основном из тростниковых лачуг, и куда ни глянь сплошная голубая пучина.
Рамешварам оказался довольно блеклым местечком в контрасте с окружающими его красотами. Обычный индийский поселок, с единственным храмом, по архитектуре похожий на уменьшенную копию одной из башен мадурайского ансамбля, только фасад его был белым, а не раскрашенным как в Мадурае.
Город Рамешварам называют «Южным Варанаси». Это одно из важнейших для индусов мест паломничества. Именно тут, по преданию, Рама (реинкарнация Вишну) благодарил Вишну (за что именно не помню), но на месте этого благодарения выстроили храм Раманасашвами. Сравнение с Варанаси очень условно и касается только религиозного значения двух городов.
Рамешварам – обычный прибрежный южный город, с несколькими грязными улицами и такими же грязными пляжами, которые, тем не менее, считаются культовыми.
В центре города стоит храм Раманатасвами[77], его выстроили в XII веке, потом часть обрушилась, и достраивают его уже в течение восьмисот лет по сегодняшний день.
Утром это сооружение оказалось закрытым, поэтому мы отправились к храму Котандарасвами в двенадцати километрах от города. Это чудовище – бетонная будка с маленькой башенкой – единственная постройка, уцлевшая после цунами 1964 года.
Рядом с входом в храм восседал меланхоличный садху, окруженный семейством, которое сторожило палатку с прохладительными напитками. В надежде сфотографировать старца пожертвовали ему десять рупий, но святой фотографироваться отказался и вместо этого протянул нам какой-то непонятный овощ, который требовалось съесть с благоговейным видом. Пришлось с улыбкой сжевать сердцевину непонятного стебля, непонятного вкуса, надеясь не заполучить очередного амебиоза.
Далее мы отправились к так называемому «адамову мосту». На самом деле моста никакого нет, его смыло гигантским цунами, не оставившим после себя не только моста, но и близлежащей деревни. Мы не стали добираться до самого конца тонкой и длинной косы, шириной не более двухсот метров, а высадились где-то посередине.
Вдоль всей косы идет асфальтовая дорожка, а с двух сторон тянутся пляжи. С одной стороны Бенгальский залив, а с другой океан, так что если постараться, можно минут за десять искупаться и там и там. Мы никуда не спешили и прекрасно провели тут время до самого заката, купаясь в прохладном заливе, валяясь на белоснежном песке и собирая ракушки, которых тут пруд пруди.
* * *
Сидя на мотоциклах в полуденной пробке в центре Мадурая, мы истошно «бибикали». Не выдержавший этого мужик на белом «амбассадоре»[78] любезно сопроводил нас до выезда из города. Мы оказались, как на сковородке, посреди уходящего в точку шоссе, которое рассекало прерии, выжженные солнцем и покрытые рыжей травой и маленькими кактусами. Через какое-то время начали попадаться узловатые деревца, очень скоро превратившие дорогу в тенистую аллею – мчаться по ней было одно удовольствие. Вскоре на горизонте показалась первая гряда Гатов, и дорога резко свернула в этом направлении.
Шесть километров по городу, двадцать пять по трассе, восемьдесят сквозь равнину. Крутой поворот, шоссе уходит в сторону, подъем в гору, остановка. С горы видна вся равнина, которую только что проехали, вся она покрыта сероватой дымкой от дневного зноя. Можно еще различить очертания города, в котором я три часа назад сбил велосипедиста.
Он вилял по дороге, на перекрестке нечаянно задел меня передним колесом, рухнул на землю, и из бидона на багажнике посыпался рис. Велосипедист почти не пострадал, бедняга больше переживал за измятый канн и испорченный продукт, требуя возмещения ущерба. Возмещать я ему ничего не хотел – сам виноват, но он так жалобно начал пищать (а вместе с ним и Катя), что пришлось вознаградить его двадцатью рупиями, а Кате купить мандариновый сок.
Спустя несколько метров езды по горной дороге начинается дрожь в коленях. Дорога имеет законную для Индии ширину, то есть по ней может проехать только один автобус. А ездят по ней так же как в Дели или по трассе номер сорок семь, и без разницы, что нет обочин, что внизу обрывы, впереди крутые повороты и встречный транспорт, который невозможно объехать. Едешь с нажатым клаксоном, а когда за очередным поворотом раздается ответный гудок, кидаешь мотоцикл влево, в сторону обрыва, и чудом избегаешь столкновения с автобусом с очень успокаивающим названием «ТАТА», удивляясь тому, что не слетел вниз.
Воздух постепенно становится чище и свежее. С каждым километром вверх становится все прохладнее, повсюду разливается запах трав и цветов.
Последние пятьдесят шесть километров в гору мы преодолели за два часа сорок минут и к четырем вечера остановились в центре города Кодайканал. Город не имеет никакого исторического или культурного значения и похож на обычный небольшой индийский город. Его единственное достоинство – расположение. Он стоит среди небольших зеленых гор, высотой около двух тысяч метров, покрытых благоухающими сандаловыми лесами и чайными плантациями. Недаром это место называют «индийской Швейцарией» – сходство действительно есть. Но город Кодайканал чисто индийский, как ни крути.
Сквозь чайные плантации
* * *
К нам подбегают два проворных мужика, предлагающие услуги по расселению. Катя с Кашкетом остаются на месте, а я, усадив одного позади себя, отправляюсь под его руководством осматривать жилье. Главные условия – «chеap price and good view»! Мы всегда ставили эстетику проживания гораздо выше его бытовой стороны, и считаем, что гораздо приятнее сидеть в пустом номере, глядя в окно на потрясающий вид, чем глазеть в телик в номере рядом с помойкой.
– Cheap price and good view or the cheapest price and the best view![79] – говорю я.
Мужик кивает головой и указует перстом. Едем. Первая комната – кал, следующая – дорого, третья не кал, но еще дороже, четвертая дешево, но плохой вид, пятая, шестая… Я устал!
Когда я вернулся, Кашкет успел вкратце известить меня, что, мол, только я уехал, как за своей спиной он услышал пропитый, с пиратской хрипотцой голос: «Perfect marihuana, Maria-mama!»[80], а, обернувшись, он увидел крайне любопытного человека лет тридцати пяти. Это был индус европеоидного типа, с острыми и правильными чертами лица, с копной длинных черных дредов. Одет в спортивный костюм, чем смахивает на непальского гида. Кашкет вступил с ним в диалог, который тут же превратился в монолог этого индивида.
Зовут Ганеша, живет тут, в городе, а также неподалеку, на плантациях, где выращивает: чай, кофе, ваниль и марихуану. Шесть лет провел в Италии. Женился на итальянке, завел двух детей, после чего жена его бросила, и он вернулся на родину. После неудачного брака зарекся спать с женщинами. Много курит ганджи, гашиша, любит «magic-mushrooms»[81] и ром (во время разговора осушил бутылочку «McDowels»). Всегда помогает людям. Утверждает, что вокруг одна мафия. Верит в рок судьбы, так как ничего хорошего в жизни не видел, кроме своих злоключений и Шивы, который явился ему после magic-mushrooms. Меломан – наизусть знает все песни Боба Марли и многих других исполнителей. Иногда поет их сам и часто вставляет куплеты, как цитаты, во время разговора. Знает английский и итальянский, считает, что выучит русский за два месяца, если попадет в Россию, куда ему очень хочется.
Все это было рассказано меньше чем за две минуты на смеси итальянского, английского и ямайского без распросов со стороны. Изредка Кашкет прятался за мотоцикл, предоставляя болтливого Ганешу Екатерине.
Не успел я всего этого дослушать, как Ганеша перекинулся на меня.
«Чувак, ты с кем связался!» – захрипел он, безумно жестикулируя и подмигивая в сторону мужичка, с которым я ездил смотреть комнаты. – «Не слушай их – они все как один: шарлатаны, пройдохи, обманщики и… мафия! Завезут вас в какое-нибудь дерьмо только из-за своих комиссионных. Они так всех туристов разводят, да, да – всех без исключения. Я их как облупленных знаю – они хитрые, нечестные, они… мафия!!!» – подытожил раста, заметив, что индусы принимают угрожающий вид и двигаются в его сторону.
Он уже успел посоветовать что-то Кате с Кашкетом и теперь только сказал, что, мол, «поехали ко мне домой, я вас угощу кофе». «Вы уже видели, что они вам предлагали, а теперь посмотрите, что предложу вам я».
На такой довод нам нечего было возразить, к тому же раста был необычайно веселым, без остановки сыпал глумными словечками, и, в конце концов, уже сидел на кашкетовском мотоцикле.
Безумно жестикулируя по дороге, смуглый, с пышной шевелюрой, черными, как смоль усами, переходящими в бородку и сверкающими как угольки глазами, он сам выглядел как «мафия»!
Дорога в его жилище неминуемо шла через wine-shop, где Ганеша зацепил бутылек вискаря.
В захламленном домике Ганеши мы обнаружили двух его собутыльников. Не помню, как их звали, но про одного из них, полного, лет сорока индуса, хозяин сказал, что это его друг – полный лобстер, но у него в горах есть неплохая плантация ганджи и, когда тот хорошенько покурит, вполне нормальный малый.
Пока варился кофе, все уселись в комнате, где Ганеша с гордостью представил нам многолетнюю подшивку журналов, посвященных культуре марихуаны. С каждого разворота на нас глядели чуваки с косяками, не поддающимися описаниям, мелькали страницы со всеми сортами и формами канабиса и способами его культивации. Пролистав несколько номеров с названиями типа: «Ganja Planet», «Cannabis Paradise» и «Stoned World»[82], стало понятно, что мы имеем дело с чертовскими любителями покурить, профессионалами по опыту, фанатами по призванию.
Между делом Ганеша вторично принялся рассказывать историю своих злоключений – про жену итальянку, двух детей, про то, что он стал курить, и она от него ушла, тогда он стал пить и через все эти тяжкие пришел к состоянию убежденного холостяка. Теперь его жизнь наладилась, женщин он любит, как сестер, а траву как родителей. При этих словах Ганеша приколотил здоровенный косяк, точно сошедший со страниц его подшивки, и доверил мне взорвать сие творение. В подтверждение своего рассказа он вытащил кипу фоток из Венеции, затем провел экскурсию по кухне, блеснул знанием итальянского и кончил тем, что все вокруг – мафия!
Начинало темнеть, и мы собрались уходить, несмотря на уговоры хозяина остаться. Ганеша не забыл упомянуть, что он прекрасный повар и сам готовит прекрасную garam masala[83], и с удовольствием угостит нас ужином. Взяв у него номер телефона, я пообещал позвонить, и на том расстались.
Рекомендованный Ганешей отель нашли довольно быстро, руководствуясь нарисованной им картой, больше походившей на его грибные фантазии. Место оказалось замечательным – старый глинобитный домик с белеными стенами, тремя комнатами с каминами и антикварной мебелью, покрытой темным лаком. Над входом висели оленьи рога, а в прихожей стоял круглый дубовый стол. Из окон дома открывался вид на небольшое плато, на котором раскинулся фруктовый сад. Пейзаж был похож на английский, наверное, за счет сероватых, осенних оттенков.
Тем же вечером, позвонив из ближайшей будки Ганеше, мы поблагодарили его за наводку на столь замечательный приют и пригласили в гости.
Он не заставил себя ждать и спустя двадцать минут показался в проеме двери с двумя бутылками рома и мешком марихуаны. Для начала он продал нам два вида собственноручно взращенной отменнейшей травы, сравнимой разве что с победительницами голландских фестивалей!
Изрядно покурив и глотнув рома, Ганеша бегал по комнате под ритмы играющего Ska, тряс шевелюрой и, размахивая руками, цитировал рок-легенды шестидесятых: Боба Марли, Заппу и дюжину других музыкантов.
За окном уже стемнело и стало холодно, Кашкет разжег камин, мы с Катей расставили свечи.
Вскоре дело дошло до того, что мы воочию увидели концерт Дэвида Боуи, Риты Марли и «Deep Purple» в изображении Ганеши, который сначала декламировал долгие предконцертные речи, воодушевляя мнимую публику. Затем он удалялся «за сцену», в соседнюю комнату, а спустя минуту выскакивал из темного дверного проема с электрогитарой из воздуха, и в свете пламени камина превращался поочередно во всех суперзвезд отшумевших времен. Тени плясали по комнате, создавая эффект мнимой толпы – музыка, ром и трава довершали все остальное. С болящими и надорванными от смеха животами мы наконец, не без труда спровадили Ганешу домой, так как было довольно поздно, а в программе у него был еще концерт Лед Зеплин и интервью с Джоном Ленонном.
* * *
На утро Кашкет опять прикинулся больным, мы с Катей устроили замечательный завтрак на улице за столом из огромных валунов. Наслаждались прекрасным видом и дегустировали успехи Ганеши, который укатил в другой штат по каким-то своим барыжным делам, предварительно известив, что какой-то его «менеджер по общим делам» отвезет нас на ганешину ферму на вершине далекой горы, где мы сможем увидеть его достижения в культивации анаши, плантацию кофе и ванили, а также полюбоваться горными красотами и, пробыв там несколько дней, дождаться его возвращения. Мы не стали ему ничего обещать, решив между собой, что у нас нет столько времени…
Кашкет прирос к кровати, а мы с Катериной отправились изучать окрестности. Весь день мы колесили по горам, любуясь местными красотами. Природа здесь скорее напоминала северную. Повсюду росли ели, единственное, что возвращало в реальность – это обезьяны, которые совершали дерзкие набеги на зазевавшихся туристов и затем стремительно удирали в колючий хвойный лес, будто это тропические джунгли.
Вернувшись домой после заката, который наблюдали c высокой скалы, свесив ноги в пропасть, застали Кашкета все в той же позе. Побранив его за лентяйство, дали посмотреть фотки, чем Кашкет остался крайне доволен, заявив, что теперь и он побывал везде с нами, не вылезая при этом из кровати, за что был мгновенно уничтожен Катиным взглядом.
На следующий день вытащили Кашкета из берлоги и отправились гулять все вместе. Заехали на какую-то заброшенную заросшую дамбу в живописном ущелье.
Западный склон
Мы валялись на откосе в тени деревьев, наблюдая движение солнца по небосклону и вызванные им изменения света в ущелье. Вокруг не было ни души. Вдруг рядом из кустов выросла одинокая корова, белая с черными пятнами… или черная с белыми пятнами. Она встала боком, прямо напротив, повернула голову, уставилась на нас своими грустными глазами и застыла. Молча мы смотрели на корову – корова на нас. Прошло минут десять. Я выдвинул предположение, что это какой-нибудь любознательный индус в одном из своих перерождений, зрит, как изменился человек – уж очень проникновенно глядело это животное. Будто согласившись со мной, корова вильнула хвостом с кисточкой и убралась восвояси. Солнце уже готовилось рухнуть за гору, так что и мы поспешили вернуться в город, где забрели в тибетский ресторанчик на порцию аппетитных momos[84].
* * *
Утром повторилась традиционная процедура водворения рюкзаков на мотики. На нашем пути лежал центр чайных плантаций – городок Муннар.
Очень скоро мы оказались среди сказочно бархатистых холмов, сплошь усеянных чайными кустами. Потрясенные красотами этой местности, мы ехали довольно медленно и прибыли на место уже в глубоких сумерках, проехав за целый день не больше двухсот километров.
Утром зашли в турагенство и купили небольшую карту, на которой обнаружили много всего интересного – водопады, заповедники с дольменами, оставленными далекими предками, и Top Station[85], откуда прогнозировался чудесный вид, чуть ли не на все Западные Гаты.
Был составлен прекрасный план: отправиться на Top Station в сорока километрах от Муннара, заночевать там, утром встретить рассвет и, не возвращаясь в город, поехать смотреть дольмены, по которым не знамо с чего сходил с ума Кашкет.
Добравшись до вершины горы, поросшей высокими деревьями, скрывавшими вид, двинулись чуть ниже по извилистой тропинке, упиравшейся в забавный check-post. Состоял он из одного индуса, объевшегося красной жижи и взимавшего плату в размере десяти рупий за просмотр открывающихся красот. Он стоял, как Остап Бендер у Генуэзской крепости.
Деньги были мизерными, так что мы с Катей купили билеты, а скупой Кашкет засел в нищенской кафешке пить чай.
С вершины склона открывался бесконечный, сказочной красоты вид на долину и горные вершины.
Вернувшись, утолили кашкетовское любопытство цифровыми отображениями только что увиденной нереальности.
Кафе закрывалось. Хозяин вышел и разжег на улице костер, его жена и двое ребятишек уселись возле него. Стало холодать, солнце уже скрылось за вершинами. Я подошел к огню и, передразнивая, мальчишек, стал греть руки. Жена индуса в потасканной юбке принесла старый плед и, расстелив его у костра, предложила сесть. Я не отказался, сел и прикурил от костра. Потом достал фотоаппарат и сфотографировал гостеприимное семейство. Меня попросили прислать им фотографию, записав на клочке газеты адрес: «India. Tamil Nadu. Top Station».
Стемнело, и только сейчас мы осознали, что кроме блокпоста из двух ящиков и закрытой кафешки никакого жилья здесь нет. Двое местных бродяг подоспели на помощь и привели нас к своей хибаре, комнатушке размером два на два метра, обклеенной газетами, за которыми шуршали тараканы. За такие удобства хотели содрать по семьдесят рупий. Нам показалось это высшей степенью нахальства, и решено было вернуться в город.
Проехав с километр под горку, у нас не то чтоб зуб на зуб не попадал – даже глаза с трудом вращались! Надев на себя все что было, обмотавшись спальниками и подбадривая друг друга шутками, мы, впрочем, нашли в этом экстриме свои прелести и продолжали спуск.
Долго ли, коротко ли, но вот уже показались огни Муннара, и wine shop принял нас в свои объятия. Ром, уничтожив признаки простуды, повалил в сон.
* * *
Жители пугали нас дикими леопардами, тиграми и прочей живностью и, если учитывать, что Западные Гаты – одно из немногих мест в Индии, где осталась действительно дикая природа, то встретить тут хотя бы полудикое животное вполне возможно. Пока же попадаются только красные флаги по обочинам, женщины с лопатами и кирками, восстанавливающие дорогу, и проносящиеся мимо джипы марки «Mahindra», увешанные со всех сторон колонками, откуда, оглушая всю окрестность, ведется какая-то пропоганда. Изредка попадаются полицейские, которые сидят у поднятых шлагбаумов в бетонных будках, похожих на общественные туалеты. Они указывают нам путь к дольменам, размахивая руками в разные стороны.
Дорога шла под гору, и наши тела подверглись испытанию настоящим африканским циклоном. Жарило, как в аду, уже в десять утра. Местность вокруг напоминала картину из приключенческих фильмов про охоту на львов на просторах Кении. Сухая холмистая долина, покрытая клочками высохшей травы и трупиками скорченных деревьев, с неизменным стервятником на единственной ветке и россыпями кактусов, практически нигде не было тени. По карте, где-то здесь, в восьмидесяти километрах от города, должен был располагаться один из самых больших в южной части страны заповедников дикой жизни.
Дольмены находились на территории заповедника. Более точными сведениями ни карта, ни путеводитель нас не снабдили, оставалось рассчитывать только на указатели, которых не оказалось. Задубевшие от песка и пыли, мы, наконец, уперлись в красный шлагбаум, слева от которого висела табличка «Chinnar Wildlife Sanctuary»[86] (как гласил путеводитель: «Место обитания диких слонов, медведей и леопардов»), а справа, в тени навеса бетонной будки, восседал полицейский с бамбуком в одной руке и тетрадкой в другой.
Пошевелив усами и потрясая бамбуком, абориген в форме пригласил подойти к нему. На вопрос, где тут дольмены, усы туземца неуверенно шевельнулись, а затем громогласно сообщили, что нам надо было свернуть у первого блокпоста на семнадцать километров раньше, как раз на том самом посту, где молодой туземный страж сказал, что они в семнадцати километрах прямо по дороге. «А здесь, – продолжал усатый туземец, – вы можете за сто рупий с носа пройтись по диким заповедным местам, и если повезет… – тут он сделал паузу, и усы расплылись в улыбке… – если очень повезет, вы увидите диких животных: слонов, тигров, львов! У нас много животных… но без везения не обойтись!».
Отмотав сто километров по сорокаградусной жаре на раскаленных мотоциклах, нам ничего не оставалось, как заплатить требуемую сумму, тем более что за шлагбаумом располагалась бамбуковая хижина с водой, которая у нас давно закончилась. Предварительно заполнив очень странные анкеты (наверное, на случай если кого-нибудь съест какая-нибудь местная дикая тварь), мы выплачиваем по сто рупий и слезаем с мотоциклов.
Пополнив запасы воды, мы двинулись в заросли карликовых деревьев вслед за гидом. Гид сразу же насторожил – хрупкий и тощий как бамбук, которым он был вооружен, одет в коричневую форму, он не был похож на опытного следопыта. Единственным его оружием была та же бамбуковая палка не толще хлипкой удочки, с которой рыбачат в детстве.
Я недоумевал, что он будет делать, если вдруг на тропу выйдет тигр или семейство львов. Воображение разыгралось, и теперь мне представлялась картина выбегающих слонов, которые превращают гида в коричневую лепешку, а мы в ужасе разбегаемся в разные стороны в дебри, где при наступлении ночи нас поочередно съедают лесные твари. Очень скоро в своих размышлениях я подошел близко к правде, все более в ней убеждаясь – наверняка, никаких животных здесь вообще нет, и индусу это известно, поэтому он и не взял с собой ничего кроме палки и теперь так бодро шагает впереди всех по тропинке.
Но гид на время развеял мои иллюзии. Внезапно остановившись, он ткнул бамбуком в кучку подопревшего дерьма, оставленного на тропинке, поднял кверху палец и, понизив голос, прошептал: «СЛОНЫ!!!». Вначале я, было, поверил, но когда чуть позже мы поднялись в гору и на узкой горной тропке, куда не то что слон, а даже енот с трудом заберется, встретили аналогичную кучку, я понял – гид врет. И мне в голову опять полезли мысли о том, что все это – большой спектакль, в котором дело, может быть, доходит даже до того, что служители заповедника сами раскладывают какашки, чтобы у туристов появлялось ощущение присутствия опасных тварей в непосредственной близости, и только из-за редкостного «невезения» они не видят тут ничего кроме дерьма, за которым вовсе не обязательно так далеко ездить.
Сушка сена на обочине
Мы перевалили через гору, на которой, к радости Кашкета, внезапно обнаружилась пара дольменов, о которых гид вспомнил только при их появлении. Спустя два часа, уставшие, как собаки, вернулись обратно, не увидев ничего, кроме полусотни какашек, трех плешивых косуль и двадцатисантиметрового сандалового кустика, который наш гид упорно нащупывал бамбуком в зарослях терновника, а, обнаружив, опять многозначительно поднял палец кверху и объявил: «САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО!!!». Это ничуть не удивило, так как по дороге сюда мы проезжали через густой, наполненный терпким ароматом сандаловый лес.
* * *
Заход солнца застал нас в кафе, откуда началась прогулка. За чаем мы обсуждали наше довольно плачевное положение. Денег осталось всего триста рупий, на них нужно было купить бензин. Ехать ночью сто двадцать километров совсем не хотелось. Но иного плана не было, и мы отправились в сторону Мунара, останавливаясь у каждой избушки, чтобы выпросить бензин, который заканчивался в обоих мотоциклах.
На последних каплях топлива мы дотянули до небольшого городка Мараюр, где имелась заправочная, но, как всегда в таких случаях, она не работала. Бензин обещали привезти только утром, поэтому нам ничего не оставалось, как заселится в единственный отель этого населенного пункта. Парню за стойкой я признался, что денег нет, поэтому если он не сможет разменять сто долларов, то нам придется переночевать здесь бесплатно.
В городе Мараюр праздновали какое-то событие. По какому случаю был праздник, мы так и не узнали. Единственная улица была полна гуляющего народа, почти все кафе были переполнены посетителями. В парке, на другой стороне улицы, шел концерт – из рупоров доносились завывания и отрывки музыкальных произведений. На улице стояла пара джипов, в которых сидело несколько человек, которые что-то декламировали, иногда даже пели, но по большей части просто орали. Их завывания, усиленные динамиками, разносились на километры вокруг.
На этом празднике жизни мы оказались единственными белыми людьми, больше туристов не было, но странным образом индусы нас не замечали, и это радовало.
Катя отправилась в парк ознакомиться с концертной программой. Вернувшись через полчаса, она рассказала, что на сцене разыгрываются какие-то политические сценки, очень напоминающие детский спектакль для октябрят «Ильич и дети».
Засыпал я с чувством небольшой тревоги, так как парень за стойкой отеля сказал, что деньги он поменять не сможет. А до Мунара еще девяносто километров…
Утром Катя молча достала откуда-то пятьсот рупий и отдала мне.
* * *
В начале спуска с Западных Гатов из Мараюра в Кочин мы наслаждались дорогой, но когда спустились в долину, началось такое пекло, что несколько раз нам пришлось останавливаться в тени, дабы переждать зной, но стоять на месте оказалось еще невыносимее. На последних километрах к Кочин, в пробках, мы с Катей потеряли Кашкета.
Оказалось, что у него заглох двигатель, и он промучился с мотоциклом полчаса, пока не завел его. Однако хуже было то, что впервые за все время Кашкет отдал общую кассу, которую таскал при себе, нам, и теперь остался без денег. Ему приходилось останавливаться в кафешках, просить воды и затем стремительно улепетывать не расплатившись. Когда мы встретились в мастерской, где арендовали мотоциклы, Кашкет был зол и требовал холодного пива.
После того как сдали мотоциклы, купили билеты до Бомбея и заселились в небольшой отель, Катя направилась смотреть кералавские национальные танцы. А мы залезли на дерево возле причала, накурились под самой макушкой и просидели так до поздней ночи. Утром нам все хотелось отыскать глазами свои мотоциклы, но их не было – нас снова ожидала участь обыкновенных пассажиров.
Оставался всего час до поезда, когда мы отправились ловить рикшу. Первый же остановленный за шиворот водитель потребовал нереальную сумму за проезд. Я чуть не убил его за сию наглость, но он стал божиться, что дешевле никого не найти: забастовка! С забастовками мы с Кашкетом были уже знакомы по печальному непальскому опыту; тогда мы провели два дня на автовокзале в Катманду и только чудом уехали на третий. И сейчас не на шутку разнервничались, так как времени оставалось в обрез, а на улицах действительно не было ни людей, ни машин.
Я стал отлавливать более сговорчивых, но четверо вообще отказались ехать, сославшись на то, что все заправки закрыты и, вообще, – забастовка! Про сумму меньше двухсот рупий никто и слышать не хотел. Пришлось нам соглашаться.
Эрнакулам, обычно напоминавший муравейник, сейчас был абсолютно пуст, словно его жителей смыло потопом. Рикша явно не спешил и плыл по безлюдному городу, будто уцелевший Ной на своем ковчеге.
По дороге рикша, как мог, обрисовал нам политическую обстановку: правительство в Мадрасе что-то не поделило с правительством в Бангалоре, и теперь все бастуют, но по прогнозам забастовка должна завершиться к шести вечера. Мы завопили, что у нас поезд через пятнадцать минут, и плевать нам на забастовки. Рикша встрепенулся и прибавил хода. К счастью, забастовка не коснулась железной дороги.
* * *
План состоял в следующем: сразу по приезду в Бомбей купить билеты до Варанаси на ближайший поезд, а оставшееся до него время погулять по этому «городу контрастов».
Приехали на какую-то отдаленную станцию типа «Бомбей-товарный» и были молниеносно атакованы таксистами. Кое-как от них избавившись, решили сами выяснить все насчет билетов прямо на этом полустанке. Повсюду на полу штабелями лежали индусы, найти на этом вокзале англоговорящего оказалось совсем не просто. Мент, к которому я обратился, объяснил все, что нам требовалось, но только на хинди. Пришлось вежливо поблагодарить его и продолжить поиски билетной кассы самим.
Наконец, в одном из многочисленных окон, около коих толпились и жужжали, как пчелы, пассажиры, кассир объяснил, что поезд до Варанаси будет в восемь вечера, то есть через четыре часа, а следующий – в двенадцать ночи. Но на них нельзя купить билеты в слиппер-класс, только в дженерал. Тридцатичасовая поездка в дженерале стала бы для нас фатальной.
Выяснилось, что «слипер» можно купить только на вокзале Виктория. Изучив карту города, отправились искать такси. Глазеющий на Катю индус-сикх только того и ждал. Он был необычайно вежлив, обстоятелен, услужлив, хитер и жаден. Запросил шестьсот рупий, а после долгих прений согласился на пятсот. Мы с ним распрощались и нашли более уступчивого таксиста, на котором уехали за двести.
Путь оказался не близким, мимо мелькали просторные, запруженные народом улицы, дорожные развязки, шикарные бутики и магазины, и вместе с этим обычная, грязная, бедная Индия.
Вокзал «Виктория» находится в самом центре Бомбея. Это старое английское здание викторианской эпохи, напоминающее католический собор или дворец было построено в 1887 году Фредериком Стивенсом как главный штаб of The Great Peninsular Railway Company[87].
Несмотря на человеческий муравейник внутри вокзала, мы очень скоро выяснили, что билетов до Варанаси на сегодня нет и завтра они тоже вряд ли будут. Тут подбегает какой-то мужик по имени Раджу и предлагает нам свои услуги. Мы долго колебались и все же отказались.
Потратив кучу времени на то, чтобы самостоятельно убедиться в том, что билетов на сегодня нам никак не достать, решили рискнуть и прибегнуть к помощи сомнительного Раджу. При нем был ассистент, который убежал с нашими деньгами куда-то на второй этаж. Раджу остался в заложниках, гарантируя честность операции. Через десять минут ассистент вернулся с билетом, подтверждающим, что наши имена стоят в листе ожидания, и если освободятся места, то сможем уехать на одиннадцатичасовом утреннем поезде. Это была единственная надежда. Раджу дал номер своего мобильника, билет и сдачу, затем откланялся до девяти утра, обещая сделать все возможное для нашего отъезда.
Итак, у нас оставалось двенадцать часов до встречи с Раджу. Денег почти не было, и платить за номер в отеле, которые в Бомбее очень дорогие, мы просто не могли. Что делать? Сдали вещи в камеру хранения, заплатив надзирателю за сутки, и отправились перекусить в первый попавшийся ресторанчик с «АС»[88] кабинками. Во время трапезы решено было всю ночь до утра гулять по Бомбею, а утром, сев в поезд, отоспаться. Не зная куда деваться, пошли в сторону старого, ныне центрального, богатого района – Колаба[89], посмотреть на «Ворота Индии» и прогуляться по ночным улицам старого английского квартала. Бродя по спящим закоулкам, наткнулись на кинотеатр, где, наслаждаясь прохладой кондиционеров, развалились в мягких креслах и немного вздремнули. Из кинотеатра завернули в тусклый, грязный переулок, посреди которого стояла карета с открытым верхом. Ее мягкие, обитые красной кожей сидения так и манили к себе.
Ночная Colaba
На козлах спал возница – сухой мусульманин с седой бородой и кружевной белой шапочке на голове. Завидев нас, он оживился и замахал кнутом, кобыла в упряжке затопталась на месте, и через пять минут мы катили к Воротам Индии, которые, впрочем, оказались совсем рядом. Эта триумфальная арка стоит на каменной площадке, выступающей в залив прямо перед огромной гостиницей «Taj Mahal»[90], которая в отличие от безвкусной арки являет собой прекрасный образец английской архитектуры. Посидев около арки с полчаса и подвергнувшись нападению нищих мальчишек, мы вновь отправились бродить по ночной Колабе. Окончательно обессилев, уселись под гигантским баньяном с каменным алтариком Ганеши, запутавшимся в корнях дерева. Перед нами полукругом расходились улицы с готическими зданиями. Позади, за высоченной оградой дремал уютный зеленый садик, а прямо напротив стояла целая ватага припаркованных на ночлег моторикш. Время от времени один из них просыпался, вылезал из-под пледа, моргал глазами, пристально изучая нас несколько секунд, затем бинтовался обратно в плед и укладывался на другой бок, при этом яростно раскачивая свою колымагу.
Часов в шесть утра, покурив и выпив изрядное количество Олд Монка, отправились на вокзал Виктория. Мы с Кашкетом, поддерживая друг друга, останавливались чуть ли не у каждого торговца едой и покупали то омлеты на тостах, то вареные яйца, то еще какую-то снедь, совсем не обращая внимания на Катю, которая, выбившись из сил, пыталась контролировать ситуацию. Наконец, вдоволь наглумившись над проезжавшим рикшей, переступили порог терминала. Как всегда в самый неподходящий момент Катя заявила, что отправляется на поиски туалетной бумаги. Кашкет сказал, что будем ждать ее в зале ожидания. Отыскав табличку, мы ввалились в полупустое помещение с рядами кресел вдоль стен, половина которых была свободна. Не успели плюхнуться на свободные места, как тут же со всех сторон раздались визги, вопли негодования и чьи-то руки выдворили нас вон. Оглянувшись, я только сейчас обратил внимание, что табличка имела продолжение «…only women»[91]. Зал для мужиков напоминал поле битвы, весь пол был усеян обездвиженными телами. Не оставалось ни одного свободного клочка пространства. На стульях спало по трое, четверо, даже на столах грудами чернели люди.
Силы таяли с каждой минутой, и мы были готовы упасть в дверях, когда заметили кучу почтовых мешков, наваленных на платформе. Долго не раздумывая, залезли в самую гущу и через секунду заснули беззаботным сном, забыв про все меры предосторожности и, побросав куда попало сумки с фотиками. Я очнулся, наверное, минут через двадцать, и огляделся. Кашкет лежал «звездой» на спине, ноги и руки раскинуты в разные стороны, рот открыт, а все тело сотрясается от нешуточного храпа. Над ним склонилось двое полицейских, которые о чем-то оживленно разговаривали с вокзальным служкой, нетерпеливо постукивая бамбуком по мешку, на котором Кашкет грезил во сне. Постояв так минут десять и несколько раз робко ткнув бамбуком в непросыпющегося Кашкета, они махнули рукой и растворились в толпе. Я снова заснул и проснулся уже разбуженный Катериной, яростно пеняющей на то, что она еле нас отыскала, и что проходившие мимо редкие турики веселыми аплодисментами приветствовали наш безответственный поступок.
Стрелка часов подходит к девяти, я далеко еще не трезвый, вызываю Раджу по телефону. Он сообщает неутешительные новости – поездов на сегодня нет, и нам светит уехать только завтра в 00:10. Мы были в шоке, но, пораскинув мозгами, все же озадачили Раджу покупкой билетов на этот поезд, что он моментально исполнил с преданностью и быстротою джина – через пять минут в наших руках были билеты в «слипер-класс» до Варанаси.
Итак, впереди был еще один день в Бомбее. Прежде всего отправились в опустевший за это время зал ожидания и выспались по-институтски, сидя за столом, затем изучив «Lonely Planet», решили поехать осмотреть знаменитую бомбейскую «стирку» – открытое место, куда ежедневно стекается около пяти тысяч мужчин, которые только тем и занимаются, что стирают, не покладая рук. Кроме того, там рядом имелся зоопарк, куда нам тоже хотелось попасть и убить время. На вечер был намечен поход в кино, чтобы вздремнуть.
Выйдя из вокзала, на ходу запрыгнули в английский двухэтажный автобус, который доставил нас в грязный отдаленный район, прямо ко входу в зоопарк. Сначала перекусили в забегаловке, где Катя, вопреки нашим советам не заказывать того, чего нет в меню, пыталась объяснить хлопающему глазами индусу, что хочет Ginger Lemon Tea, а добившись своего, бросила в нашу сторону презрительный взгляд. Справедливость восторжествовала, когда официант принес ей какую-то жуткую дрянь в такой грязной бутылке, что и в руки-то было страшно взять.
Зоопарк представлял собой поистине жалкое зрелище. Грязные клетки, полные гниющих овощей и фруктов с замученными плешивыми животными, в глазах которых сквозила печаль и мысль о скорой кончине. В какой-то момент мы сами будто очутились в клетке. Стоило нам только приблизиться к вольеру, окруженному толпой увлеченных индусов, как все тут же устремляли свои любопытные взоры на нас. Мне все не терпелось отыскать змей, и тут я заметил вход с надписью «Snake Housе». То, что предстало моим глазам, мало походило на змей. Из десяти пресмыкающихся я увидел только двух, да и то напоминавших скорее брошенные чулки. Покинув это место, двинулись смотреть стирку.
В вагоне “sleeper”
С высокого моста нам открылась забавная картина: огромная площадь разделена на небольшие бетонные секции с копошащимся в грязной воде людом. Стоя по колено в мутной жиже, тысячи мужчин отбивают и драют белье. Все пространство на сотни метров завешено рубашками, сари, полотецами, наволочками.
Затем мы претворили в реальность нашу давнюю мечту, а именно посещение индийского «Макдональдса». Пока нам несли еду, я уединился в сортире, где приколотил косяк из ганешевской травки вернувшись, съел что-то, отдаленно напоминавшее гамбургер с вегетарианской котлетой, щедро сдобренной массалой. Затесавшись между туристическими автобусами возле «Ворот Индии», выкурили косяк и отправились к кинотеатру.
Спустя пять минут я понял, что перебрал с травой спустя шесть, – что очень перебрал, а через семь я был уже вне себя и, плененный паранойей, нырнул в подвальное кафе, утащив с собой Катю и Кашкета. Там меня расплющило полностью, ощущение было сравнимо разве что с грибами или козинаками, которыми меня как-то угостил добрый друг. Я не сознавал, кто я и где я, сердце билось, вторя безумному ритму крутившегося над головой вентилятора.
Преследуемый галлюцинациями, Катей и Кашкетом, я еле добрался до кинотеатра, где, наконец, уселся в прохладном кондиционированном зале. Сначала была реклама, которую я боялся смотреть, все время отворачиваясь в сторону. С экрана на меня бросался какой-то мужик с белой бородкой, оказавшийся Аметабадом Баччаном, звездой Болливуда. По окончании фильма я уже был в состоянии ориентироваться в пространстве, и мы немного погуляли по вечернему Бомбею.
За хранение багажа с нас содрали кругленькую сумму, сказав, что вначале платить было не надо, а теперь – самое время.
Сели в грязный вагон, с черными засаленными полками. Заняв свои полки друг над другом, мгновенно вырубились мертвым сном, так как почти не спали двое суток.
* * *
Проснулся я от ощущения адского дискомфорта в области ног, и что, вы думаете, я увидел? – грязного индуса, нагло сидящего на моих ногах. Чавкая, он неторопливо поглощал тали, вытирая руки о мое одеяло. Поначалу я просто вскипел, но, приподнявшись, так сильно стукнулся головой об потолок, что сразу остыл. Надо ж, залезть на третью полку, когда там кто-то спит, да еще устроить трапезу! Первым желанием было спихнуть туземца вниз, однако, заметив мое негодование, тот засуетился и знаками объяснил, что он быстро доест и оставит меня в покое, я еле сдержался. Свесившись, я взглянул вниз и мысленно оправдал моего обидчика. Я недоумевал, каким образом «слипер-класс» за время моего сна превратился в «дженерал»!? Повсюду друг на друге валялись люди, дети, сумки, какие-то лохмотья, тюки, коробки; было время обеда, и все индусы жадно поедали разную снедь, разбрасывая мусор куда ни попадя.
На полках сидело по пять-шесть человек, люди валялись и в проходе. Единственная полка, занятая одним человеком, была средняя, Катина. Рядом со спящим Кашкетом валетом пристроился грязный индус, уткнув свои растрескавшиеся ступни прямо в лицо моего друга. Катя тоже спала; сжалившись, я решил ее не будить. Устранив нежданного гостя, я перевернулся на другой бок и задремал. Очнулся от шума в нашем купе – это проснувшаяся Катя обрушила на всех вокруг шквал своего негодования:.
– Свиньи! Как так можно! Вы все свиньи! – раздавалось снизу. Индусы притихли и во все глаза жалобно смотрели на Катю.
В вагоне было уже не так жарко, как по пути в Бомбей. За окном тянулись северные ландшафты: степи, поля, вместо пальм редкие деревья, вместо гор – пыльные равнины. Мелькали загаженные полустанки с плешивыми псами, вот по платформе провели заключенного, сцепленного с конвойным цепочкой для чемоданов. По поезду стали шляться нищие, калеки, прокаженные и садху. Все предвещало скорое приближение к старому доброму Варанаси.
Пустыня
«В песчаном потоке есть злые гении, и ветры настолько жгучи, что когда с ними встречаешься – умираешь, и никто не может этого избегнуть. Не видишь ни птицы в небе, ни четвероногих на земле».
Фа Сянь«Пустыня монотеистична» – этот афоризм Ренана подразумевает, что чистый горизонт и слепящее небо должны очищать разум от всего постороннего, позволяя ему сосредоточится на Высшем Божестве».
Б. Чатвин. «Тропы Песен».Мы свернули на узенькую, как квартирный коридор, знакомую Бигали Тола, и испуганная Катя стала скакать, будто играя в пятнашки, между коровьими лепешками по древним плитам мостовой. Наконец, направо – в небольшой проход, который по обыкновению перегородила хромая корова, и вот знакомая дверь дома, которую открывает Мангла.
За нежной полоской зелени на другом берегу выплывало огромное солнце, гаты все яснее проступали в розовой утренней дымке. Покачиваясь в лодке по направлению к Маникарнике, мы созерцали начало нового дня. За время нашего отсутствия река спала еще сильнее, обнажив всю грязь у берега. Мимо проплыл трупик ребенка – синий, надутый и блестящий, как кукла. Труп садху в оранжевой мантии, распухший от времени, проведенного в воде, выволочен на берег, и теперь лежит под солнцем.
Преддверие Холи[92] – праздника весны, когда все закупают красочные порошки и, смешивая их с водой, разукрашивают все, что попадается под руку. На улочках, в лавках, просто на земле пирамидами разложены яркие краски и праздничная мишура, женщины присматривают себе новые сари, а дети устраивают пробные засады. Повсюду гирлянды ярких цветов и темные, узкие средневековые улочки, тонущие в помоях и грязи.
В Дели нам надо отправиться за два дня до Холи, который уже дал о себе знать – несколько раз нас облили водой и измазали краской.
Бросив все лишнее – шахматы, ракетки для пляжного тенниса, купленные в Арамболе, фризби, акварель, драный спальник и всякую мелочь, – мы отправились на торжественное прощание с Гангой.
Приближалась полночь, набережная была пуста, царила полнейшая тишина, изредка прерываемая копошением спящих садху и брякающих псов.
Великая река, называемая индусами Мать-Ганга, стала и для нас живым существом, стала чем-то очень родным, и мы долго не могли оторваться от картины мистического слияния реки и города, покорно склоняющегося к ней миллионами ступеней. По обе стороны полукругом простиралась древнейшая набережная самого старого живого города мира. Силуэты многовековых дворцов мерцали в лунном свете. Все происходящее вокруг терялось во времени, единственное, что еще возвращало в реальность – это электрические огни. Вдруг, будто услышав наши мысли, часть города слева от Маникарники, уходящая к мосту, мигнула и погасла. Свет исчез и в центральной части, затем справа, и вскоре вся набережная погрузилась в густой мрак. Теперь только костры сожжения сверкали ярко, как в былые века, бросая золотой блик на гладь воды. В лунном свете черный силуэт города походил на древнее животное, припавшее к воде. Это зрелище настолько завороживало, что, казалось, окунулась в вечность. Теперь ничто не привязывало город к настоящему, и, спроси нас, какой на дворе век и год? Пожалуй, любой ответ был бы верным.
* * *
Весь день у меня болел живот, и напуганный Кашкет безоговорочно решил, что я сожрал перед отъездом какую-то дрянь в Варанаси и подхватил амебу. Час от часу мне становилось все хуже. Приближалось время отъезда, и я уж думал остаться в Дели, но Кашкет с Катей уговорили меня, и в девять вечера мы сели в автобус, идущий до Аджмера[93], с тем, чтобы вылезти по дороге в Джайпуре[94].
В автобусе, позади меня и Кашкета, сидела целая семья мусульман с девятью детьми, которые всю дорогу дергали нас за волосы и орали в ухо, отчего у меня помимо живота разболелась и голова. Я делал безуспешные попытки заснуть. Тем временем Кашкет сошелся с каким-то израильтянином, и на каждой остановке они увлеченно беседовали о Южной Америке, где тот побывал на деньги, заработанные в армии.
Все же нам удалось вздремнуть, а когда проснулись – оказались уже в Аджмере. Было семь утра – мы проспали Джайпур.
Автобус был почти пуст – остались мы втроем, индус, израильтянин и двое греков. Остановившись на задворках какой-то придорожной деревушки, водитель заявил, что в Пушкар не поедет даже под страхом смерти, так как сегодня Холи – и если он только окажется в городе, то его белоснежный автобус обязательно закидают и замызгают краской. Все кроме нас возмутились (у всех были билеты до Пушкара, мы же с тех пор, как проспали свою остановку, ехали зайцем, так что позорно молчали). Водителя настойчиво упрашивали, посулили даже бакшиш, но тот не сдавался. Он уже был готов уступить и завел двигатель, но, увидав проезжавший мимо джип, заляпанный всеми цветами радуги, в страхе заглушил машину и остался непоколебим. Грек с израильтянином отчаянно матерились, причем первый даже на хинди, но и это оказалось тщетным.
Все семь человек пересели в открытый джип и продолжили путь в Пушкар. Дорога виляет по пустынной местности между сухими холмами, вдоль обочины бродят дикие павлины, а на редких узловатых деревцах по-хозяйски устроились обезьяны с длинными седыми хвостами.
* * *
Въехали в Пушкар – город необычайной красоты, в центре которого священное озеро с гатами, в котором полным-полно черепах – купаться строго воспрещается! Освещенные солнцем, выкрашенные в голубой цвет стены маленьких арабских домиков заставляют жмуриться. Узкие улочки, по которым ходят мужчины в тюрбанах и женщины, закрытые чадрой, в золоте и многочисленных украшениях. По городу вместо машин ездят повозки, запряженные верблюдами, повсюду возвышаются древние мечети и индуистские храмы. Все дома с внутренними дворами, где на циновках в тени фруктовых деревьев за чаепитием проводят свою жизнь обитатели Пушкара. Вместо рикш – иссушенные солнцем мужички в тюрбанах, лениво толкающие перед собой тележку – стол с пассажирами. Собаки, против обыкновения, гнушаются «приземленным» существованием, предпочитая бегать по плоским крышам. Вначале казалось очень странным слышать собачий лай сверху, но в этой стране привыкаешь ко всему, а с течением времени начинаешь считать все вполне естественным, становясь похожим на местных жителей, которых если спросить, отчего собаки живут на карнизах, без тени сомнения ответят вам, а где ж еще им жить! Заняв собачье место, павлины глядят из подворотней, а одичавшие свинки роются в помойках и с неистовым хрюканьем выскакивают из-за каждого угла.
Продавец чая
Необычайно крохотные здания лепятся друг к другу, не достигая и четырех этажей. Миниатюрные окошки с резными ставнями, игрушечные балкончики, все здесь такое маленькое, будто кукольное, даже коровы, и те карликовые. Складывается ощущение, что очутился в сказке «Тысяча и одной ночи» или «Маленький Мук». Днем улицы пусты, все население, включая туристов, скрываясь от жары, предается неге в тени внутренних двориков. Как только спадает жара и воздух наполняется вечерней свежестью, в синих сумерках синих улиц начинается движение. Узенькие улицы заполняются плетеными креслами, повсюду зажигаются фонари, шипит на чугунных сковородках всякая снедь. Отовсюду выплывает народ, все приходит в движение, и весь город начинает походить на ночное кафе. Еда здесь – только вегетарианская, ни за какие деньги тут не купить даже яиц, пиво только безалкогольное.
Такси
Семья трубача
* * *
Водитель джипа струсил заезжать в город и высадил всех у первого попавшегося домика. Приятель Кашкета по южноамериканским путешествиям уже бывал в Пушкаре и вызвался быть проводником до центра города.
Чем ближе мы подходили к центру, тем больше встречалось разноцветных собак, свиней и коров, в ужасе пытающихся найти укрытие. Со всех сторон то и дело выбегали дети, от пят до макушек покрытые яркими кляксами, с бутылкой или пакетом цветной жижи в руках. Все, кто попадался им на пути, неминуемо превращались в таких же, прежде чем успеть воспротивиться. На крышах, перекрестках и в проходных дворах – повсюду скрывались засады, это было настоящим бунтом яркого и цветного против белого и однотонного. Благоразумные турики скрылись кто куда, правда, попадались и отважные представители. Так, в одном проулке толпа индусов была обезоружена, а затем разогнана четырьмя толстыми израильтянками. Залитые краской с ног до головы, вращая белками глаз, они навели ужас на индусов, бежавших врассыпную. Девушки геройски очистили себе путь за фалафелями в ближайшую забегаловку.
Все отели были на замке и, обойдя почти весь город, мы нырнули в приоткрытые ворота, очутившись во внутреннем дворе гестхауса Марудхар с премилым седым хозяином, вид которого напоминал палитру начинающего художника.
Ночь. Пушкар
Продавец special lassi
* * *
Вот уже несколько дней мы живем в Пушкаре, и все нам тут по душе. Хозяин рассказал, что в двадцатых числах ноября здесь проходит одна из самых гигантских верблюжьих ярмарок в мире. Со всех концов света сюда стекаются толпы торговцев и любопытных, на продажу пригоняется порядка тридцати тысяч верблюдов.
По утрам мы плутали в тени хаотичных улочек, а к началу сиесты возвращались домой и валялись в тени цитрусовых деревьев. С наступлением вечера заседали в одной из уличных кафешек, наблюдая за какой-нибудь праздничной церемонией, которые здесь совершаются ежедневно.
На некоторое время я и Кашкет увлеклись местным напитком Special Lassi, в состав которого добавляют bhang[95], а при желании еще и опиум. В Пушкаре существует три вида: light, medium, и strong[96].
Совершено бесцельно блуждая по городу и мучаясь от жажды, мы набрели на лавку какого-то пушкарца. Своей негритянской внешностью, черными дредами и майкой с надписью «Soccer» он походил больше на уроженца Ямайки. Ковыряясь в зубах, он торжественно восседал рядом с глиняными чанами, на которых мелом крупно было выведено: «Special lassi – Full power»! Рядом на солнцепеке стояло несколько плетеных табуреток, две из которых были заняты парой туриков. Согнувшись в изможденных позах и полностью обездвиженные, они молча изучали свои кроссовки. Ничего кроме Special lassi тут не продавалось. Узнав, что парни в кроссовках глотнули по стаканчику «medium», ограничились одним light lassi на двоих. После стакана этого напитка тело впадает в состояние анабиоза. Степень отупения зависит от крепости напитка. Вначале экспериментировали только с лайт-версией, но как-то раз попробовав «medium», забыли, где поселились и, вообще, кто мы? От безысходности такого положения нам пришлось залипнуть на скамейке в уличном кафе. Я с опаской озирался вокруг, а Кашкет на вопрос официанта, желает ли он чего-нибудь, ответил: «I’m russian». «Strong» решили отложить, пока не купим кроссовки.
Вид с горы в окрестностях Пушкара
* * *
Утром добродушный старик отрядил своего сынишку проводить нас до автобусной станции. Около полудня автобус въехал в Джодпур, преодолев семичасовую дорогу через пустынную местность, утыканную похожими на гигантские кактусы деревьями.
Джодпур – второй по величине город Раджастана, еще его называют «голубым городом», так как стены всех домов окрашены в ярко-голубой цвет. Считается, что этот цвет отпугивает комаров.
В центре города возвышается огромная скала, всю вершину которой занимает средневековый форт. По кривым переулкам направились к форту, решив поселиться где-нибудь у подножия.
Стояла нестерпимая жара. По дороге разговорились с одним индусом, который, узнав, что мы из России, продемонстрировал свою коллекцию денег, где на почетном месте красовался юбилейный рубль с Лениным. За разговорами хозяин затащил нас на крышу своего дома, откуда открывался замечательный вид на форт, и накормил обедом. По словам хозяина, дому было двести пятьдесят лет. Сняли у него комнату. Крошечного размера комнатка с неровными глиняными стенами была целиком выкрашена в синий цвет. В стенах несколько ниш, в которых стояли старинные каменные скульптурки Ганеши. Через миниатюрное окошко с резной каменной решеткой тускло пробивался свет. Всю комнату занимала кровать, а в углу стоял телевизор. Включив телевизор, я сразу заснул, а когда открыл глаза, по телевизору показывали мультфильм «Теремок», все звери говорили и пели на хинди, я был близок к помешательству.
Следующим утром мы стояли на платформе Джайсальмера. Накануне вечером на вокзале кто-то всучил мне брошюрку джайсальмерского отеля «Самрат»: комнаты за шестьдесят рупий на троих плюс бесплатный джип от станции до отеля.
Направились прямиком к припаркованной «Махиндре» и спустя десять минут, сидя в отеле, слушали увлекательный рассказ о сафари на верблюдах. Вскоре стало предельно ясно, что это типичный туристический аттракцион. Но чем еще заняться в городке, окруженным пустыней?! Поторговавшись, взяли сафари на два дня. Нам пообещали завтрак, обед, ужин, одеяло, стряпуху, и каждому персонального верблюда. Нас включили в группу из трех новозеландок и голландца, старт намечался на восемь утра следующего дня.
* * *
Джайсальмер, как и Джодпур, располагается вокруг горы, в данном случае песчаной насыпи. Джайсальмер называют «Золотым городом». Весь город песчано-глинистого цвета, отчего в закатных красках он действительно похож на золотой.
Джайсальмер – небольшой городишко, со стен форта прекрасно видны крайние домики, за которыми сразу начинается пустыня с зелеными кустами колючек.
Форт здесь – не музей, а жилой центр города. Средневековая жизнь – на крышах и в башнях пасутся козы, в лабиринтах узких улочек, напоминающих Варанаси, пахнет едой, играют дети, со стен выплескивают помои.
Голубой город
В форте тоже сдаются комнаты. Вас ведут по миниатюрным винтовым лесенкам, где приходится протискиваться боком и невозможно разминуться двум людям, по стенам лепятся дверцы, похожие на маленькие резные ставни, пройдя через которые, попадаешь в кукольную комнатку, где из-за низкого потолка приходится стоять согнувшись. На полу лежат ковры ручной работы, голые глиняные стены покрыты росписями или завешаны древними гобеленами. В углу стоит деревянная резная кровать, обычно занимающая большую часть комнаты, а из миниатюрного сводчатого окошка видны город, раскинувшийся у подножья, и пустыня, растворяющаяся в синем мареве у горизонта. Если зажечь вечером свечу в такой комнате, кажется, будто попал в прошлое – времена султанов и магараджей, за окном бредут караваны, а по стенам крепости в ночном дозоре проходит стража.
В восемь утра наша группа рассаживалась в припаркованный около дверей отеля джип – серую, крошечную, но чертовски вместительную «Махиндру» с брезентовым кузовом. С нами туда уселись и три новозеландки с голландцем, в действительности оказавшиеся тремя израильтянами и невезучим японцем. За прошедший день этот японец несколько раз скатился с лестницы, а днем упал в обморок, поднявшись перекусить на крышу. Садясь в джип, он вновь чуть не лишился чувств. То был, наверное, самый жаркий день за все путешествие по Индии – на улице 48° в тени.
* * *
Около десяти утра мы стояли под палящим солнцем посреди глиняно-каменистой пустынной местности. Возле дороги топталось десять верблюдов, навьюченных одеялами, мешками с провизией и походной утварью. Рядом с караваном суетились наши проводники: три раджастанца, двое мусульман и индуист. Все трое в тюрбанах и длинных робах. Звали их Роман, Белял и Бага, последние имя было прозвищем, означающим «псих». Все они, как выяснилось впоследствии, были проводниками не по профессии. Роман восемь месяцев водил караваны, а остальное время отбивал камни для строительства домов. Белял, самый старший, тоже был каменщиком; Бага, самый молодой и самый веселый из компании, не умолкал ни на секунду, пел песни и сочинял поговорки про сафари типа «Twenty four hour full power – no toilet, no shower»[97].
Бага был женат, имел двух детей и на собственном примере разъяснил местный обычай – жену обычно выбирает семья через Интернет (в Индии это самый популярный способ, около 70 % всех браков), либо среди знакомых семей. Брак может быть оговорен еще в младенческом возрасте, жену выбирают по состоянию и социальному статусу. Причем отец жениха дает отцу невесты довольно большой выкуп – около миллиона рупий. Отец невесты дает отцу жениха сумму, превышающую выкуп за невесту. На эти деньги семья жениха дарит подарки семье невесты и устраивает пышную свадьбу, на которую стекаются бесчисленные родственники с обеих сторон и такое же количество случайных лиц. Так было и с Багой, жену купили за миллион, а свадьбу справили за три. Судя по цифрам, Бага безбожно врал.
Верблюды были разного цвета и размеров. Выяснилось, что это было целое семейство: отец Кеке́ – старый, дряхлый, ленивый и упертый, как осел, страдающй метеоризмом, верблюд который достался мне; его сын Ба́льбу черный, понятливый и легко управляемый достался Кашкету, Калу́ – маленький, кудрявый и послушный верблюжонок достался такому же кудрявому и волосатому израильтянину, Папу́ – совсем крохотный, достался его приятелю, остальных верблюдов поделили между японцем, Катей и погонщиками. Японцу опять не повезло, ему попался какой-то старпер типа моего, который кусался и брыкался, и все время задевал седоком обо все встреченные по дороге кактусы и колючки. Всем, как и было обещано, досталось по верблюду.
* * *
Температура воздуха за полтинник. Поезд «Джайсальмер – Дели» стучит колесами сквозь выжженную оранжевую пустыню с желтыми сухими кочками. Изредка встречаются бродячие верблюды и стада коз, которые, встав на задние лапы, обгладывают редкие листья на одиноко стоящих деревцах. Вот проскочили лагерь бродяг, усеянный самодельными палатками из полиэтиленовых мешков. В вагон врывается обжигающий сухой ветер, вносящий с собой облако пыли и клубок колючек, пахнет верблюдами. Все спят, Кашкет засунул плеер в уши и залег на третью полку. Непонятно, как ему это удается, ведь там не просто как в бане, а как в котельной – к потолку нельзя прикоснуться, душно и воняет. Ехать нам так еще около двадцати часов, но часа через три-четыре жара спадет, и мы сможем чуть-чуть поспать, прежде чем замерзнем ночью. Правда, на этот случай припасена фляжка рома.
* * *
Сидеть в седле не очень-то удобно, так как никаких стремян или подставок под ноги не предусмотрено. Через двадцать минут пути у меня все так затекло, что я уже не думал ни о чем другом. Путь наш проходил по земле, похожей на растрескавшийся глиняный кувшин, вокруг не было ни одного кустика. Время близилось к полудню, солнце остановилось в зените и нещадно жгло. Несмотря на нахлобученные тюрбаны, голову все равно припекало. Мой лентяй Кеке двигался первым, во главе каравана, остальные плелись нос в хвост. Израильтяне (не помню их имен) оказались веселыми ребятами. Они быстро сдружились с погонщиками и всю дорогу над ними потешались, мгновенно заучив несколько выражений, которыми изъяснялись погонщики, принялись их повсеместно употреблять. «Possible»[98] было особенно в почете.
* * *
В вагон вошли контролеры. Та еще парочка – один приземистый, тощий, с офицерской осанкой, гладко выбритый, в очках, усах и пробором набок, – держится франтом; второй высоченный с гигантским пузом, крашенной рыжей бородой и волосами, неторопливый, развязный, неопрятный, эдакий Карабас-Барабас. Тощий, оглядев мельком вагон, удалился, а этот сидит, развалившись будто дома, и пытает хрупкого индусика-безбилетника.
* * *
Погонщики ничуть не смущались шуткам в свой адрес, отшучиваясь похлеще израильтян. Кеке ехал шагом и через каждые три метра вытягивал шею и издавал звуки, похожие на отрыжку. Точно такой же звук он издавал сзади. Лохматый прекрасно знал дорогу, видимо, не один десяток раз протопал по этому маршруту, так что поводья можно было не держать вовсе.
Привал
Таким образом караван проехал чуть больше часа, и в нашем строю началось беспокойство, израильтяне все чаще спрашивали, когда будет привал, а я чувствовал, что с трудом шевелю ногами. Но у погонщиков все уже было распланировано, и ровно в полдень мы оказались в некотором подобии оазиса со скудной растительностью. Несколько кустов и штук пятнадцать деревьев с пышной кроной. Расположились в тени самого большого из них. Верблюды очень забавно ложатся – в четыре приема: сначала на передние колени, затем на задние, и еще несколько раз хитро складываются так, что ноги седока касаются земли, а ног животного почти не видно под телом.
Смешно было, пока нам самим не настало время покинуть седло, все сделали это, наверное, в восемь приемов – все затекло, болело и натерлось. Особенно шумно это проделывали израильтяне. Японец долго принуждал своего верблюда лечь, и в конце-концов все равно грохнулся.
* * *
…В коллекцию запахов вагона «слипер», идущего по пятидесятиградусной жаре по маршруту Джайсальмер-Дели, добавился еще один, сразу занявший первое место. Наш сосед по пространству, безбилетный индусик, чудом оставшийся в вагоне после разборок с контролерами, снял свои черные лакированные ботинки вместе с носками, которые превратились в одно целое. Мне пришлось перестать писать и высунуться в окно минут на десять, теперь запах уже не так режет нос, хотя все еще доминирует. Вот слез с полки Кашкет и идет курить, эх, пожалуй, и я присоединюсь…
* * *
Один из израильтян был актером – высокий, худощавый, с шекспировской бородкой и сплюснутым лицом. Другой – смазливый, с греческими чертами лица, загорелый с серьгой в брови, всячески веселил неугомонного Багу. Третий – обильно волосатый израильитянин с брюшком, вьющимися волосами и нереально мохнатыми плечами – самый забавный из всех троих. Он постоянно говорил «Baga, why like this!? Why like this!?»[99], подшучивая на тему «possible» – «Toilet possible? Shower possible?» и т. д. Бага не злился, а наоборот проникся к нему симпатией – дразнил его девочкой, подшучивая на тему длинных волос.
Когда все спешились и растянулись в тени под деревом, погонщики расседлали верблюдов и, сняв веревки с их шей, стреножили, пустив обгладывать редкую растительность. Бага развел костер и стал готовить завтрак. Рядом тут же появилась Катя со своим мини-блокнотиком, куда она постоянно что-то записывает.
Раскидав посуду на пыльной земле среди козьих какашек, наши атаманы принялись за припасы. Белял достал из мешка цветную капусту и ловко поломал ее в кастрюлю, затем в ладонях нарезал картошку и покидал туда же, потом дело дошло до морковки, лука и помидоров. Все это, естественно, не мылось по понятным причинам. Даже полная кастрюля овощей была залита всего лишь стаканом воды, после чего туда бросили горсть куркумы, зеленый чили и еще какие-то специи. В это время Роман уже наливал чай с молоком, другой в Индии не предусмотрен, но Катя везде и всегда просит без молока, даже в пустыне, правда, на сей раз ее просьба была просто проигнорирована. Бага все это время с дикой скоростью пек чапати. В тазике размешал муку – и через секунду грязные руки погонщика верблюдов были уже в тесте, которое становилось все серее и серее и вскоре перестало отчетливо выделяться на фоне земли, этим определялась степень его готовности. Бага пододвинул таз с серым мякишем к костру, где уже разогревалась чугунная сковородка. Он принялся отрывать клочки от мякиша, разминая их руками, затем превращал их в блин, который в тот же миг летел на сковородку и спустя несколько секунд превращался в чапати. Через десять минут на грязном мешке уже высилась внушительная стопка. Завтрак был готов в считанные минуты, пока я, лежа на спине, курил сигарету, не в силах пошевелить ногами. Проглотив пищу, погонщики тотчас заснули, вскоре все последовали их примеру.
* * *
…К счастью, зловонный сосед покидает нас …эге, нет, вот он возвращается, а за ним шлейф его присутствия…
…Поезд, простояв двадцать минут на полустанке под названием Pokaran, посреди пустыни, наконец, тронулся но, по известной, наверное, только Шиве причине, покатил в обратную сторону…
* * *
Бага стал в тень и объявил всем, что здесь everything possiblе[100], и что если кто-то хочет выпить, то и виски possible. Но когда Волосатый заявил, что хочет «Maza[101] or Cold Pepsi», Бага притих, однако быстро нашелся и процедил очередную поговорку не совсем в рифму «Dal, Chapati – Camel Safary» и ответил «Shanty, Shanty, slowly, slowly, later possible. Cold pepsi, beer. Everything possible!»[102].
Улыбка Кеке
После того, как Бага завершил сию фразу, Белял с Романом потерли посуду в пыли и земле, вытерли ее об мешок и запихнули его на спину Кеке. Быстро обуздав всех верблюдов, мы снова двинулись в путь. Кеке опять шел впереди, но тут Кен вырвался вперед и тотчас врезался в кактус. Затем, когда он был весь сосредоточен на своем оцарапанном плече, верблюд протащил его под нависающим кустом колючек, и тюрбан Кена, зацепившись, размотался в длинную оранжевую полоску, как туалетная бумага. Воспользовавшись аварией собрата, Кеке обогнал японца, тем самым восстановив прежний порядок каравана.
Зной стоял страшный, ни ветерка, раскаленная земля начинала отдавать жар, а солнце все жгло с прежней силой. Я лелеял надежду, что вон за той полоской холмов на горизонте начнется уже белый песок дюн, и мы снова сделаем привал. Через полтора часа полоска холмов заметно приблизилась, превращаясь в груды рыжих камней, раскаленных до такого состояния, что у меня помутнело в глазах, когда я проезжал мимо них. А когда я снова прозрел, то увидел, что перед нами пустынная местность с крупным песком и косматыми кочками сухих колючек.
Я включил плеер и несколько раз прослушал песню «The End», написанную Джимом Моррисоном после месяца, проведенного в пустыне.
* * *
На горизонте показалось маленькое поселение, погонщики стали уверять, что именно там «everything possible», и все немного оживились.
Въехав в деревню, мы нашли там только поилку для верблюдов, у которой уже нежилось десятка два животных. Спешились, напоили своих верблюдов, прошли сквозь весь поселок и, не получив ни пепси, ни мазы, продолжили свой путь.
Опять началась бескрайняя, сухая пустыня, не предвещающая перемен. Волосатый с актером, потрясенные вероломством Баги, все повторяли: «Baga! Why like this!? Why like this!? Where is maza Baga? I’ll give you hundred rupies for maza, why like this!?»[103]. На что ошеломленный суммой Бага стал весело их успокаивать, приговаривая: «Shanty, shanty, slowly slowly, later everything possible».
* * *
…Солнце уже ласкает линию горизонта, в вагон влетел вихрь песка, скрыв от меня проходящего по коридору торговца овощами и соседа-расту, поглощенного чтением «Гарри Поттера». Пустыня за окном стала красной, огромное желтое солнце спряталось за сторожевой вышкой какой-то военной части – небольшого квадрата, окруженного колючей проволокой…
Отдыхающий Калу
* * *
Солнце клонилось к западу и зной начал спадать, ехать стало легче и пустыня оделась в более мягкие краски – из ослепительно белой она стала красновато-оранжевой. Будучи в седле уже добрых четыре часа, я мечтал только об одном – поскорее расстаться с Кеке. Будто угадав мои мысли, наконец появились белые волнистые дюны, погонщики объявили привал и все, забыв о порядке в караване, устремились к единственному торчащему из песка пышному кусту.
Обогнавший меня Кен опять угодил в кактус и, чудом избежав укуса верблюда, долго пытался заставить непослушное животное опустить его на землю.
Все разлеглись на одеялах около костра, где вовсю кипели приготовления к ужину. Тем временем израильтяне достали заначки печенья и принялись угощать всю компанию, я же извлек патронтаж с косяками, приготовленными накануне, и запустил несколько по кругу.
Отдохнув, я и Кашкет отправились в дюны смотреть на закат. Вернулись уже затемно. Ужин был готов – все получили по тарелке риса с овощами и по безлимитному количеству чапати. Затем, откуда не возьмись, перед нами возник индус с мешком льда, в котором лежали стеклянные бутылочки миринды, пепси и пива – это было божественно!!! Хоть он и барыжил ими по двадцать пять рупий (реальная цена пять рупий), все купили по паре.
Израильтяне запустили ответную вереницу косяков, и мы долго лежали на спине, слушая песни погонщиков и глядя на загорающиеся звезды. Вокруг стояла тишина, только изредка фыркали верблюды, расположившиеся на ночлег в соседней ложбине между дюнами.
Погонщики предложили нам перебраться в дюны, подальше от куста и верблюдов, которые привлекали к себе множество насекомых. Потом они достали из мешка с верблюжим кормом литровую бутылку местного виски с красной надписью «Aristokrat» и предприняли неудачную попытку всучить ее нам. Вдруг с куста посыпалась тьма здоровенных жуков. Актер, включив фонарик, посветил в сторону куста, откуда в рассыпную бросилось целое племя тушканчиков, и Волосатик объявил, что хоть он и не хочет никого пугать, но на закате они видели в дюнах кобру, а где грызуны – там и змеи. Все единогласно решили переместиться подальше. Отошли метров на двадцать на вершину дюны, Белял и Бага постелили одеяла и выдали по одному впридачу. Причем Бага демонстративно распределял страны на песочной карте, командуя:
– Japan here, Israel here, Russia here!
Так и улеглись. И только сейчас я увидел небо, уже совсем темное и сплошь в звездах.
Да, скажу я вам, такого неба я не видел нигде, разве что высоко в горах, но там оно немного другое. Млечный Путь, словно окаменевший позвоночник мамонта, отчетливо нависал над нами. В нем можно было разглядеть пучки микроскопических звездочек, мутные пятна плоских и ярких скоплений. Все небо было в не виданных мною созвездиях, а те, что я знал, было не отыскать – ковш Большой Медведицы стоял на ручке, упираясь в линию горизонта, а Кассиопея болталась своим зигзагом где-то в центре.
Я запустил еще пару забитых снарядов в сторону Японии и Израиля, спустя полчаса от них последовали ответные выстрелы, и Кашкет задвинул научный рассказ, удивляя меня своими познаниями в области астрономии. Катя уже битый час слушала Dawid Bowie, как тут, совладав с техникой, у израильского лагеря прорезался звук – Miles Davis – All Blues. Мы лежали и молча смотрели в безумное небо под звуки джаза в пустыне Тар[104].
* * *
Почему бесплодная земля, сотни раскаленных километров и невыносимо голубое небо вызывают восторг, а не тоску и ощущение собственной никчемности…
Собственно, никакой экзотики или романтической прелести – только зной, жажда, шум в голове и нескончаемое зловоние газов от идущего впереди верблюда.
Почему пустыня? Очевидный ответ – ни я, ни Арсений прежде тут не бывали. Но вряд ли мы затеяли все это только из любопытства.
С самого начала у нас не было точных планов, да и не хотелось их придумывать, мы наугад тыкали пальцем в карту Индии, и ехали, не задаваясь вопросами «куда» и «зачем». Все остальное – обстоятельства. Они могли что-то дополнить или изменить, но хозяевами, как нам казалось, всегда оставались мы сами. Сейчас вокруг было только одно обстоятельство – пустыня Тар. И снова главный вопрос – что я тут делаю?
Пустыня, с ее неизбежной тоской и упрямством песчаных бурь, дает больше, чем размеренная жизнь с философским словарем.
Когда, сидя на верблюде, с отекшими ногами, под злым солнцем, спрашиваешь себя – «зачем я тут», пустыня отвечает – «чтобы быть». И это донельзя простое, и, пожалуй, нелепое словосочетание, здесь в пустоте, наполняется огромным смыслом.
Марево от потрескавшейся земли, полукруг горизонта, сливающийся с небом. Гул в голове от тишины. Вода, которая превратилась в кипяток. Все вокруг уходит под мантию Майи. Под покрывалом иллюзий скрывается реальность.
Нельзя сказать, что Тар – красивая пустыня. Красивым может быть силуэт одиноких странников, утопающих в дюнах этой пустыни, но не сама она. Поэтому фраза «красивая пустыня» кажется несколько сомнительной.
В пустынях нет привычной красоты, в них есть что-то другое.
Судьба порой наносит удары, которые человек не в силах понять, и потому принять. Но в пустыне рок показывает себя таким, каков он есть – неумолимым и неподвластным. В этом есть что-то восхищающие и вечное. Тут, в пустыне, проще смириться с судьбой и ее прихотями.
Иов тоже жил в пустыне и после своих несчастий спрашивал Виллада и Софара – «За что мне это?». Иисус, блуждая по Синаю, спрашивал Отца своего – «Зачем Я тут?».
Ночью, когда все вокруг наконец остывает, пустыня открывает небо – мириады звезд и бесконечность – это подарок человеку за его смирение.
* * *
На рассвете, перекусив на скорую руку и выкурив утренний косяк, двинулись дальше. Воздух был прохладным, и ехать было одно удовольствие, на второй день и ноги затекали меньше. По дороге повстречали отару овец с колокольчиками на шеях, их мелодичный перезвон повлиял на Багу, и он затянул какую-то грустную песню.
Мы ехали по новым местам, но ландшафт ничуть не менялся.
Я снова ехал впереди, за мной погонщики. Кашкет, похваляясь полным взаимопониманием со своим Бальбу, все время перемещался в цепочке каравана. Часа четыре ехали без остановок, израильтяне начали ныть и торопить погонщиков, что, мол, неплохо бы уже и чаю попить. В принципе, они бы могли попить воды из своих бутылок, которая по температуре уже приближалась к чаю.
Раза три нам преграждал путь мотороллер с песи-мэном и неизменным мешком холодных напитков. Но все стойко держались и чуваку приходилось нарезать круги, чтобы опять преградить нам дорогу через несколько километров, но никто так и не сдался.
Солнце начало печь не на шутку, и я стал опасаться за собственное здоровье. Погонщики отстали и что-то делили вдали под деревом. Я заметил, что Кеке чего-то совсем сдал и меня постепенно обгоняют все верблюды, и только верный Кашкет нарезал круги вокруг, но спустя пять минут, когда Кеке стал вытягивать шею, а внутри у него что-то забулькало, Кашкет не выдержал и обогнал меня.
Погонщики
Кеке с каждой минутой становилось все хуже, он уже еле плелся, готовый остановиться. Караван маячил далеко впереди, и я не знал что делать. Я немножко приободрился, когда, оглянувшись назад, обнаружил невезучего Кена. Покачиваясь от зноя, он то ли дремал, то ли был в полуобмороке, его замученный верблюд уткнулся носом в зад Кеке и замер. Так мы стояли минут десять, отчаянно призывая погонщиков, которые явно не торопились, и только когда караван превратился в пестрое пятнышко вдали, подъехали к нам. Оказалось, видите ли, Кеке не кашлял и не умирал, а плакал! Так как не обнаружил в караване своего друга – верблюда, на котором отъехал Белял. Верблюд Беляля и Кеке «друзья и друг без друга не могут».
За простой Кеке был наказан пробежкой, но тяжелее от этого было только мне, без стремян я скакал в седле, как Шалтай-Болтай. Японцу тоже досталось, он пару раз чуть было не слетел со своего верблюда, когда тот принялся догонять моего, а когда Кен пришел в себя, голодное животное опять протащило его сквозь колючки.
Наконец, объявили «привал», и все скучились под чахлым деревцем, вокруг которого мы беспрестанно передвигались, чтобы оставаться в тени.
В три часа дня снова расселись по верблюдам. Жара стояла невыносимая. Спустя час израильтяне стали умолять погонщиков вызвать джип или скорую помощь куда-нибудь поближе к нашему теперешнему местоположению. Погонщики при этом ехидно улыбались, а Бага даже не пытался скрыть своего злорадства, пока все не оказались на веранде брошенного дома в захолустной, затерянной в песках, деревушке. Время шло, а джипа все не было. Бага уверял, что все «шанти-шанти», но надежда таяла по мере того, как солнце скрывалось за горизонтом. Наконец Бага раскололся и признался, что джип, скорее всего, прождал нас в другой деревне, куда бы все обязательно доехали, если бы израильтяне не ныли. Роман отправился искать телефон, чтобы выяснить, куда ж девалась машина. Мы остались сидеть на камнях около пустынного шоссе, уходящего вдаль навстречу солнцу.
* * *
В Джайсальмере мы перекусили, купив три бутылки ледяного пива.
Еще по бутылочке пива выпили за Катин отъезд. Завтра в 15:40 у нее поезд до Дели, потом самолет, Москва, март, снег…
Наутро Катя была не в духе, и мы с Кашкетом тайком посматривали на часы. Наконец в три часа пополудни Катерина испарилась из нашей истории. Дав друг другу «пять», мы отправились в wine shop.
Горы
Кто не странствует – тот не знает цены людям.
Арабская пословица«Не поднявшись на высокую гору, не узнаешь высоты неба…»
Сюнь ЦзыНаступил новый день, похожий на предыдущий, хотя каждое утро, неважно где и для чего оно наступило, я считаю новым – не последним, не предпоследним, не тысяча сто вторым, а именно новым. Сегодня я не очень в этом уверен.
«Мы повсюду видим игру жизни и смерти – превращение старого в новое. День приходит к нам каждое утро, обнаженный и светлый, прекрасный как цветок. Но мы знаем, что он стар. Это – сама древность. Это – тот самый день, который принял новорожденную Землю в свои объятия… И между тем его ноги не знают усталости, и глаза не меркнут. Он носит на себе золотой амулет вечности, не знающий лет, при прикосновении которого все морщины исчезают с чела создания. В самом центре мирового сердца стоит бессмертная юность. Смерть и разрушение бросают на ее лицо мимолетную тень и проходят. Они не оставляют следов своих шагов – и юность остается свежей и молодой», – так говорил Тагор, но с ним хочется поспорить – смерть и разрушения оставляют не мимолетную тень и морщины, а шрамы, и утро, случается, для кого-то не наступает вовсе. Для нас, благо, оно наступило.
Флажки-мантры
Утро началось с дождя, который я первым делом определил по звуку, а потом уже увидел в окно. Утренняя роса незаметно переросла в настоящий дождь, который только сейчас начинает отступать. В окно уже просочилось солнце, слышны крики жителей, которые торопятся выйти на улицу, чтобы заняться хозяйством, пока непогода не загнала их обратно к теплым печкам.
Наша печка почти не греет – сосновые, еще сырые ветки, отказываются гореть. От стакана с чаем подымается пар. В маленькое окошко видна гряда гор, по ней лениво ползут низкие облака, осыпаясь снегом на зеленый лес, покрывающий склоны.
Вредная, предательская погода – она затягивает, как капризная меланхолия. В такую погоду, когда дождь то сдается, давая солнцу успеть превратить влагу в пар и покрыть им все вокруг, то начинается вновь, можно не заметить того, что новый день клонится к концу, превращаясь во вчерашний.
Сейчас только два часа – день еще не постарел как следует, можно чем-то занять его, наполнить стараниями, выдумать дела, заботы. Надо отправиться в лес и набрать дров. И что бы там не говорил Рабиндранат Тагор, обычно именно так проходят дни – последние, первые, тысяча сто вторые.
* * *
Основательно промерзнув под дождем, мы вернулись в Ревалсар и сняли дрянную комнатку в общежитии буддийских монахов, которые в своих красных туниках, с четками и бритыми головами трескают momos и смотрят телик в палатке под нашими окнами.
Горы! Никакие описания не смогут передать то, что представляется сейчас моему взгляду – трудно поверить, что это тоже Индия. Индийские Гималаи – это отдельная страна, обособленный уголок планеты. Люди здесь не похожи на тех, кто живет внизу, на равнине, а главное, тебя здесь не замечают. Мы так привыкли постоянно быть объектом внимания, лакомым кусочком, на который индусы тут же налетают, как пчелы на мед, что, когда влезли в местный автобус, и на нас никто не обратил внимания, удивились, восприняв сие как недоразумение. Так непривычно идти по обычной индийской улочке, сплошь утыканной лавками и кафешками, никто тебя не окрикивает, не заманивает, не предлагает свои услуги, даже нищие не пристают со своей обычной назойливостью.
В автобусе
Jari
Общение с местными жителями ограничивается жестами и тремя-четырьмя английскими словами, и зачастую заканчивается полным непониманием с обеих сторон. Например, позавчера я пробрался к берегу священного озера, сплошь перетянутого флажками-мантрами. Когда я фотографировал монастырь, ко мне подошла старушка-тибетка и стала беспокойно что-то рассказывать – я не понял ни единого слова. Я попытался заговорить с ней по-английски, но она ничего не поняла, продолжая тараторить, поминутно указывая скрюченным пальцем на тот или иной храм. Проводив меня до дырки в заборе, старушка с улыбкой что-то прокричала. Всезнающий Кашкет объяснил, что она пожелала нам счастливого пути.
* * *
Вчера весь день лил дождь, горы были окутаны сумрачной дымкой, и пока мы добирались на попутных автобусах по ущелью, нас не оставляло чувство сказочной мистификации от фантастичности пейзажа. Дорога извивалась, огибая русло реки Парвати, вдоль уходящих в поднебесье скалистых гор, ближе к вершинам, покрытым дремучим лесом, снизу похожим на мох.
Автобус несся по скользкой дороге с такой скоростью, что комья грязи с колес летели прямиком в обрыв, постоянно наскакивая на небольшие валуны, указывающие границу дороги. Сидя на переднем сидении слева от водителя, я бесчисленное количество раз прощался с жизнью, пока не привык к подобной езде. Мелькали небольшие переправы через пропасть – два троса, уходящие вверх на другую сторону, с прикрепленной между ними железной корзинкой размером чуть больше обычного ящика. Сначала казалось, что это просто подъемник для переправки продуктов, но после того как из нашего автобуса вышел мужичок, вскочил в одну из таких штук и, ловко перебирая трос, растаял в дождевой мгле, я понял, что это и есть самая настоящая переправа.
Ноги промокли, и мы мерзли как зимой. Однако, выйдя из автобуса, разом забыли о холоде и обо всем на свете. Перед нами раскинулась долина, окруженная отвесными громадами. Приютившиеся у подножья домики казались еле различимыми соринками, людей и вовсе было не видать. Такой контраст масштабов не укладывался в сознании. Из-за далеких темно-зеленых вершин медленно выплывали густые облака, которые словно молоко стекали в ущелье и, рассеиваясь, открывали далекие снежные вершины, сверкающие, как куски сахара в свете восходящей луны. В темном небе загораются звезды и, отражаясь на земле, в ущелье зажигаются деревенские огоньки.
Ночная тишь, далекий лай собак – казалось, все это происходит не с нами. Горы в этой стране – это единственное место, где можно уснуть в тишине. Воистину, как не признать, что боги живут на вершинах.
Устроившись на крыше, вели разговоры за бутылкой виски о величии Гималаев – гидроэлектростанция с гигантской дамбой на дне долины походила на постройку из детского конструктора, мы представляли себе египетские пирамиды у подножья горы, и я долго не соглашался с Кашкетом, отказываясь признавать, что они уподобились бы детским куличикам.
Мысли парят где-то высоко, запутываясь в темных силуэтах скалистых вершин. Москва начинает казаться чем-то посторонним, не твоим, ненужным и мелочным, и все растворяется, рассеиваясь как туман. Спокойствие и умиротворение, спускаясь с вершин, охватывает все естество. Весь остальной мир остается где-то далеко за ущельями и долинами, за горными хребтами, за этими неприступными стенами счастья.
* * *
Проснувшись погожим утром в Джари и еще раз взглянув на манящий пейзаж, решили, не откладывая, двигать в Малану. Поймав попутную «Махиндру», поехали вдоль долины, на дне которой текла шумная, заваленная валунами, река Малана. Солнечные лучи только начали проникать в узкое ущелье с крутыми обрывистыми склонами, освещая огромные, поросшие мхом каменные глыбы и вековые ели с длинными и толстыми, с батон хлеба, шишками.
Дорогу нам преградил огромный трактор и бригада грязных работяг, расчищавших обвал, разбивший асфальтовое покрытие и вырвавший целый кусок дороги. Покинув машину, нахлобучили на себя рюкзаки и двинулись пешком вверх по пустынной извилистой дороге. Вокруг все радовало, удивляло и представлялось каким-то светлым. Опять в пути, мы не сидим на месте и бодро шагаем вперед. Дорога забиралась все глубже в ущелье, солнце сменялось холодной тенью, рельеф гор менялся – сначала это были покатые склоны с дремучим еловым лесом и мшистыми валунами с играющей в редком солнечном луче паутиной, потом начались отвесные скалистые уступы, нависавшие над дорогой гигантскими каменными плитами, с которых на дорогу текли ручьи, и казалось, что вся эта громада вот-вот рухнет. Через каждые полкилометра нам приходилось обходить огромные, величиной с грузовик, осколки скал, или перелезать через насыпь камней очередного обвала. На одном из поворотов нам повстречалась компания горцев, они предложили покурить с ними чиллам, но мы отказались и двинулись дальше.
Ущелье стало сужаться, и далеко впереди вновь показались снежные вершины. Вскоре асфальт кончился, и дорога уперлась в дамбу, за которой виднелся ветхий chai-shop. Здесь нам повстречались маланцы. Испили с ними чайку, разузнав про дальнейший путь – каменная тропинка шла прямо вдоль шумного потока талых вод, кипящего меж гиганских валунов.
Тропа взбиралась вверх по тесному ущелью, становясь все круче и круче. Вскоре она превратилась в ступеньки из плоских камней. Черные дремучие старики с лукавыми глазенками, зеленые заросли, чистейший, холодный воздух, громадные вздымающиеся к небу скалы, брошенные избушки с низкими крышами из плоских каменных плит.
За каждым поворотом я ожидал увидеть первые постройки Маланы. Знали бы мы, что самое трудное впереди, сделали бы продолжительный привал, но вместо этого стали невольно торопиться.
Вдруг тропа резко свернула от реки влево и поползла гигантскими уступами вверх по отвесному склону. Я думал, что это последние метры пути, но, как оказалось, это было только начало. С рюкзаком, теперь кажущимся неимоверно тяжелым, я преодолел полсотни высоких уступов-ступеней, поднявшись над рекой метров на тридцать. Выбившись из сил, я присел и дождался Кашкета, пыхтевшего как паровоз, и кашляющего, как туберкулезник. Сев рядом, он тут же закурил, разразившись уж совсем нечеловеческим кашлем. Обнадежили друг друга предположением, что почти дошли, и снова двинулись вверх.
С каждой ступенькой вид на ущелье, по которому шли пару часов назад, открывался все больше и больше. Вдалеке, почти на горизонте, можно было разглядеть волосок асфальтовой дороги, который начинался за пятнышком дамбы. Я поминутно поднимал голову и смотрел вверх в надежде отыскать какой-нибудь признак этой чертовой деревни, но из-за отвесного склона не видел ничего дальше нескольких метров.
Проклятая тропинка и не думала заканчиваться; издеваясь, она подсовывала нам все новые препятствия. Кашкет отстал, и я видел его метрах в ста внизу. Стало заметно холоднее и светлее, чувствовалось, что хоть медленно, но верно мы приближаемся к вершине. Справа и слева, далеко вверху искрились снежные макушки, на которых теперь можно было разглядеть ели, покрытые шапками снега. Я порядком вспотел, но стоило остановиться, начинал дрожать от холода. Преодолев еще метров пятьсот отвесного подъема, готовый упасть замертво, я услышал блеянье коз и заметил пастухов, которые курили, сидя на корточках, и наблюдали за нашими потугами.
Осилив еще десяток ступеней, я оглянулся на затянутую тучами долину. Собирался дождь. Добравшись до пастухов, я увидел два домика, ошибочно приняв их за начало деревни. Пастухи, двое стариков и двое подростков, подошли ко мне и набросились с вопросами, которых я не понимал и не имел сил на них ответить. Отдышавшись и отплевавшись, я попытался разузнать – это ли Малана… Не говоря ни слова по-английски и тыкая пальцем вверх, они дали понять, что деревня где-то выше. Меня затрясло…
Так началось наше знакомство с местными «недотрогами» – я протягивал им сигареты, но они не брали, – вот бред, думал я, просят сигареты, а даешь – не берут!? Тут я заметил, что дед делает мне знаки руками, будто показывая, какого маленького роста его внук. Сообразив, в чем дело, я положил сигарету на камень, и только тогда он подобрал ее. Сначала дед, а потом и подростки расстреляли таким образом всю пачку сигарет. Как выяснилось позднее, любой физический контакт с человеком не из Маланы – табу.
Тучи завесили небо, и пошел град, величиной с клюкву в сахаре, вот уж к чему я был совсем не готов. Почва под ногами превратилась в глинистую жижу, видимо, еще ночью тут лежал снег. Наконец, Кашкет нагнал меня, и я смог переодеться, точнее – намотать на себя все, что было. Предложив не ждать друг друга, мы договорились встретиться в деревне. Тропа шла все выше и выше, казалось, что я уже в поднебесье. Теперь все чаще встречалось местное население, то пара горцев около костра, то несколько дровосеков, то напуганные тетки с охапками хвороста за спиной. Я буквально плыл в жиже, как где-нибудь в далекой русской деревне по весенней распутице, только вместо сапог на мне были мокрые кеды. Град превратился в снег, и вскоре я уже оказался по колено в сугробах.
Незаметно из метели выплыли первые дома деревни. Двухэтажные деревянные домики с галереями по периметру второго этажа чем-то напоминали древнерусские терема, только крыши были не драночные, а из «каменной черепицы». Вдоль стен высились поленницы дров, а галереи были сплошь увешаны сохнущими пестрыми тряпками. Встречающиеся в закоулках маланцы, заметив меня, отпрыгивали на обочину, боясь ненароком коснуться чужака. Это очень забавляло и, нагнав очередного попутчика, я подошел вплотную и громко крикнул – «Намасте!». Горец лениво повернул голову и, с искривившимся в ужасе лицом, будто увидев дьявола, отскочил с тропинки в глубокий снег, и только поняв, что опасность миновала, расплылся в улыбке и прошепелявил «Намаскар»[105].
Грязные улочки между засаленными деревянными срубами, звериные шкуры на стенах, увешанных охотничьими трофеями, рогами и черепами животных, бревна, покрытые древней резьбой, напоминающей руны, груды молитвенных камней, до которых нельзя дотрагиваться, деревянные ткацкие станки, стоящие прямо на улицах, женщины в ярко расшитых одеждах с серебряными украшениями в ушах и ноздрях, с татуировками на лицах; обросшие, как медведи, злые собаки, готовые разорвать любого на части при первом же знаке хозяина – это Малана!
На улице разбушевалась нешуточная метель, и я ускорил шаг насколько хватило сил. Я вскарабкался на холм, там стояло несколько домов и гестхаус с вожделенной раскаленной печкой. Но он оказался наглухо заколочен и мрачно подмигивал из сугробов темными окнами. Я приуныл, представив себе холодную смерть в горах, где и в дверь то постучать не к кому, не осквернив ее своим прикосновением.
И тут, на выступающем из склона утесе, под ветвями огромной сосны, я заметил нескольких горцев, пускающих по кругу чиллам. Кто-то кричал мне сквозь метель, я пошел на голос и, о боги, увидел на пороге маланской избушки белого человека, который дружески призывал меня войти внутрь. По крутой хлипкой лесенке мы поднялись на веранду второго этажа и проникли в единственную теплую комнату в этом строении. На улице было уже темно. В крохотной комнатке было еще темней. Постояв в тесных дверях полминуты, пока глаза не привыкли к темноте, я стал различать детали. В центре, в шаге от меня стояла маленькая печурка, похожая на нашу буржуйку, с упирающейся в крышу тоненькой трубой. Она жарко потрескивала, подмигивая ярким светом сквозь щели дверцы и конфорок, обстановка отсылала к рассказам Шаламова. Слева на матраце у стены возлежал огромный немец с длинными волосами и в очках, назвавшийся Энди, а справа израильтянин, Рафаэль, которому, по его словам, и принадлежал этот дом.
Несмотря на жутковатость этого душного склепа, похожего на опиумную курильню, он показался мне пределом мечтаний – я был мокрый с головы до ног, адски устал и в этот момент невыносимо хотел есть. Я был приятно удивлен гостеприимству Рафаэля. На плохом английском он велел Энди подвинуться, и он тут же протянул мне стакан горячего чая и шоколадку – все, что было так необходимо в эту минуту. Тут, по маланскому обычаю, я заметил у Энди здоровенный чиллам, который у него не задержался и, побывав в руках Рафаэля после ритуальных криков «Бом Булинат!»[106], перешел ко мне как эстафетная палочка, я и не хотел курить после такого подъема, но отказываться не стал, дабы не обидеть хозяина. В Малане чилламу буквально не дают остыть, сразу же забивая его новым содержимым, под радостные крики «Бом Булинат!». Ничего не зная о маланском ритме курения, я вскоре сильно пожалел, что не притворился некурящим. Я уже знал, что парня справа зовут Энди, и что напротив сидит Рафаэль, и более ничего в этот момент знать не хотел. Однако я уже выкурил с ними четыре чиллама и вздрогнул, когда в дверях вырос черный силуэт Кашкета, о котором я, признаюсь, позабыл за этим занятием.
Малана
С Кашкетом проделали ту же операцию, а дальше все было в каком-то дыму, разговор тек медленно и расслабленно, чиллам ходил по кругу, я продержался до седьмого, а дальше вынужден был отказаться. Вчетвером мы сидели в темноте, у теплой печки. Энди оказался немецким студентом, путешествующим уже седьмой месяц. В Индию он добрался, пользуясь только наземным транспортом, в доме Рафаэля он живет уже четыре дня, и завтра утром собирается двигать вниз в Джари, затем в Дели, и на родину. С Рафаэлем общаться было труднее – он постоянно отвечал вопросом на вопрос и говорил на ужасном английском с картавым израильским акцентом. Я с трудом понял, что он что-то типа хозяина или владельца этого дома. Нас живо интересовал вопрос размещения и ночлега ввиду уже опустившейся ночи и полного бессилия. Когда я спрашивал у Рафаэля, хозяин он этого дома или нет, тот отвечал что-то вроде: «Что ты имеешь ввиду, хозяин ли я!? Я здесь! Живу в этом доме!? Что я здесь делаю? Ты это имеешь ввиду? Это твой вопрос? Но это совсем другой вопрос!». Вначале нам удавалось разговаривать с ним только при помощи Энди, который оказался адекватным человеком и услужливо переводил нам бред Рафаэля, в котором, видимо, уже научился угадывать смысл. Рафаэль же поминутно повышал голос и вообще говорил с какой-то агрессией, все время чем-то недовольный.
Вот что нам удалось выяснить о нем от него самого, и частично от Энди – Рафаэль непонятно с какого бока является хозяином этого «его» дома и живет в Малане уже год. В сезон он сдает здесь комнаты туристам втридорога, раз в месяц ему из Дели привозят какие-то продукты и шоколадки в Джари, а затем либо он, либо пес знает кто приносит все это сюда в Малану. Рафаэль уже три года в Индии, до этого три года пахал в армии на родине, где у него осталась жена, которая ему не жена, что у него есть хороший итальянский чиллам, а тот, что у меня – полный кал, что у него два местных щенка по имени Бам-Бам и Симба, и они лежат за его спиной в углу, но к ним тоже нельзя прикасаться, но не потому что они придерживаются религиозных убеждений, а потому, что этого не разрешает хозяин.
Рафаэль вообще оказался крайне щепетильным собственником, он все называл «своим», не разрешал ничего трогать и даже чай наливал сам, преподнося это не иначе как акт наивысшей дружбы и превеликого одолжения, с оттенком обязанности, возложенной им же самим на себя, ввиду того, что он тут хозяин. Он постоянно повторял: мой дом, мой чиллам, мои собаки. Все здесь принадлежало ему, вплоть до тебя самого, так как ты был его гость! Манера говорить у Рафаэля была грубая, он поминутно останавливался на полуслове, ожидая, чтобы его поняли, но понять его было чрезвычайно сложно, без минимальной помощи со стороны Энди, который, похоже, и сам от него устал.
Весь словарный запас Рафаэля состоял из нескольких английских слов с постоянным вкраплением в речь слов «милега» и «энджи»[107]. Он поминутно затыкал ими бреши в своей речи, подобно русскому деревенскому мужику, пересыпающему свою речь матерными словами. К примеру, прося передать ему стакан чая, Рафаэль говорил «Milega Anji, give me my tea Milega», – а когда наконец получал стакан, то говорил «Milega Anji Milega». Рафаэль постоянно обновлял чиллам, и когда тот застревал в лапищах Энди, дымил из кальяна, сделанного из бутылки, в которой вместо воды была уже какая-то вязкая жижа.
Вдруг, на пороге появился местный горец и, прежде чем поздороваться, прокричал: «Бом Булинат!». Пропустив три круга чиллама Рафаэля и усугубив четырьмя своими, он изложил суть визита. Оказывается, Рафаэль и Энди давеча решили полакомиться мясом и заказали у него барана. Горец пришел сказать, что барана он сегодня резать не будет. Чиллам еще несколько раз прошел по орбите вокруг печки, после чего Рафаэль нарушил молчание:
– Милега Анджи, почему?
– Потому что идет снег, – ответил горец.
Чиллам оказался в руках Рафаэля, и он на секунду замолк.
– Почему нельзя зарезать барана под снегом? – спросил Энди, но вопрос остался без ответа.
– Милега, – вмешался Рафаэль, – если я принесу навес и поставлю над бараном, тогда можно?
– Завтра можно, если не будет снега, – ответил горец.
– Бом Булинат! – раздался вопль Рафаэля. На том и порешили.
Итак, в деревне трое пришлых (не считая Рафаэля), все гестхаусы закрыты, маланцы к себе не пустят, так что лучше не пренебрегать радушным, наидружеским гостеприимством Рафаэля, и погостить у него всего лишь за «двести рупий плюс мелочи на еду». Это «дружеское» предложение явилось приговором, так как выбора у нас все равно не было. Понимая это, Энди сочувственно вздохнул из темноты, сверкнув очками, видимо, он и сам попал на ту же удочку, но смирился со своей участью, что и выразил теперь солидарным вздохом. Наше согласие было встречено приветственными возгласами «Бом Булинат!» и закреплено дюжиной чилламов. Затем Рафаэль удалился готовить нам комнату, которая представляла собой пристройку из тонких кособоких досок с сугробом под окном. Рафаэля не было часа два, и мы разговорились с Энди, попивая ром и в тайне надеясь, что хозяин околел, избавив всех от своего присутствия. Однако он не замедлил явиться с традиционным приветствием, и мы с Кашкетом, едва держась на ногах, поспешили с ним распрощаться и отправились спать. Надели на себя все свои вещи, залезли в спальники и накрылись каждый двумя одеялами. За окном бушевала вьюга, изо рта шел пар, по комнате метались снежинки. Дав обещание утром вытащить друг друга из-под сугробов, провалились в сон.
«Бом Булинат!»
* * *
На завтрак мы получили несколько чилламов и стакан чая. На улице решалась судьба барана. После долгих споров о том, кто будет кончать бедное животное, решили привести специального человека. Вскоре на скалистом выступе рядом с домом, где был привязан черный жалобно блеющий годовалый барашек, собралось человек шесть горцев. Резать договорились после чиллама. Прошел час, барашек по-прежнему блеет, солнце слепит, а чиллам, как опытный спринтер, все не сходит с дистанции. Энди начал нервничать, повторяя, что ему давно пора, иначе он опоздает на автобус. «Бом Булинат!» – и все продолжается в том же духе. Полдень. Горцы наконец-то умертвили животное и, ловко разделав тушку, перебрались на скалу рядом с домом, сев под большую ель и предавшись своему любимому делу. Энди, изнервничавшись до предела, вскинул рюкзак и ушел голодным. Кашкет принял шефство на кухне, состоявшей из ветхого стола в снегу и нашего перочинного ножа. Вскоре подоспел гонец из деревни, который приволок на себе нужные для готовки плова ингредиенты. Затем последовал длинный день, в продолжение которого, было обращено в дым невиданное мной доселе количество гашиша.
Кашкет уже не мог ни видеть, ни слышать Рафаэля, признаться, я тоже. У нас возникло парадоксальное ощущение. С одной стороны, мы находились в необычайно красивом месте – на вершине мира и, одновременно, в противной неуютной атмосфере, созданной Рафаэлем. Когда мы сидели на веранде, свесив ноги в пропасть, не в силах отвести глаз от пленяющего горного пейзажа, а Рафаэль сидел у себя в комнате, и его было ни видно, ни слышно – мы испытывали настоящую эйфорию. Но стоило ему хоть чем-то проявить свое присутствие, и нам тут же хотелось бежать отсюда как можно дальше.
Ближе к вечеру играли в шахматы, пили чай с ромом и безостановочно курили. Мы лишились Энди, который, надо полагать, и сам был рад свалить, а вся положенная ему доза курева автоматически перешла к нам, и часам к восьми вечера мы с радостью удалились спать – я с дикой головной болью, а Кашкет в полнейшем лягушачьем анабиозе.
Проснулись около семи утра, Рафаэль еще спал, но хоровод горцев возле его дома уже вовсю прорезал тишину воплями «Бом Булинат!». Мы взяли камеру и спустились в деревню, где устроили фотосессию. А на обратном пути угодили-таки в засаду горцев у магазина и принуждены были выкурить несколько чилламов, так что дальнейший подъем к дому чуть было не завершился полнейшим провалом. Упаковав рюкзаки, сели на веранде в последний раз насладиться видом да позавтракать на утреннем солнышке, пользуясь сном «хозяина» как подарком судьбы. Вскоре встал Рафаэль, и встал не с той ноги. Он уверял, будто ему отзвонила «жена не жена», и она, мол, двигается в сторону Маланы с какой-то компанией, а у него полный бардак, нет электричества и все в грязи. В свою теплушку он нас не впустил, вынося оттуда поминутно все шмотье, мел веником как безумный, куда-то спешил, и в сердцах чем-то разозлил малюток щенков, и Бимбо тяпнул его за палец. Тут разыгралась целая драма – разъяренный Рафаэль чуть не убил обеих собачек. Сначала он отдубасил их под неистовый вой, а затем побросал в разные холодные комнаты первого этажа и запер. Потом окровавленным пальцем забил чиллам, и мы его раскурили напоследок, будь он неладен.
После чиллама Рафаль заметно подобрел и составил нам дружескую смету своего гостеприимства, сумма оказалась вдвое больше того, что нам приходилось тратить до этого, живя в условиях хоть не настолько «дружественных», но гораздо более комфортных. Заплатив и распрощавшись, двинулись в Касоль. Настроение воспарило до небес, как только дом Рафаэля скрылся из виду.
* * *
Касоль напомнил мне чем-то Арамболь. По утрам мы обычно сидели, греясь на солнышке рядом с индийской кафешкой, и ели paratha. Тут же рядом возилась свора собак, и древний садху, выкуривая очередной утренний чиллам, лупил псов палкой. Те рычали, но покорившись судьбе, убирались подальше, кося глазами и оскаливаясь. Днем, во время дождя, мы покупали банку нутеллы и арахисового масла, твердого сыра, печенья, хлеба и устраивали замечательные чаепития, сидя у печки и наблюдая, как низкие тучи, словно дым, застилают горный пейзаж. В один из солнечных просветов Кашкет сделал вылазку в лес и рассказал, что там «тишь и благодать, и что неплохо бы устроить там пикник в погожий денек».
У магазина. Малана
Следующий день выдался как раз таким, как здесь принято говорить «full power day». Солнце ярко озаряло горы и огромную заснеженную гряду в обрамлении касольских склонов. На небе ни облачка, бабочки порхают в теплом горном воздухе, все вокруг оживает и шевелится, весна наступает семимильными шагами. Кашкет отправился в мясную лавку, а я тем временем зашел в интернет-кафе поделиться своими впечатлениями с друзьями и долго не мог сосредоточиться, окруженный со всех сторон шумными израильтянами. Я с трудом вникал в текст писем и долго не мог претворить свои мысли в слова посредством латинских букв клавиатуры.
Кашкет отправился готовить завтрак на траве, и спустя час я к нему присоединился.
По дороге нам встретились два пастуха, вязавшие не то шарфики, не то носки, пока их овцы скакали по отвесным склонам. Потом встретили мужика с ружьем и собакой. Около шести все-таки забрались на вершину одной из гор. Вид отсюда был великолепный, Кашкет все сетовал на опускающиеся сумерки, торопившие нас в обратный путь.
Следующим утром, оставив свою комнатушку с печкой, мы сели в автобус и поехали в сторону Маникарана.
* * *
Продавец, у которого покупали сигареты, посоветовал нам запастись продуктами впрок, а когда я поинтересовался зачем, он ответил, что магазины в следующие три дня будут закрыты, так как грядет какой-то ревизор или инспекция, в общем… он замялся, – начинается забастовка. Мы не придали этому значения, приняв сказанное за развод, ведь лукавые торговцы пойдут на все что угодно ради выгоды. Но, приехав голодными в Маникаран, сразу пожалели о своей оплошности. Все магазины, лавки и кафешки, даже парикмахерские были заколочены. Не продавалось ровным счетом ничего. Вообще Маникаран предстал перед нами не в лучшем свете, даже подумали о том, чтобы, не мешкая, двинуть в Манали. Обычный грязный городишко своим вымершим видом являл картину, скажем прямо, негостеприимно-мрачную. Однако, сняв на редкость чистый номер с опрятной ванной и всеми удобствами вплоть до огромных окон на реку и на площадь, расслабились и решили задержаться. Горы вокруг были довольно живописными и предвещали интересные маршруты. Дед, владелец отеля, сказал, что у него есть собственная купальня с водой из горячего источника и что мы, единственные постояльцы, можем пользоваться ею двадцать четыре часа в сутки. Спустя полчаса Кашкет уже сидел в квадратной довольно большой ванне с горячей водой, попивая зеленый чай.
Вечером, голодные как волки, мы все-таки отыскали еду. Один из населенных туриками гестхаусов не стал закрывать свою кухню в эти тяжелые дни. Однако все вокруг было объято тайной конспирации. Вкушать разрешалось только во внутреннем дворе, незаметном с улицы, а чаще в пустующем номере в компании таких же оголодавших туристов. Однажды нам принесли еду первыми, и было довольно неловко жадно уплетать ее, чувствуя на себе голодные взгляды остальной братии по несчастью. Поэтому в последующие разы забирались на крышу и, прячась там, ели в одиночестве.
* * *
Изучив окрестности, решили залезть на вершину горы, у подножия которой стоял город. Петляя по узким улочкам в поисках лестницы вверх… о случай! – встретили деда, которого защищали в Арамболе и из-за которого угодили в лапы к нетрезвым индусам. Дед нас не узнал. Он был точь в точь как тогда, в полинялых обносках, и с прежней бородой, украшенной желтым ореолом от гашишного дыма. По обыкновению, он был напрочь обкурен и плутал по улицам, ломясь во все двери. В ответ на наши радостные приветствия дед приблизился и, истерически трясясь от беспричинного смеха, стал шепелявить что-то несусветное. Когда я спросил у него, помнит ли он нашу встречу в Арамболе, дед затрясся еще сильнее, и я смог разобрать что-то вроде: «Да… мол он туда каждый год ездит, а когда становится жарко, приезжает сюда, и теперь, если нам интересно, то у него есть «мега Малана крим». Не в силах далее разбирать его бред, мы пожелали друг другу «булинат» и отправились дальше.
Горы, как всегда, готовили нам приключения. С высокой скалы, нависшей над городом, Маникаран показался нам более привлекательным – копошашиеся у школы дети походили на муравьев, снующих туда-сюда с неимоверной скоростью. Подняв голову, я увидел высоко наверху две скалы. Тропинка поворачивала в другую сторону, и мы принялись карабкаться вверх наобум. Солнце жарило спины, но мы упорно продирались сквозь колючие кусты к южному склону. Над нами кружили орлы размером со здорового аиста, от которых в дебрях колючек прятались обезьяны, похрустывая сухими ветками огромных деревьев. По склонам россыпями пробивались кустики марихуаны, источающие свежий и приятный аромат, но, к сожалению, совсем еще маленькие для сбора. Добрались до скал, но вершиной тут и не пахло, крутой склон полз еще выше, и нам пришлось последовать его примеру, периодически намечая себе новые цели подъема. Вокруг все постоянно менялось. Выбравшись, наконец, из колючек, стали взбираться по гигантским валунам, затем по сухим прелым листьям и вскоре очутились в дремучем лесу с исполинскими елями, окутанными плющом и покрытыми зеленым бархатом мха. Огромные скользкие камни затрудняли передвижение, и мы сами того не заметив, оказались в снегу, а когда выбрались на поляну из чащи, то были потрясены вздымающимися со всех сторон снежными пиками. Борясь с трудностями восхождения, я и не заметил, что добрался до глубокого снега и только тут почувствовал, насколько устал. Пытаясь упростить спуск, забрались в какую-то адскую чащобу с таким буреломом и сугробами, что насилу унесли оттуда замерзшие ноги. Мы долго блуждали, выходя то на обрывы, то на бурелом, натыкаясь на каменные обвалы и отвесные скалы, все еще находясь в поднебесье, как вдруг наткнулись на двух горцев, собирающих хворост. Заметив рядом тропу, пошли по ней и спустя пару часов были внизу. Оставшись без сил, отмокали в ванной, попивая зеленый чай. Тело ныло и отказывалось двигаться, и после двух рюмок рома мы заснули блаженным сном великих путешественников.
* * *
На следующий день на пути из горной деревушки засели в крохотной придорожной забегаловке, непонятно как балансирующей между обочиной дороги и пропастью. Рядом с нами восседал замотанный в плед седой садху с полосатым знаком Шивы на черном лбу. Вокруг него вертелся непалец с банданой на голове. Крики «Бом Булинат» предвещали появление чиллама, и вот он уже в ладонях старика. Приняв участие в церемонии, подарили старику «плюшку» и вскоре вместе погрузились в недра автобуса. Водила включил гремящую индийскую какофонию, и дорога, петляя, понеслась вниз.
Всю дорогу я испытывал приступы здоровой эйфории. Брызги горного водопада, низвергающегося прямо на дорогу, залетали в окна автобуса, запахи горной весны будоражили обоняние, картины местной жизни относили в далекое прошлое. Внутри меня царила гармония и беззаботность, я был абсолютно свободен от проблем, планов и забот. Я просто трясся в автобусе по горной индийской дороге, и понятие времени исчезло из моего сознания. Уже давно мы жили световым днем и начинали зевать, как только опускались сумерки. Привыкнув видеть повсюду улыбающиеся лица, я сам теперь улыбался и здоровалcя с каждым встречным, получая в ответ улыбку и немое пожелание счастливого пути, сердце переполняла безмерная радость, которой хотелось делиться со всеми сразу. Автобус ехал медленно, останавливаясь перед каждым преграждавшим путь стадом коров или овец, в салоне гремела индийская музыка, пригревало солнце, и все спокойно ждали, пока неуклюжая старушка с хворостинкой в руке сгонит упрямых животных к обочине.
Вечером совершили прогулку по уже полюбившемуся городку. Забастовка, наконец, кончилась, городок преобразился, выплеснув на улицы все цвета разнообразных товаров и пряностей.
* * *
Валяюсь на кровати нашей просторной комнаты, из дырки в потолке как волоски из ноздри торчат три курчавых провода. За большим, во всю стену, окном просматривается ночная долина. Горы, усыпанные крошечными огоньками домов, напоминают млечный путь. Рельефа гор не видно и непонятно, где кончаются огоньки домов, а где начинаются звезды – огни неба и земли слились в одном танце. В руках потрескивает косяк, горят свечи, играет Bowie, по комнате разливается аромат гашиша, смешиваясь с ароматом воздуха весенней гималайской ночи – в первого, кто скажет, что так жить нельзя, брошу камень!
Утром, дожидаясь автобуса, мы сидели в давешней кафешке – пара бутылок сока личи и каша. Кашкет пил керала-кофе. Я сделал первый глоток и почувствовал на языке разварившееся кофейное зернышко, выплюнул – таракан. Еще недавно у меня могло бы испортиться настроение от такого события, не говоря об аппетите, сейчас мне было все равно, и, не моргнув глазом, я закончил завтрак.
Закинув вещи в автобус, сели выпить чайку в покосившейся вокзальной лавчонке. Откуда ни возьмись, появилась корова и, несмотря на то, что вокруг было полно места, боком прижалась ко мне так, что мои коленки упирались ей в брюхо. Я никак не мог отпихнуть ее, даже с помощью струйки дыма, который выпустил ей в морду. Кашкет тем временем достал крекер и скормил его животному. Корова, польщенная таким вниманием, совсем распустилась и принялась совать моську мне в стакан. Она и не думала двигаться с места, и мне пришлось протискиваться боком.
Водила врубил музон, и автобус запрыгал по горной дороге. Я сидел и размышлял над тем, что можно привыкнуть к чему угодно и понять многое, только не эту какофонию, оглушительно верещавшую из автобусных динамиков. Путешествие на местном автобусе – это настоящий спектакль. Под оглушительные сигналы гудка и вышеупомянутую «музыку» в салоне появляются персонажи – то веселые крестьяне с мешками риса на спинах, то местные красавицы в ослепительных сари со смущенными взорами, то согбенные закопченные горцы в национальных шапочках и засаленных пиджаках, в карманах которых всегда припрятан кусочек гашиша, бережно завернутый в тряпочку.
Автобус тащился, как черепаха, водитель, видимо, настолько ослаб от своей красной жижи, которая разрывала ему щеки, что ему просто не доставало сил как следует нажимать на педаль газа. Проехали Касоль. На подъезде к Бунтару стало совсем жарко. Мы спустились намного ниже в долину Кулу, молодая зелень окрашивала все вокруг в ярко-зеленые тона. В Бунтаре еле успели перепрыгнуть в другой автобус. Долина Кулу была намного просторней Парвати, здесь, вдоль реки до границы с горами, располагались поля и целые деревни, всему хватало места. Далекие горы, высившиеся по краям на горизонте, растворялись в голубом мареве.
На душе стало как-то свободнее от такого простора, и трудно было поверить, что проехали всего несколько десятков километров. Даже природа здесь была другой – все помельчало и казалось более утонченным, изящным и светлым.
В автобусе была давка, но я прочно сдерживал натиск, крепко приклеившись к сидению, мне наступили на ногу, сдавили плечо сумкой с чем-то тяжелым и холодным, сели на коленку, пихнули локтем в шею. Я на всех взирал и нарочно пялился на особо любопытных индусов до тех пор, покуда они сами не отворачивались. В общем, горные индусы не чета тем, что живут на равнине, здесь все гораздо спокойнее, к ним начинаешь проникаться уважением, а не просто испытывать насмешливую симпатию. Только нельзя питать к ним вражды, как я периодами. В этом случае бывает очень плохо – в стране, где более миллиарда объектов, вызывающих твое раздражение, скрыться некуда, бесить начинает абсолютно все, и можно довольно быстро сойти с рельсов. Но последние время все чаще меня бесят турики, а не индусы. В таких случаях надо вставать на сторону туземцев, пытаясь смотреть на происходящее их глазами – тогда турики кажутся такими смешными, что начинаешь понимать безудержное веселье этого народа при виде европейцев.
Вот и сейчас автобус заехал в самое сердце автовокзала в Кулу, а турики, севшие где-то в Джари, высыпали кучкой на знойный воздух автовокзала. Один из них – вспотевший и взъерошенный – начал пытать водилу вопросами о том, сколько мы здесь простоим и успеет ли он пожрать, водитель молча качал головой, раздувая щеки от переполнявшей рот красной жижи, было предельно ясно, что он в ожидании эффекта, когда дрянь ударит в мозг. Взъерошенный тип, не замечая этого, подумал, что был не понят или намеренно проигнорирован, отчего вспотел еще больше, и принялся объяснять на повышенных тонах, что хочет съесть тали, мол, хватит ли ему времени. Довольный эффектом, водила длинной струей исторг жижу вон и, брякнув «десять минут», занялся новой порцией бетеля, а голодный турик побежал к закутку с горкой самос и сладостей.
* * *
Приехав в Нагар, сняли комнату в «Galaxy guest house» за сто рупий. Гестхаус стоял на склоне чуть выше основного городка и отсюда открывался замечательный вид на всю огромную долину. Комната была просторной и светлой со створчатыми окнами во всю стену. Можно было целыми днями валятся на кровати или просто сидеть у открытого окна и, как из сторожевой башни, рассматривать окрестности и людишек, суетящихся внизу. Устав от ежедневных восхождений, ноги требовали покоя, и все, чего нам хотелось – это посидеть денек-другой в уютном месте и почитать книжку.
Прямо под окнами, чуть ниже дороги, строят дом. Пока не ясно, сколько этажей в нем будет – сейчас готов скелет первого: четыре комнаты, коридор, вход. В стены, наполовину выложенные из кирпича, уже успели вставить деревянные рамы.
Стена брошеного дома в окрестностях Нагара
Женщина колет кирпичи молотком и размешивает цемент прямо на земле, другая, в сером платке и зеленой безрукавке передает кирпичи мужчине в клетчатой повязке, обмотанной вокруг головы так, будто у него болят зубы – он выкладывает стены. Раствора он кладет едва ли не больше, чем толщина самого кирпича, потом несколько раз ударяет лопаткой по уложенному ряду и принимается за новый. Еще один мужчина – седой, в шлепанцах, повесил куртку на куст и уселся, скрестив ноги – у него хорошая работа, он за всеми наблюдает. Он даже ничего не говорит, не советует, просто переводит взгляд с одного работника на другого. Похоже, что никто из них ничего не смыслит в строительстве и, тем не менее, я уверен, они в скором времени достроят этот злосчастный дом, и он будет стоять тут еще лет десять, тридцать, сто.
Рядом со мной сидит Арсений, ловко обрывая гроздь винограда, чавкает и хрустит, он не видит, как идет строительство, смотрит вдаль на горы. Прямо перед нами несколько снежных вершин, они отражают солнечный свет, глядя на них, приходится щуриться. Хрумкая виноградинами, Арсений то и дело моргает, от удовольствия он даже улыбается. Я тоже отщипнул несколько зеленых ягод – они плотные, сладкие, когда их дожевываешь, остается привкус спелого яблока. Особенно здорово запихнуть в рот штук пять – мне совсем не жалко тридцати пяти рупий за четыре грозди. Час назад я купил его в магазине возле строящегося дома. В этой лавке никогда не бывает покупателей, и продавец, склонившись над корзинами, мешками и ящиками, часами перекладывает фрукты и овощи с одного места на другое.
Арсений улегся на кровать, свернулся рогаликом, зачем-то надел капюшон шерстяной куртки на голову и скорей всего уже заснул, по крайней мере, молчит. Пока он спит, я доем весь виноград. Как только я об этом подумал, Арсений зашевелил ногами, встал и, не снимая капюшона, сам все доел.
Вообще странно сидеть в номере с видом на долину, снежные горы, улицу с овощной лавкой и недостроенным домом, есть виноград за тридцать пять рупий и думать о том, что тут в этом же месте пятьдесят семь лет назад умер Рерих, которого все здесь называют Рорих.
* * *
Музей Н.К. Рериха закрыт – это, пожалуй, первый раз, когда мы пожалели о том, что не помним дня недели.
На полдороги тропинка разделилась, и я вздумал забраться на вершину, хотя и было лень, ноги еще помнили недавние подъемы и слушались неохотно. Кашкет пошел по пологой тропинке левее. Горы действуют поразительно – когда поднимаешься, хочется залезть обязательно на самый верх. Так и сейчас, распрощавшись с Кашкетом, я продолжал подниматься и уже прошел все предполагаемые мной вершины, а тропа все стремилась вверх. Наконец я вышел на небольшую опушку, заросшую маленьким ельником – вершину той горы, куда и стремился. Солнце жарило, и я сел в тень от куста. Отсюда открывался тот же вид, что из нашего гестхауса – только было видно всю долину с вырастающей на севере снежной грядой. Вокруг меня валялись кучи коровьих лепешек. На одну проросшую травой лепешку села крупная бабочка, и я подумал как она красива, и как это по-индийски – красота в дерьме. Восхитительно!
Полный мыслей на эту тему, я заметил на склоне в сосновом лесу Кашкета, прикованного взглядом к снежным вершинам, видать, он нашел другой путь. Присели покурить. На далеком склоне перед нами лепилась живописная деревушка, похожая на Малану. Внизу шумел водопад, чуть выше над ним горец колол топором исполинскую сосну. Временами он пропадал за гигантскими чурбанами, рядом стояла женщина в национальном одеянии и молча смотрела на горца. Солнце закатилось за гору, намекая, что пора бы обратно.
Перекусив в дорожной объедаловке возле рериховской галереи, где по столам сигали птицы, отправились вниз пешком. По дороге пристал местный парень, спросивший время, – нелепый предлог для барыги, мы разговорились. Он рассказал, что любит забраться повыше и покурить где-нибудь на утесе, а потом спуститься вниз пешком, не потому что его пленяет величие нагарских ландшафтов, а потому что нет мопеда. На развилке дороги, где наши пути расходились, он прочел нам лекцию про Манали, в котором совсем не «шанти» и нет такого простора, как в Нагаре и где много туриков, наркоманов, которые знай только твердят: «brown sugar», «ecstasy», «lsd», а потом ходят как зомби, и что местные в Манали тоже стали «crazy». Парень поведал нам, что в прошлом году у него в доме жили русские, вот они, мол, настоящие шанти-мужики. Развод не удался, и плюшку я у него не купил, тогда он удостоил нас второй лекции о том, как выращивают марихуану в Манали и Нагаре – это было куда более познавательно, и мы простились друзьями.
* * *
Ром, как и все в этой стране, непредсказуем, ибо я проснулся в шесть утра с дикой головной болью. В открытые окна влетала пронзительная мелодия, не успевая закончиться, она начиналась вновь. Какой-то абориген, видимо, решил выжить нас из Нагара. Каждое утро лавка с аудиокассетами индийской попсы открывается раньше всех, в шесть утра, и продавец заводит музыку на всю катушку. Мы находимся в двухстах метрах от нее, и если оставлять окна открытыми, можно сойти с ума.
Через час мелодия сменилась на другую, такую же идиотскую. Вдобавок возле дома завыли псы, собаки здесь выясняют территориальные вопросы так же, как и люди: десяток псов собираются в кружок – морда к морде и начинают ожесточенно облаивать друг друга, брызгая слюной. Кто всех перелает, тот победил. Подобно туземцам, место для сходок псы выбирают самое неподходящее и в самое неподходящее время. Сейчас дюжина блохастых кабысдохов расположилась прямо под нашими окнами. Я лег на бок и закрылся подушкой, стало жарко, я снял подушку и закрылся спальником. Стало душно. Лег на спину, открыл глаза – голова болит, музыка орет, псы не унимаются. Стараюсь этого не замечать, я же в Индии, а тут всем на все плевать. Пытаюсь успокоиться – когда же эти твари умолкнут!?
В общем, встал я не с той ноги.
Мы вновь поднимались по дороге к музею Рериха. Все вокруг меня бесило в это утро, кроме горного пейзажа – если б не он, то я бы, наверное, набил морду владельцу аудио-лавки и перетаскал за моськи всех шелудивых псов! В Индии так случается – проснешься в один прекрасный денек, а тебя бесит абсолютно все, и в особенности местные жители. Нельзя же, чтобы каждый Божий день тебя все радовало, вот судьба и придумала один выходной – сегодня как раз такой. У кассы музея толпилось несколько русских, каких-то нелепых индивидов и с такими лицами, что даже стало «за державу обидно». Я уже был готов сорваться на них, но Кашкет меня удержал, и мы просто злорадно нахихикались.
Не знаю, утро ли тому виной или галерея Рериха и впрямь отстой, но мне тут все не понравилось, включая рериховские работы. Я вышел оттуда еще мрачнее, чем был. Теперь меня могло успокоить только одно – вкусный завтрак. Но надо ж такому случиться, что и завтрак оказался дрянь. Первый раз в жизни я пил не просто плохой ласси, а скажем без обиняков – отвратительный. Ласси готовится из курда и должен быть густой, как йогурт. Если представить, как делается творог, после которого остается желтая кислая жижа – то вот именно это нам и принесли. Босс кафешки поминутно выглядывал из кухни и спрашивал «Food is good?»[108]. В обычный день я б из вежливости сказал что «ок» или кивнул. Но тут я даже напугал его, сказав, что его ласси в этот солнечный весенний денек похож на самый жидкий стул самого безнадежно больного дизентирией туриста.
По дороге домой к нам привязался какой-то нервный тип в образе Ханумана[109], индийского бога – царя обезьян, который в незапамятные времена повел свое обезьянье войско, чтобы вытащить Шиву из какой-то передряги. Чертами и мимикой он действительно походил на обезьяну. Сзади к его оранжевой мантии, изображая хвост, был прикручен кусок проволоки, загнутый кверху. Он все время подпрыгивал и делал резкие движения, чем даже испугал меня, выскочив на нас из-за дерева. Он явно не понимал, что шутит с огнем – я был не в духе. Кашкет всучил ему пять рупий, чтобы «Хануман» только отвязался, но тому показалось мало, и он еще долго подпрыгивал нам вслед, мне стоило больших усилий удержаться и не оторвать ему хвост.
Вернулись в отель, попили чайку и решили ехать в Манали. Прощаясь с добрым боссом отеля, купили у него кусок твердого за сто рупий, а его другу Кашкет подарил свою грязную футболку, которую собирался выкинуть, друг был счастлив и, утирая слезу, долго не выпускал Кашкета из объятий. В ожидании автобуса устроились в придорожной кафешке и закурили косяк, который оказался… – автобусы проходили мимо, а мы все заказывали чай, но вот, наконец, подошел наш черед. Это был четвертый или пятый по счету автобус, на котором нам удалось покинуть Нагар.
* * *
Несколько дней кряду ограничиваемся походами по недалеким окрестностям Олд Манали. Тихие, кривые, скользкие от ручьев улочки, веселый люд, ткацкие станки на крышах, все пропитано неспешностью пробуждающейся весны. По утрам белое небо спускалось в деревню, а снежные вершины кутались в серую дымку.
Хозяина отеля, где я и мой друг мерзли третий день, звали Эм Си, так он сам себя величал и так нам представился, не распространяясь более подробно об этимологии своего прозвища. ЭмСи чем-то напоминал несколько пополневшую бабу Ягу из советских фильмов и одновременно застенчивого джина. На вопрос, сколько ему лет, он пожал плечами, помолчал и неуверенно ответил: «Twenty five».
На улице начался дождь. ЭмСи предложил нам попить чайку внизу у него на кухне в отдельном домике с плиткой, газовым баллоном, кроватью и полками с посудой. Мы сидели втроем, жуя печенье и неспешно болтая. Для меня это было не так просто – после щедрого хозяйского чиллама я с трудом разбирал, что мне говорит ЭмСи, он был точно в том же состоянии – это я понял, когда он взялся готовить «Black tea». ЭмСи тремя пальцами кинул крошечную щепотку заварки в гигантскую кастрюлю, затем залил ее холодной водой и, не дождавшись пока вода вскипит, бухнул туда полкило сахара. Немного помешав ложкой в кастрюле, он разлил нам по стаканам почти прозрачную воду с желтоватым оттенком. Слова путались, и мы вскоре распрощались, сославшись на то, что хотим спать.
Кровать в нашей комнате стояла в нише, а колонки на полу в отдалении, звук так странно разливался по комнате, отражаясь от стен, что нельзя было угадать, где находится источник звука – музыка была повсюду. Я долго лежал и слушал старину Моррисона, дождь все моросил, шурша каплями по крыше. Под утро дождь зарядил не на шутку, небо стало темным и серым, далекие горы пропали из вида, и можно было разглядеть только ближние склоны.
* * *
Весь следующий день у меня болел живот, я валялся дома под десятью одеялами и читал. Кашкет сделал вылазку в New Manali[110] за бананами, но подозреваю, что ему не терпелось отведать mutton momos. По возвращении он отверг эту теорию, сказав, что это не было целью, а лишь вторичным стимулом, от которого он не смог удержаться, а главное – он зашел в парикмахерскую, где, счищая его окладистую бороду, несчастные парикмахеры затупили полсотни бритв. Там же на нем опробовали массаж головы. «Прекрасная штука! – сказал Кашкет, – Сначала бьют кулаками по макушке, щиплют за виски и вправляют шейные позвонки, напоследок давят на глаза, дергают за руки и хрустят пальцами. Мне втерли два литра крема в физиономию и надавали пощечин – это завершающий этап массажа лица!».
Вечером, только я собрался вздремнуть, вошел ЭмСи с традиционным намерением дунуть. Я отказался, и они с Кашкетом дымили вдвоем, глумясь надо мной, закопанным в одеяла.
Дождь продолжал барабанить по крыше, с каждой минутой только усиливаясь. Комната наполнилась сыростью и холодом, изо рта шел пар. Кашкет стал нем как рыба, и все нелепые вопросы ЭмСи посыпались на меня. Он не был большим знатоком английского, и чтобы понять его, требовалось немало воображения и сноровки, я тяготился этой беседой, надеясь на то, что ЭмСи скоро уйдет. Повисла долгая пауза, играла музыка, и было слышно, как несколько ночных бабочек бьются о неоновую лампу. Будто в сговоре с дождем ЭмСи, и не собирался растворяться. Чтобы хоть что-нибудь сказать или вследствии того, что сказать было нечего, он стал в пятисотый раз предлагать нам свой новый тостер и одеяла, которых у нас уже имелось штук по пятнадцать у каждого:
– If you want more blankets, no problem, just tell me… If you feеl cold, just tell me, I give you more blankets, four, five, six, no problem.
– Thank you, MC, we are OK, we have enough!
Пауза минут на пять.
– ОK! But four, five, no problem, just tell me, I bring to you … no problem.
– Thank you, man, we are fine…
Пауза.
– You can make toast, no problem, just tell me, I have new toast machine, you can take here, no problem.
– Thank you, MC, we know that, we’ll take it some day[111].
Разговор шел таким образом около получаса наконец, исчерпав весь запас предложений, ЭмСи затушил сигарету в пепельницу из половинки кокоса и откланялся, напоследок обнадежив нас завтрашним визитом.
Моррисон и дождь вновь заполнили собой все пространство, заглушая шквальные порывы ветра. Капли то дружно шелестели над головой, то градом обрушивались на железную крышу. Вскоре начался настоящий ураган, молнии вспыхивали с такой интенсивностью, что темнота ночи не могла втиснуться в крошечные промежутки между ними и занять свое законное место. Тени предметов карабкались по стенам и потолку, перекрывая друг друга, складываясь в причудливые картины.
– Спишь? – спросил Кашкет.
Мы сели у окна и закурили. Молнии сверкали со всех сторон, освещая в ночной темноте силуэты гор. Кашкет представлял все происходящее как пакистанскую бомбежку на границе Индии, ему вообще все время снится война или какой-нибудь криминал – то его убивают в джунглях дикие туземцы, то он подрывает танк, выползая на одной ноге из окопа, или что он, солдат героического подразделения, косит врагов из пулемета. Громовые раскаты отдавались эхом в горах, казалось, они вот-вот рухнут, поглотив все своей каменной массой.
Дымит палочка благовоний, изо рта идет пар, сидим на полу около низенького стола, закутанные в четыре одеяла, пьем чай и все равно мерзнем.
Сегодня, один из самых холодных дней, ближайшие склоны покрылись снегом. Легкая белая поземка плавно обнажает зелень только у самого подножия гор. Две белые птицы кружат на фоне заснеженного склона, теперь я понимаю что значит – «no season». Вдруг у меня промелькнула мысль, что всего пару месяцев назад мы выехали из Варанаси, а кажется, что это было в другой жизни. Диву даюсь, как странно течет время в этой стране! Вспоминаешь недавнее событие, а, кажется, что это случилось в прошлом году. Сколько событий, сколько всего разного приключилось за эту поездку, и она еще не закончилась – ну разве не восхитительно! В Москве все события привычно укладываются в строгий хронологический порядок. Здесь же события спорят друг с другом, теряются в подсознании, всплывают и играют с тобой в угадайку. За пару месяцев ты проживаешь несколько лет.
* * *
Ослы, тоже помоечные животные, не хуже собак, кошек и коров с козами – несмотря на свои философские морды, они не гнушаются рыться в кучах мусора в поисках объедков. Я от них этого не ожидал – им пристало жевать луговую, свежую поросль на горных склонах, а они шляются по помойкам. Конечно, голод – не тетка, но все же обидно: упрямое, милое животное, и все туда же.
Мусорные контейнеры
И то, что твориться вокруг помоек, заслуживает внимания. Тот же осел, например. Сегодня я видел, как он вместе с маленьким лохматым щенком сновал вокруг оранжевого контейнера с надписью «Manali garbage», на крышке которого невозмутимо сидела мартышка. Щенок, не знаю, чего он искал в вегетарианских отбросах и картоне с пластиком, был раз в двадцать меньше осла.
В целом, индийские отбросы – это верх извращения: за тысячелетним храмом – гадят, посреди живописной горной тропы – кучка дерьма, возле палатки со сладостями – сток зловоний из соседней сыроварни. Если в Дели, например, собак, коров и коз воспринимаешь просто как «пылесосы», то на фоне Гималаев все видится иначе, хотя я до сих пор не могу понять, как можно съесть пустую пластиковую бутылку и разродиться молоком? Неясно.
В любом случае сегодняшняя картина показала мне, что суета вокруг помоек – этакая философия – это и метафора, и намек, и едкая ирония: одни живут за счет отбросов других, вторые воротят нос от первых, третьи делают вид, что не замечают ни тех, ни других… Так можно продолжать и продолжать, но стоит взглянуть на осла, снующего вокруг помойной ямы у склона снежной горы и сразу понимаешь: «Ничего особенного – жизнь, как жизнь, и неизвестно, какому ослу лучше – тому, что в горах ест свежую травку и таскает хворост, или его плешивому собрату у желтого контейнера, на которого сверху взирает невозмутимая мартышка».
* * *
ЭмСи взял за правило навещать нас ежедневно, вчера мы таки взяли у него тостер, но сегодня он явится опять, чтобы еще что-нибудь предложить. Впрочем, когда ЭмСи не нужен – он тут как тут, а когда нужен – его нигде нет. Дело в том, что Кашкет купил курицу, и нам срочно надо открыть кухню, на дверях которой сейчас висит замок. А ЭмСи канул в лету и не появляется. Курица, тем временем лежит обернутая в газету, между мной и тостером. Тостер, кстати, оказался наиудобнейшей штукой, мы даже пожалели, что сразу не вняли уговорам хозяина. Это не железка с дырками для хлеба, которая сжигает куски до сухарей, либо выстреливает ими, куда ей вздумается, а штуковина типа складной сковородки с покрытием, туда можно свободно запихнуть бутер из двух кусков хлеба с сыром и помидорами. В довершение чудес на ручке имеются две лампочки, красная «Power» и зеленая «Ready». Несмотря на то, что ЭмСи уверял, что тостер недавно появился на свет и еще не использовался, зеленая лампочка уже не фурычит, в чем я вчера, доверившись электронному разуму и вере в прогресс, к сожалению, убедился, получив первый блин комом, точнее – первый бутер сухарем. С Кашкетом, правда, легко путешествовать – он всеяден, желудок, как терминатор, истребляет все без остатка, не выказывая неудовольствия, так что горелый бутер не был исключением и не пропал зазря.
– Нема! – говорит Кашкет, глядя в окошко на закрытую кухню, в которой обычно есть люди, если босс дома. Вчера, когда я искал ЭмСИи, чтобы попросить его нагреть воду, дабы постирать наконец кой-какие шмотки, мокнущие в ведре уже неделю, мне сказали, что «MC went market»[112].
* * *
Вчера было нашествие ночных мотыльков. С наступлением темноты тучи этих насекомых ринулись всей своей популяцией на свет электрических ламп и фонарей. Это явление запросто могло бы стать сюжетом для хичкоковского триллера. На беду именно это время выбрал ЭмСи для своего визита – насекомые буквально внесли его в комнату. Я принялся их отлавливать, если этого не сделать, то ночью рискуешь, как минимум, проглотить несколько штук или не заснуть от шлепающихся на лицо тварей. Но как только я открывал дверь, чтобы выкинуть двух, влетала дюжина. Вскоре я оставил эту затею, а ЭмСи сел на стул под лампой и стал похож на грязного мексиканца из мультиков, над шляпой которого все время вьются мухи.
В Индии в каждом новом месте всегда есть что-нибудь свое, назойливое и неистребимое. В Гоа и на Юге – это муравьи. Стоит только капнуть на пол кока-колы, или уронить кусочек банана, не пройдет и пяти минут, как откуда не возьмись, является полчище мелких муравьев, вытянувшихся в длинную цепочку. По ней без труда можно определить место проникновения, но как не пытайся отрезать пути к отступлению и передавить злобных букашек, тем самым изрядно попортив свою карму, они все равно ползут и ползут так до тех пор, пока не вытрешь марганцовкой все следы сладкого.
В Варанаси – это комары. Их немного, и они микроскопические, кажется, будто их нет вовсе, и поэтому не предпринимаешь никаких действий. Но с наступлением темноты эти неуловимые паразиты могут довести до сумасшествия. Можно даже начать злиться на вещи отвлеченные, не имеющие к комарам никакого отношения, например, на храп Кашкета, а это все мелкие москиты, мрачные букашки – это все их вина, уж я точно знаю, поверьте. Самое безобразное с их стороны – это их неблагородное поведение! Нет, чтобы позвенеть как следует над ухом, выиграть схватку с ладонью и, прицелившись на глазах у восхищенной жертвы, уязвить в самое видное место, как это делают наши деревенские комары. Например, у нас в деревне, где большинство погибает в честном бою, я разрешаю некоторым, заслужившим своей смелостью комарикам, вдоволь напиться крови, а когда они испытают наслаждение, набив пузо, я их конечно отправляю на тот свет; таковы законы природы – сильный побеждает слабого, око за око, зуб за зуб… А вот индийские комары пробуждают во мне только злобу – они предательски, бесшумно летают и кусают практически незаметно. Как только чувствуешь укус и хлопаешь по уязвленному месту рукой – мерзавец уже далеко. Но самое противное – укусаное место дико чешется в течение нескольких часов и, если не владать собой в должной мере, то можно все так расчесать, что потом милостыню будут подавать.
Мотыльки, пожалуй, самые безобидные из этих зол. Уже вечер, и они танцуют кверху лапками по раме с другой стороны стекла. ЭмСи так и не появился, курица перекочевала в ванну на холодный подоконник, а наш ужин состоял из тоста с сыром и помидорами. Сегодня с едой вообще какие-то подвохи, даже бананы оказались несъедобными, твердыми, как картошка, и совсем не зрелыми. ЭмСи, судя по всему, загулял. Когда часа четыре назад Кашкет ходил наводить справки у родни, ему сказали, что ЭмСи пьет пиво с друзьями и вскоре ожидается. Ожидается… все еще ожидается.
* * *
Один шаг мог бы изменить многое в жизни. Так думают когда уже поздно, когда кажется, что можно было бы его вовсе не делать, можно было бы вообще сидеть дома и никуда не выходить.
Я ненавижу отсрочки и ожидания – они не только портят аппетит, но и изматывают как горные переходы. Была б моя воля – я б упразднил их.
Можно, как «премудрый пескарь» Салтыкова-Щедрина, не вылезать из своего убежища, лежать в нем и глазеть на все с одной точки, видеть мир в одно отверстие и знать о нем все, что полагается знать «премудрым пескарям». Это, наверное, даже приятно – лежать так и неспешно смотреть вокруг своей норы.
Ожидание всегда связанно со спешкой – если чего-то ждешь, значит либо поторопился, либо уже опоздал. И главное тут – вовремя понять – опоздал ты или слишком быстро бежал. Отсрочки коварнее – они, как плохая память, не вовремя и некстати. Еще хуже, когда о чем-нибудь, о чем так долго забывал, напоминают другие.
Зачем обычно рассматривают предмет с разных точек? Посмотрев с разных сторон, повертев так и эдак – изучают, определяя брать – не брать, нужно или не нужно, дарить или не дарить. Другие не станут заботить себя подобными пустяками, им достаточно смотреть на все через свою дырку в норе и считать пузыри, когда в нее ничего не видно. И они часто оказываются правыми – всего вокруг не увидишь, не пересмотришь, не пощупаешь. Зачем вертеть свою жизнь, приглядываться к ней, проверять? Ее не купишь и не подаришь, она не может нравиться или не нравиться, на ней нет пробы, и она не играет на свету.
Ожидание – это всегда время: потраченное, потерянное, текучее или пролетевшее – это всегда звук часовой стрелки, еле слышный отсчет чего-то до какого-то события, неважно, пустякового или отчаянно значимого.
Сейчас я тоже в ожидании – свое время я убиваю тем, что расписываю эти страницы черной ручкой, лежа на не очень чистом шерстяном одеяле – оно пахнет пылью, сыростью и стиральным порошком. Время течет средне – не быстро, но и не мучительно медленно – сейчас оно как обычная река – течения не видно, но стоит присмотреться к какой-нибудь соринке у берега, и оно становится заметным. Это не очень тягостное ожидание, и все же я ненавижу ждать. Сейчас я жду друга – этот «премудрый пескарь», как и я, убил все свое время, лежа на грязном одеяле и исписывая страницы. Вот он закончил и начинает собираться – встает, ищет обувь, вздыхает, говорит, что «написал тридцать пять страниц» и добавляет: «Вот что значит не писать пять дней!». Значит, я ждал тридцать пять страниц – это время требуется моему другу для того, чтобы нагнать пять дней. Значит, он тоже ждал – интересно, опоздал или поторопился? Я не знаю, но теперь он ждет меня – ходит по комнате, громко дышит в нос. Он больше моего не любит и не умеет ждать. Пора выходить.
Все-таки мы не совсем «мудрые караси»; может быть, и не стоит рассматривать жизнь как безделушку, которую вертят, перед тем как купить, но считать пузыри, лежа на дне, еще тяжелей. Вдруг ничего не будет, ничего не произойдет и придется лежать дальше… ждать чего-то, пока не надоест, пока не привыкнешь к такому ожиданию, пока оно не станет незаметным, прочным, обычным. Надо торопиться – друг заслонил мне единственную тусклую лампочку: что-то втыкает в розетку – так можно испортить зрение. Он дает мне отсрочку, говорит – «я пойду в туалет». Сейчас я об этом забуду, а когда он вернется – напомнит мне об этом. Да, все отсрочки, даже такие нелепые, коварнее ожиданий – они внезапны и малоприятны.
Я уже исписал четыре страницы – этого обычно хватает, чтобы заморочить себе голову и забыть о том, что начал писать всю эту ерунду только для того, чтобы не ждать.
А ведь я мог бы с самого начала не ждать, не писать, не слышать щелчков секундной стрелки на своих часах, мог пойти гулять, мог бы…
Вот он вернулся, теперь торопит он. Ему некогда. Мне, наверное, тоже.
* * *
Так и не дождавшись ЭмСи, легли спать. Он появился около девяти утра, необычайно удивленный тем, что мы только проснулись. Кашкет тут же отправился на кухню варить курицу, а ЭмСи тем временем приколотил косяк. Сегодня намеривались погулять в горах, но не знаю, что ЭмСи положил в косяк, только я прирос к кровати и не мог не то что в горы, а и до двери дойти. Я сидел и слушал подряд все, что играло в плеере. ЭмСи спустился вниз проверить, как идут дела на кухне.
Погода была промозглая, так что я принялся кутаться с головой в одеяла, которые в неимоверном количестве были навалены рядом. Вскоре согрелся, но ноги все равно продолжали мерзнуть, так что я повалился набок поперек кровати, закутанный яко бомж в дюжину одеял. Как назло музыка прекратилась, а сил встать и поставить что-то еще просто не было. В таком виде меня и застал Кашкет, ничуть этому не удивившийся. Он рассказал, что все понял, когда на кухню спустился ЭмСи и прирос к стулу, разговаривая со стенкой.
Расправившись со злосчастной курицей, я пришел в себя, и мы отправились в горы, вдоль речки… Кашкет бодро взбирался по тропке, вьющейся мимо гигантских скалистых кусков, я еле плелся. Порядком выдохнувшись, уселись на верхушке огромного камня, нависшего над ущельем. Отсюда открывался замечательный вид, жалко только, что облака и туманная дымка скрывали снежные вершины. Холодный моросящий дождь скоро загнал нас обратно домой.
* * *
В холод туго думается. Всю ночь и все утро шел дождь, иногда с грозой, иногда чуть ослабевая, но все время. Он идет и сейчас, и думается действительно неважно. На мне шерстяные носки, две куртки, шарф, и я все равно мерзну, от этого в голову лезут мысли о чем-нибудь теплом: горячем чае, курином бульоне, солнце, комнате с камином или хотя бы с тандури. Про остальное как-то не думается.
Вчерашние зеленые горы снова покрыты снегом и клубятся так сильно, что заслоняют солнечный свет. Эти испарения – плотные и белые – закрывают все небо: нет ни облаков, ни солнца, ни голубовато-синих просветов. Такое небо утомительно однообразно. Можно подумать, что неба нет вовсе – я сижу прямо в облаках. О небе напоминают усиливающиеся порывы ветра с дождем – откуда-нибудь он все-таки должен дуть, а капли – падать.
Вчера, перед ливнем, я видел, как тысячи белых бабочек перелетали через реку, с одного склона на другой, густо поросший густым сосновым лесом – они прятались от надвигающейся грозы.
Сегодня утром, взглянув в окно, я увидел стаю ярко-красных попугаев – короткими перелетами, с дерева на дерево, они летели вдоль реки. Буду надеяться, что они, в отличие от бабочек, предвещают солнце и тепло. Вот тогда можно будет подумать, а сейчас это практически невозможно.
Весь день как белая ночь. Попугаи не оправдали надежд – внизу, под окнами, туда-сюда, по-прежнему, ходят зонтики, в основном черные, и это угнетает еще больше. Сегодня плохой день… А многое нужно для того, чтобы назвать целый день плохим – для этого нужно, чтобы ко всему прочему прибавилось какое-нибудь предчувствие, и такое, как назло, есть. Теперь самое главное – дождаться утра, а там, посмотрим, может, всему виной белые бабочки и красные попугаи, черт его знает…
* * *
Мы устали мерзнуть и надеялись, что в Дарамсале, расположенной ниже Манали, будет теплее.
Как назло, в день отъезда нас разбудило солнце, и погода стояла прекрасная. Греясь на веранде, играли в шахматы и попивали чаек. Время от времени приходил ЭмСи, напоследок презентовали ему какой-то совковый значок, из коллекции Кашкета, часть которой он таскает с собой для подобных случаев. Расстались друзьями, ЭмСи дал карточку гестхауса приятеля в Дарамсале, традиционно расписав небывалые удобства и прочие преимущества.
На стоянку мы явились слишком рано, автобус был пуст, в конце салона валялся пьяный в зюзю индус. Как только я втиснулся с рюкзаками, он принялся давать какие-то советы, безумно размахивая руками – ничего не понял. Еще при покупке билетов Кашкет подсуетился, чтобы заполучить лучшие места № 1 и № 2 – прямо за сидением водителя. Тут больше места, никто не придавливает тебя спинкой под подбородок, не открывает окно в середине ночи, есть пепельница и не так трясет.
Рюкзаки пришлось сдать в багаж за дополнительные десять рупий с носа. В этом случае водила мелом пишет на вещах номера сиденья и можно быть относительно уверенным, что по приезду не получишь саквояж какого-нибудь туземца.
Устроившись на солнце, наблюдали, как к автобусу подтягивались пассажиры. Первыми подошла пара туриков, парень с девушкой. Вопреки внегласным правилам индийского дорожного сообщества белых людей, они даже не кивнули нам, а остались стоять в стороне и о чем-то шептались, и мы не могли определить, из какой страны их ветром занесло. Так уж здесь сложилось, что в дороге всегда заводишь знакомство с туристами-попутчиками. Оказавшись волею судеб в одном автобусе, большинство белых сразу сплачиваются в одну семью, заходит разговор «кто откуда и куда», все обмениваются впечатлениями и дают друг другу полезные советы. Зачастую первоначальные планы в пути меняются, и совсем незнакомые люди, объединившись, отправляются дальше вместе. Кроме того, дорожная сплоченность белых бывает как нельзя кстати, так как случись что по дороге, а это бывает почти всегда (то автобус сломается, то водила откажется везти тебя до места назначения), турики вступаются друг за друга по закону «один за всех и все за одного». Так что, садясь в автобус, белые всегда знакомятся или, по крайней мере, кивают, давая понять, что если что – на них можно рассчитывать.
Следующий попутчик, в отличие от неразговорчивой пары, явился в правильном настрое. Он кивнул этим букам и нам, широкая улыбка не сходила с его лица. Разговорились. Джулиан был с туманного Альбиона, на вопрос, как он так быстро отгадал в нас русских, Julian ответил, что по акценту, который он помнит еще с тех времен, когда студентом жил в Питере. В автобус сели уже друзьями. Я врубил плеер и глядел в окно, наслаждаясь вечерними красками долины Куллу, освещенной солнцем и расцветающей на глазах. Не успел автобус доехать до Нагара, как случилась беда – схватил живот!
В Индии может случиться много неприятностей, но самых наинеприятнейших несколько, например: поездка в вагоне «general» класса, отсутствие воды в пустыне и диарея в автобусе дальнего следования! Вот диарея и обрушилось на меня, как гром средь бела дня. Сначала слегка подташнивало, а уже через час, на подъезде к Куллу, я прилип к стеклу, и единственное, что радовало глаз и сулило избавление – это мелькающие мимо таблички с надписью «toilet». Я мысленно умолял автобус остановится возле одной из них, а когда понял, что если не перейду от мыслей к делу, то случится непоправимое и, уже не заботясь о том, что я в автобусе не один, попросил Кашкета переговорить с водилой. По истечении десяти минут, показавшимися мне веком, я пулей вылетел из автобуса, оказавшись посреди рыночной площади где-то на задворках Куллу. Подбежав к первому попавшемуся лавочнику, я попытался выяснить, где найти сортир, он ни хрена не знал. Осыпая его проклятиями, я бросился к следующему, на мое счастье он ткнул пальцем в темный проулок, где действительно оказался наигрязнейший сортир.
Когда я вернулся, автобуса на месте не оказалось, вдалеке я увидел Кашкета и Джулиана, усиленно подававших мне знаки поторопиться. Когда Кашкет отправился меня искать, мерзкий водила собирался свалить без нас, и если б не усилия английского попутчика, мы бы остались тут, без рюкзаков и с диареей. Залезая в салон, мне показалось, что все как-то глумно на меня воззрились… показалось…
На время я был избавлен от мучений, и несколько часов все было в порядке. Стемнело, автобус несся между холмами, на поворотах прорезая тишину ночи оглушительными сигналами. Сделали остановку в придорожной объедаловке, где все набрали ароматно дымящейся еды, а я, решив воздержаться, ронял слюну на пол. Проехали Манди, тут в автобус погрузилось несколько заспанных туриков, а с Джулианом началось тоже самое, что и со мной, и я уже не был одинок в своем несчастье. Спали, наверное, все, кроме нас двоих. Я сидел в напряжении, опасаясь каждой кочки, которых, к счастью, попадалось не очень много. Вскоре в животе началась настоящая революция, так что пришлось растолкать Кашкета. Объяснять ничего не пришлось, он все понял по моему лицу и принялся ломиться к водителю в запертую кабину. Мало того, что этот мерзавец долго не хотел открывать дверь, а когда в итоге отворил ее, не захотел останавливаться. Понадобилось куча времени, чтобы его уговорить, и он все же остановился в каком-то идиотском лысом месте около моста. Мы с Julian'ом выскочили из автобуса, разбежавшись по разные стороны дороги. Лучи наших фонариков хаотично резали темноту в поисках растительности. Только я сел в засаду, как автобус принялся моргать фарами и неистово сигналить, призывая обратно, но нам было все равно. Джулиану, видно, было совсем худо, после моего возвращения в салон его пришлось ждать еще минут десять. Спустя час я хотел опять ломиться в кабину и требовать остановки, но дверь сама распахнулась, и заспанный помощник водителя заорал во все горло «Дарамсал-а-а-а, Дарамсала-а-а-а!».
* * *
Нас высадили на темной дарамсальской остановке, горел одинокий фонарь, удушаемый стаей ночных мотыльков, стояло несколько такси, маленьких минибасов, со спящими внутри водителями. Три часа ночи, Дарамсала, до Маклеод Ганж[113], куда все направлялись, еще десять километров в гору, местный транспорт не ходит, так что таксисты – единственная наша возможность. Прекрасно это осознавая, они лениво просыпаются и заламывают цену вчетверо больше приемлемой! Пока Кашкет вел переговоры, я с Джулианом попивал найденный в его рюкзаке виски, не переставая радоваться скорому завершению пути. Вскоре все колымаги, кроме последней, разъехались отвозить более сговорчивых пассажиров. К нам подошли двое израильтян, также никуда не поместившихся, и мы впятером еле втиснулись в машину.
Маклеод Ганж спал – все было закрыто. На улице остались только собаки и коровы, жующие мусор. Ясное дело, что об отеле в такое время не могло быть и речи. Джулиан, правда, питал еще надежды, и нам пришлось отправиться на поиски рекомендованного ЭмСи места. Настроение было прекрасное, живот верно, на радостях, успокоился, спать не хотелось, а ночная неопределенность предвещала приключения.
Спустились по улице к единственному освещенному месту. Это была открытая галерея первого этажа какого-то гестхауса. Джулиан безуспешно пытался достучаться до ресепшена. Город спал, и было очевидно, что в ближайшие несколько часов ничего не откроется. Бросили рюкзаки в угол и расположились на мраморном полу террасы около лестницы, ведущей на второй этаж. Нашли розетку и вскипятили чайку. У нас был зеленый чай, купленный еще в Дели, а с собой мы всегда возили маленький кипятильник, железную банку с крышкой и два стакана. Я подключил колонки и плеер, а Джулиан обнаружил у себя пачку отменного печенья, и стало уютно, как дома. Кашкет и Джулиан засели за партию в шахматы, я заведовал музыкой и время от времени снабжал всех косяком. Под утро стало прохладно, так что нам даже пришлось поплясать под рэгги. Около пяти на улице появились редкие прохожие, в основном тибетские монахи в темно-красных тогах. Поравнявшись с нами, они расплывались в улыбке, и проходили дальше. Проснувшиеся индусы зазывали в свои гестхаусы за неприемлемую цену, на которую никто из нас не соглашался.
В семь начало светать. Из плоскости ночи, как на фотоснимке, стали проявляться очертания гор, долина и гнездящиеся на склонах домики. Мы постоянно бегали то на балкон дома, где сидели, то на поворот дороги, откуда были видны окрестности и ореол восходящего солнца, еще не показавшегося из-за гор. Несмотря на усталость, спать совсем расхотелось.
Уже совсем рассвело, и мы направились в центр и сели напротив двух первых открывшихся палаток с чаем, похожих друг на друга как две капли воды, а их хозяева, сочетавшие в одном лице все должности, были похожи как братья – оба с пузиками, в усах и клетчатых рубашках. Одна чайная называлась «Sunrise café» другая – «Moonlight cafe» под первым названием располагалась надпись, гласящая «Best chai in Asia», под вторым названием надпись «Best chai in India». Чай был одинаков в обеих. Взяв по стаканчику, сели на скамейку у дороги, греясь под утренним солнцем. Мимо сновали прохожие тибетцы. Молодежь лениво плелась по своим делам, старички монахи, перебирая четки, расплывались в улыбке и приветствовали нас так радушно, будто мы родственники самого далай-ламы.
Из кафе вышел англичанин средних лет в легком треморе и надавал нам кучу советов по расселению. Было очевидно, что он завсегдатай этих мест, но прибыл сюда недавно после длительного перерыва – он то и дело хлопал хозяина кафе по плечу, уточняя разные детали, которые могли претерпеть изменения во время его отсутствия. Потрепанный вид англичанина не оставлял сомнений в его бурном наркотическом прошлом. Несмотря на это, он был крайне, может даже чересчур, любезен. Узнав, что мы русские, он тут же рассказал, что бывал в Ленинграде. Джулиан подхватил тему и, спустя несколько минут, они трещали про Питер, как про родной Лондон.
– Да, да – говорил Джулиан – Особенно я люблю смотреть, как разводят мосты!
– Точно, точно, – вторил ему соотечественник в треморе, – а каналы, прорезающие весь город, это ж почти как в Амстердаме!
– Ага, точно, Питер же и был выстроен по аналогии, – поддакивал Джулиан и т. д.
Я молча на них поглядывал, удивляясь таким детальным познаниям.
* * *
Обошли дюжину гестхаусов – комнаты, которые нам предлагали, были неуютные, грязные и дорогие. Двинули вон из города в сторону деревни Дарамкот. На одном из поворотов встретили доброжелательного индуса, который предложил посмотреть его гестхаус в начале деревни, и мы продолжили путь вверх уже вчетвером. Миновав тибетский монастырь, попали в настоящий сосновый лес. Воздух тут казался чище, и стало заметно прохладней. На склоне лепился двухэтажный домик со светлыми комнатами, соединенными общим балконом. Сами комнаты были обставлены, как в Спарте – грубый лежак, тумбочка и две табуретки, беленные пачкающиеся стены, каменный пол и кисейные шторы – все это отдавало крымским санаторием. Из окна был потрясающий вид на долину с деревней Баксу[114] внизу, далеким водопадом, между двух гор, за которыми выныривал снежный хребет. Запросив сто пятьдесят рупий, дед положил конец нашим поискам, и мы заселились, я с Кашкетом на втором этаже, Джулиан прямо под нами. Распаковавшись и наведя феншуй, повалились на кровати и проспали несколько часов. Затем спустились в город и бродили по улочкам. Удивляло большое количество туристов. Такого большого скопления туристов я не видел со времен Гоа.
Шокированные ценой виски в вайн-шопе, подговорили индуса за небольшой бакшиш купить бутылку – как местному ему продали втрое дешевле, и все остались довольны.
Кафе «Лунный свет» и кафе «Восход»
Утром решили отправиться к вершине и устроить себе пикник. Кашкет руководил закупкой хлеба, сыра, овощей и т. д. Проглотив по омлету, двинули в путь. Солнце стояло в зените, парило во всю! Мы поднимались без маек, время от времени передавая друг другу рюкзак. Дорога вскоре превратилась в каменную, довольно пологую тропинку, вьющуюся по склону горы между деревьями с похожими на розы цветами. Цветов был океан, куда ни глянь, все было красным. Красные лепестки устилали всю тропинку, будто тут прошла королевская особа, они шуршали под ногами, как осенние листья. В тени этих деревьев устроили небольшой привал.
Ближе к вершине склон превратился в скалу, и наше восхождение уже начало отдавать альпинизмом. Приходилось на корточках пролезать через пещеры и цепляться за каменные выступы. Джулиан не отставал, и нам с ним часто приходилось дожидаться Кашкета, который и тут был во власти никотина – курил через каждые пять метров, а затем пыхтел, продираясь сквозь заросли розовых кущей. Вид открывался чудеснейший – под нами далеко внизу стелилась зеленая долина с крошечной Дарамсалой у подножия гор.
Вот мы и на вершине, кое-где еще лежит снег, огромные серые каменные глыбы разбросаны на яркозеленой короткой траве. С одной стороны внизу виднеется долина, утопающая в мареве голубой дымки, с другой стороны вздымаются гиганские снежные Гималаи. Прекрасное место!
Кашкет испек картошку и заготовил тосты с сыром на раскаленном и плоском, как сковорода, камне, я заварил чай, и мы славно подкрепились, поиграли в шахматы и поперекидывались снежками. В обратный путь отправились уже на закате, освещение было потрясающим, все вокруг будто стало ярче и насыщеней. Последнюю часть пути шли с фонариком и домой вернулись уже ночью.
* * *
Весь следующий день мы провалялись дома, а вечером отправились в городской видеохолл на фильм «Hostage» с Брюсом Виллисом. Помещение представляло собой узкую комнатку, напоминавшую салон автобуса, кресла с подголовниками и подлокотниками еще больше усиливали это сходство. Фильм оказался адской голливудской туфтой, с английскими субтитрами, «адаптированными» под индийского зрителя, которому сложно воспринимать на слух американскую речь. Перевод был настолько нелепым и неправильным, что весь зал, человек двадцать пять молодых туриков нашего возраста, просто покатывался от хохота. Имена всех героев были изменены на традиционные индийские. В тот момент, когда Виллис встречается с террористами и спрашивает у них: «Who is in charge?»[115] перевод гласит «I’m not George!»[116]. А когда истекающий кровью Брюс добирается до главного злодея, держащего в заложниках его семью и говорит: «At first I want to see my family»[117], в переводе это звучало, как «Go visit your parents»[118]. В самом конце фильма, когда все спасены, злодеи уничтожены, герои плачут и обнимаются, у зрителя наворачивается слеза и играет романтическая музыка, потому что слова тут вроде и ни к чему, на экране возникает надпись «Nothing!»[119].
Каменный алтарь с шиваитскими трезубцами
Следующим вечером играли в «канасту», сделав только перерыв на ужин в городе. Пока ждали еду, Джулиан завел разговор про то, как сделать этот мир лучше, а людей счастливее. Перебрали все утопические теории, затем Джулиан выдвинул свою, и стал любопытствовать, что я думаю о том, что было бы, если б в один миг все люди стали счастливы. Он уже так распалился по этому поводу, что стал заикаться, но тут его перебил Кашкет с теорией Гоббса и какими-то заумностями, которые и на русском-то не всякому понятны, а на кашкетовском английском и подавно. Я старался с переводом изо всех сил, и в итоге мы так подгрузили Джулиана, что под конец он совсем загрустил.
Поднимаясь вверх по ночной дороге домой, мы разговорились вновь о вопросах бытия. Внизу алмазной россыпью мерцал город и я, выбрав место на уступе, фотографировал красотищу, пока Кашкет и Джулиан летали в метафизической пыли.
* * *
Довольно быстро мы устали от Дарамсалы. Слишком много туриков, и если тебя не привлекает буддизм и ты не большой поклонник Далай Ламы – делать тут нечего, кроме как гулять по окрестностям и смотреть пиратские фильмы. Утомившись пешими походами, теперь было решено кардинально поменять планы – вернуться в Манали, снять пару мотоциклов и ехать в Кашмир в Ле. Перевалы уже открылись, и нам не терпелось забраться повыше в горы.
Но все оказалось не так просто, как нам представлялось. Прибыв в Манали, отправились в мастерскую, что по дороге в Вашишт[120]. Над входом красовалась потертая временем и дождями надпись «Enfield club», вокруг – нагромождение всевозможных запчастей и мотоциклов этой марки. Энфилд – английский дорожный мотоцикл, еще с колониальных времен приобрел безумную популярность в Индии. Когда-то эти мотоциклы завозились из Англии, а теперь делаются тут по лицензии и экспортируются обратно. Добрый и ответственный механик мастерской сразу внушил нам доверие и предоставил два прекрасных дорожных байка старой модели. Дизайн этих моделей практически не изменился за пятьдесят лет. Матово-черные с хромированными деталями, они напоминали «харлеи» времен второй мировой. Путь предстоял неблизкий, пятьсот километров по относительному бездорожью. Расторопный механик снабдил нас целым арсеналом деталей – камерами, дисками сцепления, ручками тормозов, фарами, лампочками, гудками, ключами и плоскогубцами – целым мешком запчастей. Приварил к мотикам железные корзины для рюкзаков и багажа. Потом он провел полный осмотр мотоциклов – заменил масло, покрышки, отрегулировал двигатель и тормоза. Совершив пробную поездку по окрестностям, остались довольными и отправились в город закупаться обмундированием. Обливаясь потом, мы примеряли свитера, теплые куртки, штаны и т. д. Закончив шопинг покупкой четырех канистр и парой нелепых кожаных перчаток, вернулись к ЭмСи. Тут нас поджидал Псих, скромный индус, двоюродный брат ЭмСи и сын местного шамана. Он занимается трекингом в окрестностях Манали и владеет всей необходимой экипировкой. У него я взял трехместную палатку и пару спальников.
Рано утром, когда деревня еще спала, кутаясь в туман как в пуховое одеяло, мы направились в сторону Ротанга, первого перевала на нашем пути. Это самый крутой и один из самых красивых горных перевалов. По мере подъема туман все сгущался, встречный транспорт вылетал навстречу, оглушительно гудя на поворотах. Почти взобравшись на пик Ротанга, остановились позавтракать в местечке, усыпанном закусочными и стендами, на которых красовались шапки, варежки и шубы, которые можно купить, а можно просто арендовать. Эти яркие полушубки и варежки пользуются большим спросом у индийских туристов, поднимающихся сюда из долины Кулу, поглазеть на Ротанг, прокатиться на карликовой лошади, как следует замерзнуть и вернуться назад. Уплетая пароту и попивая чай, наблюдали за проезжающими «татами», битком набитыми забинтованными в теплые вещи индусами. Когда джип останавливался – веселая гурьба вываливалась к кафешкам и фотографировала все вокруг, особой изюминкой этой фотосессии были я и Кашкет.
Перевалив Ротанг, ты попадаешь в другой мир. Мир камней, ветров, скудной растительности и небывалых масштабов. Здесь чувствуешь себя Гулливером в стране великанов. К вечеру добрались до Кейлонга – последнего населенного городка с бензоколонкой и дорожным знаком, предупреждающим, что следующая заправка будет только через триста шестьдесят пять километров. Наполнили баки и все канистры.
Утром, купив дрова – несколько черенков для лопат, крем от загара и пару фляжек рома, отправились в путь. Пыльная каменистая дорога была приспособлена разве что для местных автобусов. На остроконечных камнях, хаотично торчавших тут и там, мотоциклы подпрыгивали вверх на полметра, такая дорога имела протяженность в пятьдесят километров, и мы порядком растрясли себе все внутренности. Дорога как пунктирная линия сменялась то заасфальтированными участками, то полным отсутствием покрытия. Правда, красота пейзажа вокруг компенсировала все трудности передвижения. Практически нигде не останавливаясь, ехали до тех пор, пока не начало темнеть. Как только солнце скрылось за горной грядой, стало дико холодно, руки начали костенеть и мы остановились на ночлег посреди небольшой долины, сплошь покрытой низкорослыми кустами колючек. Виляя между колючек, отъехали от дороги и остановились у небольшого камня. Я и Кашкет, наверное, с час ковырялись с допотопной конструкцией палатки. По завершении установки обложенная камнями с кривой палкой посередине, она стала похожа на первобытный вигвам.
Кроме того, нам следовало насторожиться, когда Псих сказал, что палатка трехместная! Заглянув в палатку, я понял, что по нашим меркам, она одноместная! Холодало с каждой минутой все сильнее, так что, разломав купленные черенки, мы разожгли костер, вскипятили чай, забили чиллам, и Кашкет откупорил фляжку рома. Из-за горной гряды показалась луна, вокруг все засеребрилось в ее свете, через долину протянулись тени, вокруг не видно было ни одного огонька, ни намека на присутствие человека, казалось, мы единственные люди в этом мире.
На заправке у Кейлонга
Залезая внутрь палатки, прихватили несколько раскаленных камней из костровища, которые хоть как-то прогрели воздух. Всю ночь я не мог уснуть из-за нехватки кислорода, дыхание сбивалось, и казалось, что вот-вот задохнешься. А Кашкет, в надежде задремать, уговорил вторую фляжку рома, но вместо сна всю ночь скрипел зубами и ворочался с боку на бок.
На следующий день мы преодолели еще три перевала, самый высокий из них – 5400 метров над уровнем моря. На такой высоте байки еле ползут. Дабы адаптироваться, я чуть ли не каждые пятьдесят километров забивал чиллам, во время езды это помогало, но ночью заснуть было практически невозможно. Дорога в Ле считается второй по высоте трассой мира. Безумные космические ландшафты не оставят равнодушным даже самого чуждого природе человека. Пейзаж необычайно разнообразен – то это узкое каменистое ущелье, то широченное плоское плато, а окружающие скалы меняют форму, цвет и породу. Трасса местами – ад кромешный, то ты петляешь между гигантских валунов, то вдруг замечаешь, что едешь уже не по дороге, а посреди ледникового потока, с глушителем, погруженным в мутную воду, и приходиться закидывать ноги на руль, чтобы не промокнуть. Только индийские байки способны выдержать это!
* * *
По дороге
Место ночлега на пути к Ле
Заглушив клокочущий двигатель Энфилда, можно испугаться тишины. Это не та тишина, когда вдруг стихает ветер, все вокруг замирает, и в ушах начинает звенеть, а другая, – которую ничто никогда не нарушает. Бескомпромиссная тишина. И есть только ощущение, что чего-то не хватает, и ты прислушиваешься и присматриваешься, ищешь и не находишь. Вокруг ни одного живого существа, даже насекомого. Мертвый пейзаж – ничего кроме красных скал, темных расщелин до горизонта, снежных шапок, слепящих глаза, и ультраголубого пронизывающего неба.
В двух километрах от нас, на противоположной стороне ущелья, вдоль которого течет разлившаяся на ручьи река, похожая на расплавленный свинец, на высоте четырех тысяч метров видна тибетская деревня, не указанная ни на одной карте. Несколько беленых строений, похожих на маленькие крепости.
Чтобы добраться от деревушки до реки, надо сползти по отвесному склону почти километр или пройти по тропинкам пять. Вдоль всего русла, уходящего на километры, скрывающегося за горами, растет мелкий кустарник, больше похожий на мох. Всю осень деревенские жители собирают эту растительность, прессуют, набивают ею свои заплечные корзины и таскают к себе домой. Зима здесь начинается с ноября и заканчивается в апреле.
Чтобы протопить русскую избу в подобных условиях, необходимо минимум шестнадцать крепких поленьев, то есть около четырнадцати килограмов дерева в сутки. Чтобы радоваться теплу, жителям этого поселения необходимо натаскать две с половиной тонны хвороста на каждую печь. Как они что-то выращивают на такой высоте, в таком климате, и чем питаются – необъяснимая загадка.
На подступе к перевалу
В окрестностях Ле
* * *
До Ле мы добрались за три дня без особых приключений. Сам городок произвел на нас приятное впечатление. Раскинувшись посреди каменного рая, он весь засажен зелеными деревцами, напоминающими смесь тополя и кипариса. Чистый и уютный, он располагает к пребыванию, мы провели здесь несколько дней, в течение которых окончательно адаптировались к высоте, но не без помощи куска manali cream, щедро отломанного ЭмСи.
Обратная дорога оказалась не так безобидна.
Из Ле выехали ранним утром, решив на сей раз добраться до Манали за двое суток. На первом же перевале я решил на ходу переключить плеер и тут же загремел в груду камней на обочине. Из-за того, что я был закутан как луковица, остался почти невредимым. Зато байк требовал небольшого ремонта – сломались передние тормоза и разбилась фара. Достав мешок с запчастями, приступили к починке. Погода была не на нашей стороне – начинался снег, и в этот момент нам стало ясно, что горы могут быть совсем недружелюбными. Мы стояли посреди пустынной дороги на высоте пять тысяч метров и, вооружившись плоскогубцами небывалого размера, пытались привязать стальной тросик чуть толще нитки. Потратив на это чуть больше часа, преодолели перевал, но на спуске у меня оторвался тросик акселератора и пришлось вновь заняться ремонтом. Мимо пронесся турик на Энфилде и, не останавливаясь, прокричал «Good Luck!». Через несколько минут, в течение которых я перекидывался с Кашкетом проклятиями, отбирая друг у друга плоскогубцы, к нам подкатил еще один европеец, стрельнул бензин и, чувствуя себя в долгу, ограничился советом намотать остаток стального троса на палец и ехать дальше – четыреста километров! Ответом ему было злобное «барала́нде»[121], и он поспешно скрылся.
Высокогорное плато по дороге в Ле
Дорога на Шринагар
Потратили кучу времени, связывая тросик, но, в конце концов его одолели, и с руками, черными как у местных механиков, тронулись дальше. На втором перевале мы попали в настоящую суровую метель и вынуждены были остановиться, греясь у движков. Я с ужасом представил себе, как бы сейчас рулил в такую непогоду с тросиком газа, намотанным на палец, проделывая движения, напоминающие зимнюю рыбалку.
После аварии мой байк стал барахлить и грозил сдохнуть в любую минуту. Не знаю как, но мы все-таки одолели полпути за один день, и в густых сумерках остановились у хлипкого шлагбаума. За ним помещались четыре палатки и wine shop. В одной из палаток проживал полицейский, регистрирующий проходящий транспорт, в соседней палатке, с единственной газовой плиткой – владелец этого лагеря, две другие сдавались внаем запоздалым путникам.
Заслышав знакомый рев мотора, из-под тента выскочил взлохмаченный израильтянин и принялся размахивать руками. Ави, по прозвищу «колбаска» (своим вытянутым туловищем он действительно был похож на сардельку), рассказал, что вместе со своим приятелем тоже едет в Манали, и мы решили продолжать путь вместе.
Гомпа
Развалины Гомпа
Буддийские ступы у въезда в Гомпа
С темнотой начался настоящий мороз, и мы заползли в палатку, явно видавшую виды. Укутавшись в одеяла, коих тут была целая гора, осушили бутылку рома и провалились в сон. Еще не рассвело, как косматая голова Колбаски просунулась в палатку и объявила подъем. Выйдя наружу, я не узнал привычного пейзажа – все горы, прежде черно-красные, были в снегу.
Колбаска и его приятель исчезли из виду, прежде чем я сумел завести свой замерзший Энфилд. Счистив иней с сидений, и за отсутствием перчаток, одев по паре носков на руки, мы отправились следом.
Солнце только начинало освещать окрестные пики, погода стояла ясная, на небе ни облачка. На перевалах уже началась настоящая зима, кругом все было в снегу, на дороге гололед. Я вторично грохнулся, прокатившись несколько метров вместе с байком по сплошному льду. После Кейлонга дорога стала лучше и, спустя несколько часов, мы уже подъезжали к Манали.
* * *
Настоящее имя ЭмСи – Mehar Chand – отсюда инициалы и прозвище. В детстве его называли Pinu – chо́to págal[122].
По рождению ЭмСи имеет титул удельного князька, и у него куча родственников. Все коренные жители Олд Манали его родственники. Когда он заходит в Дургу – деревню, где живет его брат – все женщины от мала до велика касаются его ступней, а ЭмСи кончиками пальцев касается их макушек.
Его дядя – шаман – очень влиятельный человек в Манали, главный участник всех пу́джи[123] и знаком с кульским раджой.
ЭмСи не помнит даты своего дня рождения. Он уже четыре года подряд говорит, что ему «maybe twenty-five»[124].
У ЭмСи старая Wespa начала восьмидесятых, шестилетняя рыжеватая сука по имени Руби, жена – Шанти, и две дочки – Ранджина и Минакши, четырех и семи лет. Он подумывает о второй жене, но боится первой.
Мама ЭмСи
У него в отеле работает парень из Калькутты, Онил. Ему постоянно приходится искать бумажки для косяков и са́фи[125] для чилламов и вообще выполнять бесчисленные прихоти ЭмСи за пятьдесят долларов в месяц. ЭмСи может выкурить до тридцати чилламов за день. В бачке над унитазом ЭмСи прячет кулек гашиша. Иногда он таскает его на рынок в обычной авоське.
У ЭмСи потрясающая мимика, и он превосходный знаток местного горного радио[126]. А еще он автор местного жаргона. Впервые увидев ежика, которого притащили два заклинателя змей, ЭмСи воскликнул: «О-о! Iar-r-r-ra! Crazy mouse!»[127]. Теперь в Манали всех ежиков называют бешеными мышами. Когда он звонит соседу, Маму, то вместо «Namaste», говорит «Shalom, shalom baya!». Местным мясникам на рынке он говорит «Origato».
ЭмСи не верит, что Россия больше, чем Индия. Он никогда не выезжал из Манали, за исключением необходимых поездок в Кулу, после которых зарекся ездить в другие города. Когда он узнал, что в Москве живет почти пятнадцать миллионов человек, сказал: «О-о! Bencho!»[128]. С ЭмСи трудно не согласиться. Увидев фотографию деревенского дома в Костромской области, воскликнул: «O! Too match land… and empty, lande!»[129]. Он очень удивился, когда узнал, что в Москве трусы могут стоить две тысячи рупий, т. е. в принципе их можно поменять на барана.
Он считает, что паки[130] – плохие, а раджастанцы – «bencho!». ЭмСи – непризнанный философ. Он не может понять, что такое пессимизм, хотя близок к Шопенгауэру, а своими независимыми суждениями и афоризмами напоминает старика Диогена. Каждое утро он смотрит на горы, на восходящее солнце, а потом двое бенчо-раджастанцев делают ему массаж.
Все постояльцы его отеля получают клички, связанные с национальными чертами или манерой поведения. Так, поселившийся у него эстонец, уже на второй день получил имя Estonia, а на четвертый превратился просто в Stonia, так как все время был в состоянии сильнейшего обкура. Не совладав с именем тихого японца, ЭмСи именовал его просто Коничуа. Проходя мимо него, ЭмСи говорил: «Konichua! Why no making?»[131] – так он говорит всем, кто сидит без дела. Поселившийся у него американец показывался из комнаты только для того, чтобы попросить сделать музыку тише, за что был наречен «Sound Problem»[132]. Все находящиеся у ЭмСи получают также и другой дружеский титул: «Chotu Pagal». Говоря это, иногда ласково и весело, иногда резко и протяжно, утробно или оглушительно, озлобленно или снисходительно, ЭмСи способен выразить этим словосочетанием практически любое состояние своей души.
В жизни ЭмСи есть все, секс – это единственное, чего ему не хватает. Процесс этот он обычно именует «zigi-zigi» или «taka-taka» и открыто завидует своей похотливой собачке Руби, которая не знает отбоя от местных псов, сбегающихся к ней со всех концов деревни.
Завидя Руби с очередным псом, ЭмСи, покачивая головой и хлопая себя по бедру, всякий раз восклицает: «Rubi!!! All time making zigi-zigi!».
* * *
Весь день Руби проводит лежа на нагретом солнцем каменном полу открытой веранды. Собачка очень любит компанию и всегда норовит пристроиться поближе к людям, даже если для нее не хватает места. Стоит развалиться с книжкой в гамаке или устроиться на крыше, не проходит и нескольких минут, как является Руби.
Ночью, когда хозяин отправляется домой, к Руби приходят поклонники и, обнаружив соперников, начинают выяснять отношения. Минут двадцать псы просто стоят друг против друга и монотонно рычат, а если соперник не уходит, начинается потасовка с неистовым лаем и завыванием. Все это время Руби невозмутимо лежит под дверью одной из комнат. Бывает, остервенев от этих звуков, из комнаты выскакивает разбуженный постоялец с бутылкой воды. В считанные секунды, только заслышав звук дверной задвижки, псы прячутся кто куда, и перед глазами предстает картина тихой горной ночи с милой собачкой, мирно посапывающей под дверью.
Без Руби не обходится ни одно принятие пищи. При этом она не издает ни звука, не трогает вас лапой, не юлит, пытаясь обратить на себя внимание. Руби замирает и превращается в истукана, с глазами, устремленными на кусок пищи. В этом случае можно спокойно продолжать трапезу и не обращать на нее внимания. Но стоит только раз посмотреть ей в глаза, и вы тут же подвергаетесь сильнейшему гипнозу, превращаясь в кролика перед питоном. Будто спрятанный в собачей шкуре человек глядит на вас этими полными тоски и преданности глазами, рассказывая обо всех ужасах собачей жизни, претерпеваемыми испокон веков, а этот кусок является тем недостижимым средством, способным обеспечить переход в нирвану и избавление от мучительных перерождений. Рука сама кладет кусок в пасть животному, которое ни на секунду не ослабляет своего гипнотического взгляда.
* * *
Как-то к ЭмСи заехал его приятель, Иш, который иногда убегал к нему из своего родного города, чтобы расслабиться, поглядеть на вершины, покурить чиллам в кругу своих друзей. Однажды вечером, сидя вокруг костра, мы стали вспоминать Гоа, океан, пальмы…
– Have you ever seen the ocean?[133] – спросил я.
– Ocean? – робко проронил ЭмСи. И тогда мы решили отвезти его на океан.
Арсений сразу же отправился в Гоа – готовить плацдарм для приезда «высокого гостя». Иш уехал в Чандигар за благословением на поездку от своих родителей, а я остался с ЭмСи.
Четыре дня, которые оставались до отъезда, ЭмСи провел в распоряжениях и сборах: перетащил весь свой гашиш из гестхауса к себе в дом, вытащил стопку футболок, выбирая и показывая мне, какие он будет брать с собой, купил новые шорты цвета хаки.
Онилу он объяснял, что и как делать без него, велел звонить каждый день и докладывать о делах в отеле, а также ходить на рынок и покупать там продукты для Шанти, выполнять все ее требования и забирать из школы Минакшу. В конце концов ЭмСи показал мне собранный рюкзак. Я вытащил оттуда семь запрятанных[134], оставив лишь одну. Каждый раз, как я обнаруживал одну из них, ЭмСи трагически вздыхал и воскликнул: «Lamaká-a-a-aka, baya?»[135]. Я попытался объяснить, что гашиш возить в таких количествах опасно и запрещено, на что ЭмСи философски и грустно заметил: «Kiakarega»[136], хотя я был уверен, что в своих штанах он заныкал еще граммов сорок. Инвентаризация была почти завершена:
– MC, you’ve forgotten to buy a swimsuit, – сказал я ему, – It is the only thing you need in Goa, baya!
– Swimming? – задумался ЭмСи на секунду, но потом рассмеялся. – Chotu Pa-agal! For me no possible swimming![137]
ЭмСи
Последний вечер я провел у него дома вместе с семьей. Готовил сам ЭмСи, Шанти подавала блюда на циновку, ей помогала Минакши, и только Ранджина сидела на кровати без дела. ЭмСи называл ее «Chotu pagal» и добавлял: «Very strange girl – Loony, – вздыхал он, заговорщицки улыбаясь. – All time moving, never shanty – crazy one»[138]. Ранджина была точной копией самого ЭмСи – сейчас она, как и он, обзывала меня «паглом», хихикала и каждые две минуты выбегала из дома, чтобы собрать толпу сорванцов, которые прилипали к окну и строили рожи.
ЭмСи усердно подливал 45-градусный армейский ром, воняющий клопами, Минакши носила кувшины с водой и, стесняясь, щурила чуть раскосые глаза, которые ей достались от отца, а я успокаивал Шанти, говорил, что мы ненадолго, что все будет хорошо, и врал, что в Гоа сейчас никого нет, и «зиги-зиги» там тоже делать не с кем.
После ужина Шанти, открыла дверцу стенной ниши, где стояли изображения Парвати и Шивы, все вместе мы скрутили палочки из смолы и благовоний, зажгли их и поставили куриться перед божествами.
Перед тем как идти спать, я с ЭмСи вышел на улицу покурить и подышать чистым воздухом. Полная луна заливала белесым светом крыши соседских домов и верхушки манальского парка. ЭмСи улегся в гамак, взял бинокль и уставился на луну.
– Why spots? – спросил он.
Я ответил, что эти пятна называются «морями», но воды в них нет.
– Lamakaaaaka? – снова спросил ЭмСи.
– Because no water, no air – only mountains.
– О! – восхитился он. – Natural nature!
– What do you mean by natural? – поинтересовался я.
– Why? Cannot put people there.[139]
В день отъезда ЭмСи первым делом накрутил целую вереницу косяков. Потом долго совещался со мной, какую бородку ему оставить, и в процессе бритья остановился на эспаньолке.
До моторикши нас провожал Онил, таща на плечах рюкзаки – он был чрезвычайно серьезен, поскольку оставался за хозяина. С верхней террасы слышались звонкие крики «Bye-bye, papy» – это, как заводная, кричала Ранджина. Минакши и Шанти махали вслед руками. ЭмСи никогда не расставался с ними больше, чем на три дня.
Лежа в «слипере», ЭмСи болтал по телефону, постоянно кого-то встречал, рассказывая всем, куда и зачем он едет – одним говорил правду, что едет посмотреть океан, другим, что собирается по делам в Дели. Я спросил, почему он так поступает, и ЭмСи объяснил, что только настоящие друзья не выдадут правды его отцу, который, как оказалось, слишком переживал за сына и не согласился бы отпустить его дальше Дели.
Руби
Шла пора Большого Пуджи, и жители окрестных деревень и городишек собирались в Куллу, неся на плечах ритуальные носилки-пьедесталы с местными божествами. Толпы манальцев шли по дороге, собирая по пути народ, поднимая столбы пыли, распевая песни и гимны. На посту, при выезде из города, автобус чуть не перевернула кучка пьянчуг из-за того, что водитель задел идущих вдоль обочины паломников. ЭмСи испугался – закрыл окно и заметил: «Bencho people! O, yarrra, drinking toо much – crazy local people!»[140].
Из-за праздника автобус застрял в Куллу, где улицы были полны народу, а все вокруг было усыпано цветами, раскинутыми на мостовых, палатками, ларьками со сладостями и бесчисленным количеством полицейских с бамбуками. Периодически ЭмСи открывал раздвижное окно, кричал кому-то «Laaande!» и закрывал его обратно. При виде девчонок хищно улыбался и мелодично выводил: «Taka-taka, zigi-zigi!», поворачивался ко мне и, громко хихикая, добавлял: «Young garden! O-o, yarrra!»[141]. Удивительно, но все это никому не казалось пошлым, и даже какой-нибудь праздношатающийся забулдыга, награжденный званием «Baralande»[142] не ругался вслед, а, улыбаясь во все лицо, придумывал ответное забавное оскорбление, отчего ЭмСи приходил в полнейший восторг, а девушки в сари или форменной одежде первокурсниц, потупив глаза, хихикали так же как ЭмСи.
Он умудрился рассмешить даже усатого лейтенанта, который, было, пригрозил ЭмСи бамбуком за то, что тот дымил косяком, наполовину высунувшись из окна автобуса, но ЭмСи сказал ему что-то на хинди, добавил всегдашнее «Bencho!» и полицейский, загоготав, отмахнулся от него рукой.
– What did you tell him?[143] – спросил я.
– Nothing! Just I tell him, Kullu crazy city – too much crazy people around – and I need some medicine for relax. Asta-asta, baya! Shanti-shanti![144]
За полчаса он так скорешился с водителем и его помощником, что каждые две минуты бегал к ним в кабину – подымить или просто посмотреть на дорогу, а по каждому его требованию автобус останавливался – ЭмСи выбегал по нужде, а за ним тут же радостно выскакивало человек десять, а ЭмСи во всю потешался над ними и подглядывал за туристками, которые хаотично рассыпались в поисках укромного местечка. Никого не стесняясь, он ходил по салону с косяком в зубах и награждал туристов званиями «Chotu pagal» и «Baralande», если те выказывали протест по поводу его курения. Но большинство с энтузиазмом поддержало такой подход к поездке, и вскоре из соседних «слиперов», а также с нижних мест, послышались нескончаемые: «Бом Булинат!», и автобус погрузился в сизый туман.
Когда мы проехали двести километров, а до Дели оставалось еще около четырехсот, ЭмСи проснулся, взглянул в окно и замер – лицо его искривилось в неописуемой гримасе: он удивлялся, недоумевал, злился.… Потом он будто очнулся и стал ругаться.
– What’s happened, МС?
– Where is it… where… where the mountains?
– No mountains here, this is valley.
– Kiakarega? No possible! [145]
ЭмСи не представлял себе мир без Гималаев. Он хлопал глазами, потирал их кулаками, щурился; его глаза не привыкли видеть такого открытого и плоского пространства.
Как только въехали в Дели и автобус остановился, я схватил вещи и зацапал одинокого моторикшу. Вслед за туристами, встав на твердую землю, и сделав «потягушечки», сладко зевнув, вышел ЭмСи. Мы погрузились в повозку и поехали к Пахарганжу, где должны были встретиться с Ишем. Всю дорогу ЭмСи смотрел по сторонам и морщился – Дели ему не понравился. Утренняя прохлада еще сдерживала делийское пекло, но ЭмСи уже успел заметить:
– Bencho! Very bad air… no so good – too much smoke![146]
Когда моторикша уперся в кишащий народом Пахаргандж, ЭмСи совсем скис, хоть и делал вид, что доволен, было заметно, что ему тут неловко и неуютно, единственное, что еще зажигало искры в его взгляде – это удивление и любопытство.
Не успели мы вытащить рюкзак из повозки, как ЭмСи расплылся в улыбке и стал показывать рукой на толпу туристов, среди которых я тут же заметил Иша, который сонными глазами смотрел по сторонам, стоя на противоположной стороне Main Bazara, в трех метрах от нас, и никак не хотел замечать наши персоны. Но как только ЭмСи затянул свое «Chotu paaaaagal!» и «Baralaaande!», Иш уставился сначала на ЭмСи, потом на меня, и кинулся нам в объятья. Мы сразу отвели ЭмСи в «Хари Раму», где взяли номер с кондиционером, я боялся, что без него ЭмСи просто не выдержит и сбежит на ближайшем автобусе, не дождавшись самолета. В номере ЭмСи приободрился, забил чиллам и потребовал пива. Все пять часов он, как и Арсений в начале нашего путешествия, просидел в номере, ограничившись посещением обувной лавки, где ничего не купил и, издеваясь над продавцом, ходил между рядами с туфлями, приговаривая: «O, Indian quality – bencho! Bad design, baya!»[147].
В аэропорту ЭмСи вел себя так же, как на автовокзале Манали, улыбался всем и вся, восхищался устройством для взвешивания ручной клади и вереницами багажных дорожек, которые везли его рюкзак. Переживали только я и Иш, потому что в отеле мы все-таки обнаружили и изъяли у него тщательно запрятанные, не подлежащие перевозу вещества, но полной уверенности в том, что он не везет с собой еще пару толл, у меня не было, а Иш был в этом даже уверен. Местные полицейские не столь придирчивы, как домодедовские таможенники, но все же они располагают в своем арсенале турникетами-сканерами и парой спаниелей, которые, хоть и страдают от жары, но иногда исполняют свои обязанности ищеек. Я вздохнул только тогда, когда ЭмСи, проходя через сканер и задрав руки вверх, словно военнопленный, заорал на весь зал бородатому сикху в пагонах: «Nothing! Nothing, my friend!»[148].
Бодрый настрой ЭмСи улетучился сразу, как только он увидел самолет и услышал гул турбин. «This fly?»[149] – спросил он, но, не дождавшись ответа, вскочил на трап и побежал в салон за Ишэм, я сунул билеты в руки стюарда и погнался за ними. В самолете ЭмСи успокоился и развлекался кнопочками вызова стюардесс, индивидуального обдувателя и инструкцией на случай ЧП. Пока самолет выруливал на взлетную полосу, ЭмСи отвлекался на стюардесс, отпуская похабные шуточки, но когда они попросили пристегнуть ремни и исчезли, ЭмСи снова растерялся.
Самолет набирал скорость, я помог ЭмСи застегнуть ремень, с которым он никак не мог совладать, затем он, бледнея, спросил: «What is happening?»[150]. Я не удержался и сказал, что сейчас «очень-очень сильно разгонимся, что аж лицо будет похоже на голову Ганеши». ЭмСи ничего не ответил, но так схватил меня за руку, что я чуть ее не лишился.
Спустя пару часов, во время которых ЭмСи восхищался тем, что летит выше самих облаков, и что это в пять раз выше Ротанга, самолет приземлился в Даболиме. Мы откупорили бутылку виски, запрыгнули в такси. «Welcome to Goa, MC![151] – поздравил я его, на что он ответил: «Yes, baya, in Goa. But strange air here – like in bathroom with very hot water!»[152].
Подъезжая к мосту через залив возле Панаджи, я попросил Иша закрыть ЭмСи глаза, дабы он раньше времени не смог оценить тот объем воды, который ему предстоит увидеть завтра.
* * *
Проснувшись, отправились к океану через пальмовую рощу. ЭмСи разглядывал верхушки пальм, ему не нравился здешний климат, но он радовался песку, который щекотал его пятки. До океана оставалось всего пятьдесят метров, но его не было видно из-за песчаной дюны перед пляжем. Я закрыл ему глаза и велел следовать за нами. Когда мы вышли на песчаный холм, откуда были видны пляж и море, и где впервые с Арснием напились рома, я отпустил руку, и ЭмСи открыл глаза.
ЭмСи задыхался, хватал воздух ртом, пытался улыбнуться, что-то сказать, с широко открытыми глазами он не моргал, только изредка медленно опускал и поднимал веки и – смотрел.
Я не знаю, что он видел в этот момент, но ему можно было завидовать – он был встревожен, озадачен и счастлив. Не знаю, о чем он думал, но когда ЭмСи очнулся и сделал первый шаг, он только и сказал:
– Beautiful, baya! Ocean!!![153]
* * *
И все же в Гоа ЭмСи казался потерянным! Вокруг все было непривычно, и даже местные индусы спрашивали, из какой страны он приехал. ЭмСи отвечал, что он мексиканец, гордо вздергивая подбородок, выставляя напоказ аккуратную эспаньолку, над коей долго трудился после утреннего чиллама. Постоянное употребление манальского жаргона и словечек, рожденных в разговорах с итальянцами, японцами, французами и проч. впрямь обличало в нем гражданина незнакомого государства. А царские манеры и повелительное обращение было столь убедительным, что гоанцы все как один велись на его легенду.
ЭмСи не привык много передвигаться, и постоянные поездки на мотоциклах в Чапору, Анджуну, Калангут и т. д. его бесконечно утомляли, и вскоре мы стали ограничиваться Арамболем.
Просыпался ЭмСи рано, около шести, и отправлялся на пляж, где в это время кроме рыбаков не было ни души. Неспешно прогуливаясь вдоль линии прибоя, он пытался понять и разгадать смысл всего, что он видел. Глядя на рыбацкие лодки, дрейфующие неподалеку, ЭмСи застенчиво спрашивал, почему они не тонут. Завидев рыбака, барахтавшегося в волнах, отцепляя сеть от лодки, ЭмСи громогласно взрывался: «О-о-о-о Chotu Paaagal Swimming!». Когда я показывал ему на дельфинов, подплывавших довольно близко к берегу, ЭмСи пытался представить себе их размер, разводя руками совсем как наши рыболовы, а когда я сказал, что самый маленький из них, наверное, с него ростом, ЭмСи никак не хотел верить, поэтому рассказ про китов я решил отложить. Шарахнувшись от крабов, роющих норки у линии прибоя, ЭмСи вопросительно посмотрел на меня, я объяснил, что эти существа не рыба и не мясо, но что их можно есть, а подняв ракушку рассказал, что такие штучки находят и на вершинах его родных гор, так как раньше они были дном океана. Но когда ЭмСи раз двадцать повторил «О-о, bencho!» и в ужасе затряс головой, а затем начал истерично смеяться, хлопать меня по плечу, а себя по коленке, восклицая, как здорово я пошутил, я понял, что, наверное, не стоило затрагивать святое.
Некоторые вещи были за гранью его понимания, и мы отправились купаться. ЭмСи робко зашел в воду по колено, и наотрез отказался идти дальше. Ему потребовались все душевные силы, чтобы зайти еще чуть дальше, после чего первая набежавшая волна выбросила его на сушу. Мы скопом пытались затащить его обратно, но все наши усилия оказались тщетными, как только вода достигала его пупка, он бросался назад.
Единственным его увлечением было сидеть в прибрежной кафешке, пить пиво и бросать неоднозначные взгляды на проходивших мимо женщин.
Возможно, нам не стоило показывать ЭмСи то, чего бы он никогда не увидел. И пусть будет луна с пятнами, океан с дельфинами, снежная зима в костромской области – он будет счастлив только у себя дома.
* * *
Пришло время прощания, и ЭмСи стал зазывать нас обратно к себе:
– Come, come to Manali! – говорил он и улыбался, как продавец леденцов.
– Not now, MC. Maybe, next year.
– Chotu pagal! And what are you planning now?
– At first we are going to Calcutta.
– O, bencho! Lamakaaaaaka, baya? Co-о-о-оme, co-о-оme to Mana-a-ali![154]
«Да, ЭмСи, ты хороший человек – ты родился в Гималаях, а горы – хорошие учителя. Сидя на утесе скалы, невозможно думать о чем-нибудь материальном, о конкретных вещах, а тем более делать их самоцелью – это абсурдно и нелепо. Глядя на горы, сложно удивляться тому, что не все в этом мире постигаемо и справедливо».
Когда мы странствуем по таким местам, они могут научить нас с достоинством принимать те события, которые обычно отравляют нашу жизнь. И это позволяет избавиться не только от страха перед смертью, но и от страха перед жизнью. Это не означает, что в горы надо убегать от чего-то – горы не лекарство и не панацея, им глубоко наплевать на наше существование, а тем более на наши переживания.
Возможно, если бы Диоген родился в Гималаях, он бы не стал киником и не называл себя собакой, а превратился в милого джина, похожего на Махер Чанда.
Перечислить то, что нам дали Гималаи, ЭмСи, старина “Enfield” или вся Индия целиком, невозможно и не столь существенно. Я по-прежнему не смогу с точностью ответить, зачем и для чего мы тут. Единственное, что можно сказать с определенностью – путешествие изменило нас, и мы уже не будем такими, как до него.
Ведь путешествие – это дорога без мнимых радостей, удовольствий и огорчений. В отличие от оседлого, привычного существования, она дает прожить несколько жизней, и у настоящего путешествия, по сути, не может быть конечной цели, поскольку само оно заключает в себе эту цель. Смысл путешествия состоит скорее в том, чтобы двигаться, а не в том, чтобы придти.
Странствие, когда время не имеет такого значения, как там, где у каждого часы на руке и надо обязательно помнить о дне недели, дает возможность жить и чувствовать себя в настоящем. И в любой момент, на каждой остановке, путник сможет с уверенностью и радостью на вопрос: «Куда я иду?» ответить: «Как и всегда – домой!».
Все это время мы живем в пути, вне привычного, сами собой, без всего того, что отвлекает человека от самой жизни и ее сущности. Зная об этом, ощутив, чем может быть для тебя жизнь, невозможно остаться прежним, потому что чувствуешь себя настоящим.
* * *
Внешне мой друг и я остались прежними, разве что похудели килограммов на десять. Изменения произошли внутри нас.
Бродя по гатам Варанаси, мы поняли, что статус – это ничто по сравнению с сущностью, и что, скорее, сущность определяет его, нежели наоборот. Наблюдая горы, обдуваемые ветрами вот уже тысячи лет, я научился видеть суть вещей и не увлекаться формой.
Удивительно, сколько всего мы пересмотрели, передумали, пережили за это время. Изменилось осознание бытия; отношение к жизни и смерти; отношение к людям, к творчеству, к самому себе, ко многим вещам, почти ко всему.
Путешествия исцеляют от хандры, уныния, тоски и печали. Путешествуя, мы познаем людей и через них себя. Странствия помогают стряхнуть все привязанности и заблуждения, которыми обрастаешь, сидя дома. Они помогают понять ценность всего того, что, находясь под рукой, кажется незначительным.
Зачем отправляться в Индию, зачем вообще путешествовать? Необязательно искать ответ или ставить себе вопросы, если чувствуешь потребность свалить подальше. «Не решайте загадку – назовите ее догадкой»[155], и не надо ставить себе никаких целей – они сами тебя найдут. Иногда надо просто доверять себе; в пути всегда откроется нечто новое и, если ты не чурбан, то никогда не вернешься домой с пустой головой.
Завязнув в повседневности бытовых забот, люди перестают чувствовать силу природы и многообразие мира, воображая, что живут полной жизнью, и что так и должно существовать. Такая жизнь скучна и темна и, как заметил Цицерон: «Привычка к благополучию – наихудшая привычка», а Монтень добавил: «Несчастна душа, исполненная забот о будущем».
Брюс Чатвин в своей книге «Тропы Песен» приводит слова австралийского аборигена: «Сегодня, – сказал он, – больше чем когда-либо, людям необходимо учиться жить без вещей. Вещи вселяют в людей страх, чем больше у них вещей, тем больше им приходится бояться. Вещи имеют свойство приклеиваться к душе человека, а потом диктовать ей, как нужно поступать».
Трудно, а порой кажется невозможным бросить все, к чему ты «прилип», сесть в самолет и отправиться в путь, но, сделав это раз, ты уже не станешь думать о том «что будет дальше?».
Пыльная, душная Калькутта. Череда улиц, широкий бульвар с сухими, без листьев, деревьями, площадь с памятником Ленину. В засаленном зеркале заднего вида такси, в котором мы едем, видно, как Ильич привычным жестом указывает своей рукой вдаль, на восток.
Аэропорт. Наши замызганные рюкзаки уехали на погрузку. Мы стоим в потертых шлепках и драных шортах у стойки регистрации. Позавтракав в Индии, мы надеемся отобедать в Тайланде. В руках у нас билеты до Бангкока. А дальше… Лаос… Камбоджа… другие города, другая жизнь, дорога…
* * *
Мы благодарим всех, кто принял участие в работе над этой книгой, а также тех, кто помогал нам в затруднительных моментах наших путешествий: советом, деньгами, добрым словом или просто своим существованием: Лавреньтьеву Феде, Мише Яновицкому, Косте Хасину, Тише Котрелеву, Мише Сарабъянову, Мите Корчуганову, Юрию Ващенко, Светлане Самойловой, Ирине Ващенко, Ване Щукину, Дюде Сарабъянову, Максу Олицкому, Юре Болотову, Роме Подлесному, Дубинским Леше и Наде, Калининым Юле и Володе, Мише Ухову, Бобе, Татьяне Махневой, Людмиле Кобинек, Наталье Бабинцевой, Ish Malhotra, Maher Chand, Carla Muschio, Roberto Basile, Vrinda Dar.
Отдельное спасибо Эммануэлю Дюрану, без которого было бы невозможно издать эту книгу, и Фриде Брауде за ее неоценимую помощь в работе над рукописями.
Примечания
1
Аюрведа – (санскр. – “наука о долголетии”), традиционная индийская медицина, сложившаяся к VIII в. до н. э., истоки которой лежат еще в магических представлениях ведийской эпохи.
(обратно)2
Main Bazaar – грязная улица вблизи вокзала. Перекладной центр бэкпэкеров, путешествующих по стране.
(обратно)3
Табла – индийский сдвоенный барабан.
(обратно)4
Би́ди (bidi) – индийские сигареты, изготавленные вручную; в сухой лист дерева тембурни заворачивают крошку табака-самосада. Большинство биди производится на дому. Небольшой размер биди вмещает гораздо меньше табака, чем обычная сигарета, но из-за его низкого качества и отсутствия фильтра курильщик вдыхает намного больше смол и никотина.
(обратно)5
Ганг (Ganges), Ганга (санскрит, буквально – “поток”) – в геогрфическом значении чаще используется мужской род, в религиозном и мистичесом – женский (Мать-Ганга, Священная Ганга и пр.).
(обратно)6
Аль-Бируни, Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад (973–1048) – персидский ученый-энциклопедист.
(обратно)7
Махадева – одно из имен Шивы.
(обратно)8
Чи́ллам (chillum) – прямая глиняная трубка для коллективного курения гашиша.
(обратно)9
Гат (Ghat) – ступени или спуск к воде вдоль реки или озера (каждый участок имеет свое название), также гатами называют гряды гор или холмов. Считается, что в Варанаси ровно сто гатов.
(обратно)10
Маника́рника (Manikarnika Ghat) – название гата, где проводятся ритуальные сожжения тел.
(обратно)11
Са́дху – отшельник, аскет, святой человек.
(обратно)12
Шу́дры – одна из четырех древних индуистских каст (варн), потомки покоренных неарийских племен. Ныне шудры распались на множество мелких низших каст, большей частью по роду своих занятий.
(обратно)13
Сюань Цзан – китайский буддист-паломник, побывавший в Индии в первой половине VII в.
(обратно)14
Ду́рга – богиня-Мать, культ которой связан с женской ипостасью Шивы – его супругой Кали, Дэви, Парвати и проч. Дурга – богиня-воительница, защитница богов и мирового порядка от демонических сил.
(обратно)15
Курд – кисломолочный продукт, похожий на простоквашу.
(обратно)16
Храм посвящен Вишвешваре – воплощению Вселенского Шивы, построен в 1776 году. Башни храма покрыты золотом, общий вес драгоценного металла 800 кг, отсюда второе название – Золотой Храм.
(обратно)17
Лингам – фаллический символ; символ энергии и силы Шивы.
(обратно)18
Аурангзеб – (1618–1707), последний подлинный правитель Могольской империи.
(обратно)19
Салман Рушди – писатель. Речь идет о его романе «Дети полуночи».
(обратно)20
Бига́ли То́ла (Begali Tola) – улица в центре Старого Города.
(обратно)21
Шиваратри (Shivaratri) – «Ночь Шивы». Согласно традиции, в этот день Шива принимает образ лингама для всех своих последователей.
(обратно)22
Сарна́тх – первое упоминание о Сарнатхе относится к V в. н. э., когда его посетил известный китайский путешественник Фахцен. После нашествия мусульман Сарнатх был частично разрушен и забыт на многие века.
(обратно)23
Ашо́ка – (? – ок. 232 г. до н. э.) индийский правитель из династии Маурьев, внук основателя династии Чандрагупты.
(обратно)24
Самоса (samosa) – треугольный пирожок.
(обратно)25
Амебиоз – тяжелое заболевание, вызываемое одноклеточным организмом – дизентерийной амебой.
(обратно)26
Цит. Р. Тагора.
(обратно)27
Бетель (или паан) – жевательная смесь, возбуждающая нервную систему, из листьев перца бетель, орехов арековой пальмы и извести. При жевании бетеля происходит обильное выделение слюны, которая, как и полость рта, язык, десны, окрашевается в красный цвет; слюна выплевывается и оставляет как бы кровавые следы.
(обратно)28
«Мы можем помочь?».
(обратно)29
Feni (фе́ни) – южноиндийский самогон из кокосового молока или орехов кешъю.
(обратно)30
Lassi (ла́сси) – кисломолочный напиток на основе курда.
(обратно)31
Петус (жарг.) – гомосексуалист.
(обратно)32
«Микс» – ночной клуб в Москве. «Кислая» – Lsd.
(обратно)33
Royal Enfield; Honda Pulsar – марки мотоциклов.
(обратно)34
Фалафель – арабское блюдо из бобовых, приправленное пряностями. Ни одно меню в гоанском кафе невозможно представить без фалафеля – это самое популярная закуска у израильтян.
(обратно)35
«Моя счастлив».
(обратно)36
Блошиный рынок.
(обратно)37
«Дешево, мой друг! Очень дешево!».
(обратно)38
Chowmin – китайская лапша.
(обратно)39
Naan – пшеничная лепешка, изготовленная в глиняной печи (tandoor).
(обратно)40
Гокарна (Gokarna) – город в штате Карнатака в 50 км от границы Гоа.
(обратно)41
Mobor beach – пляж в Южном Гоа, где расположены дорогие отели, пользующиеся большой популярностью у немецких и русских туристов.
(обратно)42
Kanyakumari – город в штате Тамил Наду. Самая южная точка Индии.
(обратно)43
Kerala – штат на юго-западном побережье Индии.
(обратно)44
Kudle beach – один из пляжей в Гокарне.
(обратно)45
Palolem beach – наиболее живописный пляж на юге Гоа.
(обратно)46
«Old Monk» – марка самого распространенного рома в Гоа.
(обратно)47
«Вырубите… музыку!».
(обратно)48
«Я живу здесь уже пятый год, и такого тут еще не было!».
(обратно)49
«Тоже хочешь?».
(обратно)50
«AC», «Sleeper», «General» – классификация вагонов в поездах: плацкарт с кондиционером, плацкарт, общий вагон. На одно плацкартное купе приходится восемь спальных мест или двадцать четыре сидячих для вагона «дженерал-класса».
(обратно)51
Mangalore – город в штате Карнатака.
(обратно)52
Мандир – алтарь-жертвенник в виде фаллического символа лингама, и женского – йони.
(обратно)53
Бажадж – популярная марка местных мотоциклов.
(обратно)54
Ernakulam – город на побережье в центре штата Керала.
(обратно)55
Cochi (Cochin) – одно из первых португальских поселений в Индии, расположенное на полуострове.
(обратно)56
Кабраль Педро-Альварес – (1460–1526) мореплаватель, открывший Бразилию. Был послан в Индию в качестве адмирала второго португальского флота.
(обратно)57
«Lonely Planet» – популярный путеводитель.
(обратно)58
Allaeppey или Allapuzha – город в южной части штата Керала.
(обратно)59
Чай с лимоном и имбирем.
(обратно)60
Amoebica – аюрведическое лекарство, спасающее от самой страшной диареи.
(обратно)61
Varkala – единственное место в штате Керала, расположенное на высокой скале у самого моря.
(обратно)62
Kollam – город в южной части штата Керала, известен плантациями кокоса и кешью.
(обратно)63
«Дешево и с прекрасным видом из окна!».
(обратно)64
Kovalam – небольшое поселение на юге штата Керала. В семидесятых – известное прибежище хиппи.
(обратно)65
Trivandrum или Thiruvanathapuram – столица штата Керала.
(обратно)66
«Огненные ракеты и маленькие бомбочки для праздников».
(обратно)67
«Въезд в Тамил Наду».
(обратно)68
Western Ghats – горный хребет, тянущийся вдоль западного берега Индии.
(обратно)69
Madurai – один из древнейших южноиндийских городов. Многие века является культурным и паломническим центром всей южной Индии.
(обратно)70
Kodaikanal – город построеный на холмах Палани на высоте 2100 м. над уровнем моря.
(обратно)71
Munnar – небольшой город, коммерческий центр среди самых высокогорных чайных плантаций.
(обратно)72
Свами Вивекананда – один из крупнейших индийских мыслителей. После выступления на Всемирном конгрессе религий в1893 стал известен как идеологический и религиозный деятель.
(обратно)73
Parátha – лепешка из теста с маслом.
(обратно)74
Tháli – традиционное блюдо («ешь пока не наешься»): ассорти из риса, нескольких соусов, подливы из гороха (дал), тушеных овощей со специями, курда и лепешек (чапати) из пресного теста.
(обратно)75
Храмовый комплекс (Sri Meenakshi temple), посвященный Рыбоглазой богине Дурге, построен в 1560 году. Двенадцать башен комплекса украшены скульптурами, изображающими весь пантеон индийских богов.
(обратно)76
Rameshwaram – один из значимых сакральных городов для паломников шиваитов и вишнуитов в Южной Индии.
(обратно)77
Храм Раманатасвами (Ramanathaswamy) – считается лучшим образцом дравидийской архитектуры. По диагонали сооружение имеет тысячу триста метров, внутри располагается двадцать два священных колодца, окруженных стеной с пирамидальными башнями, некоторые из которых достигают пятидесяти трех метров в высоту.
(обратно)78
«Ambassador» – автомобиль, похожий на «горбатый» москвич. Производится до сих пор.
(обратно)79
«Дешево и прекрасный вид, а лучше – очень дешево и потрясающий вид!».
(обратно)80
«Превосходная марихуана, Мария-мама».
(обратно)81
Галлюциногенные грибы.
(обратно)82
«Планета Ганджи», «Канабисный рай», «Укуренный мир».
(обратно)83
2 Garam masala – острый соус на основе различных пряностей и растительного масла.
(обратно)84
Момо – тибетские (непальские) пельмени.
(обратно)85
Top Station – смотровая площадка у границы штатов Керала и Тамил Наду.
(обратно)86
«Чинарский заповедник».
(обратно)87
Британская железнодорожная компания в Индии.
(обратно)88
Air-conditioner (АС) – кондиционер.
(обратно)89
Colaba – исторический район Бомбея.
(обратно)90
Taj Mahal Hotel – первый европейский отель в Индии. Построен в 1903 году.
(обратно)91
«Только для женщин».
(обратно)92
Хо́ли (Holi) – самый яркий и красочный праздник в честь прихода весны. Празднование изгнания зла и возрождения жизни; индусы обливают друг друга подкрашенной водой красного, зеленого, желтого, синего и черного цвета, кидаются разноцветными порошками. Все – от коров, кошек, туристов до машин, автобусов и поездов изукрашено всеми цветами радуги.
(обратно)93
Ajmer – город в штате Раджастан, важный паломнический масульманский центр.
(обратно)94
Jaipur – столица Раджастана. Город основан великим завоевателем Махараджей Джаи Сингом II (1693–1743).
(обратно)95
Bhang (банг) – высушенная марихуана. Продажа банга легализована в некоторых индийских штатах.
(обратно)96
Легкий, средний, сильный.
(обратно)97
«Туалет и душ забудь, на верблюде на́чав путь!».
(обратно)98
«Возможно».
(обратно)99
«Бага, ну почему так!? Почему так!?».
(обратно)100
«Возможно все».
(обратно)101
Maza – напиток со вкусом манго.
(обратно)102
Dal – горох; Chapaty – лепешка из пресной муки. «Shanty-Shanty» – «расслабься».
(обратно)103
«Бага, ну почему так! Я дам тебе сто рупий за бутылочку Мазы!».
(обратно)104
Пустыня Тар (Thar) – наиболее засушливая часть Индо-Ганской равнины в Индии и Пакистане, площадью в 300 тыс. кв. км.
(обратно)105
Намасте, намаскар (хинди) – здравствуйте.
(обратно)106
Бом Булинат – ритуальное восклицание. Булинат – одно из имен Шивы. Буквально «Бом Булинат» – «Хвала Шиве».
(обратно)107
Милега – на хинди «хорошо» или «ОК», энджи – «друг».
(обратно)108
«Вкусно?».
(обратно)109
Хануман – согласно эпосу «Рамаяна», предводитель обезьянего войска царя Сугривы, помошник Рамы.
(обратно)110
Манали разделен на две части рекой. Старый город Old Manali и новая часть New Manali.
(обратно)111
– Если вам нужно больше одеял, нет проблем, просто скажите мне… Если вы мерзнете, я дам вам еще одеял: четыре, пять шесть. Без проблем.
– Спасибо, ЭмСи, мы в порядке, одеял достаточно!
– Хорошо, но все же – четыре, пять, без проблем, только скажите мне – и я принесу… нет проблем!
– Спасибо, мы в порядке!
– Вы можете готовить тосты… нет проблем, только скажите мне. У меня есть новый тостер, вы можете взять его в комнату, нет проблем.
– Спасибо, ЭмСи, мы воспользуемся им как-нибудь!
(обратно)112
«ЭмСи ушел на рынок».
(обратно)113
Маклеод Ганж (McLeod Ganj) – центр Тибетского правительства в Индии и резеденция Далай Ламы XIV после его изгнания из Лхасы.
(обратно)114
Баксу (Bhagsu) – деревня, известная своими источниками и водопадами, а также небольшим храмом в честь Шивы, построенным в XVI веке.
(обратно)115
«Кто здесь главный?».
(обратно)116
«Я не Жорж».
(обратно)117
«Сначала я хочу увидеть мою семью».
(обратно)118
«Отправляйся навестить родителей».
(обратно)119
«Ничего».
(обратно)120
Vashisht – деревня на противоположной от Манали стороне ущелья.
(обратно)121
Ругательство на хинди.
(обратно)122
Pinu – прозвище ЭмСи в детстве. Chóto – «маленький». Págal – «засранец».
(обратно)123
Пу́джа (Puja) – праздник, ритуальное жертвоприношение, благодарность богам.
(обратно)124
«Может, двадцать пять».
(обратно)125
Са́фи – бинт или кусок тряпки для обматывания и чистки чиллама.
(обратно)126
Горное радио – неподражаемое и выразительное использование жестов, криков и свистов при общении двух собеседников на дальних дистанциях.
(обратно)127
«О-о! Черт! Бешеная мышь!»
(обратно)128
Bencho (бэнчо) – непереводимое нецензурное ругательство.
(обратно)129
«О! Слишком много земли… и вся пустая, Ла́нде!». Lande – матерное слово, означающее пенис.
(обратно)130
Паки – пренебрежительное прозвище пакистанцев.
(обратно)131
«Коничуа! Почему не крутишь?».
(обратно)132
«Проблема со звуком».
(обратно)133
Ты когда-нибудь видел океан?
(обратно)134
Тола – мера веса (гашиша), около 12 граммов.
(обратно)135
«Лама-ка́-ка» происходит от ивритского «Лама каха», что означает восклицание «Почему так?!».
(обратно)136
«Кьякарэ́га» – то же, что и «Ламакака», только на хинди.
(обратно)137
– ЭмСи, ты забыл купить плавки, – это единственное, что тебе будет нужно в Гоа!
– Плавать! Для меня невозможно плавать!
(обратно)138
Очень странная девочка – просто псих. Все время скачет, нет чтоб успокоиться – сумасшедшая.
(обратно)139
– Почему там пятна?
– Почему так?
– Потому что там нет ни воды, ни воздуха – только горы.
– О! естественная природа!
– Что ты имеешь в виду?
– Туда невозможно поместить людей.
(обратно)140
«Негодные людишки! О, брат, много пьют – безумные местные!».
(обратно)141
«О, братец, свежий сад!».
(обратно)142
Bara – большой. Lánde – см. выше.
(обратно)143
– Что ты ему сказал?
(обратно)144
– Ничего особенного, сказал только что Кулу безумный город – сплошные психи вокруг, и мне необходимо принять лекарство для релаксации. Спокойно, братишка! Расслабься!
(обратно)145
– ЭмСи, что случилось?
– Где они… где… где горы?
– Это равнина, здесь нет гор.
– Как так? Быть не может!
(обратно)146
– Б…! Ужасный воздух… Слишком много дыма!
(обратно)147
«О, б…! Индийское качество отстой, братец!»
(обратно)148
«Ничего! Ничего, дружище!».
(обратно)149
«Это летает?».
(обратно)150
«Что происходит?»
(обратно)151
«Добро пожаловать в Гоа, ЭмСи!»
(обратно)152
«Да… Гоа. Но странноватый тут воздух, будто в ванной!»
(обратно)153
– Красота, брат! Океан!!!
(обратно)154
– Махнем в Манали!
– Не сейчас, ЭмСи. Может, на следующий год.
– И какие у вас планы?
– Для начала съездим в Калькуту.
– О, черт! Ну почему так? Поехали лучше в Манали!
(обратно)155
Марк Аврелий.
(обратно)


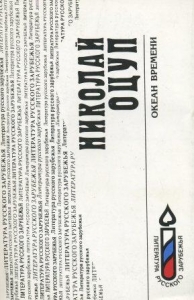
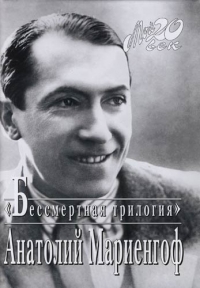
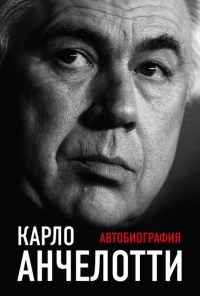



Комментарии к книге «Бом Булинат. Индийские дневники», Александр В. Кашкаров
Всего 0 комментариев