Я. А. Ляткер Декарт
Ренэ Декарт является героем, еще раз предпринявшим дело философствования, начавшим совершенно заново все с самого начала.
Г. В. Ф. ГегельГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Ляткер Яков Абрамович (1938 года рождения) — кандидат философских наук, научный сотрудник Института международного рабочего движения АН СССР. Работает в области истории философии, философских вопросов современного естествознания, методологических проблем современной научно-технической революции. Автор статей в ряде философских сборников, выпускаемых Институтом истории естествознания и техники АН СССР. Опубликованы статьи в журналах («Декарт и современная наука», «О достоверном и неопределенном в науке» и др.).
Введение. Декарт глазами двадцатого века
Даже в перспективе столетий, минувших со времен Ренэ Декарта (1596–1650), говорить просто о «двадцатом веке» представляется на первый взгляд лишенным смысла: семь с половиной десятков лет нашего века вместили в себя столько событий во всех сферах человеческой жизнедеятельности, столько побед и достижений, столько горя, злодеяний и бед, что их с лихвой хватило бы на все прошлые века обозримой истории цивилизации. Да и век-то еще не прожит; и вовсе не надо быть провидцем, пророком или футурологом, чтобы предсказать, что главные события впереди и, быть может, только последний из годов оставшегося двадцатипятилетия даст итоговую характеристику нашему веку, уже окрещенному и атомным, и кибернетическим, и космическим… Характеристику на манер блоковской характеристики века прошедшего:
Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век!И если все-таки рискнуть рассматривать наш век как нечто единое, неповторимое и уникальное, то прежде всего благодаря сквозной черте, определяющей нашу эпоху как период глубочайших революционных преобразований, интенсивность, острота, всесторонность охвата и частота которых нарастают ускоряющимися темпами. Революционность в марксистско-ленинском понимании — это качественный скачок, переход в новое, неожиданное состояние, слом старого, коренной разрыв со старым, но не отрыв от прошлого, не разрыв с культурой, хотя с нарастающей стремительностью продвижения вперед опасность такого разрыва столь же стремительно растет. Вместо плоского эволюционизма, неизбежного удела домарксовых методологии и социально-исторических доктрин, равно как и современной буржуазной историко-культурной мысли, — с одной стороны, и левачески-экстремистского нигилизма, «хунвейбинизма», с другой стороны, марксистское понимание всемирно-исторического процесса как процесса революционного предполагает учет и осмысление многих других его сторон. Характер нового, становящегося образа культуры в значительной мере определяется способом восприятия прошлого, характером отношения к культурному наследию и его творцам. Такой смысловой оттенок термина «революция» удачно раскрывается его этимологией: «лат. re — volutum от re — volvere: свертывать, свивать, возвращаться; переосмысливать; снова прожить, снова пережить».
Общение с мыслителями прошлого всегда было источником эстетического наслаждения и давало сильнейший этический заряд интеллектуальной энергии творческим умам последующих поколений. «…Творения интеллекта, — писал А. Эйнштейн, — переживают шумную суету поколений и на протяжении веков озаряют мир светом и теплом»[1] (60, стр. 78). Такое отношение может быть названо удивлением-восхищением. Но есть и другой вид — удивление-озадачивание, при котором мысль прошлого воспринимается как проблема, и в таком своем качестве прошлое может быть реконструировано лишь в ключе современных логических проблем: действительное понимание наступает тогда, когда идеи мыслителей прошлого начинают говорить языком логической необходимости актуальнейших, фундаментальных проблем современности. В той мере, в какой таким образом определяется их место в современной культуре, мыслители прошлого становятся нашими современниками, оппонентами в напряженных коллизиях сегодняшних споров, дискуссий, в гранях диалога нашей эпохи; в такой же мере мы получаем возможность «снова прожить» их творческую жизнь, «снова пережить» волновавшие их проблемы, освоить («о-своить», сделать своим) их творчество; наконец, в такой же мере осваивается еще одно «измерение» тела культуры — определяется степень прироста нашей культурности.
Личности и трудам Ренэ Декарта посвящены многие и многие тысячи работ (см., например, 15), и число их продолжает устойчиво возрастать. Есть в этой гигантской Декартиане свои «приливы» и «отливы», темы сквозные и темы, еще вчера бывшие в тени и вызванные на свет каким-либо поворотом, событием в интеллектуальной, социальной, политической и тому подобных сферах жизни. Прежде всего это, естественно, относится к различным юбилеям, связанным с наиболее примечательными событиями в жизни и творчестве Декарта (дата рождения, годовщина смерти, год написания наиболее значительных работ). Вот некоторые из них.
1921 год — период триумфального шествия общей теории относительности, канун квантовой механики, начало бурного перехода от, говоря в общем, классики к неклассике — в истории декартоведения был особенно примечателен ростом интереса к научно-теоретической стороне творчества французского мыслителя (в качестве характерного образца можно указать на прекрасную книгу Г. Мило «Декарт-ученый» (93)).
Год 1937-й. Период Герники и канун освенцимов. Готовясь к расправе со всем человечеством, обыкновенный фашизм деловито расправляется с памятью своих народов (см., например, 36, стр. 229). Уничтожаются труды мыслителей, произведения искусства: на кострах, в печах, мусоросжигалках, по выражению Ю. Тынянова, жгли историю. Закладывается на вечное хранение «Майн кампф», «библия» 1000-летнего райха, переплетенная в шкуру истинно арийских телят, которых закололи истинные арийцы длинными ножами из стали, сваренной истинно арийскими сталеварами… По замыслу устроителей этой средневековой мистерии закладывалась новая точка отсчета для всей мировой культуры. В Париже в 1937 году состоялся IX международный философский конгресс, «конгресс Декарта»: отмечался трехсотлетний юбилей выхода в свет декартовского «Рассуждения о методе». Чествуя творца «библии» рационализма, мыслящая часть человечества демонстрировала решимость противостоять проведению в жизнь идеалов, провозглашенных «библией» фашистского мракобесия. Год 1937-й — период триумфа квантовой механики и канун практического овладения атомной энергией. Тридцать семь актуальных проблем, рассмотренных конгрессом, явились своего рода гранями переформулировки одной большой «проблемы Декарта» (и это подчеркнуто самим названием конгресса (104)) в радикально новых, неклассических условиях научной реальности.
1946 год. Торжество разума и гуманизма над фашизмом, оплаченное десятками миллионов жизней, — и трагедия Хиросимы, положившая начало глубочайшему кризису в сознании ученых. Вопрос о роли ученого в жизни общества, о его ответственности за судьбы человечества, о целях науки наложил свой отпечаток на тематику работ этого периода, появившихся в связи с 350-летием со дня рождения Декарта. Эта новая, социально заостренная тематика устойчиво определилась в реестре декартоведческих проблем.
1950 год — трехсотлетняя годовщина смерти Декарта, как и все начало второй половины нашего столетия, помимо всего прочего, ознаменовалась усиленным переизданием трудов мыслителя. В частности, в нашей стране появились наиболее полные, по сравнению со всеми вышедшими до сих пор на русском языке, издания основных произведений Декарта (11, 12). Подобно легендарной птице феникс книги философа возрождались из пепла — пепла костров тридцатых годов и пепелища пожара второй мировой войны.
И наконец, семидесятые годы, начавшиеся с отмеченного в 1971 г. 375-летнего юбилея Декарта, годы чрезвычайно интересных, можно даже сказать символических, встреч — встречи «Декарта» (собрания его сочинений) с электронно-вычислительной машиной, встречи «Декарта» (лунного кратера) с астронавтами — и мероприятий общенационального масштаба на родине мыслителя: включение в пятилетний план развития французской науки исследований по проблеме «Декарт» и создание в рамках Национального центра научных исследований специальных подразделений, «группы Декарта» (см. 78, стр. 446) и «Комиссии 34» (см. 79, стр. 222) с целью координации этих исследований.
Итак, уже беглый обзор некоторых внешних событий в исторической жизни творческого наследия Ренэ Декарта свидетельствует о том, что мы к нему относимся как к современнику (взять, к примеру, периодичность — гораздо более частую, чем характерный даже для чествования современников цикл «серебряного юбилея» — крупных международных мероприятий, связанных с именем Декарта…). Но череда таких внешних событий — лишь намек, постоянное наведение на мысль о той связке упомянутых выше проблем, символами, «знаками» которых эти события выступают. Обратимся к некоторым из этих проблем и посмотрим, как наши современники, видные представители разных сфер человеческой жизни и деятельности — люди различных научных и идеологических воззрений — воспринимают и осмысливают в свете стоящих перед ними трудностей и требующих разрешения парадоксов идеи Декарта.
В конце двадцатых годов нашего столетия революция в физике, о которой В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» сказал, что «современная физика… рожает диалектический материализм» (7, стр. 332), привела к созданию квантовой механики. Одним из ее творцов был Л. де Бройль, распространивший дуализм «волна-частица» с фотона на все так называемые элементарные частицы, из которых состоит вещество материи. Осуществились ленинские слова: физика стала в основе своей диалектичной. И вот по прошествии более тридцати лет де Бройль, все эти годы не перестававший, по его собственным словам, «верить… в необходимость того, чтобы наши теории физических явлений покоились на ясных концепциях и точных представлениях об их протекании в пространстве и времени» (68, стр. 44), заявляет, что для этого необходимо вернуться вновь к «культу ясности мысли, свойственной Декарту», к «декартовскому представлению явлений при помощи образов и движений» (30, стр. 11, 14). С этой целью де Бройль с группой сотрудников в течение последних двадцати с лишним лет проводит большую работу по реинтерпретации квантовой механики на основе так называемой «теории двойного решения» (подробнее см. 34).
Почти одновременно со становлением квантовой механики, в конце 20-х — начале 30-х годов XX века, производство индустриально развитых стран капитализма, прежде всего США, достигает вершины своих возможностей в виде конвейера и научной организации труда (последнее, разумеется, справедливо только для отдельных предприятий и иногда для капиталистической фирмы в целом). Рационализатор Г. Форд, в «империи» которого впервые и в наиболее полном виде был реализован принцип поточного производства, пытаясь в своей «философии индустрии» (82) кратко и исчерпывающе выразить сущность достигнутого уровня и тем самым выразить «рацио» целой стадии (в современной терминологии — промышленной эпохи) в развитии производства, говорит о картезианском[2] разуме (см. 99, стр. 94)[3]. Марксистская социология увидела в этом самопризнании персонифицированного капитала еще одно подтверждение доказанного К. Марксом положения: база капитализма узка уже для полного развертывания крупной промышленности (что весьма красноречиво подтвердил охвативший вскоре главные страны капитализма мировой экономический кризис).
Группа французских математиков, выступающая под псевдонимом Н. Бурбаки, анализируя современное развитие математики, отмечает, что характерной чертой функционирования ее метода стала его постоянная самообращенность, а основной целью — уразумение существа математики; средства же для достижения этой цели метод непрерывно «черпает из картезианского источника» (25, стр. 248).
Вопрос о создании научной психологии поставлен сегодня на повестку дня (см., например, 56, стр. 18). Ученые, плодотворно работающие в области психологии и смежных с ней дисциплин — физиологии и психофизиологии, обсуждая возникающие проблемы, наряду с логическим анализом все чаще обращаются к историческим истокам. Признавая за Декартом честь быть, например, родоначальником детерминистической психофизиологии (см. 61) и перепроверяя на массиве новых экспериментальных данных проблемы и задачи, сформулированные при зарождении этого направления, рассматривают также общий метод их постановки, разрешения и переформулировки во времена французского мыслителя и — сквозь века развития — сегодня. При этом самые вдумчивые ученые полагают, что ошибки Декарта — это как раз те «ошибки, на которых учатся», и посвящают их анализу целые самостоятельные исследования (см., например, в физиологии — 71). Выясняется, что возможность ответить на многие вопросы, поставленные Декартом, появилась лишь сейчас, а некоторые из этих вопросов вообще не стояли до последнего времени и еще требуют своей теоретической постановки и последующего анализа (см. 12, стр. 567–568).
В тесной связи с вопросами психологии находятся вопросы, занимающие лингвистику. И здесь мы наблюдаем аналогичную картину.
Н. Хомский посвятил в свое время исследованию картезианской лингвистики специальную книгу (72), где в историко-логическом аспекте рассматриваются общие проблемы генеративной теории языка. В своих последних работах (55, 56) он продолжает обсуждение стоящих перед лингвистикой трудностей, вновь и вновь обращаясь к трудам Декарта и картезианцев, подчеркивая, что «настоящий момент в развитии лингвистики и психологии вообще кажется… вполне подходящим для того, чтобы вновь обратиться к классическим вопросам и спросить себя… как классические проблемы могут определять направление современных разысканий и исследований» (56, стр. 16). Рассматривая, например, проблему соотношения языка и мышления, автор говорит: «…существует…зияющая пропасть, разделяющая, с одной стороны, систему понятий, которыми мы владеем с достаточной степенью ясности, а с другой стороны, природу человеческого интеллекта. Осознание схожей идеи лежит в основе картезианской философии. Декарт тоже довольно рано пришел в своих исследованиях к заключению, что изучение мышления сталкивает нас с проблемой качества сложности, а не просто степени сложности» (56, стр. 17).
А вот область, казалось бы далеко отстоящая от этих академических «разысканий и исследований», — политика. Размышляя над насущными вопросами стратегии и тактики борьбы передовых демократических сил современной Италии, писатель и общественный деятель А. Негри, в полном соответствии с используемым им при этом картезианским методом, выдвигает в книге «Декарт-политик» ряд антиномически заостренных альтернатив типа: «политическая наука или разумная идеология?» (96, стр. 111).
Известный современный философ М. Хайдеггер в интервью, данном французскому еженедельнику «Экспресс», на вопрос: «Означает ли эпоха планетарной техники (термин принадлежит М. Хайдеггеру. — Я. Л.) конец философии?» — ответил: «Нет. Сама эпоха планетарной техники является лишь ее воплощением. Без Декарта современный мир был бы невозможен» (81, стр. 80).
Уже этот краткий перечень вопросов, выбранных из громадного числа подобных размышлений крупнейших деятелей науки и философии нашего времени, заставляет нас почувствовать предельную актуальность как самой фигуры Декарта в контексте проблем XX века, так и некую, пока еще для нас непонятную необходимость размежеваться с Декартом и вместе с тем вновь и вновь понять непреходящий смысл картезианства, необходимость, столь резко назревающую на всем протяжении XX столетия. Философия и математика, физика и механика, лингвистика, психология и психофизиология, политика и производство — во всех этих столь различных сферах проблема «Декарт и XX век» оказывается актуальнейшей, глубоко современной проблемой. В чем же дело? В каком смысле и по какому праву жизнь и мышление Декарта занимают столь существенное место в размышлениях и решениях людей XX века, века коренных революций и трансформаций в философии, производстве, науке? И наконец, в чем средоточие этого интереса к Декарту, в чем смысл этого интереса? Попыткой ответить на эти вопросы, или, скажем скромнее, более рационально и последовательно их сформулировать и будет этот рассказ, в котором Р. Декарт, мыслитель XVII века, предстанет перед читателем и как наш современник.
Краткое предуведомление
Массовому советскому читателю Декарт в основном раскрывается при знакомстве с работами В. Ф. Асмуса (17; 18) и обстоятельными статьями того же автора в БСЭ и Философской энциклопедии, посвященными мыслителю, а также из статей, включенных в издания его сочинений (10–12). В первых двух работах даны, по замыслу автора, научная биография Декарта и некоторые материалы, в которых ставятся вопросы о творческом анализе его наследия. Эти книги насыщены массой разнообразнейших сведений, касающихся многих сторон жизни и деятельности Декарта; в них приводятся содержательные сведения социальноисторического и идейно-политического характера, рисующие нам эпоху, в которую жил и творил Декарт. Авторы статей в указанных изданиях помимо общих характеристик творчества Р. Декарта весьма скрупулезно останавливаются на условиях создания основных произведений мыслителя, идейных влияниях, теоретических и историко-научных моментах их создания, связанной с ними полемике и т. д.
Наконец, общая характеристика философии Декарта дается в не столь распространенной, как вышеозначенные, книге Б. Э. Быховского (26). С другой стороны, как ряд новых и новейших исследований, так и проблематика последних двух десятилетий бурного развития науки поставили декартоведов перед необходимостью, отправляясь от результатов упомянутых работ, взглянуть на Декарта из несколько изменившегося «центра перспективы». Сам характер новых работ, связанных с творчеством Декарта, выдвинул, как это представилось автору, идею показать его в становлении и развитии, как мыслителя пограничной эпохи в его, так сказать, «замысле» и «сочинении себя», прикасаясь к открытым нервным точкам его кризисных, мучительных борений, побед и, казалось бы, безнадежных неудач.
Глава I. Сочинение жизни
Настоящего жизнеописания заслуживает только герой.
Б. Пастернак. «Охранная грамота»1. Учеба
В конце пасхальных каникул 1606 года в стенах учебного заведения — «Коллеж Руайяль», расположившегося среди фруктовых садов небольшого французского городка Ля Флешь, появился новый ученик. Новичок был хрупким и хилым, очень маленького для своих лет роста. Поражала бледность его лица: по контрасту с чернотой волос и лихорадочным блеском темных глаз она казалась тем более неестественной, что даже сотрясавшие тело приступы сухого кашля не вызывали на щеках обычного в таких случаях румянца. Мальчика звали Ренэ. В коллегию из соседней провинции Турень (Ренэ родился в расположенном там городе Ляэ 30 марта 1596 г.) его привез отец Иоахим Декарт, бывший в ту пору советником парламента в Бретани.
Мать Ренэ умерла, когда ему исполнился год. Жену Иоахима Декарта свела в могилу болезнь легких, терзавшая теперь их щуплого отпрыска. У врачей, на глазах которых столь скоротечно закончилась жизнь этой женщины, были все основания предрекать такой же исход и сыну. Что они и делали весьма регулярно в течение десяти лет, прожитых нашим героем к моменту вступления в Королевскую коллегию. Следующее десятилетие ничего нового не принесло. Врачи сменяли друг друга, приговор же оставался неизменно суровым: ребенок (а потом подросток, юноша, молодой человек) обречен! Эти слова он, сколько помнит себя, слышал всегда. Мысль о сомнительности собственного существования стала для Ренэ чем-то само собой разумеющимся. И для себя, и для окружающих он был, образно говоря, телесным воплощением сомнения.
Коллегия Ля Флешь (или просто Ля Флешь, как ее обычно именуют в литературе) незадолго до зачисления в нее Ренэ Декарта была основана орденом иезуитов с согласия французского короля Генриха IV, отдавшего под нее фамильный замок Шатонёф (87, стр. 588). Положение Ля Флеши среди других учебных заведений королевства было привилегированным, так как король взял ее под свою опеку. Щедрость, с которой укомплектовали библиотеку коллегии с самого ее основания, была поистине королевской, а преподавали здесь, как напишет много позже Декарт, лучшие в Европе профессора. Профессора эти, а также люди, занимавшие другие должности в коллегии, — ректор, инспекторы, воспитатели, репетиторы, экономы и прочие — все они были монахами, членами иезуитского ордена. Неудивительно поэтому, что главная цель всей десятилетней учебы определялась целью, ради которой орден был создан и во имя которой существовал к тому времени уже более полувека; что этой же целью определялись подбор дисциплин и способ их преподавания; что строгий и во многом суровый распорядок жизни и деятельности ордена был распорядком школьной жизни Ля Флеши; что, наконец, образ мышления обучающих (иезуитов) должен был стать образом мышления обучаемых.
Основной принцип деятельности ордена — суровая, равно обязательная для всех дисциплина, обеспечивавшаяся «теорией повиновения». Теория содержит три ступени, последовательно проходимых вступающим в орден (новицием): а) подчинение действия; б) подчинение воли; в) подчинение ума. Общая программа: «Стать всем для всех, чтобы приобрести всех». Обряд крещения закреплял за церковью тело будущего гражданина. Надо было «приобрести» и его душу, воспитав (в условиях нарастающего распространения ереси) соответствующим образом, и тем самым обеспечить себе подрастающее поколение. Став, помимо всего прочего, почти с самого момента своего возникновения школьным орденом, «дружина Иисуса» (таково коренное значение наименования этого «общества священников для внутренней миссии») обеспечивала в своих учебных заведениях высокий по тем временам уровень обучения.
В Ли Флеши строгая дисциплина поддерживалась неукоснительным распорядком жизни. Спали воспитанники в общих спальнях (дортуарах). Подъем происходил по сигналу и был обязателен для всех, причем вставали очень рано, вне зависимости от времени года. Общим строем на молитву, на завтрак, на учебу, на обед, на прогулки — воспитание единомыслия будущих сержантов духа начиналось со «строевой подготовки».
Что может быть проще образа жизни, размеренностью которой является ритм марширующего в ногу отряда? Жизни, нравственные устои коей состоят в идее абсолютного, самозабвенного подчинения, расписанной в четких лаконичных правилах воинско-монашеского устава? Простота этих основ учебно-воспитательного процесса должна была, по мнению наставников, обеспечить их незыблемость и надежно с самого начала придать процессу необходимое направление. Судьбе было угодно, чтобы именно в этом самом сильном пункте и с самого начала Декартом была пробита первая брешь.
Произошло это помимо воли Ренэ. Дело в том, что во главе коллегии стояли — вначале патер Шателье, затем его сменил патер Шарле — ректоры, хорошо знавшие семью Декарта (Шарле даже приходился ему родственником по материнской линии). Ввиду исключительно слабого здоровья Ренэ Декарта ему предоставили ряд поблажек, первая и главная из которых состояла в том, что он был переведен на вольный режим жизни и посещения занятий. В частности, он мог оставаться в утренние часы, после общего подъема (спал Ренэ отдельно от всех остальных учащихся), в постели до десяти-одиннадцати часов. Благодатная безмятежность этих утренних часов располагала ясный после ночного отдыха ум к спокойному течению мыслей, подчиненному лишь непринужденной игре воображения. Привычка эта, заметим в скобках, закрепилась у Декарта настолько, что в последующей жизни он не изменял ей ни при каких условиях. В одном из писем Декарт подчеркивал, что именно в эти утренние часы ему приходили наиболее ценные мысли… Пройдут десятилетия, и однажды превратности судьбы забросят его в далекую холодную Швецию. По прихоти своенравной королевы Христины собеседования с философом, ради которых он был приглашен в королевство, назначаются на непривычно ранние часы. Декарт вынужден изменить своей привычке, и это оказывается для него роковым: первая же простуда сводит выбитого из колеи, немолодого уже человека в могилу…
Первое из дарованных Декарту послаблений повлекло за собой второе — возможность относительной самостоятельности мышления и подбора авторов для чтения. Последнее обстоятельство нуждается в пояснении.
В борьбе против еретиков инквизиция все чаще сталкивалась с необходимостью принимать меры также и против еретической литературы. Рукописи и книги, произведения искусства всех видов, содержавшие хотя бы что-нибудь идущее вразрез с канонами официальной идеологии — религии, разделяли судьбу своих авторов: изъятие — инквизиционный суд — костер. Но ересь распространяется с катастрофическом быстротой и в широчайших масштабах. Храм религии шатается все ощутимее, и для принятия необходимых мер по его спасению внутри храма создается, так сказать, специальный храм, система монашеских орденов (иезуиты в их числе). В них, с учетом обстановки, подготовка кадров — инквизиционных функционеров различного профиля — по необходимости должна была быть поставлена «на поток». Будущим ищейкам, призванным нападать на след и распутывать хитросплетения еретиков, наставляемых самим сатаной Люцифером, надо было знать во всех оттенках аромат ереси. С этой целью при наиболее крупных библиотеках создаются отдельные собрания запрещенной литературы — «языческих» и еретических рукописей и книг.
Имелось такое хранилище и при фундаментальной по своим фондам ляфлешианской библиотеке. Декарту было разрешено пользоваться по своему усмотрению имеющейся там литературой, которую он мог читать, не почесывая себя при этом за ухом[4]. По собственному его свидетельству, мы знаем имена мыслителей, чьи книги, запрещенные инквизицией, оказали на юного школяра большое воздействие. Это — А.-К. Агриппа[5], Ж.-Б. Порта, М. де Монтень, П. Шаррон. В иерархии школ, систем, направлений и течений, составляющей традиционный номенклатурный набор различных версий истории человеческой мысли, в частности истории философии, люди эти объединены общим именем «скептики», а представленное ими течение называется скептицизмом. Человеческое познание, говорили скептики, по самой природе своей недостоверно; поэтому усилия, прилагаемые на этом поприще, себя не оправдывают, они тщетны. Таков конечный вывод скептицизма.
Скептиком Декарт не стал. Попытка ответа на вопрос «почему?» — впереди. Сейчас надо отметить, что способность все подвергать сомнению, критически относиться к любой, на первый взгляд самой несомненной истине — вот что прежде всего было усвоено им при чтении поименованных авторов.
В коллегии Декарт проучился неполных десять лет (1606 — лето 1615 года). Программа обучения строилась следующим образом. Первые семь лет отводились штудированию грамматики, риторики, богословия и схоластики. Латынь усваивалась настолько, что выпускник коллегии мог читать в оригинале латинских авторов и, владея языком древних римлян не хуже, чем своим родным, свободно излагать на нем свои мысли. Изучался и древнегреческий язык. Затем следовал трехгодичный курс философии. В первый год изучались логические труды Аристотеля — «Органон» (с «Введением» Порфирия), «Категории», трактат «Об истолковании», пять первых глав «Первой Аналитики», восемь книг «Топики», те главы из «Второй Аналитики», в которых находится теория доказательства. Последняя долго и тщательнейшим образом разбиралась и осваивалась. Изучение аристотелевского логического свода замыкалось рассмотрением десяти книг «Этики». Подспорьем в изучении логики служили главным образом книги Толета, Фонсека (см. 101, стр. 27), Евстахия Сент-Польского (см. 80; ср. 14; IV, 271). В течение второго года изучались физика и математика. По курсу физики читали восемь книг «Физики» Аристотеля, затем его же четыре книги «О небе и мире», первую книгу «О происхождении и уничтожении». Учебником математики служили книги Хр. Клавия (73, 74). И наконец, завершался трехгодичный курс, а с ним и все обучение усвоением основных идей аристотелевской «Метафизики» (разбирались главным образом книги I, II, XI).
Как строилось обучение в Ля Флеши? Представление об этом дает урок («лекцио»), ибо сценарий действия, разворачивавшегося во время урока, в точности неоднократно воспроизводился затем — дважды в день на репетициях (дневной и вечерней) и один-два раза в месяц на диспутах. С той лишь разницей, что если на уроке главным действующим лицом был лектор, то на диспутах и репетициях в качестве действующих лиц должны были выступать ученики.
Итак, идет урок философии. Преподаватель (в коллегии он именовался профессором философии) только что прочел текст, который служит материалом для обсуждения. Обсуждается текст в ряде извлеченных из него вопросов. Поставленный вопрос тщательно, скрупулезно отделяется от других вопросов. Профессор разделяет его на множество различных частей в отношении которых путем так называемого определения терминов постепенно исключается всякий намек на двусмысленность. Теперь следует изложение нескольких ясных и неопровержимых принципов («начал»). После рассмотрения («обговаривания») этих принципов и на их основании разворачивается последовательность доказательств, суть которых резюмируется в сжатой словесной «формуле» — силлогизме. По нашим понятиям, работа здесь заканчивается, и дальше уже идти некуда. Ан нет! По канону приемов схоластической логики пройдена лишь половина пути к истине. Получен, как мы бы теперь сказали, только положительный результат, вернее, положительная половина результата, его «да».
Вторая часть пути состоит в последовательном возведении цепочки возражений. Каждое последующее возражение посредством процедуры «градации требований» становится все более сильным, пока требования не достигают наивысшей степени трудности. Возведение полновесного «нет» закончено.
Наступает кульминация: «да» и «нет» сталкиваются лицом к лицу. И тогда на основе силлогизма несколькими точными ударами руки мастера «нет» повергается в прах: возражения разбиваются, как бы сильны они ни были. «Да» торжествует, и это нам понятно. Непонятным, странным представляется то, что торжество это невозможно без «нет» — последнее полностью его разделяет: истина постигнута лишь в триумфе «да — нет», или, ввиду «симметричности» ходов, в триумфе «нет — да»! Победа фиксируется авторитетом в лице профессора: кратко, в немногих словах он высказывает истину — окончательное мнение о поставленном вопросе. Вся описанная процедура бывала представлена, по словам летописца Ля Флеши, «в сухом, техничном философском стиле, так что ни одно слово не было обращено к душе, не давало успокоения уму и не затрагивало сердца» (101, стр. 29): терялся всякий след конкретно-содержательного предмета, всякий намек на него.
Профессор учил превращать любой текст в объект дискуссии, и на репетициях эта техника доводилась до совершенства, до степени искусства. Это искусство периодически испытывалось в диспутах, где «да» (тезисы, утверждения) и «нет» (антитезисы, возражения) попеременно представлялись самими учащимися. Цель: овладеть техникой, ни на йоту не меняя ее. По свидетельству одного из соучеников по коллегии, Декарт не только блестяще овладел этим искусством — он «изобрел собственный, весьма своеобразный способ диспутирования» (63, II, стр. 483). Сам Декарт уточняет, что речь шла не только о диспутировании: «Юношей, сталкиваясь с открытиями, требующими изобретательности, я стремился к тому, чтобы, не читая автора, самому попытаться придти к ним…» (13, X; стр. 214). По словам того же однокашника Декарта, даже благосклонные к нему патеры-руководители (ректор и инспектор) выражали в таких случаях свое неудовольствие: это было нарушением самой сути дела. Ведь орден создан для борьбы с ересью, прежде всего в рядах священнослужителей. А именно с попыток что-либо изменить в каноне — как правило, «улучшить» тот или иной из моментов догматики — и начинались ереси.
При всей серьезности таких оснований для неудовольствия истинная причина коренилась, однако, гораздо глубже и, как это ни странно, совпадала с истинной причиной встречного неудовольствия — разочарования Декарта, все возраставшего по мере приближения к концу обучения в Ля Флеши.
2. Схоластика. Сомнения
Многочисленны и разнообразны были составлявшие современную Декарту науку отдельные ее подразделения. Но если задать вопрос, какая из составных частей этой средневековой науки с наибольшим соответствием выражала ее дух, или, иначе говоря, служила логикой всей средневековой (в том числе и научной) деятельности, то ответ будет весьма четким: схоластика — та схоластика, которая, наряду с другими тремя дисциплинами, изучалась в Ля Флеши в первые годы обучения. Больше того, грамматика, богословие, риторика были ступенями восхождения к схоластике, своего рода «этажами схоластики» (см. 86, стр. 98).
Итак, Декарт учился схоластике. Но и вывод этот, и сама роль схоластики в последующей трагической жизни Декарта и в самом принципе сочинения им этой трагической жизни не столь просты, как это может показаться читателю на первый взгляд. «На первый взгляд» привычка подскажет читателю самую простую догадку: «Ага, схоластика понадобилась Декарту для того, чтобы её опровергнуть». Но вдумаемся в вопрос глубже, и прежде всего глубже представим себе реальное историческое содержание самого этого феномена: «схоластика».
Средневековая схоластика была теоретически воспроизведенной рефлексией «артифэкса» — искусника-ремесленника (об исходной слитости «ремесла» и «искусства» свидетельствует, среди прочего, буквальная слитость терминов, какими и то, и другое обозначались в научном языке эпохи — латыни: ars — искусство, прием; artificium — искусство, ремесло, оба слова в значении рода деятельности; и наконец, artifex — искусник, мастер-ремесленник), рефлексией того типа мыслительной деятельности, который был органически присущ и алхимику (ср. 46, 47), и ювелиру, и схоласту, и скульптору. Соответственно средневековая логика, подобно любой логике, была духовной потенцией непосредственного производства, необходимым определением этого производства (противоречивой личности этой эпохи), потенцией, отделившейся от своей непосредственной основы и развившейся в самостоятельную сферу деятельности по законам самой этой основы. В средневековой логике знание о предмете могло выступать только в форме знания о субъекте, о совокупности приемов деятельности по отношению к предмету (последний принципиально неизменен, настолько, насколько неизменным оставалось орудие деятельности[6]).
Предмет воспроизводится в сознании как предмет искусства, и в этом смысле он глубоко индивидуален. Рука ремесленника слита с инструментом и через него — с природой материала. Но полностью природа эта выявляет себя при полной слитости, тогда, когда кончики пальцев «искусника» обретают чувствительность открытого нерва. Волокна человеческих нервов продолжаются в волокнах инструмента, и инструмент «чувствует» фактуру материала. Так рождается шедевр. Методом был секрет, суть которого — в отточенности техники и развитой «мускулатуре ума» «искусника», уносившего с собой секрет в могилу: вспомним хотя бы о некоторых из таких секретов древних шедевров, которые человечество, при всем своем научно-индустриальном всемогуществе, до сих пор не в силах разгадать… И наоборот. Совокупность приемов деятельности по отношению к этому предмету осознается как нечто ритуально объективное, как рецептурно положенное, как мистическое бытие субъекта (в этом своем «инобытии» субъект независим от самого себя, от своей воли и знания, и вместе с тем это субъект, это ритм, темп, последовательность его собственных движений).
Здесь, собственно, уже намечены основные черты логического строя мышления, который условно можно назвать антитетическим: а) рецептурность; б) ритуальность (знание в форме секрета); в) авторитарность («так надо!»; «почему?» — исключено раз и навсегда); г) мнемонический характер (это знание необходимо запомнить в мельчайших деталях, чтобы воспроизвести в точности по «сценарию»); д) внутренняя связь с искусством (предмет осознается как нечто индивидуальное и «общительное», а прием — как предмет школьного знания); е) устремленность на автоматизм — знание должно быть организовано так, чтобы как можно скорее переходить в опыт, в мускульный, неосознаваемый ритм, знание должно учить тому, как обходиться без мышления.
В какой форме могло и должно было осуществляться (и осознаваться) движение мысли в контексте рецептурного знания, в контексте уточняющегося знания приемов действия с (принципиально неизменным) предметом? Уточнять рецептуру означает двигаться в системе все время детализирующихся определений «так!» — «не так!» («да» — «нет», «теза» — «антитеза»). Каждое новое «так!» при уточнении, совершенствовании рецептуры все больше и больше расчленяется и утончается за счет отщепления от него все новых и новых «не так!». Рецептура становится все жестче, уже, догматичнее, схематичнее, авторитарнее (поскольку рецепт такой тонкости уже никак не извлечешь из непосредственного опыта, он — рецепт — может держаться только на непререкаемой вере в авторитет Мастера). Каждая новая антитеза чисто отрицательна, это — добро, определяемое в противоположность злу, и т. д.
Сейчас самое время пригласить читателя вернуться несколькими страницами назад и «проиграть» на модели, данной в описании «лекцио» в Ля Флеши, все основные характеристики средневекового строя мышления…
Запрет, «нет» здесь столь же существенны, как и предписание. Более того, новаторство в рецептурном движении мысли (действия) как раз и состоит во введении нового Запрета[7], в дальнейшем сужении разрешаемых движений. Островки разрешенного тают под накатами волн океана запретов. И именно такая, в пределе — тупиковая ситуация в двух отношениях выводит за свои границы. Во-первых, предельная специализация приемов приводит каждый раз к двусмысленности (многосмысленности) запрета: «законодатель», категорически запретивший некое действие в одном отношении, с такой же категоричностью разрешает его в другом! Антитетическая логика «взрывает» самое себя, возрастающая «тонкость» запретов все теснее сближает разные отношения, в которых формулируются абсолютный запрет и абсолютное разрешение. Различные отношения движутся к полному тождеству…[8]
В период расцвета схоластики Абеляр, давший средневековой науке метод, выявивший, в чем состоит ее логика[9], превращает схоластику в единую, целостную систему, покоящуюся на сформулированных им (в «Учебнике логики для начинающих» и особенно в «Sic et Non») «первых началах», и как раз в отношении этих начал констатирует их коренную, непреодолимую противоречивость (в духе только что проведенных рассуждений — на материале основоположений отцов церкви и т. п.). Именно с этого времени вся схоластическая логика становится предметом внимания и (в потенции) преобразования, ее уже в принципе невозможно «улучшать» и «совершенствовать», хотя такие попытки вплоть до Декарта постоянно предпринимались (как сейчас увидим, именно с критики одной из них начинает свою деятельность Декарт) многими выдающимися мыслителями.
Во-вторых, даже вне сопоставления разных запретов и предписаний (вне проблемы сближения разных отношений) антитетичность, осмысленная логически, в своем внутреннем, имманентном движении выводила за свои пределы. Предельная точность определения какого-либо действия или приема, доведение до логического завершения тонкости этого определения неожиданно оборачивались или абсурдом, или противоположным определением. Николай Кузанский отметил эту особенность антитетического строя мышления; он понимал, что бесконечное уточнение тезиса переводит его в антитезис, бесконечный круг тождествен прямой линии, в потенции все вещи (и все утверждения!) тождественны. «Парадокс» как результат развития антитетического строя оборачивается (опять-таки в потенции) парой «докс»-учений, мнений, и в этой ситуации сомнение неизбежно перерастает в «co-мнение», в наличие (по крайней мере) двух мнений.
Соотношение бытия и мышления в средние века, таким образом, представлялось антитезой: чем предмет могущественнее сам по себе, тем он ничтожнее (тем менее он причастился целого); или — чем предмет ничтожнее как цель, тем более могуществен он как средство (ремесленник: навык, опыт). В плане этой антитезы происходит и расщепление единого средневекового субъекта деятельности на субъекта абсолютного — посмертного, вечного, входящего в смертных людей в ритуальной форме цеховых правил рецептуры, авторитета великого Мастера, — и субъекта индивидуального, маленького и ничтожного. В этом расщеплении осуществлялось и своеобразное «со-общение»: по принципу «сообщающихся сосудов», где «сосуд» маленький, смертный, ничтожный именно в своем уничижении приобщается «сосуда» вечного и неизменного, приобщается Вселенского опыта и тем самым становится могущественнее.
И вот теперь, когда читатель хоть в какой-то мере представил всю сложность схоластической культуры мышления и понял, что это действительно культура, он, наверное, задумается над своей первой поспешной догадкой о том, зачем «нужна была» схоластика Декарту. Идя навстречу этим раздумьям, сформулируем заранее такое предположение, которое будет развито впоследствии: и метод Декарта, и вся картезианская культура сомнения были бы невозможны без двойственного отношения к схоластике: (1) как к предмету преодоления и как (2) к источнику формирования самой картезианской культуры мышления. Но начнем с первого — с сомнений и преодолений юного Ренэ Декарта.
Итак, единственная реальность, данная школяру Ренэ во все годы обучения в коллегии, — это уклад, строй жизни в ее стенах, это книжный мир схоластических мыслителей и узкий мирок лекций, репетиций, традиционных развлечений. В Ля Флеши делалось все, чтобы жизнь в ее пределах текла строго по канонам средневековья. Но…
Но (это — другое «но», «но»-интермедия) сначала об одном интересном эксперименте, проведенном в наше время учеными. Из-под наседки незадолго до появления цыплят вынули одно яйцо и поместили в инкубатор. Когда из него вылупился цыпленок, перед его еще не совсем прояснившимся взором несколько раз прокатили игрушечную коляску. И все. После этого цыпленка присоединили к другим цыплятам, появившимся на свет из-под наседки одновременно с ним. Спустя некоторое время, когда однажды курица-мать совершала прогулку, а за ней тянулся выводок, экспериментаторы прокатили перед ними коляску. Все цыплята продолжали следовать за матерью — все, кроме одного, того самого, который вылупился в инкубаторе: нарушив строй, он пошел за коляской…
Вероятно, многие из воспитанников коллегии, методично шагавших за отцами-наставниками по проторенной от века дороге знания, смутно ощущали неудовлетворенность преподносимым им выверенным набором истин. Но они медленно брели по одной дороге, конца которой не было видно, а всюду по бокам терялось в мареве горизонта множество других дорог, запретных и опасных: «налево пойдешь — костей не соберешь…». Так что волей-неволей в каком-то уголке сознания прочно сохранялась вера во всеведение Ведущего и Знающего Истину.
Декарт из строя выпал в самом начале пути. Не будучи связан уставной скоростью движения колонны на марше, он не только обогнал других в направлении общего пути, но и успел пройтись по многим запретным проселкам. Результат известен: день ото дня возраставшая неудовлетворенность.
К концу срока обучения Декарт был уже открыт сомнению, как говорится, телом и душой. Декарт выпал из единого строя — жизненного уклада, выпал из единого «строя» (средневекового) мышления, отринул никчемную книжную науку и с ней всю схоластику. За что же удержалась мысль Декарта, каковы те зацепки, что не позволили ей «скатиться на самое дно пропасти» (11, стр. 269) тотального скепсиса?
Тени, сгустившиеся во всех закоулках Ля Флеши, свидетельствовали не о том, что «ночь» еще длится; они говорили, что уже светает, что туманная мгла на поверку оказывается мглой предутренней. Неба средневековой Франции достигли первые лучи солнца Возрождения, сиявшего в зените италийских небес. Поскольку серьезные вещи, в силу своей мракобесности, обладали абсолютной светопоглощаемостью, обратимся к вещам несерьезным — к упомянутым развлечениям, попытаемся там разглядеть «блики» этих лучей.
После смерти Генриха IV согласно завещанию коллегии Ля Флешь было передано сердце ее высокого покровителя для вечного упокоения. Дата смерти ежегодно торжественно отмечалась в коллегии. Силами ляфлешианской самодеятельности разыгрывалось целое театрализованное представление, программа которого была составлена из различных жанров.
Особенно торжественно отмечалась первая годовщина смерти короля — 6 июня 1611 года. Среди прочего во время представления был прочитан сонет с длинным, по средневековому обычаю, названием: «На смерть Генриха Великого и на открытие нескольких новых планет или звезд, вращающихся вокруг Юпитера, сделанное в истекшем году Галилеем, знаменитым математиком великого герцога Флоренции». Выделенные курсивом слова показывают, с какой необычной для средневековья оперативностью сведения о новых великих открытиях эпохи достигали Ля Флеши. Для правоверных эти открытия были новыми проявлениями могущества всеблагого господа. Перед цыпленком же декартова ума патеры-иезуиты, сами того не ведая, «прокатили коляску» нового, чрезвычайного и необычайного. Взор «цыпленка» еще не прояснился; тем не менее примерно семь лет спустя Декарт сразу различит «коляску» среди множества машин и механических игрушек-автоматов, с которыми ему придется столкнуться.
В сонете, в частности, говорилось о Галилеевых оптических трубах, посредством которых флорентийский астроном-математик совершил свои знаменательные открытия. Все эти потрясающие сведения целиком выпадали из единого школьного курса, носили, так сказать, факультативный характер, и это помогло им удержаться в сознании Декарта, когда он предпринял генеральную чистку оного. Особую значимость они обретали также потому, что автор представлен был как математик. Уже одно это внушало доверие, так как и те сведения из области математики, которыми располагал Декарт в Ля Флеши, были весьма незначительны и носили, в отличие от логики, разрозненный, несистематический характер, то есть статут их был, можно сказать, столь же факультативен, как и статут сведений из оптики. Помимо работ X. Клавиуса, по которым изучался классический средневековый «квадривиум» («четверица») математических дисциплин — арифметики, геометрии, музыки, астрономии, Декарт самостоятельно проштудировал «Собрания» Паппа, где, в частности, помещены были некоторые теоремы и их доказательства из работ Архимеда. В ближайшее время знакомство с этими работами также сыграет большую роль в формировании новых идей Декарта. Но в момент окончания коллегии ни лекционные курсы, ни труды древних математиков не принесли полного удовлетворения.
Правда, было нечто, выгодно отличавшее математику от других дисциплин: ясность и неоспоримость арифметических правил и аксиом геометрии. Но, может быть, все дело в том, что он просто недостаточно хорошо знает математику?
Вопрос не давал Декарту покоя. Это объясняет поведение молодого дворянина в последующие два года после окончания коллегии. Два года, проведенные в Париже, в традиционных для человека его круга и благосостояния занятиях, составлявших суть светского образа жизни: балы, приемы, прогулки и пирушки.
Так, однажды Декарт внезапно исчез. Друзья узнали о его местопребывании чисто случайно, несколько месяцев спустя: он укрылся в пригороде Парижа, где изучал математику, овладевал искусством фехтования и упражнялся в верховой езде.
Последние два вида занятий весьма знаменательны. Декарт понял, что единственным надежным орудием ума является сомнение. Он начал свой поиск с того, на чем другие поиск заканчивали. Надо довести сомнение до крайних границ, так, чтобы все сомнительное исчерпать. Вот тогда, быть может, и обнаружится нечто несомненное, точка опоры, прочное основание, на котором из подвергшихся критике материалов можно возводить новое здание. Это потребует предельного напряжения сил, духовных и физических. Значит, прежде чем покончить с сомнением, надо покончить с роковой сомнительностью собственного существования. Верховая езда и фехтование помогли ему одержать первую и важную победу — над самим собой, над собственной хилостью.
Важна одержанная Декартом победа прежде всего в двух отношениях. Во-первых, было подвергнуто сомнению и затем успешно преодолено нечто, бывшее дотоле чем-то само собой разумеющимся (предсказываемая докторами смерть от чахотки). Во-вторых, эта победа заставляет Декарта все с большим вниманием и интересом приглядываться к себе-познающему: собственное «я», да еще к тому же с таким трудом вновь обретенное и утвержденное, ближе и доступнее всего, и поэтому анализу сомнения надо подвергнуть себя самого, все те свойства и действия, которые, собственно, и характеризуют меня как человеческую личность. Ближе всего, так сказать, на поверхности находятся различные страсти. Так что когда в эти годы перед ним встанет вопрос «делать жизнь с кого», ответ будет дан в намеченном теперь направлении: с себя, с рассмотрения последовательности своих действий и постепенно вырисовывающегося небольшого числа правил, по которым эти действия из раза в раз производятся; с того, как возникают и чередуются страсти, сменяющие одна другую.
Намечены главные черты превращения школяра Ренэ Декарта в Ренатуса Картезиуса, философа и естествоиспытателя нового типа…
Поистине удивительным был результат начавшейся работы декартовой мысли, работы, протекавшей одновременно с избавлением от телесной немощи. Шаг за шагом он приходит к выводу, что даже его собственное существование во плоти нельзя считать несомненным. Весьма существенными доводами в пользу такого заключения были, в частности, соображения, связанные со сновидениями, а также сведения, почерпнутые им в дальнейшем из военнополевой медицины.
Как часто, рассуждал Декарт, ход событий во сне бывал столь же естествен и прост в своей последовательности, как в жизни. И как часто я вдруг с удивлением обнаруживал, что уже не сплю, а бодрствую (благо, почти всегда пробуждение ото сна было постепенным, и грань между реальностью и сном какое-то время оставалась очень зыбкой и неопределенной: «сработала» одна из сторон обретенной в коллегии привычки), обнаруживал только потому, что видения становились не такими полнокровными и гармоничными, как во сне, но зато, в отличие от последних, точно можно было указать место, где они происходят, и очередность, в какой они сменяют друг друга. Значит, все, что связано с чувственным, телесным существованием, вовсе не обязательно реально существует. Убеждает в этом и такой факт: раненый, которому отрезают руку или ногу, часто потом жалуется на боль в этой, на самом деле отсутствующей конечности!
Занятия математикой в этот период не только не уменьшили силу критического настроя его ума. Наоборот, число обнаруженных противоречий и парадоксов, возраставшее по мере расширения круга математических познаний Декарта, заставляют его подвергнуть сомнению и это последнее прибежище искомой им достоверности.
После целого ряда подобных рассуждений Декарт приходит к выводу, что единственная вещь, существование которой он никак не может отрицать, — это сомнение, точнее, «сомневающаяся» способность его собственного мышления. Все должно подвергнуться критике мышления, предстать перед судом «рацио» и доказать свое право на существование, свою реальность. Но это «все», которое в конце концов должно было стать осмысленным миром, оставалось пока что бедным по кругу охваченных явлений, событий и фактов миром мысли выпускника иезуитской коллегии, это был глубоко разочаровавший его книжный мир схоластических творений. Вот почему Декарт, по его собственному признанию, «совершенно забросил книжную науку и, решив не искать иной науки, кроме той, какую можно найти в себе самом или в великой книге мира… использовал остаток юности на путешествия» (11, стр. 265).
Итак, Декарт готов отправиться в путь. Что оставляет он дома и что, какой «багаж» знаний берет он с собой в дорогу? Начнем с последнего. С одной стороны, «багаж» этот легок и весьма немудрен — сомнение, «всего лишь» одно-единственное, но сомнение тотальное, сомнение во всем. Так что, с другой стороны, это «всего лишь»-сомнение, взваленное на едва окрепшие плечи только начинающего жить самостоятельно юноши — ой как тяжел и даже непереносим такой груз: вспомним плеяду зрелых, умудренных опытом и знаниями людей, которым эта нагрузка оказалась не под силу…
Куда как сложнее выполнить первое — дать (вынужденно) краткую оценку того наследства, от которого Декарт столь решительно отказался, сложнее в силу причин чисто технических и главным образом содержательных. В силу упомянутого выше подхода к средневековью и схоластике вообще и, в частности, потому, что подавляющее большинство декартоведов легко «поверило» словам Декарта, что он сразу, решительно и окончательно «вдруг» порвал со схоластикой, оставлен в стороне целый ряд возникающих вопросов, обойти которые здесь, в этом рассказе о становлении и развитии образа мыслителя нового типа, представляется невозможным.
В самом деле, схоластикой Декарт «вскормлен» и сформирован, в ее рафинированных формах перед ним предстала вся предшествующая культура, вся логика его рассуждений и поступков — это схоластическая логика, ее строй и уклад. И если Декарт решает не «улучшить» ее каким-то образом, что обычно и его предшественники, и современники пытались сделать, но, двигаясь внутри самой этой логики и страстно поверив в возможность обрести с ее помощью «ясное и достоверное знание всего, что полезно в жизни» (11, стр. 261–262), все же приходит к выводу, что надо ее коренным образом изменить, «отбросить», то это означает одно. Уже в своем внутреннем развитии такая логика достигла стадии зрелости, когда это стало возможным, когда уже не та или иная из ее проблем или частей, а вся схоластика становится объектом внимания и, что вскоре прояснится для Декарта, преобразования. А поскольку ни сама логика, ни средневековая наука не существовали «сами по себе», а находились в тесной взаимосвязи со всем способом деятельности средневековья, значит, и в самом укладе средневековой жизни произошли необратимые, коренные изменения, поставившие «под вопрос» весь способ производства, жизнедеятельности общества в целом и каждого индивида в отдельности. А эго значит, что… Серия таких коренных вопросов показывает, что не все так просто было в этом «неожиданном» решении Декарта…
Мы уже предположили, в чем состоит основная «непростота» этого решения: схоластика оказалась не только предметом преодоления, но и источником той культуры сомнения, которая в конечном счете превратилась в картезианский метод. Эту вторую сторону дела, эту невозможность для Декарта просто отбросить схоластику и забыть о ней мы постараемся раскрыть во всем последующем изложении, анализируя шаг за шагом формирование картезианского метода и системы. Пусть читатель помнит об этом обещании, как непрерывно помнил о схоластике Декарт даже тогда, когда он, казалось бы, безоговорочно решил: необходимо отвергнуть целиком схоластическую логику, оставить себе одно лишь сомнение, искать знание, в себе самом и в великой книге мира.
Осенью 1618 года Декарт отправляется в путь. Первой страной на его пути была Голландия.
3. Путешествие за две границы
Для средневекового человека без дьявола за границей нет бога в отечестве. За границей империи дьявол — это неверные, варвары и сарацины, за границей сознания, за гранью понимания — разливанное море запрещенного. С запретом — всеобщим запретом «почему?» — Декарт покончил, признав за сомнением статут единственно достоверного орудия ума. Теперь надо было покончить с грузом собственных привычек, убеждений и предубеждений, навязанных воспитанием и социальным положением в определенной происхождением узкой полоске иерархизированного средневекового общества.
Если попытаться сформулировать одно из сильнейших противоречий средневековья в том виде, в каком оно воспринималось мало-мальски думающим «средним» человеком, то получится примерно следующее. С одной стороны, он должен был причаститься благодати, всей своей жизнью стремясь удостоиться неба, уподобиться самому совершенному — богу. Но, с другой стороны, он должен был оставаться в пределах ступени иерархической лестницы, предписанной ему происхождением. Значит, благодать, доступную каждому сословию, и соответственно самую степень идеала совершенства надо было строго дозировать. В сладостно-грешной земной, вернее, заземленной жизни это выражалось в наборе различных жестких социально-иерархических «перегородок». В этом отношении жизнь средневекового общества напоминает эскалаторы метро в «час пик». На одних «эскалаторах» все средневековые люди праведной жизни движутся вверх, на небо, к богу, перед которым они все, согласно религии, равны. Но каждый занимает в этом непрекращающемся движении свою ступеньку. Навстречу праведникам движутся грешники — вниз, в ад, в геенну огненну! Но и они на нисходящих «эскалаторах» жизни стоят каждый на своей ступенечке… Единственный способ вырваться за эту вторую, невидимую, но почти непреодолимую границу — уехать за пределы Франции, отправиться в путешествие, «убедиться… что люди, имеющие чувства, противоположные нашим, отнюдь не являются поэтому варварами или дикарями» (11, стр. 270).
10 ноября 1618 года во время своего первого путешествия за пределы родины Декарт случайно знакомится в голландском городке Бреда с местным ученым, «физико-математиком» И. Бекманом; встреча эта положила начало их многолетнему плодотворному сотрудничеству.
Исаак Бекман обладал исключительно развитой физической интуицией, быть может, в ущерб интуиции, а то и просто знаниям математическим. Задолго до встречи с Декартом Бекман, как свидетельствуют записи в его знаменитом «Дневнике» (65), уже знал и применял открытые им самостоятельно важнейшие законы физики — закон падения тел в пустоте и закон инерции (ср. «прил.», стр. 187). Законам этим, однако, не хватало строгой и полной математической завершенности. Оригинальность математических рассуждений молодого «француза из Пуату» (или просто «этого пуатьенца» — так в бекмановских записях именуется Декарт) сразу и накрепко привязывает его к последнему. В свою очередь Декарт после первой встречи и беседы с Бекманом почувствовал, вероятно, что почва под ногами начинает прощупываться: возможно, выход из круговерти математической парадоксальности (последняя явилась результатом двухлетних парижских усиленных занятий, окончательно утвердившим молодого выпускника коллегии в обуревавшем его сомнении) именно здесь, в том, чем обладает этот голландский собеседник, — в «старательном и точном связывании физики с математикой» (13, X, стр. 52).
Счастливая случайность связала двух людей, каждый из которых увидел в другом проблеск надежды получить ответ на многие сомнения, давно возникшие и ждущие разрешения. Каждый из них, чувствуя запрос другого, стремится поделиться накопленным и усовершенствованным во многом знанием либо умением решать определенного рода задачи. Характерны в этом отношении оставленные и тем, и другим свидетельства, отражающие начало их знакомства. Бекман старательно и со всеми подробностями заносит в свой дневник математические доказательства, сообщенные ему Декартом. Последний, в свою очередь записывая свои впечатления о встрече, упоминает о физической задаче, предложенной ему Бекманом, в которой надо определить время падения камня. При этом каждый оценивает результаты другого, исходя из своего собственного критерия достоверности.
Для Бекмана исходным является убежденность, что всякая действительность, в том числе и чисто гипотетическая математическая «действительность», вполне реальна как физическая достоверность.
Для Декарта критерием того, что задача решена, является сам ход доказательства, его правильность. Он пока что озабочен лишь этой стороной дела, и «принципы» Бекмана, включенные в условие задачи, не производят на него большого впечатления. Но пройдет совсем немного времени, и он осознает огромное значение того нового, что заложено в этих «принципах».
Дело в том, что научные взгляды Бекмана формировались под влиянием трудов С. Стевина еще со студенческих времен. Одна из первых проблем, предложенных им Декарту для решения, также формулируется «по Стевину».
Известный математик и механик, Стевин внес большой вклад в развитие геометрико-кинематической традиции в изучении движения, восходящей к так называемой теории калькуляций и широт форм XIV века, являвшей собой новую традицию в исследовании движения. Вот к этой-то традиции и приобщает Декарта Исаак Бекман в период их сотрудничества. Именно это ответвление схоластики сумело, периодически сбрасывая с себя закостеневающие формы, за счет (каждый раз длившихся недолго) взаимодействий с той почвой, с которой взмыла прародительница-схоластика, прорастать побегом нового, живого, развивающегося дальше направления. Последняя из таких модификаций и была как раз связана с именем Стевина — последняя в исторически определенном ряду, но первая и принципиально новая, отличная от предыдущих по содержанию и потенциям модификация.
Стевин по роду своей деятельности (инженер-смотритель всех водных сооружений Голландии) был связан с целенаправленным преобразованием природы. Орудиями преобразования служили машины, приводимые в движение водяными колесами. Хотя машина в ее элементарной форме была, по словам К. Маркса, завещана еще Римской империей в виде водяной мельницы[10], свою новую суть, отличающую ее от основного орудия древности — рычага, она впервые раскрывает лишь в эпоху мануфактурного производства, в связи с новым типом разделения (и сочетания) труда. Исследование машин в их всеобщем принципе действия привело к новому пониманию движения. Новый подход к проблеме соотношения механики (физики) и математики, характерный для Стевина, через посредство Бекмана воспринимается Декартом.
Развернувшийся в ходе сотрудничества Декарта с Бекманом обмен запросами-проблемами на поверку оказывается диалогом двух только-только складывающихся голосов нового мышления — картезианского сомнения (прошедшего схоластический искус) и бекмановского физикоматематического «сциентизма». И голос Декарта, и голос Бекмана «представляли» историческую необходимость в ее сложном антиномическом содержании.
Мы сознательно, заметим в скобках, закавычили это взаимное представительство: ну конечно же, оба мыслителя не были простыми статистами «назревшей исторической необходимости» (применим это гладкое и ни к чему не обязывающее употребителя выражение, которое вне реально выявленной системы общения привадит лишь к констатации пресловутого исторического фона). Это был напряженный, страстный, а порой и мучительный процесс интенсивного самоизменения обоих собеседников-сотрудников. Относящиеся к данному периоду рукописи трактатов, дневниковые записи, частные заметки того и другого и переписка между ними при историко-социальной расшифровке и «привязке» показывают достаточно полно и определенно, что это был поистине «диалог самопонимания и самоизменения», когда «не только слушающий… но и вопрошающий… лишь мучительно, в родовых муках самоизменяясь, изменяя свою логику, находит истину», как кратко и точно воспроизвел суть такого «сократического» диалога В. С. Библер (23, стр. 209).
К концу пребывания в Голландии у Декарта возникает идея создания новой науки, науки, задуманной им в виде «Универсальной-» или «Всеобщей Математики». В ее основание кладется движение, понимание которого в корне отличается от понимания движения античными и средневековыми математиками (что касается этих последних, то вплоть до XIV века это понимание разделялось всеми, а после — подавляющим большинством из них) и философами. Как видно из его письма Бекману («прил.», стр. 190), это «совершенно новая наука, которая позволила бы общим образом разрешать все проблемы» посредством линий, проводимых единым движением с помощью «новых циркулей».
Восторг, пронизывающий все послание, вызван грандиозностью открывшихся перспектив, их чрезвычайностью и необычайностью, и это же одновременно порождает неуверенность по части реальной осуществимости такого грандиозного предприятия одним человеком в течение жизни.
В этом же письме представлены крайне неразвитые подобия того, что в будущем предстанет как знаковый аппарат отображения геометрических преобразований, как истинное средство реализации намеченного в письме плана величественного проекта — очень неразвитая символика в виде коссических знаков (специальных значков для обозначения различных степеней неизвестных), свободного члена, знаков действий «+» и «—». Основным средством реализации плана создания новой науки выступают механические приборы — шарнирные устройства, именуемые Декартом «циркулями». Разработанная им теория неограниченного усложнения устройства этих «циркулей», а тем самым неограниченного расширения множества классов решаемых с их помощью задач в перспективе приводила к полной «механизации» математики. Последняя сводилась к механике, так что в будущем математика (геометрия) должна была поглотиться механикой.
Что касается знаков, составляющих математическую символику создаваемой Декартом науки, то они играют лишь роль полезных сокращений, в то время как все рассуждения и действия по решению уравнений, все «движение» происходит в словесной форме и отражает преобразование соответствующих геометрических фигур, производимое с целью построения искомых отрезков-решений.
Итак, подготовлены (пока еще в разъятом виде) условия для того, чтобы движение могло быть положено в основу будущей науки, в основу общего плана ее создания. Но говорить о «работающем» понятии движения еще, конечно, нельзя.
Налицо единый план создания «совершенно новой» науки; мы присутствуем при становлении новой, единой цели всей будущей деятельности по созданию одной науки — «Всеобщей Математики», разрешающей все свои проблемы «общим образом». Правда, цель эта сформулирована крайне абстрактно, неопределенно, видится Декарту пока что «в смутном хаосе»… Но в то же время он со всей определенностью отмечает, чем не должна быть эта новая наука: «это — не „Краткое искусство“ Луллия», состоящее, как отмечается в другом письме Бекману, «в некотором упорядочении общих мест диалектики (средневековое наименование схоластики. — Я. Л.), из которой заимствуют доводы» (14, I, 5).
Не составляет труда заметить, что здесь при решении вставшей перед ним проблемы Декарт действует в привычном стиле рецептурно-антитетического мышления: за счет расчленения и последующего отбрасывания «не так!» (не по-луллиевски) начинается уточнение «рецептуры» предстоящих действий. Но это лишь по-видимости одно и то же, ибо движение протекает в совершенно новом материале, что вскоре даст себя знать… Лишь только прояснится упомянутая «руководящая идея» — и уже подготовленная всем ходом прежнего развития потенциальная способность схоластики к «превращению» и снятию себя в другом тут же, «под руками» станет реальностью.
Трудами испанского схоласта и богослова Раймунда Луллия (1235–1315) как раз было продемонстрировано, что, даже достигая предельно возможного в то время совершенства, при всей своей возможной «строгости» и «улучшенности» (доведенная до степени «искусства») схоластика, взятая сама по себе, не способна выдать такой «руководящей идеи» своего коренного преобразования, хотя, как было отмечено, все (происходившие в глубине ее) процессы вплотную подводили, в эпоху Декарта, к мысли об этом.
В скобках отметим, что представители современной математической логики, в лоне которой в результате многовекового развития формальная логика обрела наконец свои «идеальные формы», не без основания почитают в лице Луллия провозвестника этой науки (см. 53, III, стр. 260). Отстраняемое, «отнекиваемое» Декартом луллианское направление медленно и в значительной мере под влиянием развития идей картезианства, постоянно трансформируясь, продолжало развиваться, и наметившийся три столетия назад спор не потерял своей остроты, принципиальности (и хочется верить — плодотворности) сегодня.
Декарт снова в пути. Новая случайная встреча: на постоялом дворе он оживленно обсуждает волнующие его вопросы с одним «луллианцем»(1), который, оказавшись изрядным болтуном, поиспытал декартово терпение, но беседа эта позволила Декарту конкретизировать свой интерес: сформулировав ряд «ключевых» вопросов, он просит Бекмана поискать ответ на них у Луллия (книг испанца у него под рукой не было).
Ответ Бекмана, резюмирующий основные мысли Луллия, оказался, как и следует ожидать, неутешительным:
— Идея подразделения всего сущего на роды, каждый из которых в свою очередь тоже подразделяется, их расположение по кругам, символическое обозначение каждого из кругов буквой. Таково средство. Движение состоит в получении случайных комбинаций путем вращения кругов (14, I, 6).
Это была, по-видимому, последняя надежда Декарта на одну из тех счастливых случайностей, что так помогали ему до сих пор. Впрочем, они до сих пор сопутствовали ему лишь в частной жизни. Что же касается его научных успехов, то здесь, пожалуй, главное состояло в размышлении над простыми на первый взгляд вопросами, размышлении тоже простом, но последовательном, упорядоченном по определенному правилу, одному из тех, которые он приобрел за последние годы обучения в коллегии и вне стен ее, в период «сен-жерменского заточения».
С такими мыслями Декарт весной 1619 года покидает Голландию. В отличие от недавнего прошлого теперь Декарт знает, к чему он стремится, более определенно: налицо первый черновой набросок проекта создания новой всеобщей науки, реализации которого он намерен посвятить жизнь. Он добился определенных успехов, прежде всего в математике. Но последняя сама по себе, в отрыве от «приложения», всего лишь интересная игра ума и один из способов его совершенствования. Между тем в приложении к изучению природы она объясняет очень многое из того, что иначе необъяснимо, — об этом свидетельствуют первые опыты, сформулированные Декартом в виде посланных Бекману трактатов. Сотрудничество имело и другой результат: Декарт понял, сколь ограничен круг его знаний даже о простейших явлениях природы.
Относящиеся к этому периоду записи свидетельствуют о том, как начинают обогащаться его познания в этой области, а также о расширении спектра его естественнонаучных интересов.
Наряду с интересом к природе-познаваемой он все с большим вниманием начинает относиться к себе-познающему. Предметом исследования и пристального внимания становятся его собственные страсти, пороки, нравы. Постепенно интерес перемещается на познавательные способности ума, их связи со страстями. И уже здесь, в этих первых сопоставлениях — первые попытки объяснить страсти, наряду с другими проявлениями жизнедеятельности человека, через явления природы, ибо «все телесные формы действуют гармонично» и т. д. (некоторое представление об этом важнейшем процессе дает подборка извлечений из «Частных мыслей», представленная в «прил.», стр. 184–188).
Неизбежен вопрос: если внимание к природным явлениям можно как-то объяснить влиянием Бекмана (хотя причина подготовленности ума Декарта в виде запроса — в другом, о чем чуть ниже пойдет речь), то как объяснить направленность внимания на себя, сего, конкретного, личностного, живого вместо привычного «приобщения» со всеми вытекающими последствиями?
Причина здесь, думается, в сочетании субъективных моментов — начало интереса к себе в процессе избавления от собственной «сомнительности»; тот факт, что Декарт, по его собственным словам, был «влюблен в поэзию» (13, XII, стр. 74), — с фактором объективным, культурно-историческим: в поэзии он предпочтение отдавал античной лирике, а «в феномене лирики (античной. — Я. Л.) история литературы как бы переворачивает свое течение… лирика сразу показывает нам автора, которого в эпосе мы не видим, и какого автора! — говорящего о себе самом, о своих собственных переживаниях. В греческой литературе автор говорит устами своего персонажа, а такого, как в лирике, нигде больше нет» (54, стр. 104). Остается добавить, что в самые критические, кризисные, «безысходные» моменты своего духовного развития Декарт бросал все дела и целиком окунался в художественную литературу, преимущественно в поэзию (ср. «прил.», стр. 186).
Истинная «гармония» систематична, а система предполагает прежде всего некоторые основания, фундаментальные идеи, «начала», методическое развитие которых и составляет систему. В кратком очерке двух направлений внутренних трансформаций схоластической логики, когда при «уточнении (утончении)» рецептуры проявились потенции превращения этой логики в иное, в стороне остался другой момент этого развития — судьба псе разрастающейся гигантской, аморфной, исключенной из сферы схоластической логистики области запрещенного, того «смутного хаоса», который не схоластическим, детализированным, а неким мистическим, диффузным, туманным целым обволакивал любую виртуозно развиваемую регламентацию и рецептуру.
Это нечто, всеобщее «ничто» совокупности разрешенных действий, постепенно отчуждаясь от субъекта (= совокупности действий разрешенных), приводит к идее Природы как активной, независимой от субъекта, внесубъектной субстанции. Именно благодаря своей нерегламентированности, диффузности, «смутности» эта область служила прибежищем свободной игры мыслящего воображения, тем «матовым экраном», на который каждый раз мысль проецировала меняющийся облик мира, картины мира (вот одна из таких «проекций» — средневековая: Герох Рейхерсбергский говорит об «этом подобии вселенской мастерской», об «этой большой фабрике — мире в целом» (86, стр. 63), в силу своей «факультативности» не принимающие во внимание догму религиозного универсуума. Да к тому же ко времени Декарта учение Бруно о множественности миров, его убежденность в том, что «центр Вселенной повсюду…окружность не имеется ни в какой части…или же…окружность повсюду, но центр нигде» (19, стр. 164), разнесли в дребезги «кристалл небес», и взору предстала безграничность новых просторов: каждый раз это оказывалось теперь, после Бруно, тем первозданным хаосом, из которого человек-мыслитель, как библейский бог, «творил мир».
В период пребывания в Германии, куда Декарт прибыл из Голландии, ему посчастливилось решить проблему «оснований». Осенью, в годовщину встречи с Бекманом, Декарт записывает: «X. ноября 1619 года, преисполненный энтузиазма, я нашел основания чудесной науки», а ровно год спустя он уже смог констатировать: «XI. ноября 1620 года начал понимать основание чудесного открытия» (13, X, стр. 179). (Курсив мой. — Я. Л.). Что привело к появлению столь знаменательных слов?
В старинный германский город Ульм Декарт попал в самый разгар дискуссии по поводу комет, которая велась между И. Б. Хебенштрайтом, ректором гимназии, и профессором инженерного училища И. Фаульхабером, и в скором времени знакомится и с тем, и с другим (84, стр. 13, 16). В конце сентября — начале октября начались его регулярные встречи и беседы с Фаульхабером, длившиеся в течение многих месяцев 1619–1620 годов. Немецкий ученый-инженер (в рассматриваемую эпоху эти специальности совмещались, по необходимости, в одном лице: момент, с одной стороны, весьма важный для понимания развития событий и, с другой стороны, убеждающий в нелепости требований или попыток «выводить» науку «из» техники, или наоборот) Фаульхабер внес ряд чрезвычайно важных усовершенствований в устройство передаточного механизма различных типов мельниц.
К. Маркс, заметим, высоко оценил деятельность И. Фаульхабера в этом направлении, приведшую «к теории и практическому применению махового колеса, которое впоследствии стало играть такую важную роль в крупной промышленности» (3, стр. 388)…
Он был одним из конструкторов машин и универсальных двигателей, которые создавались в Германии, а применялись в Голландии. Личность Иоганна Фаульхабера примечательна во многих отношениях. Сын ткача, он в молодости сам был ткачом. Благодаря своему невероятному упорству, трудолюбию и несомненному таланту он за короткий срок проделал путь от ткача до ученого-изобретателя. Крутой исторический поворот от старого принципа деятельности — ремесленного ткачества к самым фундаментальным проблемам совершенно новой области человеческой деятельности воспринимался им, таким образом, в плане лично пережитого и сохранял в его восприятии всего нового постоянную обостренность и, если позволено так выразиться, чувство внутренней, интимной сопричастности этому объективно творящемуся новому. Помимо общих научных интересов (здесь Декарт вновь продемонстрировал несомненное превосходство во всем, что касалось математики) этому сотрудничеству, по-видимому, в значительной мере способствовало то обстоятельство, что Декарт как раз находился в таком же переходном, «диа»-логичном состоянии.
В рассматриваемый период основной процесс развития машин происходил в их «средней» части — за счет совершенствования механизма трансмиссионной конструкции. Надо было решить следующую задачу: «на входе» подается вырабатываемый машиной — двигателем (одна из трех частей машины, или, точнее было бы, следуя Марксу, называть всю машину — machinery) импульс (количество движения); каким образом рассчитать систему последовательных от точки к точке геометрических преобразований его, чтобы «на выходе» получить определенную последовательность движений — последовательность, в которой третья, рабочая часть машины должна производить соответствующие операции по обработке предмета труда. Такая задача в научно-инженерном деле возникает впервые.
Действительно, в основном орудии античности и раннего средневековья, рычаге, все возможные движения были заключены в его форме; в процессе работы их надо было «расшифровать», и каждый пользователь орудия совершал это по мере своих способностей и навыков. В машине последовательность будущих действий, план деятельности, способ выполнения актуально, жестко определены еще до начала самой деятельности, отщеплены от нее. Для рычага важно лишь то, из какой точки в какую происходит перемещение при отвлечении от формы пути. Теперь же без рассмотрения траектории, по которой движение должно быть «задано» от точки к точке, обойтись нельзя. На смену интегральному образу движения приходит образ дифференциальный. Соответственно меняется идея (способ объяснения) движения: на смену кругу, в элементах которого должно было представлять все возможные перемещения, приходит алгоритмическое описание процесса.
Итак, в рассматриваемую эпоху центр тяжести развития техники (машиностроения) и теоретической механики отчетливо обнаруживает тенденцию к смещению из области статики в область геометрической кинематики, причем последняя явно претендует на единоличное представление механики; механика в перспективе должна была слиться с геометрией. Картина их будущего единства именно в таком ракурсе виделась ученым-инженером фаульхаберовского типа.
Мы видели, однако, что с другой стороны, именно со стороны геометрии, наблюдается встречное, противоположно ориентированное движение. Первоначальная Декартова концепция «механизации» математики (геометрии) путем введения в качестве допустимых инструментов различных плоских шарнирных устройств чревата была, при ее развитии, своеобразной «физикализацией» геометрии. В перспективе математика была бы вынуждена действовать на чуждой ей почве; геометрия в будущем должна была бы поглотиться механикой.
Два противоположно ориентированных «вектора» в пункте их встречи (в диалоге: Декарт — Фаульхабер) свернулись в один исключительно напряженный и в то же время своеобразный проблемный узел. Проблемное триединство техники — физики — математики предстает в двояком аспекте: как проблема теории и как методологическая проблема. Именно в этих двух планах и будет решаться Декартом задача создания новой науки — «Всеобщей Математики».
Как видим, дальнейшая конкретизация методов происходит уже в тесном взаимодействии со становлением основных черт мировоззрения, начинающих проступать в изначальном «смутном хаосе»: мир как геометрико-кинематическая система, с двигателем, вынесенным «вовне» (Декартов бог); животные-автоматы; неизменность количества движения (а не работы), сохраняющегося при всевозможных внутренних перемещениях мирового механизма, или «машины мира». Каждое из этих фундаментальных положений предполагает наличие двух соотносящихся друг с другом, но обладающих относительной самостоятельностью методологических абстракций, кинематико-геометрической и силовой. Вместе с тем до их ясного осознания и разворачивания в цельную теоретическую систему еще далеко. Почему возникла такая ситуация?
Дело в том, что посредством Декартовых «циркулей» новое понимание движения прямо, непосредственно «вошло» в математику. Пронизывание математики шарнирными механизмами позволяло с предельной наглядностью представить одновременно и единство, и расчленение силового и кинематического аспектов теории движения. В дальнейшем это позволило «снять» силовой аспект, так как сила выступает здесь в качестве методического приема. Но подобная «трансплантация», не выводящая из непосредственной слитости теоретического и практического (инструментальность), подобное «пронизывание» сразу же обнаруживает свою ограниченность — со стороны метода. А ведь именно метод, по замыслу Декарта, должен стать основным орудием создания новой науки. Есть от чего прийти в отчаяние!
Очень скоро Декарт осознает бесперспективность своей первоначальной идеи, несмотря на первые значительные результаты, к которым привело ее развитие. Как раз тогда, когда он, как представлялось, был так близок к реализации своего плана, выяснилось, что «руководящую» идею реализации этого плана надо искать в чем-то другом; надо было вновь «переключаться», предстояло вновь отказаться от того, с чем он уже успел свыкнуться. Это предусматривалось принципом «сомневайся во всем!» Но принцип принципом, а как тяжело так круто поворачивать, особенно в первые мгновения (дни, месяцы)! Много страниц Декартианы посвящено мучениям последующих пяти лет (1622–1626), которые пришлось претерпеть Декарту: о мучительности самоизменения сказано не ради красного словца… Позже Декарт найдет выход из этой мучительной ситуации.
Но это будет позже, а сейчас, в поисках метода — снова в путь. До этого момента речь шла, применяя выражение Гегеля, о «приобретении и отстаивании принципа во всей его неразвитой напряженности» (32, V, стр. 3). Теперь, с возвратом, в ходе этого «приобретения», назад, к началу, естественным образом произошло первое соединение, «со-чинение» двух разнородных частей его жизни: до 1618 года, до встречи с Бекманом, и последующего краткого, но столь интенсивного периода; соединение, «со-чинение» двух принципиально различных способов деятельности (мышления), двух логик — схоластической и новой, логики Науки, «Всеобщей Математики», метода.
Одно из коренных значений древнегреческого слова «методос» — путь. До сих пор в поисках метода Декарт наряду с познанием природы ввел в правило постоянную ретроспекцию проделанного им пути. Как мы видели, путь этот на первый взгляд представляется цепью счастливых случайностей. Но к рассматриваемому моменту стало ясно, что этот путь-методос в качестве основного способа исчерпал себя.
Теперь читатель, наверное, понимает, что отнюдь не ради оригинальности мы назвали эту первую главу «Сочинение жизни». Декарт, может быть, как никто из мыслителей XVII века, видел своей сквозной задачей не только и даже не столько сочинение теоретических трудов, он стремился сочинить, продуманно построить собственную жизнь. И действительно, вся жизнь Декарта, как мы в этом уже начинаем убеждаться, не была простой равнодействующей бесчисленных жизненных случайностей и коллизий. Декарт сумел сам, почти до последней минуты, методически организовать свою судьбу в соответствии с тем замыслом, который окончательно сформировался в момент Ульмского «озарения» 10 ноября 1619 года. И характеристика эта отнюдь не случайна. Она крайне существенна для правильного понимания всего картезианства не только как определенного образа мысли, но как определенной системы поведения, понимание которой и сопоставление с которой столь актуально для человека XX века. Но вернемся к 1619 году.
Сочинение жизни… Свою точную и наиболее трагическую формулировку эта проблема получила во время одного из трех знаменитых снов в ночь с 10 на 11 ноября 1619 года в не менее знаменитом с тех пор ульмском убежище Декарта — в виде строки из седьмой поэмы Авзона, которую он прочел на странице раскрытой перед ним книги:
4. «По какому жизненному пути я последую?»
Зиму 1622/23 года Декарт провел в Париже. К этому времени он уже, во-первых, располагал общим планом преобразования науки, воплотившимся в «последовательности черновых проектов…интеллектуальных образов действия, которые мало-помалу определялись и уточнялись» в предшествующих трактатах, частных записках, проблемных набросках и т. д. (103; стр. 21, 443). Во-вторых, окончательно прояснились, в общих чертах, основная цель науки и ее предмет — поиск истины на пути познания природы, мира в целом, который в качестве предмета познания должен быть представлен математически или, точнее, должен быть геометризован: «Во время своих зимних занятий (1619–1620 годы), — свидетельствует один из современников Декарта, ссылаясь на воспоминания последнего, — он пришел к выводу, что, сопоставив тайны Природы с законами Математики, можно дерзнуть каждую из этих тайн раскрыть с помощью ключей — этих законов Математики» (63, I, стр. 430). В-третьих, орудие преобразования науки Декарт видит в новом («Математическом») методе, главные идеи которого уже определились, — в тесной связи с идеями нового мировоззрения.
С большим воодушевлением он принимается за работу, направленную, с одной стороны, на дальнейшее исследование познавательных способностей человеческого ума, которые должны быть усовершенствованы по определенным правилам. С другой стороны, интенсивно возрастают и совершенствуются математические познания Декарта. Именно в этот период его внимание начинают все более и более привлекать конические сечения, но пока все еще, главным образом с точки зрения соотношения с кривыми, проводимыми с помощью его «циркулей». Энтузиазм его возрастает по мере приближения того дня, когда — Декарт в этом абсолютно уверен — будут окончательно сформулированы основные правила метода познания и принципы науки, основанной на этом методе и способной познать мир.
Что касается последнего, то все составляющие его вещи и протекающие в нем явления со своей стороны также почти полностью «подготовлены» к тому, чтобы быть познанными единым способом — методом всеобщей, или универсальной, Математики. Здесь осталось лишь более тщательно проверить основные принципы классификации соответствующих вещам и явлениям познаваемого мира линий и фигур, еще и еще раз просмотреть, не упущено ли что-нибудь. «Завершить», по выражению Декарта, создание науки можно было, найдя «клеточку» метода, в которой последний переходил бы в теорию, и обратно: необходимость этого вытекала из «орудийного» характера метода (так мыслил себе его Декарт), его «отщепленности» от науки, теории.
Применительно к ситуации, представшей перед Декартом весной 1623 года, это можно сформулировать следующим образом: необходимо было среди бесчисленного множества вещей материального мира найти такую, которая в одно и то же время «есть, — применяя выражение Декарта, употребляемое им (11, стр. 148) в другой связи, — тело и не-тело». Это «тело — не-тело», (а) будучи реальным физическим субстратом, должно было быть столь же реально, без грана всякой мистики, рационально представимым не-субстратом, чистой «структурой», геометрической системой, задаваемой совокупностью постулатов, аксиом и определений; (б) это «тело» должно воплощать способ перехода метода в теорию, движения — в теоретический образ, должно было стать «механизмом», переводящим динамику действий в геометрию линий, углов, фигур. Проблема, казалось бы, достаточно трудная, даже безвыходная и, вместе с тем уже таящая в самой постановке вопроса свое решение…
Все это явилось для Декарта полной неожиданностью, и вместо предвкушаемого удовлетворения от видевшегося ему близкого завершения труда и венчающей все усилия победы он был повергнут в глубокое уныние открывшейся перспективой. Искомое связующее звено по самой своей природе не могло находиться ни среди объектов геометрии, ни среди первозданных, не тронутых рукой человека природных вещей… На сей раз даже поэзия не смогла смягчить обострившееся до предела душевное смятение. Вспомнив о данном им более двух лет назад обете[11], Декарт решает, что настало время исполнить его, правда совсем при других, чем он предполагал, обстоятельствах. С наступлением весны 1623 года он отправляется в Италию.
В Париж Декарт возвращается в конце лета 1625 года полный решимости продолжать начатую им работу по созданию новой науки. Трудно сказать, что укрепило его в этом намерении, но о том, что именно в таком настроении Декарт возвращается из путешествия, свидетельствуют некоторые из принятых им решений, касающиеся дальнейшего образа жизни. Речь идет, во-первых, о намерении никогда не занимать никакой чиновничьей должности — его реакция на предложение таковую купить и тем самым навсегда поселиться во Франции. Во-вторых, с этим решением было, вероятно, связано и другое — никогда не жениться. Претендентке на роль жены, некоей мадам Розэ, он заявил — разумеется, со всей изысканностью галантного шевалье, — что «невозможно найти красоты, сравнимой с красотой Истины» (а однажды в веселой компании он высказался еще откровеннее, заявив, что, по его собственному опыту, найти «прекрасную женщину, хорошую книгу и истинного проповедника» — труднее всего на свете; 13, XII, стр. 69–70). Об этом, наконец, свидетельствуют четыре «временных правила морали», принятые им к неукоснительному исполнению в дальнейшем:
(1) жить, не претендуя ничего обновить ни в политике, ни в религии (внешняя сторона); (2) что касается внутренней жизни — строгость и решительность, решения принимаются после обдумывания, нет места ни сожалениям, ни угрызениям совести; (3) чистое и простое приятие событий. Второй и третий пункты живо напоминают мудрость стоиков, первый — эпикурейскую максиму, но Декарт почерпнул эти положения не у них — сказалось воздействие «христианского скептицизма» (некоторые представители его были названы ранее), с той существенной оговоркой, что мировой порядок воспринимается как подвластный рассудку, а не богу. Но это не все, есть еще правило, (4) предписывающее использование первых трех для того, чтобы посвятить жизнь «разысканию истины» (если воспользоваться названием одного из ранних трактатов Декарта. См. 9). Но в свете последнего правила полностью меняется смысл и направленность первых трех: все они носят временный характер, применимы лишь в данное время для руководства в научных исследованиях, в ожидании лучших правил — правил, в один прекрасный день познанных наукой: мораль будущего, определенная и полная, будет основана на фундаменте научной достоверности (см. 13; XII, стр. 56–58).
Сочинив столь своеобразно антитезы гамлетовской дилеммы — решительность размышляющего действия при полном господстве сомнения в качестве единственной основы действенного размышления, — Декарт приступает к созданию Новой науки.
Глава II. «Правила для руководства ума» и зарождение новой науки
Декарту было одно великое призвание — начать науку и дать ей начало.
А. И. Герцен1. У истоков новой науки
Говоря о вкладе средневековья в дело подготовки предпосылок создания науки Нового времени, Ф. Энгельс отмечает: «…со времени крестовых походов промышленность колоссально развилась и вызвала к жизни массу новых механических (ткачество, часовое дело, мельницы)…и физических фактов (очки), которые доставили не только огромный материал для наблюдений, но также и совершенно иные, чем раньше, средства для экспериментирования и позволили сконструировать новые инструменты» (6, стр. 501). Мельницы и очки; машины и оптика; новый, механико-математический метод познания мира — и новое видение этого мира. Все это причудливо и глубоко органично сочеталось в новой науке, создаваемой Декартом.
Для начала зададимся вопросом: почему новая наука видится Декарту в виде «Всеобщей-» или «Универсальной Математики», а не, скажем, «Всеобщей Гармонии» и т. п.? Конечная причина этого — в коренных изменениях способа производства, в новой специфике основных форм сочетания и разделения труда и в теоретическом воспроизведении этих изменений. Приобщенный волею судеб к «горячим началам» новой техники и новой теории, «Декарт… — по словам Маркса, — смотрит на дело глазами мануфактурного периода» (3, стр. 401). Посмотрим и мы.
Во времена Декарта ремесло в «чистом» виде начинает оттесняться (в таких странах, как Италия, Голландия) ремеслом, организованным по новому принципу в мануфактурных мастерских — «производственном механизме, органами которого являются люди» (3, стр. 350). Каждый «винтик» этого механизма состоит пока не из дерева или железа, а из обыкновенной человеческой плоти, и его функции становятся все более простыми, элементарными; определяются они теперь не способностями работника, а только тем положением, той «точкой», которую он занимает в механизме: дальше или ближе от исходной точки расположена «точка» функциональная.
Создаются «прочные математические пропорции для количественных размеров» органов «общественного совокупного рабочего», развиваются «количественные нормы и пропорции общественного процесса труда» (3, стр. 357–358).
Связь функций «частичных работников» — «деталей» потенциальной машины — отщепляется от них самих и в виде плана, алгоритма производства противостоит им. Образ процесса, его «картина» задается геометрически, время из характеристик движения полуфабриката между работниками мануфактурной мастерской исключается, выступая в качестве метрической основы целесообразной определенности производственного процесса в стадиях его планирования и оценки результатов (максимум продукции в минимальное время). В качестве первопричины в цепи причин, вызвавших коренное изменение характера предметной деятельности на заре нового времени, Маркс указывает на «принцип машинного производства… — разлагать процесс производства на его составные фазы и разрешать возникающие…задачи посредством применения…естественных наук», который «повсюду становится определяющим. Поэтому машины проникают в мануфактуры» (3, стр. 477. Разрядка моя. — Я. Л.).
Принцип машинного производства предшествует собственно машинному производству — можно ли найти более фундаментальное свидетельство органического развития диалектической системы: вначале — всеобщая связь в виде абстрактного принципа, затем — возникающее по ее законам многообразие частей, ее конкретизация! Полная противоположность привычно-индуктивистскому, обобщенческому взгляду, согласно которому дело выглядело бы так — применительно к данному случаю: появление машин и системы машинери — обобщение их специфических закономерностей — формирование обобщенного принципа производства. Представляется важным подчеркнуть это для понимания дальнейшего рассмотрения…
Структура человеческой деятельности в своей первооснове становится математической. В теоретическом отображении этой деятельности происходили аналогичные процессы, приведшие к потребности нового метода как метода математического и определившие логику формирования и развития новой теории, новой науки, «руководящая идея» которой — измерение движения посредством измерения пространства — уже созрела, как видим, в недрах нового способа деятельности. Здесь, в частности, мы можем закончить мысль, начало которой относится к прошлой главе: логика передаточного механизма вновь обнаруживает себя, но на этот раз в качестве исторического момента содержательного определения машин — миллионы раз повторенная, воспроизведенная в перемещении полуфабриката между работниками мануфактурной мастерской, геометрико-кинематическая картина (образ) движения «неожиданно» обнаруживает себя в устройствах, которые «завещаны были еще Римской империей»…
«Математизация» деятельности, а вместе с ней и «математизация» (алгоритмизация) метода, представляющиеся сегодня абстрагированием от всякого содержания, в рассматриваемую эпоху представляла в самой своей первооснове единственно возможный путь дальнейшего проникновения в более глубокий «слой» содержания, путь перехода к новой сущности. В плане теоретическом единственным идеальным эквивалентом процесса, его «проекцией» в плоскости идеального мог стать лишь процесс математизации знания о природе — математизация физики, процесс формирования механико-математических идеализаций природных явлений. Вот в чем была суть того запроса, который постоянно ощущается Декартом в годы сотрудничества с Бекманом, Фаульхабером и другими учеными-инженерами нового типа, в частности с мимоходом упомянутым, но «забытым» затем Хебенштрайтом.
В конце средневековья схоластика в процессе своего развития также делала шаги в сторону «математизации»: во-первых, развитая, поздняя схоластическая логика, отщепившись от своего религиозно-онтологического предмета, была на грани превращения в метод; во-вторых, нарастало число так называемых «рационэс математикэ» (математических аргументов) в схоластических спорах и диспутах (ср. 95, стр. 17–36); наконец, в-третьих, как было отмечено выше, именно из средневековых схоластических споров о природе движения вычленилось направление, порвавшее с традиционным для античности и средневековья пониманием движения и оформившееся в так называемой теории калькуляций и широт форм (XIV в.).
Но на пути превращения схоластической логики в метод было одно непреодолимое препятствие. Поскольку предмет предстает как совокупность приемов по его обработке, он должен был говорить, вещать о своем мастере, и лишь постольку, по остроумному замечанию А. В. Ахутина, он становился вещью. Предметом схоластики было СЛОВО, слово как «ничто» мысли, как небытие мысли, но слово не в современном, информационном смысле: оно живет как слово, воспринимаемое на слух, вещающее. Полнее всего это выражалось в отношении речь — мысль. Мысль как рецепт, заклинание, мысль как особая вещь — вот какой предмет впервые в истории медленно, разветвленно, в доступных ей религиозных формах разрабатывает на протяжении полутора тысяч лет философия — служанка религии.
Именно в слове человек средневековья мог «отстраниться» от своей жизнедеятельности, сделать ее предметом своего внимания и преобразования, в слове, ибо во всем остальном он был прочно зажат в доспехи регламента. Но слово принципиально исключало основу античной науки и философии — образ, форму, «эйдос», и тем самым схоластика была несовместима с «подлинной» античностью, так что первое, с чего начинало Возрождение — с восстановления «подлинной» античности, например «подлинного» Аристотеля или Архимеда и т. д. «Образ мира» античности переплавлялся схоластической мыслью средневековья в мир слова, «видение» которого обеспечивалось ушами: «Чтобы видеть ход вещей на свете, — говорит Лир, — не надо глаз. Смотри ушами» (58, стр. 121).
Перед мыслителем, стоящим на грани Нового времени, прежде всего вставала сложнейшая проблема — как сплавить и переплавить в новом методе познания два исходных определения мышления, сформировавшиеся в истории культуры: античную мысль, отталкивающуюся от образа, «эйдоса», идеализующую такое теоретическое чувство, как зрение, и средневековый образ мышления с его развитой культурой слова, речи, рецепта, идеализующий такое теоретическое чувство, как слух.
Или, формулируя эту идею в несколько иных словах, новый метод должен был разрешить трудность нового сочетания чувства и мысли, феноменологии познания и логики познания. Необходимо было найти новый идеальный образ мира, не тождественный ни «эйдосу» греков, ни «слову» схоластов, но «снимающий» в себе культурные возможности того и другого.
Не случаен в этой связи глубокий интерес Декарта, с одной стороны, к геометрической оптике, позволяющей трансформировать греческий «эйдос», идею вида вещей, и, с другой стороны, к схоластике, точнее, к аналитическому «ядру» схоластической культуры мышления.
Две эпохи, две взаимоисключающие друг друга в первооснове культуры, обе необходимые: как установить связь между ними, между «словом» и «образом», если между ними — пропасть? Как «сочинить», соединить их:
Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить! (59, стр. 61).Первые следы декартовских занятий оптическими проблемами мы находим в его «Частных мыслях», в заметках, сделанных в период пребывания в Ульме. И. Хебенштрайт, с которым он свел знакомство, был корреспондентом И. Кеплера в Ульме (сам Кеплер жил в это время в Линце), и вполне вероятно, что во время их бесед наряду с космологическими проблемами обсуждались и проблемы оптики — а том виде, как они к этому времени представлялись в трудах Кеплера «Дополнения к Вителлию, или Оптическая часть астрономии» и «Диоптрика». (Новейшие исследования делают весьма соблазнительным стремление придать словам Декарта «Кеплер был первым моим учителем в оптике» (14, II, 86) буквальный смысл. Дело в том, что в канун отъезда Декарта из Ульма Хебенштрайт в письме Кеплеру от 1.II.1620 г. рекомендует ему некоего весьма образованного человека с необыкновенным умом (84, стр. 16) и просит помочь молодому французскому ученому советом. Возможно, речь идет о Декарте, поскольку в фамилии этого человека изменена лишь одна буква: ульмский корреспондент Кеплера пишет «Картелиус» вместо «Картезиус» (89, стр. 416.)
Итак, к 1625 году, когда Декарт вернулся в Париж, полный решимости вплотную приступить к созданию новой науки с помощью метода, он уже обладал основными положениями последнего. Пропущенные сквозь игольное ушко сомнения, они свелись к небольшому числу простейших правил, посредством которых из основных положений может быть выведено все богатство подвергшегося анализу материала. Но сначала испытанию должны подвергнуться сами правила; это необходимо, но теперь стало и возможным, ибо «опыт может дать достоверное знание только в отношении самого простого и абсолютного» (11, стр. 106–107).
Свои исходные «правила открытия» Декарт проверяет (сам такой подход крайне характерен для нового, не схоластического метода) в процессе реального открытия. Он осуществляет опыт, относящийся к одному из важнейших разделов диоптрики, причем руководствуется в этом опыте той логической последовательностью, которую в общих чертах наметил раньше.
Речь идет о следующем. Декарт чисто опытным путем решает одну из ключевых проблем диоптрики — проблему анакластической линии: если дана конфигурация линзы (эллипс, гипербола), на которую падает луч света, параллельный фокальной оси, то при каких геометрических условиях преломленный луч пройдет через один из фокусов? Открыв простейшее отношение — закон синусов — и связав его с этой проблемой (что само по себе было гениальным открытием), Декарт создает «экспериментальную ситуацию», после чего, строго следуя своим правилам, проводит опыт, цель которого, представленная в результате, крайне проста: ответ находился в прямой связи с совпадением или несовпадением, в пределах опыта, двух величин— теоретически предсказанной величины (расстояние от фокуса до изображения) с величиной расстояния, полученной в результате эксперимента. Величины совпали:
«…Весь опыт, некогда проделанный мною… — пишет он в 1632 году, — состоял в том, что я нарезал и отшлифовал стекло, примерно семь лет назад…а когда оно было готово, все лучи Солнца, проходившие сквозь него, собрались в одной точке точно на том расстоянии, которое я предсказал. Это убедило меня в том, что либо рабочий его удачно сделал, либо мое рассуждение не было неверным» (14, I, 48).
Подверглись испытанию правила, которыми руководствовался ум Декарта, решая существеннейшую проблему оптики, этой науки наук XVII века. Вместе с конкретным научным открытием было совершено еще одно, методологическое открытие. Обнаружилась необходимость и возможность постоянной (как это формулируется в Новое время — рефлективной) работы над собственным умом, необходимость и возможность постоянного обращения мысли на мысль, постоянного развития самой способности мыслить, открывать, изобретать. Тот ум, который должен руководствоваться правилами Декарта, — это уже не созерцающий и спокойный ум античного мыслителя, это не застывший, от бога сформированный Ум средневековья, это ум, способный изменяться, отстраняться от самого себя, это ум, отвечающий и историческому, и социальному, и техническому динамизму Нового времени.
Теперь можно со спокойной совестью начать систематическое изложение всего достигнутого, начать возведение Здания. Начав еще в Париже в 1627 году набрасывать «небольшой метафизический трактат», Декарт, окончательно утвердившись в своем намерении поселиться в Голландии, осуществляет его в 1628 году; обосновавшись, продолжает писать трактат, который становится «Правилами для руководства ума».
2. Метод. «Правила для руководства ума»
По замыслу трактат должен был состоять из трех частей, каждая часть должна была включать 12 «Правил». В первой части предстояло изложить собственно принципы метода; во второй — показать, как сделать эмпирию объектом теоретического исследования: построить математическую модель физической задачи; в третьей части предполагалось показать, как такую задачу решать. Но трактат в том виде, в каком он нам известен, состоит из полных восемнадцати «Правил»; следующие три «Правила» обозначены лишь заголовками, и после обозначенного таким образом «Правила XXI» Декарт ставит: «Конец».
Как видно уже из самого названия трактата, цель его — двойная. Во-первых, он предназначен «для руководства ума» в направлении его усовершенствования с тем, чтобы обладатель ума, достигнув определенной степени совершенства, искусства, смог открыть, «из-обрести», обрести из самого способа усовершенствования ума путь познания Истины. Это, следовательно, правила в классическом средневековом смысле, правила в смысле приемов, нормативов времени. Но в то же время они являются правилами методологическими, характерными для Нового времени: Истина не дана заранее, ее только следует открыть, открыть с помощью метода, орудия, которым может пользоваться «всякий…как бы ни был посредственен его ум» (11, стр. 111); для успешного решения задачи — ввести ключевое, принципиально новое разделение на «нас, способных познавать», и на независимый от нас объективный мир «самих вещей, которые могут быть познаны» (11, стр. 110).
«Правила…» — это первое развернутое систематическое «сочинение», соединение двух эпох, двух «времен», соединение концов «порванной нити» и одновременно это — развернутый план, программа будущих сочинений — в обоих смыслах этого слова. Здесь впервые с такой отчетливостью предстает Декарт «раздвоенный», в ставшей уже внутренней «диа-логике», Декарт, не равный самому себе, «дуальный», человек типично средневековый и в то же время человек, целиком относящийся к Новому времени, — субъект деятельности, схваченный в момент своего коренного превращения.
Отмеченная выше историческая необходимость вычленения метода в форме метода математического предстает в «Правилах…» как картина внутрилогических закономерностей теоретического развития Декарта — в исходном, отправном пункте этого развития, в своем «замысле».
Придя к выводу, что «метод необходим для отыскания истины» (11, стр. 88), Декарт вплотную приступает к его разработке. «Главный секрет метода» состоит, по его словам, в том, что рассматривается не та или иная вещь сама по себе («нужно… их не рассматривать изолированно одну от другой»), а «ряд вещей, в котором мы непосредственно выводим какие-либо истины из других истин». Для этого вначале надо определить, «какие из них являются самыми простыми», а затем остается лишь «следить… как отстоят от них другие: дальше, ближе или одинаково» (11, стр. 96). Перед нами вновь предстает знакомая картина, приводящая к мысли о «задании» процесса в терминах протяженности. Но здесь речь идет уже о заданности внутри самого способа задания — в методе. Благодаря тому что наряду с вещами рассматриваются и их связи, методическое движение представляет собой непрерывный процесс. Так, например, находя «посредством различных действий отношение сначала между величинами А и B, затем между В и С, между С и D и, наконец, между D и E», для того чтобы уловить их общую связь и в дальнейшем учитывать ее, необходимо «обозревать их путем последовательного движения представления так, чтобы оно представляло одно из них и в то же время переходило бы к другому» (11, стр. 101. Курсив мой. — Я. Л.).
Элементарным актом связи, своего рода «квантом» движения как непрерывного логического (рационального) перехода выступает акт интуиции. Характерно, что в «Правилах…» эта логическая «единица» предшествует введению единицы количественной и обусловливает его. Декарт выделяет два основных средства познания: интуицию и дедукцию. В дальнейшем к ним присоединяется еще и третье — полная энумерация, или индукция.
Под интуицией имеется в виду «понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума» (11, стр. 86). Интуиция в «Правилах…» Декарта является «интуицией простейших», т. е. элементарных, геометрических образов, взятых в их связи. В интуиции осуществляется смыкание теории и опыта — в его всеобщем, достоверном геометрическом выражении; именно поэтому интуиция выступает элементарным актом познания и его «точкой роста», а само познание понимается как последовательность, упорядоченная цепочка интуиций.
Порядок следования составляет сущность «другого способа познания, заключающегося в дедукции (в переводе на язык математики — в алгебре. — Я. Л.), посредством которой мы познаем все, что необходимо выводится из чего-либо достоверно известного». Разница между интуицией и дедукцией состоит в том, «что под дедукцией подразумевается именно движение или последовательность, чего нет в интуиции» (11, стр. 87–88). Полная «математическая энумерация» «завершает» обретенное таким образом знание (11, стр. 101). Но она одновременно и продолжает его, и вновь «начинает», т. е. обеспечивает непрерывное воспроизведение процесса. Действительно, то, что охвачено индукцией, становится единой частью знания, освоенной интуицией; но тогда мы вновь имеем дело с исходным образом, посылкой, «схватываемой» одним интуитивным актом.
Шаг за шагом развиваемая таким образом система постоянно включает в себя в качестве гаранта истинности свои основания и в итоге каждого шага развития вновь обращается к этим основаниям, изменяя их, подвергая их сомнению. Сомнение — «сомневающаяся» способность мышления — единственный достоверный источник всей системы знания, и сомнение — единственный способ развития знания; исходная посылка и элементарное правило вывода, оба единственно истинные, совпадают! Но здесь это впервые предстает (сейчас будет показано, как) в «технологии» развития метода, в элементарной «клеточке» его функционирования, и это же становится закономерностью развития всей системы воздвигаемой науки. Сомнение, бывшее до сих пор фактором моральным, снимается в сомнении методологическом, методическом. «Девиз» движения отныне — при всем разнообразии, сложности и переплетенности форм и систем — двоякий: «Преодолеть себя!» и «Назад, к истокам!». Приглядимся же со вниманием к наметившейся «клеточке».
По мысли Декарта, метод является орудием человека, и схема взаимодействия человек — метод в процессе работы очень проста и сводится к следующему: метод совершенствует определенные способности человека, доводя само совершенство до крайних границ. Происходит это в ходе анализа способностей, состоящего в сведении их к элементарнейшим, далее нерасчленяемым, простейшим действиям. Но в таком виде они теряют всякую конкретную связь с той или иной конкретной особенностью конкретного индивида и становятся в силу этого элементами метода, в терминологии Декарта — обретают статут простейших положений, аксиом, на которых базируется метод. Такова суть первых семи «законополагающих» «Правил…». Именно в постоянном движении этого «челнока» декартова метода разворачивается нить дедуктивного следования и ткется основной узор теоретических конструкций. Вот почему, с другой стороны, аксиомы, или простейшие положения метода, совпадают с простейшими правилами действия, которые необходимо производить над этими аксиомами. Ввиду того, что они являются, в силу своей простоты, крайне неразвитыми положениями, их совпадение носит абстрактный характер.
Мы рассмотрели лишь один аспект орудийного использования метода: отношение субъект деятельности — орудие деятельности. Но взятое само по себе, это отношение оставалось бы бесплодной схемой (столь характерной для всего аппарата поздней схоластики), если бы не его обращенность на объект деятельности — материальный мир в целом, со всем бесчисленным множеством составляющих его предметов и явлений.
В рамках жесткого Декартова расчленения на субъект познания и независимый от него объективный мир процесс познания осуществляется посредством интуиции и дедукции. Интуиция схватывает цельные, «фигурные» геометрические образы, которые посредством дедукции расчленяются и тем самым объясняются и понимаются. И если интуицию, согласно Декарту, можно рассматривать как некий аналог геометрии, геометрического метода (или, точнее говоря, геометрического «варианта» всеобщего метода), то дедукция имеет явную тенденцию к методу алгебраическому. Здесь, таким образом, развивается картезианская концепция математики, согласно которой алгебра является способом понимания геометрии.
Для Декарта критерием конечной объективности предмета является его бесспорность и очевидность для ума. Именно через «самоочевидность» раскрывается тождество объективности и логичности. В качестве основания такого тождества утверждается субстанциональность вводимой Декартом в «Правиле XIV» протяженности. Протяженное и дедуктивное — вот два образа непрерывности, которые взаимоопределяют друг друга. Но все дело в том, что их взаимоотношение не является непосредственным, хотя на первый взгляд это представляется именно так. Аксиомы, или простейшие положения метода, оказываются теми аксиомами, на которых базируется теория, а простейшие правила действия субъекта обретают в методе характер правил вывода из аксиом. И снова в силу предельной простоты, абстрактности и тех, и других аксиомы сами задают простейшие правила вывода.
Понимаю, все это настолько нелепо звучит для уха современного читателя, что если не раньше, то теперь уж, вероятно, не правила, а сам он, читатель, «выведен из себя». Да и автору самому, признаться, стало как-то не по себе: если в самом своем «замысле» и последующем его воплощении и развитии вся наука, целостная «теоретическая система — как вытекает из только что сказанного — вновь может быть представлена как…геометрический образ — предмет интуитивной очевидности, но теперь уже …сам в себе несущий свое обоснование» (23, стр. 206. Курсив мой. — Я. Л.), то куда все это девалось, почему сегодня чуть ли не каждая дисциплина должна развивать, параллельно со своим теоретическим позитивным «телом», гигантский аппарат обоснования своих собственных оснований, и каждый раз дело кончается, как правило, набором парадоксов?
Сделаем небольшое отступление. В так называемых «приложениях» общего метода отмеченное обстоятельство — аксиомы сами задают простейшие правила вывода — воплощается, например, в физике введением понятия инерции, в «Геометрии» — фактическим включением аксиом и определений в простейшие возможные построения — постулаты. В первом случае ответ на вопрос «как движется?» одновременно объясняет и «почему движется?». Это, забежим вперед, — спинозовская «causa sui»[12] физики, идеал науки на каждом этапе ее развития. Что касается «Геометрии», то в рамках простейшего математического аппарата, используемого Декартом, — теории пропорциональных отношений, — таким постулатом является построение единичного отрезка. Как представляется, в этом коренится причина того, почему Декарт, уже обладая разработанным им аппаратом алгебраической символики, конечную цель решения алгебраических уравнений сводит к построению отрезков прямой…
Итак, перед нами элементарный акт познания (деятельности) с «компонентами»: субъект — метод — объект, «ядро» этой «триады» — метод.
Таким образом, заметим попутно, спускаясь с «поверхности» привычного и в общем верного, формального противостояния, противоположения декартова метода и его дуалистической философии в самую сердцевину метода: разворачивание метода как раз и составляет содержание теории, философии, и наоборот. Так что и здесь, «поверив» Декарту, что он сначала создал, культивировал метод, а затем с помощью этого «орудия» начал возводить здание, мы сразу же закроем себе путь к проникновению в самую суть проблемы, стоящей перед нами во всей своей остроте, проблемы, имя которой — «Декарт». Связь метода и теории здесь гораздо органичнее.
Действительно:
Во-первых, метод, согласно Декарту, представляет собой совокупность правил перевода интуитивного в дедуктивное, одновременного — в последовательное.
Во-вторых, он задает способ сведения (регресса) к «простейшим» (аксиомам — исходным геометрическим образам), и этим регрессом является доказательство. Выведение из «простейших» является обращением доказательства и протекает параллельно последнему. Оно, по выражению Декарта, возвращается по тем же «ступеням». Происходит это по правилам вывода, обретенным в конечной точке регресса, в пункте «возврата», и позволяет осознать само доказательство. Вот почему вывод и тождествен («по тем же ступеням»), и не тождествен («осознание») доказательству. Естественно, что временное здесь с необходимостью исчезает, растворяясь в упорядоченной последовательности интуитивных актов. Для ясного понимания этого обстоятельства следует учесть, что Декарт, говоря о движении вообще (движении как изменении, как всеобщем принципе — в контексте всеобщего метода, а не того или иного из его «приложений»), имеет в виду мыслительное движение. Время здесь является мерой, «числом» движения.
Наконец, в-третьих, следует упомянуть об уже отмеченном двойственном характере самих «Правил для руководства ума». Для того чтобы пояснить эту мысль, вернемся на время к тому реальному эксперименту, который осуществил Декарт, руководствуясь своими первоначальными правилами, в диоптрике. Ведь если мы вдумаемся, то поймем, что эксперимент Декарта носил двойной характер. Это был естественнонаучный эксперимент в обычном смысле этого слова (линзы, преломление света, фокусные расстояния и т. п.). Но это был одновременно своеобразный experimentum crucis[13] и для самих декартовских правил. Здесь вопрос стоял так: а годятся ли действительно эти правила как руководящая нить при совершении открытий, или они носят чисто схоластический, словесный, принципиально непроверяемый характер? Реальный опыт, поставленный Декартом, послужил ответом на оба эти вопроса: и вопроса, касающегося «природы вещей», и вопроса, касающегося природы ума.
Но самое интересное в том, что необходимость такого эксперимента в отношении самих декартовских правил — это не просто частный биографический факт «из жизни Декарта», нет: эта необходимость заложена в самих правилах.
Не случайно последние правила в этом незаконченном трактате касаются уже не общих логических требований, но необходимого сочетания геометрического и алгебраического подходов при решении естественнонаучных проблем. В заключительных «Правилах» Декарт направляет своего «героя» — ум исследователя Нового времени — на вполне определенный объект, обнаруживает, что его рождающийся метод вовсе не является абстрактным методом вообще, а по самой своей природе, в самый момент своего рождения ориентирован на изучение того мира, в котором господствуют законы геометрической оптики.
В движении этого эксперимента соединяются в логически связанное целое все основные правила метода. Они действуют уже не рядом друг с другом, а последовательно, прямо обнаруживая свою эвристическую силу. В этом опыте реализуется то обращение и взаимопревращение дедукции и интуиции, которое составляет логическую схему метода Декарта. Далее. Именно в сфере оптики реализуется (и у самого Декарта, и в дальнейшем развитии науки) возможность геометрического понимания физических объектов и возможность полагания движений в их динамической определенности как геометрико-кинематических элементов — линий, углов, фигур. Наконец, именно в этом эксперименте была впервые опробована эвристическая сила взаимопревращения аналитических и геометрических представлений. Так в простеньком и достаточно частном эксперименте были испытаны все те «компоненты» Декартова замысла математизации физики, которые затем разрослись в сложную методологическую и теоретическую систему современной науки.
Приглядимся к элементарному акту познания (в «Правилах…» Декарта) еще с одной стороны. Интуитивно схваченное целое, которое затем посредством дедукции разворачивается, становясь основой сложнейших доказательств, само уточняется в процессе дедукции. Согласно Декарту, в ходе и по мере развития метода интуиция совершенствуется, схватывая в качестве единого «блоки» все возрастающей сложности. В связи с этим значительность совершаемых открытий все более возрастает. Сама жизнь Декарта была своеобразным аналогом такого постоянного возвращения к началам и превращения этих начал во все более глубокие и всеобщие основы нового метода.
Творческое развитие Декарта в этот период было сведением общего плана новой науки, выработанного с позиций нового мировоззрения, к одной простейшей проблеме и венчающему ее опыту. В этом развитии мысль Декарта вновь и вновь совершала тот же челночный ход. Метод, развиваемый Картезием, претворялся в новую, более глубокую теорию (и естественнонаучного, и общефилософского плана), а этот новый фрагмент теории оказывался основой для нового развития метода в его эвристическом плане, для развития метода как логики открытия, логики изобретения.
Для того чтобы читатель четче представил себе место «Правил для руководства ума» не только в развитии самого Декарта (что является нашей основной задачей), но и во всем развитии новой науки, подчеркнем лишь одну существенную деталь. Каждый раз, когда современный логик или математик обращает внимание на то, как совершаются открытия или изобретения, он неизменно обращается к «Правилам…» Декарта.
Приведу пример. В замечательной книге «Математическое открытие» (45) автор, Дж. Пойа, в качестве эпиграфов, раскрывающих основное содержание и направленность как обеих частей книги, так и ее ключевых глав, приводит либо выдержки из декартовских «Правил», либо те места трактата, которые вошли в «Рассуждение о методе». Во второй главе — «Метод Декарта» — автор отмечает: «В своих „Правилах“ Декарт стремился дать универсальный метод решения задач». Приведя затем схему этого метода, он продолжает: «С течением времени сам Декарт должен был признать, что имеются случаи, когда его схема является непригодной… В намерении, положенном в основу схемы Декарта, можно усмотреть нечто глубоко правильное. Однако претворить это намерение в жизнь оказалось очень трудно… Проект Декарта потерпел неудачу, однако это был великий проект, и, даже оставшись нереализованным, он оказал большее влияние на науку, чем тысяча малых проектов, в том числе таких, которые удалось реализовать» (45, стр. 45). Фактически «Математическое открытие» в том, что касается Декарта и его работы, было развернутой реализацией тех идей, которые Дж. Пойа анализировал еще в «Математике и правдоподобных рассуждениях», суммировав этот анализ в выводе, что Декартов трактат «должен рассматриваться как одна из классических работ по логике открытия» (44, стр. 198).
Но вернемся к жизни Декарта и к значению «Правил для руководства ума» в формировании новой науки.
В челночном движении своей мысли (от углубления метода к углублению теории и вновь к углублению метода) Декарт производит целую серию открытий, приведших к созданию современного алгебраического метода, к тому, что алгебра обретает собственную базу. Действуя на этой базе, алгебра окончательно отрывается от геометрии, и именно в этот момент происходит установление их плодотворного союза: на смену «геометрической алгебре» античных и средневековых математиков приходят аналитическая геометрия и собственно алгебра. Дальнейшее развитие метода намечается преимущественно в сфере алгебры, и этот переход отчетливо отражен в последних «Правилах…» трактата, точнее, в их заголовках: искомое обретено, и надо заняться детальной разработкой каждого из открытий, поток которых теперь нарастает…
Не вдаваясь в детали конкретного развития дальнейших событий (см., например, 10; особенно стр. 269–272, 278–287), отметим его ключевые моменты. В ходе занятий, относящихся непосредственно к решению сформулированной выше общей диоптрической проблемы, Декарт создал целый арсенал математических открытий и специальных методов, которые потом нашли свое место в едином общем алгебраическом методе и методе созданной им аналитической геометрии.
Первым по значению среди этих открытий является введение в геометрию координатных неизменных прямых, или (картезианской) системы координат. Благодаря этому дифференциальный подход к изучению движения получает возможность полного воплощения, ибо теперь каждая точка обретает свое «лицо» — координаты, определяющие ее местоположение. Теперь стало возможным говорить о непрерывно изменяющихся в зависимости друг от друга переменных величинах. Аналитическая геометрия начинает обретать свою собственную базу.
С введением координат движение снимается в терминах протяженности (пространства), в геометрическом образе кривой линии. Время, как таковое, исключается. Оно тоже представляется как одна из пространственных (протяженных) характеристик движения, как его координата на оси (времени): его величина задается отрезком прямой (в прямолинейной системе координат). Освобожденная от необходимости быть «самой себе методом», геометрия окончательно поглощает физику, и для достижения идеала теперь остается реализовать это тождество в масштабах Вселенной: Декарт вскоре (1630 г.) принимается за написание своего гигантского «Мира».
Другой шаг в деле создания аналитической геометрии был непосредственно связан с разработкой алгебраического метода как метода операционального исчисления, действующего на собственной основе. Решающим моментом в этом отношении была геометрическая интерпретация отрицательной величины, в результате которой она приобретала право на самостоятельное существование наряду с другими величинами. Благодаря этому появилась возможность переносить члены равенства из одной части в другую, а тем самым получающемуся уравнению придается операциональный, функциональный смысл. Уравнение f(х, у) = 0 теперь понимается уже как функция, связывающая две переменные величины (10, стр. 277). Появилось средство адекватного воспроизведения «чистого» (выражение Декарта) движения человеческой мысли в символах, его объяснения — того, что принято называть идеей движения. Понятие движения расщепляется в теории на две антиномические, «разно-пространственно» существующие «части» — геометрический образ (кривою линию) и аналитическое объяснение.
Целью науки (теории) становится полное слияние, единство физики и геометрии. Средством ее достижения, методом выступает расчленение, раздвоение фундаментального понятия — понятия движения и, следовательно, всех других основанных на нем «работающих» теоретических понятий. Здесь коренится способность взаимопревращений алгебраической и геометрической «модификаций» метода, таящая в себе громадные резервы его, объясняющая столь продолжительно сохраняющуюся стабильность действенности в истории.
Мы находимся у истоков образования той формы метода, которая при каждом «повороте» его последующего исторического развития — развивалась ли геометрия как проекция алгебры или же наоборот, — обеспечивала то, что в любом случае развивалось понятие движения. Это, к слову, позволяет решить загадку, не раз возникавшую и возникающую неоднократно перед исследователем: почему в интересующий нас период (конец XVI — первая половина XVII века), когда изучение механического движения выдвигается на первый план, в логическом аспекте и у Декарта, и у Спинозы движение выступает лишь как модус (у Спинозы — как бесконечный модус, присущий всем атрибутам)? Это, как нам кажется, объясняется тем, что в логике и философской проблематике эпохи незаметно, а иногда и явно вырабатывался способ наиболее эффективного превращения феномена движения из предмета изучения в метод логического движения, способ дедуктивного (последовательного — Декарт) воспроизведения в мысли цельных и одновременных геометрических образов. И это стремление проходит через всю последующую науку…
Раздваивается и сама теоретико-методологическая, философская деятельность Декарта — на мир как возможный (трактат «Мир…») и субъект его познания во всеоружии способов и средств («Рассуждение…» и «Метафизика»), которые (вновь!) потребуют своего «сочинения» в «геометрической диалектике»…
Произведенное разделение алгебры и геометрии позволило объединить их на принципиально новой основе. Прежде всего Декарт понял, что движение в знаках (символах) — в алгебре, представляющее движение познающего разума, и движение в образах — в геометрии, всеобщем эквиваленте познаваемого мира, тождественны между собой и протекают по одним и тем же законам. Все готово для решающего синтеза…
«Правила…» поистине неисчерпаемы, и в них, в «замысле» как реализованных, так и не осуществленных идей, надежд и стремлений, представлен почти весь грядущий Картезий. Здесь, на развилке, мы с благодарностью за узнанное и с сожалением расстаемся с ними.
Глава III. Жизнь сочинений
В новой науке Декарта и более всего в его новом методе мучительное сочинение, построение собственной жизни оборачивается своей внутренней целью, тем, ради чего жизнь сочиняется, жизнью его сочинений, продолжающейся в веках жизнью трактатов, писем, заметок… Прозаически говоря, жизнью литературного наследства Декарта. Отныне, а именно примерно с 1630 года, жизнь Декарта окончательно сосредоточилась в усидчивой, напряженной работе по созданию Книг.
В этой сосредоточенной работе (для которой переезды были уже пятистепенными деталями и отвлекающими подробностями) Декарта застала смерть. Это произошло 11 февраля 1650 года в Швеции, куда Декарт переехал, после 20-летнего проживания в Голландии, осенью 1649 года, спасаясь от преследований травивших его схоластов и протестантских богословов. Отныне настоящая жизнь Декарта продолжалась в его сочинениях, только в его работах, только в созданных им текстах. Для ориентировки в пространстве и времени вот краткая хронология его основных работ:
1) «Мир, или Трактат о свете» к 1633 году был закончен, но в это время Декарт узнает о судьбе Галилеевой «Системы мира» (так Декарт именует осужденную инквизицией книгу— (14; I, 58)); он решает если не сразу сжечь свой гигантский трактат, центральная идея которого — о вращении Земли вокруг своей оси — совпадала с идеей Галилея (а именно это прежде всего было осуждено), то по крайней мере, следуя изречению Горация, «хранить его девять лет в тайне», хорошенько запрятав текст (см. там же). Кстати говоря, он настолько успешно это намерение осуществил, что весь текст трактата до сих пор не найден: сохранилась разбираемая ниже часть его (известная под названием «Трактата о свете»), а также включенные в другие, увидевшие свет произведения различные, наиболее существенные идеи «Мира».
2) «Рассуждение о методе» опубликовано впервые в Лейдене в 1637 году вместе с тремя «приложениями», или «опытами».
3) «Метафизические размышления» опубликованы в Амстердаме в 1641 году.
4) «Начала философии» увидели свет в 1644 году.
5) Последние из рассматриваемых трактатов написаны в конце жизни, из них лишь «Страсти души» в окончательной редакции вышли из печати за три месяца до смерти Декарта.
Жизнь «внешняя» — полное уединение в соответствии с избранным им девизом «bene vixit, bene qui latuit» — «хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался» в дословном переводе (14, I, 62). От кого же «спрятался», от чего отрешился Декарт? От старой системы общения — связей, привычек, обычаев, от суеты прежней «среды обитания», отождествляемой с чуждым ему «воздухом Парижа» (14, II, 157). В таком «уединении» одинаково хороши и деревенская глушь какого-нибудь забытого богом уголка Голландии, и пестрая, шумная, бесконечная толпа Амстердама, как пишет он в послании своему другу Бальзаку (17, стр. 68–69). Это — уединение за невидимой линией упомянутой ранее «второй границы». Как и у всего остального, отныне и у этой «границы» оказалась вторая сторона: в «по-ту-сторонье» от нее простиралось не отмеченное ни на одной географической карте государство, подданным которого стал Декарт, и государство это — «Республика Ученых»; речь о ней впереди.
1. Мировоззрение. «Мир, или Трактат о свете»
зреть — поспевать, созревать; зрение — состояние зреющего
зреть — смотреть, видеть; зрение — способность видения.
В. Даль. «Толковый словарь»Декарт начинает свой трактат с того, что, взятые сами по себе, основные теоретические чувства — слух и зрение — источники подавляющего большинства наших сведений о мире вещей — не дают нам достоверных идей этих вещей. Глаз и ухо по самой своей природе улавливают нечто совершенно отличное от этих идей и в этом схожи с другими чувствами. Декартов метод — это метод механико-математической идеализации мира, способ формирования идеальных предметов, объектов теории (математическая точка, математическая нить (см. «прил.», стр. 188) и т. д.), которые чувствами не «ухватить»: их можно «видеть» лишь «очами разума», «услышать» — «ушами разума», но понять подвластные чувствам вещи можно, рассматривая эти вещи в качестве объектов механико-математического исследования. На такое понимание нацеливает, начиная с первой страницы, Декарт (11, стр. 173). С анализа света он начинает, и свет играет ключевую роль во всем рассмотрении, в способе перевода света физического в «естественный свет разума». О такой, методологической роли света Декарт со всей определенностью скажет позднее, излагая в «Рассуждении о методе» основные идеи и принципы «Мира…» (11, стр. 290, 291).
Как же объяснить все бесконечное разнообразие качеств и форм вещей, составляющих видимый мир? Это разнообразие нельзя просто отбросить, говорит Декарт, это не решение проблемы. Чувственные формы можно свести к трем элементам: огню, воздуху, земле (см. 11, стр. 187–189). Свойства этих последних «можно объяснить, основываясь только на понятиях движения, величины, фигуры и расположения частиц материи» (11, стр. 189). На первый взгляд, вводя три элемента, характерные для античной философии, и упрощая задачу, мыслитель вместе с тем делает шаг назад. Но оставим на минуту Декарта и перенесемся через три с половиной столетия, в наше время. Какие сегодня три самые острые проблемы стоят перед миром, перед человечеством? Энергетическая («огонь»), проблема ресурсов («земля»), проблема среды обитания («воздух»). В этом своем общелогическом, философском значении они «устареть» никак не могут, ибо входят постоянно в определение основы существования человека — производства — в качестве его необходимых условий…
Каким же образом можно все-таки понять мир во всей его отстраненности, в замкнутости на себя, в его единстве и самодостаточности? «Очень просто»: надо начать с «начала», с момента его «сотворения», начать — и сотворить его самому, стать «со-творцом» его творца, бога. Ясно, что сделать можно это только в воображении — «вообразить» его. Так рождается в IV главе трактата Декартов «воображаемый мир». Поскольку, как было отмечено, «Мир…» создавался задолго до осуждения Галилея, принципиально неверно утверждать, как обычно делается, что введение «воображаемого мира» — тактический прием Декарта, имеющий целью замаскировать идею вращения Земли вокруг своей оси, если к тому же учесть, что сам Галилей в «Диалоге» представил это учение Коперника в виде гипотезы, и, несмотря на это, оно все-таки было осуждено (с книгой Галилея Декарт сумел ознакомиться только осенью 1634 года, когда один из его друзей «дал ему всего на тридцать часов и под условием соблюдения строжайшей тайны запретную книгу» (17, стр. 122)).
В полном соответствии с методом мир Декартом изобретается. Для этого нужны лишь материя и движение. Декартова «материя» не имеет ничего общего с той «первой материей», о которой, отмечает он, говорили «философы»: «трудность в вопросе о материи происходит только оттого, что…хотят отличать материю от ее собственного количества и ее внешней протяженности, т. е. от ее свойства занимать пространство» (11, стр. 196). В отличие от «Правил…», где движение вводится, но не определяется, здесь оно определяется как единственно возможное, механическое движение, как перемещение в пространстве: «Это движение совершается таким образом, что тела переходят из одного места в другое, последовательно занимая все пространство, находящееся между этими местами» (11, стр. 199).
Материи, находящейся в состоянии первичного хаоса, бог дает лишь толчок, а затем по законам природы, установленным также богом (и открытым человеком — Декартом), из этого хаоса творится весь мир, вся Вселенная и тем самым понимается такой, какая она есть «на самом деле». Для того чтобы движение совершалось, Декарт не нуждается в гипотезе о существовании пустоты, ибо все движения — круговые: «в природе нет никакого другого движения, кроме кругового» (11, стр. 185). Встречающиеся прямолинейные движения выглядят лишь отклонением от движения кругового, когда нарушается определяющая последнее «связь» (например, при вращении камня в праще), так как «все необходимое для его (прямолинейного движения. — Я. Л.) осуществления имеется в телах в любой момент» в качестве потенции (11, стр. 203).
Сразу может возникнуть вопрос о теоретических средствах, позволявших сделать такое допущение: ведь в геометрии для решения задач необходимы были циркуль и линейка, т. е. окружность и прямая линия, а в механике необходимы не только круговые, но и возвратнопоступательные, прямолинейные движения? Дело в том, что Декарту были известны существовавшие еще со времен Аполлония методы так называемой инверсии (само название принадлежит более позднему времени), с помощью которых можно было прямую линию преобразовывать (посредством инверсии ее точек относительно окружности) в окружность (см. 50, стр. 372–373). Что касается механики, то благодаря открытому в раннем средневековье и широко применявшемуся уже с XV века механизму коленвала «впервые стало возможным преобразование поступательного движения во вращательное и наоборот» (75, стр. 173). А с тем, как это происходит при проектировании передаточного механизма, Декарт также был знаком.
Да, анализ того, как должен работать создаваемый Декартом механизм «машины мира», не оставляет никакого сомнения в реальном историческом происхождении основных закономерностей этой работы. Геометрико-кинематическая теория выступила здесь, отображенная (в развитом, преобразованном соответствующим образом виде) на первоначальный «хаос» Мира, и формировала этот хаос в соответствии с логикой своих законов.
На «входе» бог-перводвигатель (но уже не в аристотелевском смысле неподвижного центра, а в новом, динамическом понимании) «вкладывает» некоторую «способность (в оригинале употреблено слово „force“ — сила. — Я. Л.) движения» (11, стр. 206), количественно выражающуюся в «определенном количестве движения» (11, стр. 201), которое с тех пор остается неизменным. Затем это количество движения распределяется в строгом соответствии с установленными законами (строгость, жесткость функционирования механизма гарантируется неизменностью бога) по всей конструкции, где происходит их трансформация. Следует подчеркнуть, что, во-первых, в качестве гаранта неизменности бог не выступает в рутинной роли консерватора: он «сохраняет каждую вещь посредством непрерывного действия», т. е. гарантирует неизменность именно функциональную, позволяющую не только произвести действие, но и воспроизводить затем его бесконечное количество раз; во-вторых, закономерности этого воспроизведения совпадают с закономерностями, по которым произошло само «творение», первое произведение движения (см. 11, стр. 202, 201). Но это значит, что метод «воображения», «со-творения» мира Декартом отождествляется с «методом» функционирования этого мира, с логикой происходящих в нем явлений! И это как раз «высветляется» впервые в методологической нагрузке света.
Впрочем, этого следовало ожидать, ибо сам «мир вещей» рассматривается в его возникновении, становлении как — воображаемый, или возможный, мир. Это — вполне современный, диалектический подход к рассмотрению вещей в их развитии, ибо, по словам Декарта, «природу их гораздо легче познать, видя их постепенное возникновение, чем рассматривая их как совершенно готовые» (11, стр. 292). Такова первая идея, лежавшая в основе Декартова творения воображаемого мира в «Мире…». Это легко понять здесь, в «замысле» мира и в его не застывших еще «началах», когда мир впервые предстает в таком виде воззрению сотворившего его Декарта (и нашему) как точка зрения1 (в первом из указанных в эпиграфе, по Далю, смысле — созревания) нового, его приращения, — понять сейчас, пока эта живая «почка» зрения не ссохлась в плоскую привычную «классификаторскую» точку зрения2 (во втором смысле, точнее, тоже в «классификаторском» варианте этого смысла). Всемирная культура, включающая в себя и весь разнообразный «мир вещей», предстает в таком понимании перед Декартом как «узловая линия» точек зрения1.
Но есть и другая сторона в этом подходе Декарта к рассмотрению мира как возможного, как воображаемого. В обрисованной картине мировоззрения Декарт предстает как деист и механистический детерминист, ибо логически «механизм» движения в картезианском мире предстает как цепочка причинно-следственных зависимостей с богом — творящей первопричиной — в качестве первого «звена» и… «сотворца» философа в деле создания мира.
Итак, Декарт «творит мир», творит его, как предполагается, «из ничего». «Отрешитесь на некоторое время от этого мира, — говорит он, — чтобы взглянуть на новый, который я хочу одновременно с этим создать в воображаемых пространствах. Философы говорят, что эти пространства бесконечны… Но для того, чтобы эта бесконечность нам не мешала и не поглотила нас совершенно, не будем стремиться идти до конца; пойдем только так далеко, чтобы у нас исчезло из вида все, созданное богом пять или шесть тысяч лет назад. После того, как мы остановимся там на каком-нибудь определенном месте, предположим, что бог создал вокруг нас столько материи, что, в какую бы сторону ни обратился наш взор, все было бы заполненно этой материей» (11, стр. 193).
«Творение» воображаемого мира начинается с «начала», с момента его сотворения богом. Но здесь постепенно, шаг за шагом Декартова построения начинают выясняться любопытные вещи в отношении того «ничего, из» которого творится мир. Во-первых, нет «ничего», кроме материи. Далее: материя безгранична и бесконечно делима; задано — извне, от бога — движение; пространство, протяженное в длину, ширину и глубину — «система координат» — с началом в точке — «каком-нибудь определенном месте». И наконец, венчает это «ничего» группа законов, уже установленных для этого мира богом и открытых Декартом… Короче говоря, мир, который требуется обрести из-«начально», в акте творения, повторив дело господне «пятишеститысячелетней давности», по словам самого Декарта, существует «одновременно с этим», как этот мир, оказывается уже наличным, данным миром, абсолютно не нуждающимся ни в самом акте творения, ни в творце, ни в какой-то внешней причине своего существования: он есть! Поскольку же это было установлено в ходе воображаемого, мысленного творения, то такое заключение применимо ко всем бесчисленным логическим причинно-следственным цепочкам, дающим структуру «картины мира»: в каждой из них «конечная причина» — бог — выпадает и оказывается логическим «ничто».
Бог нужен Декарту только в один момент — для того, чтобы дать системе толчок, или «перво-щелчок». Такое обращение со всемогущим господом, естественно, глубоко задевало религию и чувства религиозных современников Декарта (не говоря уж о церковниках), «Я не могу, — пишет Блез Паскаль в „Мыслях“ (I, арт. X, п° 41; цит. по: 12, стр. 471), — простить Декарту следующего: во всей философии он охотно обошелся бы без бога, но не мог удержаться, чтобы не дать ему щелчка по носу, заставив его привести мир в движение. После этого он более уже никаких дел с богом не имел». Поистине, как говорит Ф. Энгельс, «с богом никто не обращается хуже, чем верующие в него естествоиспытатели» (6, стр. 514).
В уже отмеченном логическом плане произошел, в результате новой роли бога, радикальный переворот по сравнению со средневековьем, когда любая логическая «цепочка» доказательств существования вещей восходила к богу в качестве первопричины. Теперь бог отсекается вместе с отсечением бесконечности и введением вместо нее безграничности. Внутренняя ирония хода мыслей верующего естествоиспытателя Декарта сводилась к тому, что отныне неявно перед каждым доказательством стоял вопрос: как построить доказательство, чтобы доказательство бытия бога стало невозможным?
Такая конструкция представляется искусственной, надуманной, схоластической? Обратимся опять к современности: «Метод теории относительности весьма схож с методом термодинамики, поскольку последняя представляет собой не что иное, как последовательный ответ на вопрос: „Какими должны быть законы природы, чтобы нельзя было построить вечный двигатель?“» (60, стр. 549).
Здесь мы подходим к весьма важному моменту в рассказе о «Мире…» как глубоко важной лично для Декарта, для всего его творчества точке зрения1.
Во-первых, Декарт вводит понятие материальной точки (см. 11, стр. 182) и понятие инерции (11, стр. 198). Теперь, дав системе толчок, бог фактически остается без работы, занимая очень важную, но чисто номинальную, по существу временную должность, должность «место-имения»: он «держал» место имеющему быть открытым, в конечном счете всеобщему закону (ср. 60, стр. 165: «всеобщий выведанный у природы принцип»), из которого все существующие законы будут прямо вытекать (выводиться).
С введением инерции в фундамент логического каркаса системы закладывается самодостаточный принцип causa sui, аналог логической «клеточки» метода, в рамках которого задание материальной точки[14] переводит вводимое (механическое) движение из предмета изучения (вспомним отмеченную ранее особенность логики в рассматриваемый период!) в метод логического, дедуктивного движения. И вот в рамках инерции это движение постоянно возвращается к своим основаниям, пересматривая их и развивая: поскольку в этих рамках объяснить «как?» (происходит механическое движение) значит объяснить «почему?», постольку интуитивно (единым импульсом светового «толчка», «импульса» (11, стр. 240), — скорость света «мгновенно» (11, стр. 291), его распространение является вневременным) схваченный геометрический образ, «что?» последовательно (дедуктивно) переводится в «как?» — «почему?» — «что?»1. «Что?»1 — это новое, пересмотренное, переосознанное исходное «что?».
Во-вторых, в сложившейся логической ситуации Декарт изобретает удачный методологический прием, позволяющий использовать бога в его теперешнем качестве всемогущего «ничто»; Декарт находит принцип, который позволил ему «со-чинить» распадавшуюся под руками систему, дуальную философию: если субстанция протяженная есть «ничто» субстанции мыслящей и обратно, то пусть этим «ничто» будет высший непререкаемый авторитет — бог. И тогда можно свести «концы» с «концами», втянуть в доказательство великолепно разработанный, но до сих пор «работавший» вхолостую аппарат логических категорий, завещанный схоластикой.
В-третьих, в «Мире…», как ни в каком другом произведении Декарта, с особой прозрачностью обнаруживается, насколько Декарт «требует» появления Спинозы, насколько картезианство есть «запрос» спинозизма (и наоборот). Бог, давший всей системе мира толчок, приведший ее в движение, в дальнейшем становится полным, абсолютным «ничто», что логически эквивалентно бесконечности, то есть «всему». А в таком качестве у Декарта выступает природа, весь мир. И если, как мы увидим в дальнейшем, при изложении основных идей «Мира…» в других своих произведениях (обычно при рассмотрении «порядка физических вопросов», проблемы «существования материальных вещей» и т. д.) Декарт может, как бы между прочим, говорить, что он «под природой» понимает «не что иное, как самого бога», или наоборот, то в контексте этого, одного из ранних трактатов, такие «словоупотребления» становятся понятными…
Для нас, людей двадцатого столетия, осмысливающих сочинение Декартовой жизни, встает вопрос: были ли возможны «Рассуждение о методе» и «Метафизические размышления», а с ними — и вся картезианская философия, не будь «Мира…»? Вопрос задан не для того, чтобы ответить «да» или «нет» (ведь с таким же успехом его можно было задать и в связи с «Правилами…»). Его цель — еще раз продумать, так ли все происходило, как задумал в «проекте» сочинения сам Декарт: метод-орудие совершенствуется — с его помощью создается теория («вся физика» — «Мир…») и параллельно продолжается развитие и совершенствование метода для нового строительства… и так до «Начал…» — «всей философии», а затем — и т. д., см. все декартово «дерево познания».
Опыт Мира… говорит, что отныне и сам мир в принципе заражен относительностью; чем развитее его «надличность», тем больше высвечивается его «самопознавательная» сущность; чем более успешно происходит бегство в геометрию «надличного», тем лучше познает себя алгебра мысли. Такова (выявляющаяся только сегодня, в XX веке) глубинная суть Декартовой философии (метода), такова коренная, исходная диалектика «генетического кода» картезианства. Форму развития же задала картезианской философии эпоха, и в таком «оформлении» она предстает как «геометрическая диалектика».
2. «Геометрическая диалектика»
Слова, озаглавившие параграф, взяты из герценовской оценки творчества Декарта: «…строгая, геометрическая диалектика его беспощадна» (33, стр. 247). В ее строгости и геометричности мы уже имели возможность убедиться, рассматривая, как при всей исходной диалектичности оснований «на выходе» картезианства всегда стоит механицизм, механистический метод и механистический детерминизм картины мира. Так это выглядит сегодня для нас, уже обладающих диалектикой в ее новом, «негеометризованном» виде.
Сегодня фундаментальное противоречие картезианства предстает в виде противоречия между его панмеханицизмом, стремлением свести все сферы жизнедеятельности человека к механицизму путем сведения всех видов движения к механическому перемещению в пространстве (местному движению) и дать тем самым со всей «беспощадностью» всему механистическое объяснение — и между известной уже нам принципиальной невозможностью такого сведения. А это будоражит мысль современного человека. Но уже для современников Декарта и его ближайших последователей этот вопрос также возникал неоднократно и толкал их к дальнейшим поискам ответа, к развитию системы и метода. Но с другой стороны, налицо удивительная живучесть метода, его сохраняющаяся работоспособность, что как раз вытекает, как отмечалось, из его «геометричности» — взаимодействия геометрической и аналитической компонент.
«Беспощадность» этой диалектики состояла в развитой, всепроникающей распространенности ее на все сферы жизнедеятельности, на всю Вселенную. Не пощадила она ни святая святых всей предшествующей науки и философии — аристотелизм, ни святая святых теологии — мистицизм, ни в конечном счете и самого бога. И мы сейчас должны получить представление об этой ее всеохватности. Но ранее уже было показано, что она, эта диалектика, «беспощадна» и по отношению к себе самой: в основе ее метода и всей системы лежит сомнение, и в качестве такой основы сомнение каждый раз воспроизводится с большей остротой и глубиной, потому что каждый раз итогом развития оказывается обращение на свои основания и безжалостный, беспощадный пересмотр их. Теперь надо посмотреть, как выявленная закономерность распространяется на всю систему Декарта в целом, предстающую в серии его сочинений.
А. «Рассуждение о методе» и «Метафизические размышления»
«Рассуждение о методе» — первый печатный труд Декарта. В этом труде Декарт вновь возвращается к основным целям «Правил для руководства ума» и на новом витке своей мысли, конденсируя новый, естественнонаучный материал и новые теоретические откровения, конкретизирует и углубляет те исходные правила, которые оказались красной нитью всей его творческой жизни. Такие «возвращения» и конкретизации, такое внимание к истокам всегда было характерной чертой Декарта, и поэтому я обращаю на это особое внимание читателя. Представить мысль Декарта линейно, «векторно» — значит ничего в ней не понять. «Рассуждение…» появилось в свет с тремя приложениями — «Диоптрикой», «Метеорами» и «Геометрией». Если не знать всего предшествовавшего их появлению в свет развития Декарта, то, прочтя «Рассуждение…», можно прежде всего именно это узнать: начинаются они с рассказа о том, как автор пришел к своим идеям, когда и где это было, рассказа последовательного, рассуждающего, обращенного на самую суть поступков и мыслей в их взаимной связи. И читатель, следящий за этим поначалу бесхитростным рассказом, начинает обнаруживать, что вместе с Декартом он постепенно открывает, изобретает, ставит под сомнение и вновь утверждается в достоверности тех исходных понятий, новизна которых чувствуется даже сегодня.
Можно представить себе тот эффект, который такое постепенно «затягивающее» и вместе с тем спокойное изложение оказывало на современника Декарта. Это был либо богослов, для которого аристотелизм и схоластика — столь же естественное состояние ума, как процесс дыхания — для организма; такой постепенно заглатывал «наживу», не чувствуя до последнего момента стального крючка новой логики, и лишь к концу, когда он начинал испытывать некоторое беспокойство и метаться, оказывалось, что он уже целиком вытащен из привычной ему атмосферы и «оглушен» увесистыми результатами фантастических, немыслимых достижений трех «Приложений», имевших название «Опыты». Действительно, физико-математические достижения Декарта, представленные в «Опытах», были столь грандиозны, что, перефразируя слегка выражение геометра М. Шаля, сказанное им о «Геометрии», можно было с полным правом заявить, что это — «дети, рожденные без матери»… Придумал ли я здесь что-нибудь, «вообразил» ли, вправе спросить читатель? Отнюдь! Выходу в свет «Рассуждения…» предшествовало обсуждение не только содержащихся в книге идей, но и с ближайшими друзьями обсуждалась столь же серьезно форма, в какой они должны были появиться: это можно проследить по сопутствовавшей обсуждению переписке.
Либо, продолжим, это был человек типа раннего Декарта — школяр с искрой сомнения в душе, студент в разгаре обуревавших его сомнений, зрелый ученый, понявший со всей полной ясностью, что всё существующее учение ни к…богу не годится, но не знающий, чем его заменить: все предлагавшиеся паллиативы вызывали растущее недоверие к критикам. Всем им «Рассуждение…» должно было дать материал для позитивной работы мысли, и они должны были пойти туда, куда он их поведет. Вот почему Декарт и в данном случае и при выходе последующих своих книг принимал все меры для того, чтобы они проникли за крепостные стены «школ» — коллегий и университетов.
Были, наконец, люди бекмановского, фаульхаберовского типа. Здесь сразу начиналось, с одной стороны, плодотворное обсуждение идей, с другой стороны, их непосредственное применение и развитие.
Надо сразу сказать, что церковников ему провести не удалось. Они мгновенно поняли, откуда ветер дует, и после первого ошеломленного молчания с двойной яростью набросились на Декарта — и за содержание его идей, и за попытку распространения учения в их вотчины.
Начнем с самого средоточия метода — с четырех правил:
«Первое — никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью, иначе говоря, тщательно избегать опрометчивости и предвзятости и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению.
Второе — делить каждое из исследуемых мною затруднений на столько частей, сколько это возможно и нужно для лучшего их преодоления.
Третье — придерживаться определенного порядка мышления, начиная с предметов наиболее простых и наиболее легко познаваемых и восходя постепенно к познанию наиболее сложного, предполагая порядок даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи.
И последнее — составлять всегда перечни столь полные и обзоры столь общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений» (11, стр. 272).
Итак, наши прежние знакомые, индукция, дедукция и интуиция, оформлены здесь «законченно-технологически», в чисто орудийной направленности и приложимости метода. Дальнейшая логическая неделимость объектов свидетельствует об их ясности и отчетливости, очевидности, так что эти последние могут служить критерием истинности. Столь же благополучно обстоит дело и с условием, обеспечивавшим «работу» метода в том виде, в каком он задуман и разработан Декартом: с ясностью и отчетливостью видно, что «цикличность» во взаимодействии персонажей познавательной деятельности сохранилась, ибо крайние члены отношения — интуиция и индукция (энумерация) остались на своих прежних местах и в прежнем качестве.
Но есть и весьма существенное отличие по сравнению с тем, как протекает познание согласно «Правилам…», от того, как этот процесс представлен здесь, в «Рассуждении о методе». Если там познание было, так сказать, трехчленным отношением, предполагавшим наличие трех компонентов — ум, правила, истина, то здесь, в «Рассуждении…», отношение бинарно: метод— истина. Произошло это потому, что ум отождествлен был Декартом с правилами метода, так что, наоборот, сам метод — это не что иное, как методически развитый ум. Метод совпадает с субъектом познания, субъект — с методом.
Ну, как обстоит дело с единственным достоверным основанием — сомнением? Вопрос приводит нас к четвертой части «Рассуждения…», в которой представлены «доводы, доказывающие существование бога и человеческой души, или основание метафизики» (11, стр. 282). В методе сомнение, как известно, получило свое «позитивное» воплощение в технологии его «работы». Теперь надо было столь же «позитивно» воплотить сомнение в виде некоторого всеобщего философского принципа, способного противостоять, с одной стороны, скептицизму и, с другой стороны, пригодного служить прочным основанием всей системы.
Обращаясь в своем рассказе к воспоминаниям об ульмском «заточении» и к своим «первым тамошним раздумьям», Декарт отмечает, что именно «сомневающаяся» способность мышления, после того как все подверглось критике разума и доказало свою либо наглядную, либо возможную недостоверность, — именно наличие этой способности не позволило подвергнуть сомнению существование самого мышления, и, таким образом, говорит он, «заметив, что истина: я мыслю, следовательно, я существую столь прочна и столь достоверна, что самые причудливые предположения скептиков не способны ее поколебать, я рассудил, что могу без опасения принять ее за первый искомый мною принцип философии» (11, стр. 282–283). Так было обретено знаменитое картезианское «когито» (от cogito ergo sum — латинского выражения указанного принципа), утвердившее путем последующих рассуждений, зачастую бывших «столь метафизичными и столь необычными» (там же), субстанциональность существования непротяженной, мыслящей души.
Троянский конь «когито», таким образом, вносит в самое сердце Декартовой философии сомнение. Декарт, понимая это, ищет выход в обращении к существу, в котором сущность совпадает с существованием (11, стр. 286). Он предполагает, что уже сама мысль об этом существе, которое, таким образом, не нуждается в доказательствах своего существования, позволяет отбросить остатки сомнения. Существо это — бог, основной предмет схоластической логики. Душа — «когито» — теперь, по мысли Декарта, должна заменить бога в таком его качестве: стать интеллигибельным, умопостигаемым предметом метафизики.
Чем же была вызвана необходимость разделения на две субстанции, мыслящую и протяженную? В чем оправданность введения, в качестве самостоятельной, мыслящей субстанции и разработки специального (метафизического) аппарата для ее исследования, приведшего в конце концов к раздвоению его философии и «…совершенному отделению…физики от…метафизики» (1, стр. 140)?
Анализ мышления в его основных определениях (сомнение, дедукция, интуиция) ясно показал, что характеристики, атрибуты, пригодные для объяснения протяженной субстанции, абсолютно, принципиально непригодны для объяснения мысли. Вместе с тем жесткое расщепление двух субстанций позволяет Декарту эмансипировать разум от современного ему уровня знания о мире, от характерного для начала XVII века учения о его строении. Это делает возможным анализировать разум и метод не как кальку наличных знаний о природе, но как потенцию бесконечно нового, бесконечно многообразного познания. Вспомним, как в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин говорит об отличии философского понятия материи от естественнонаучного учения о материи, подчеркивая, что первое имеет гносеологический смысл, характеризует условия познания мира, и его нельзя отождествлять с данным уровнем естественнонаучных знаний, а революция в естествознании никак не может поколебать эти исходные познавательные начала.
Здесь, конечно, нет и не может быть никакого тождества между позицией диалектического материализма и рассуждениями Декарта. Важно было лишь подчеркнуть, что вырытая Декартом пропасть между двумя субстанциями, столь часто и в основном справедливо критикуемая историками философии, была необходимым условием эмансипации нового метода от старых и не могущих еще быть до конца преодоленными мировоззренческих конструкций. Декарт как бы в кредит, прозорливо предостерегал от всяких попыток намертво связать метод познания с геометрической картиной мира.
Это крайне любопытно. Если по содержанию своему, как мы говорили выше и скажем дальше, картезианский метод был неотделим от геометрико-кинематической структуры мира, то по своему глубинному логическому замыслу он создавал возможность такого отделения. Таким образом, здесь логика Декарта перерастала его метафизику.
Но особое существование мыслящей субстанции, наряду с субстанцией протяженной и независимо от нее, было необходимо еще по одной причине. Подчеркнутый, преувеличенный рационализм Декарта был необходим для того, чтобы искать основание «рацио», разума, не вне его, во внешних, механических детерминантах (и здесь Декарт был глубоко прав, ибо ни из какого механического движения мышления не выведешь), но в его собственных, внутренних основаниях, или, как скажут позже, — конечно, менее метафизически — в основаниях и особенностях самого человеческого бытия.
Декарт прекрасно понял, и ему помогло в этом все развитие и все тупики поздней схоластики, что невозможно мыслящего субъекта понять только через атрибутивное описание мышления, необходимо ввести мышление в способ самого бытия этого субъекта. Для определения субъекта мысли необходимо определить мышление как характеристику некоего особого, не сводимого к протяженности субъекта, необходимо понять, что мышление есть не просто функция мозга (т. е. протяженной субстанции), но одно из имманентных определений той чувственно-сверхчувственной реальности (см. Маркс), которой является… сам Разум, — тавтологически скажет Декарт, социальная действительность человека — через два столетия скажут К. Маркс и Ф. Энгельс.
Те идеи и трудности, на которые мы здесь вкратце указали, Декарт развивает в самостоятельном произведении — «Метафизических размышлениях». К тем же сомнениям и проблемам Декарт обращается и в других местах своих работ, а также в переписке. Можно даже указать заранее, в каких местах следует такие пассажи искать: либо в начале цепи логических доводов, либо в поворотных, ответственных пунктах аргументации, иначе говоря, там, где уже нельзя аргументировать ссылкой на механистические законы, на законы протяженной субстанции, где разум вынужден сам обосновывать свое существование.
Однако вернемся к «Рассуждению о методе». В пятой части «Рассуждения…», где подытоживается основное содержание «Мира…», привлекает внимание, особенно современного читателя, то место, где речь идет об автоматах вообще и в связи с обсуждением вопроса, наделены ли животные душой или нет. Декарт утверждает, что в отличие от человека животные представляют собой автоматы, действующие лишь в силу расположения своих внутренних органов. Доказывается это с помощью, как мы бы теперь сказали, моделирования всех основных свойств животного организма на автоматах (моделирования мысленного, в виде мысленного эксперимента).
Во-первых, самая совершенная из машин не смогла бы так, как это делают люди, «пользоваться ни словами, ни другими знаками…чтобы передать другим наши мысли». Во-вторых, «в то время как разум является орудием универсальным, которое может служить при всякого рода обстоятельствах, эти органы (животного-автомата. — Я. Л.) нуждаются в некотором особом расположении для выполнения каждого особого действия» (11, стр. 301).
«…не следует, — говорит Декарт, — ни смешивать речи с естественными движениями, которые выражают страсти и которым машины могут подражать так же хорошо, как и животные, ни думать, как некоторые древние, что животные говорят, хотя мы и не понимаем их языка» (11, стр. 302).
Только ли «древние» так думали? — вправе задать вопрос читатель, имея в виду, например, очень дорогостоящие, использующие ультрасовременные технические средства опыты над дельфинами? На что я могу лишь ответить, что такими вопросами, скорее, надо задаваться, чем задавать их другому… В любом случае ясно, что проблема чрезвычайно сложна и глубока — впрочем, как и все поднятые Декартом фундаментальные вопросы, — и сегодня стоит острее, чем когда-либо.
Весьма знаменательна и по-человечески глубоко симпатична венчающая «Рассуждение…» последняя, шестая часть, и прежде всего потому, что дает нам представление о духовном облике мыслителя Ренэ Декарта в его главных стремлениях, надеждах и мотивах творчества.
Результаты прошлых занятий, говорит он, показали, «что можно достигнуть познаний, очень полезных в жизни, и вместо той умозрительной философии, которую преподают в школах, можно найти практическую философию, при помощи которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других окружающих нас тел…мы могли бы… использовать их для всевозможных применений и тем самым сделаться хозяевами и господами природы», что желательно прежде всего «для сохранения здоровья, которое, несомненно, является первым благом и основанием всех других благ этой жизни» (11, стр. 305). И он заявляет о решимости «посвятить остаток своей жизни исследованию природы, из которого можно было бы извлечь более надежные правила медицины, чем имевшиеся до сих пор» (11, стр. 317). Но жизнь, где преобладают «всякого рода иные намерения, главным образом…такие, где польза одних неизбежно соединена с вредом для других» (и Декарт при этом добавляет, что такие намерения глубоко чужды ему, о чем он «заявляет» здесь, хотя знает, что это «не послужит к приобретению значения в свете» (11, стр. 317)), — жизнь эта распорядилась несколько по-иному его намерениями — в том, что касается медицины…
Говоря о соотношении опытного и теоретического знания, Декарт отмечает, во-первых, что начинать надо не со сложных и «редких» опытов, а с самых простых, «причины» которых должны быть найдены. При этом он, во-вторых, придерживался следующего порядка: «Прежде всего я старался отыскать вообще принципы, или первопричины, всего того, что есть или может быть в мире, не принимая во внимание для этой цели ничего, кроме одного бога, который его создал, и выводя их только из некоторых зачатков истин, присущих от природы нашим душам. Затем я исследовал, каковы первые и самые обычные следствия, какие из этих причин можно вывести, и мне кажется, что я этим способом нашел небеса, звезды, Землю» (11, стр. 306) и т. д., остальное нам уже хорошо известно.
Мы уже воздали богу — богово. Посмотрим, как обстоит дело с «зачатками истин» — впечатленными, или врожденными, идеями. В «Рассуждении о методе» Декарт весьма скупо говорит о врожденном характере основных «ясных и отчетливых» идей, впечатленных человеческой душе богом: «…принятое мною правило — считать, что вещи, которые мы воспринимаем весьма ясно и отчетливо, все истинны, — убедительно только потому, что бог есть или существует, что он есть существо совершенное и что все, чем мы обладаем, происходит от него. Отсюда следует, что наши идеи…представляя собой нечто реальное, исходящее от бога, поскольку они ясны и отчетливы, могут быть во всем этом только истинными» (11, стр. 287).
Более развернутое аргументирование этого положения — одного из центральных «тезисов» картезианской философии — дается в «Замечаниях…» Декарта, написанных им в опровержение идей А. Леруа (13, VIII, стр. 359, 357–358; цит. по 55, стр. 47–48): «…ничто не доходит до нашего ума от внешних объектов через органы чувств, кроме определенных телесных движений… — говорит Декарт, — но даже эти движения и образы, которые из них проистекают, мыслятся нами не в той форме, которую они принимают в органах чувств… Отсюда следует, что представления об этих движениях и образах являются сами по себе врожденными для нас. Тем более врожденными должны быть идеи боли, цвета, звука и им подобные, раз наш ум может, в случае определенных телесных движений, обозревать эти идеи, поскольку они не имеют сходства с этими телесными движениями…
Зрение…не представляет ничего, помимо картин, — продолжает философ, — а те вещи, о которых мы думаем…доходят до нас посредством идей, которые проистекают…из нашей способности мыслить, и соответственно являются вместе с самой этой способностью врожденными для нас, т. е. всегда существующими в нас в виде потенции… [Таким образом, идеи являются врожденными в том смысле, как] в некоторых семьях врожденной является щедрость, в других — определенные болезни, как подагра или камни, и не потому, что в силу этого обстоятельства младенцы в этих семьях страдают от этих болезней в утробе матери, а потому, что они рождаются с определенной наклонностью или расположением к их возникновению».
Сделав это необходимое разъяснение, хотелось бы привлечь внимание к еще одной особенности теоретизирования, свойственной Декарту. Поскольку в результате простейшего опыта и непосредственно примыкающих к нему простейших фундаментальных оснований Декарт выявил то, что именуется «вообще принципами, или первопричинами», он может дальше поступать так же, как это указано в «Правилах…» применительно к решению «трудности вообще».
Необходимо идти от этих принципов с помощью правил метода по взаимосвязям вещей и явлений, не останавливаясь на встречающихся временных, частных трудностях, пока не будет получена общая картина — в самом общем случае пока не будет «найден» весь мир.
Такое сквозное теоретическое рассмотрение (движение по взаимосвязям), предпринятое в «Мире…», именуется Декартом «метафизическим». Здесь под метафизическим рассмотрением подразумевается очень своеобразный логический ход, отнюдь не покрываемый обычным словоупотреблением понятия «метафизический». Декарт как бы выдвигает ряд узловых, решающих экспериментов, и реальных, и мысленных, в которых для рассмотрения особенного необходимо применить всеобщее, все мировоззрение в целом, взятое в его основных узлах. Это те «точки», в которых должна перепроверяться и наиболее активно действовать всеобщая логическая схема, разработанная Декартом.
Характерно, что именно в этих точках с особой силой раскрывается проницательность Декарта, поразительная актуальность поставленных им проблем для науки нашего времени, для XX века. Здесь особенно существенна проблема зрения, которая во многом является центральной в «Мире…» и которую Декарт затрагивает в «Диоптрике» (в главе III). Процесс получения идеи предмета после попадания его образа в глаз объясняется взаимодействием механизмов зрительного аппарата и мышления: в нашем условном обозначении зрение2 всегда оказывается одновременно зрением1, так как образ в ходе указанного взаимодействия именно вызревает, формируется при активном участии мышления. Насколько нам известно, лишь в последние два десятилетия эта проблема именно так была сформулирована психологами (например, в трудах А. Н. Леонтьева).
Понятным становится искреннее удивление специалистов-оптиков, современных комментаторов «Диоптрики». Вот пример (один из многих): «Трудно себе представить, что это описание основных свойств глаза, под которым мог бы подписаться современный оптик…выполнено более 300 лет назад, когда наука об анатомии только рождалась и такие гениальные мыслители, как Галилей, плохо разбирались в роли и работе глаза» (12, стр. 568). Отточие в цитате заменяет сознательно пропущенные слова «после добавления нескольких несущественных поправок», ибо здесь же, например, с одной из таких поправок связан любопытный (и, можно сказать, поучительный) курьез.
Говоря о приведенных в «Трактате о свете» основных свойствах света, из которых могут быть выведены все остальные, комментатор замечает, что лишь два из них сегодня должны быть признаны неверными, в том числе свойство, стоящее у Декарта в перечне под номером восемь: «Но иногда, когда сила их (световых лучей. — Я. Л.) значительно неравна и превосходство одних над другими в этом отношении очень велико, они могут и мешать друг другу» (11, стр. 241). После этого комментария не прошло и двух десятков лет, когда интерференция «свет — свет» была осуществлена с помощью лазера — именно потому, что «превосходство» его светового луча оказалось «в этом отношении очень велико» перед обычным «некогерентным» лучом…
И в этой же метафизике, как представляется, коренится причина феноменальных успехов Декарта в области так называемых приложений, например в разработанной им технологии изготовления и шлифовки линз. Успехи здесь были столь велики, что в письме одному из помощников в этом деле он писал: если дела будут так продвигаться, то через год-другой можно будет с помощью сконструированных телескопов «увидеть, существуют ли живые существа на Луне» (14, I, 20).
Имя Декарта прочно вписано в карту лунного рельефа — его носит один из кратеров; именно в районе кратера «Декарт» можно было «увидеть…живые существа на Луне» — американских астронавтов — спустя три с небольшим столетия после того, как были написаны эти слова. Среди образцов лунных камней, доставленных астронавтами из района кратера, был столь необычный, новый вид базальта, что глава отдела по изучению Земли и планет в космическом центре назвал его первыми буквами трех слов, выразивших его безграничное удивление перед самой возможностью существования такого вида (см. 51). Живо вспоминаются слова Декарта, сказанные им в продолжение перечня того, что он «нашел» (см. прерванную на стр. 121 цитату): «…а на Земле — воду, воздух, огонь, минералы… Затем, когда я захотел спуститься к более частным следствиям, они предстали предо мной в таком разнообразии, что человеческий ум, думалось мне, не может различить формы или виды существующих на Земле тел от бесчисленного количества других, которые могли бы на ней быть» (11, стр. 306).
«Рассуждение о методе» явилось, если воспользоваться терминологией одного из его «Приложений», тем фокусом, в котором впервые собрались воедино «со-чинявшиеся» Декартом идеи и принципы, собрались — и в мощном силовом поле новых исторических интересов дали «когерентный луч» научных, философских, этических проблем такой силы и концентрации, что он почти без рассеяния прошел сквозь толщу минувших столетий. Одновременно в огне этих же фокусов (по-латински «фокус» означает «очаг») сгорели все древние и средневековые таинства, магии[15] и чудеса, вместе с розничной разменной монетой одного несказанного чуда — фокусами-кунштюками[16], — сгорели, и из их пепла, в полном соответствии с описанной Декартом технологией[17], образовалось стекло линз новой науки…
Теперь специально обратимся к «Метафизическим размышлениям». Число «размышлений» равно числу «рассуждений» в предыдущей работе — их тоже шесть. Сюжетно они построены так, что каждому размышлению отведено по одному дню недели: подобно своему коллеге по прошлой работе — творению «Мира…» — Декарт теперь в течение шести дней перестраивает уже «перетворенный» им в «Рассуждении…» шестичастный мир. Но, не в пример богу, на седьмой день он вместо отдыха садится писать предисловие — обращение к ученому совету Сорбонны, богословского факультета Парижского университета, в котором просит одобрить это произведение (мы помним о его желании распространить новые идеи в учебных заведениях, что невозможно было без одобрения их со стороны Сорбонны). И начинает Декарт весьма своеобразно: «Два вопроса — о боге и душе — всегда считались мною важнейшими среди тех, которые следует доказывать скорее посредством доводов философии, чем богословия» (11, стр. 321. Курсив мой. — Я. Л.).
Так он обращается к богословам, т. е. людям, для которых богословие — хлеб насущный, данный им днесь, и, в переводе на простой язык, говорит: потому, что в моем произведении ясно и отчетливо доказывается абсолютная непригодность всего того, чем вы, достопочтенные, занимаетесь, прошу одобрить его и ввести в качестве учебного пособия в окружающие вас стены!
Несмотря на весь елей и бальзам такого послания, богословы, к изумлению автора послания, произведение не одобрили, больше того, признали вредным, но сделали, в дальнейшем, все от них зависящее, чтобы — в виде компенсации за нанесенный моральный ущерб — его труды удостоились высшего по тем временам знака международного признания заслуг мыслителя: они были внесены в «Индекс запрещенных книг», причем не как-нибудь, а весьма торжественно, в период празднеств, посвященных столетию «Индекса…», в Риме, в 1659 году, да еще от имени самого папы Павла IV (Нобелевской премии, являющейся ныне таким знаком и присуждаемой Шведской академией наук, тогда еще не было, как, впрочем, не было и самой академии: 1 февраля 1650 года, за десять дней до своей смерти, Декарт только представил королеве Христине проект Устава академии…).
Все-таки, надо отдать нм должное, благородный народ — доктора богословского факультета университета! С этого момента и до конца дней своих, и даже после кончины[18], их внимание больше не покидало его персоны…
Уже одно ознакомление с заголовками шести размышлений подтверждает высказанную выше мысль о месте бога в Декартовой логической системе: «переключение» с субстанции протяженной на субстанцию мыслящую происходит путем сведения первой средствами сомнения к «ничто» (сомнение представляет alter ego[19] всеблагого — столь же могущественный, но хитрый, «злой гений», что, кстати, дает повод и посегодня многим исследователям Декарта для утверждения, будто в его трудах именно этот «гений», а не бог постоянно имеется в виду). Затем говорится, что есть нечто другое, более легкое для познания — человеческий дух; затем — что существует бог, и в ходе доказательства его существования устанавливается субстанциональность души и критерий истинности, с помощью которого она может познавать материальные вещи, которые посредством нового вмешательства бога вновь извлекаются из небытия в качестве интеллигибельных. И наконец, только в шестом размышлении появляется возможность признать мышление и протяженность в качестве субстанционально различенных, конституировавшихся и потому способных к взаимодействию (через бога, о котором здесь, кстати, Декарт впервые высказывает то, что, как отмечалось, составляло тайную идею «Мира…»: «Под природой, рассматриваемой вообще, я понимаю не что иное, как самого бога, или — тут же оговаривается он — порядок и расположение, установленное богом в сотворенных вещах» (11, стр. 397–398).
Во втором размышлении Декарт раскрывает единство познания материального мира и процесса самопознания. Для демонстрации используется излюбленный философами всех времен кусок воска. После всех манипуляций с этим куском, в результате которых он сводится к протяженности, и после рассмотрения, почему и как в таком качестве он познаваем умом, т. е. в своей сути, Декарт делает вывод, что «все основания, служащие для познания и понимания природы воска или любого тела, гораздо лучше доказывают природу моего духа», так что «если понятие и восприятие воска показалось мне более ясным и отчетливым после того, как оно было обнаружено не только моим зрением и осязанием, а и другими способами, то тем очевиднее, отчетливее и яснее знаю я самого себя» (11, стр. 350). Именно в таком контексте воспринимаются и дополняются слова Гегеля о Декартовом «философском учении, знающем…что самосознание есть существенный момент истины» (32, XI, стр. 252).
Вопрос об истине в связи с самосознанием рассматривается Декартом в четвертом размышлении. «Рассмотрев себя ближе и исследовав, каковы мои заблуждения…я нахожу, что они зависят от взаимодействия двух причин, — говорит он, — именно — познавательной способности, существующей во мне, и способности выбирать, или моего свободного решения, то есть от моего разума и вместе с тем от моей воли» (11, стр. 374). Если взять разум сам по себе, продолжает он, то посредством только его одного ничего не отрицается и не утверждается, а лишь постигаются «идеи вещей»; вот они-то могут либо утверждаться, либо отрицаться. Но тогда в разуме не может никогда содержаться никакого заблуждения, при условии, что слово «заблуждение», уточняет Декарт, берегся «в его точном смысле» (там же). Дело в том, что свободная воля «в силу своей обширности не заключена ни в какие границы», в то время как составляющие разум «компоненты» — например, способность понимания, память или способность представлений и т. д. — «весьма ничтожны по объему и сильно ограничены» по сравнению со свободной волей (11, стр. 375).
Если, например, мне предстоит выбор между двумя альтернативными доводами, а я ощущаю при этом полное безразличие к тому, какой из них выбрать, то это безразличие «есть самая низкая степень свободы и свидетельствует скорей о недостатке знания, чем о совершенстве воли»: знание того, что истинно и что добро, исключает всякие затруднения в деле выбора и делает обладателя этого знания «совершенно свободным».
Источник заблуждения в том, что «воля, будучи более обширной, чем ум, не удерживается мной в границах, но распространяется также на вещи, которых я не постигаю» (11, стр. 376). Вот почему «естественный свет нашего ума учит нас, что познавательная деятельность разума должна всегда предшествовать решению воли». Следует постоянно иметь в виду тот факт, что «воля составляет одну как бы неделимую вещь, и, по-видимому, ее природа такова, что от нее не может быть ничего отнято без того, чтобы она не уничтожилась» (11, стр. 378). Вывод: «Каждый раз, когда я настолько удерживаю свою волю в границах моего знания, что она составляет свои суждения лишь о вещах, представляемых ей разумом ясно и отчетливо, я не в состоянии ошибиться» (11, стр. 380).
Но обходится ли без «издержек» такое понимание истины и заблуждения? Нет, не обходится. Вот, например, одна из них. Хотя идея субстанции, рассуждает Декарт, находится во мне, ибо сам я субстанция, но, несмотря на это, как существо конечное, я все-таки не обладал бы идеей субстанции бесконечной, если бы она не была «вложена» в меня некоторой действительно актуально бесконечной субстанцией (ибо, по убеждению Декарта, потенциальное бытие есть «ничто»). «И я не должен думать, — говорит Декарт, — что постигаю бесконечное не при помощи истинной идеи, а только через отрицание того, что конечно, подобно тому как я понимаю покой и мрак через отрицание движения и света» (11, стр. 363). Выделенный мной термин «постигаю» представляет собой волевой акт, но не акт познания, осуществляемого разумом, ибо почти вслед за этим высказыванием мы читаем: «Ведь бесконечное по своей природе таково, что я, существо конечное и ограниченное, не в состоянии его понять» (11, стр. 364). И затем говорит, что, хотя ничто не мешает моему познанию расти до бесконечности, бесконечность остается чуждой мне, ибо речь может идти лишь о потенциальном бытии бесконечности, то есть о «ничто».
А вот что писал Декарт в одном из писем 1630 года по поводу вопроса о бесконечности, предложенного ему корреспондентом: «Вы заявили, что если бы имелась бесконечная линия, то она содержала бы бесконечное число и футов, и туаз[20] и что, как следствие, бесконечное число футов будет в шесть раз больше числа туаз.
— Целиком с этим согласен.
— Однако это последнее не является бесконечным.
— Я отрицаю это следствие.
— Но одна бесконечность не может быть больше другой.
— А почему бы и нет? Что здесь абсурдного? Главное, является ли она большей в конечном отношении. как это имеет место здесь, где умножение на 6 производит конечное же отношение, отнюдь не относящееся к бесконечности. Больше того, каково то основание, исходя из которого мы можем судить, будет ли одно бесконечное больше другого или нет? Таким основанием является воззрение, что оно перестанет быть бесконечным, если мы сумеем его познать» (14, I, 28).
Перенесемся теперь на мгновение вперед на два с половиной столетия. К. Маркс в ходе установления операционального смысла символов производной и дифференциала ключевым моментом понимания этого считает выяснение того, почему в получающемся отношении между функцией и переменной (учтем, что отношение нулей равносильно отношению бесконечностей) при их «нулификации» символ, обозначающий производную, «есть не только символ для , но одновременно и символ процесса, из которого при данных определенных условиях…получилось …В отрицании, таким образом, удерживается то качественное отношение, отрицанием которого это превращение („нулификация“. — Я. Л.) является» (5, стр. 291)…
Декарт в рассматриваемый период был занят делом превращения теории отношений в современную алгебру, и это удалось ему именно потому, что он впервые взглянул на отношение величин именно как на качественное отношение: лишь тогда, в момент наступившего «озарения», он понял операциональный смысл алгебраической символики. В приведенном извлечении из «Математических рукописей» Маркс, продолжая фактически рассуждения Декарта, но уже на материале созданной последним алгебры, устанавливает операциональный смысл символики выросшего из алгебры (Лейбниц) исчисления бесконечно малых, или дифференциального исчисления. Почему же тогда Декарт в дальнейшем должен был провозгласить принципиальную непознаваемость бесконечного? Чтобы сохранить атрибут актуальной бесконечности только за богом, что позволяло последнему оставаться внепричинной причиной всех причин. Эта отсылка к богу позволяла не ставить вопроса о конечных и начальных причинах внутри самого метода и системы и придавала им внутреннюю законченность и действенность. В результате при исследовании природы можно было ограничиться компромиссным понятием потенциальной бесконечности. Во всяком случае это было предусмотрительно: сейчас мы знаем, какие катастрофы и парадоксы вызвало в математике введение идеи актуальной бесконечности (хотя бы в канторовской теории множеств). Оставляя богу актуальную бесконечность, Декарт как бы отложил решение этой острейшей проблемы на столетия, оставив ее в наследство более умным и сообразительным потомкам…
В рамках рационалистического мировоззрения с помощью метода удалось придать алгебре статут относительно самостоятельного, действующего на собственной почве (общелогическим основанием для такой самостоятельности как раз была возможная лишь с помощью внелогичного принципа — бога — самостоятельность существования мыслящей субстанции) операционального исчисления, а это в свою очередь…и т. д… вплоть до рассмотренного момента (Лейбниц, Маркс) качественного превращения в ходе развития понятия бесконечности.
«Издержка», таким образом, оказывается данью, выплачиваемой разумом свободной воле в качестве компенсации за удержание в рамках конечного. Это — запланированная частичная «потеря» энергии, являющаяся необходимым условием функционирования «рабочего цикла» в «термодинамике» мысли, где в качестве perpetuum mobile, которого нет, выступает вечный, бесконечный и неизменный Декартов бог. Вот только вопрос: была ли она, эта издержка-потеря, запланированной для Декарта? Все говорит о том, что была — пусть вначале интуитивно, в «смутном хаосе» предчувствуемая. Но совершенно явно «запланированной» была позволившая в конце концов выявить необходимость такой платы неспешность мысли Декарта («нескороспелым гением» образно определяет, имея в виду эту черту его характера, Декарта Г. Мило (93, стр. 88)).
Эта весьма четко выраженная уже с юных лет неспешность мысли осознается им и возводится в принцип деятельности, составляя суть одного из упомянутых временных правил морали. В рамках сомнения эта черта характера Декарта позволяет ему уловить, если так можно выразиться, ритм эпохи. Мы имели возможность видеть, как из простого набора случайных действий индивида постепенно вырастают методичность и последовательность их. Вот, следовательно (если прибегнуть к известному выражению Маркса), какая «голова» нужна была эпохе для того, чтобы уловить и с наибольшей адекватностью воспроизвести созревающие фундаментальные идеи и переплавить их в метод. Именно культивируя этот ритм первоначально медлительного и кропотливого разворачивания мысли, Декарт попадает в «фазу» с ритмом времени, и, думается, благодаря такому «резонансному совпадению» происходят неожиданно быстрые и исключительно результативные ускорения его творческого прогресса (мистицизм «божественных озарений и кризисов» для их объяснения оказывается ненужным).
Очень контрастно выглядят эти свойства Декарта в сопоставлении с характером и творческой манерой его гениального современника и оппонента в развернувшихся вокруг картезианской аналитической геометрии дискуссиях, математика П. Ферма, который «обладал редкой способностью удерживать свои мысли в памяти без внешних вспомогательных средств» (57, стр. 154).
По стилю деятельности Ферма во многом близок к деятельности искусника-ремесленника, к мастерству «золотых рук», одной из характеристик которых является «засекреченность» результата. И подобно уже упомянутому выше (стр. 31) бессилию современных наук в разгадке иных секретов древних мастеров, наука математическая во всесилии своих средств и методов бьется, пока что с той же безрезультатностью, над окончательным раскрытием секрета проблем, подобных так называемым «малой-» и «великой теореме» Ферма (и хотя великая теорема еще полностью не доказана, попытки в этом направлении явились и являются чрезвычайно плодотворными для математики (см. 37, II, стр. 80)).
Стремительный полет мысли Ферма и неспешная, рефлексирующая поступь мысли Декарта — в эпоху коренной ломки схоластики и становления классики; неспешная, рефлексирующая поступь мысли Эйнштейна и стремительность мысли Ферми — в эпоху коренной ломки классики и…? (см. «Введение» к настоящей работе), — в общем, в нашу с Вами, читатель, эпоху (см. «Заключение» к настоящей работе). Весь спектр творческих манер, стилей, заключенный в интервале этих двух соотносящихся, «дополнительных» складов мышления, в периоды означенных коренных ломок, в точках зрения1 «сворачивается» в один, единый и внутренне предельно противоречивый строй, который в процессе формирования новых идеализаций и нового, парадоксального предмета вновь методически «разворачивается», обретая свою «стройность». Вполне естественно, что последняя прежде и нагляднее всего конституируется в методе.
Ранее, при рассмотрении того, как «работает» метод (стр. 82–83), отмечалось, что, совершенствуя определенные способности человека, метод доводит это совершенство до крайних границ и что происходит это в ходе анализа способностей. В шестом размышлении Декарт среди прочего дает «технологию» такого анализа, объектом которого является фундаментальная, определяющая способность человека — способность мышления.
Прежде всего Декарт отделяет познавательную способность, или чисто интеллектуальную деятельность, от способности представления, отмечая в отношении последней, что «этот род мышления разнится от чисто интеллектуальной деятельности тем, что при последней дух обращается до некоторой степени на самого себя и рассматривает некоторые из идей, находящихся в нем; при представлении же он обращается на тело и рассматривает в нем что-либо соответствующее идее, образованной им самим или полученной при помощи чувств» (11, стр. 391). Из единственной возможности такого «доказательства», как осуществляются представления, следует «вероятность» существования тел. Но, продолжает он, из существующей в представлении идеи телесной природы невозможно вывести «необходимость» существования какого-нибудь тела.
Дело в том, что «кроме той телесной природы, которая является объектом геометрии», существует еще множество разных других вещей — цвета, звуки, боль и т. д., — составляющих объект «того рода мышления, который, — говорит Декарт, — я называю „чувствовать“» (11, стр. 391). Разницу между пониманием и представлением Декарт демонстрирует на примере действия мышления с геометрическими фигурами. Если, говорит он, треугольник, пятиугольник можно равным образом и представлять себе, и мыслить (понимать), то, например, тысячеугольник можно лишь понять, но не представить его себе, ибо в представлении тысячеугольник настолько смутно воображается, что ничем не отличается от 10-тысячеугольника: это различие может быть установлено только с помощью понимания, или уразумения (см. 11, стр. 390).
Декарт отмечает, что онтогенетической основой познавательной деятельности мышления является чувственное знание. Во-первых, говорит он, чувствами начинают пользоваться раньше, чем разумом. Во-вторых, идеи, сформированные разумом, не так выразительны, как идеи, обретенные посредством чувственного восприятия. В-третьих, первые, как правило, состоят из элементов вторых. Но постепенно, под влиянием повторяющегося и накапливаемого опыта мало-помалу убеждаешься, что при всех своих преимуществах в отношении полноты ощущения чувственное знание недостоверно. В качестве примеров, свидетельствующих об этом, приводятся факты обмана зрения, а также упоминавшиеся иллюзии сновидения и болевых ощущений в отсутствующих конечностях (см. 11, стр. 393–394).
И затем следует уже знакомая нам логическая цепочка: сомнение — посредническая роль бога — «когито» — мыслящая субстанция — снова бог — субстанция протяженная. Но на этот раз речь идет о субстанциональной двойственности, отображенной на самого человека: «природа вообще», или бог, о которой шла речь ранее, рефлектируется в «природу в более узком смысле» (11, стр. 399). Эта рефлексия закладывает основы самосознания в полном смысле этого слова, познания человеком себя «как существа, состоящего из духа и тела» (там же). Здесь намечена программа исследования и некоторые основные идеи, реализованные позднее Декартом в виде трактатов «Описание человеческого тела…» и «Страсти души».
Разум, или ум, в своем движении постоянно раздваивается, отщепляя от себя все новые и новые «способности мышления» и делая их чем-то внелогичным, но интимно связанным с выталкивающей их логикой: продолжая оставаться, генетически, «родом мышления», они являются становящимся и развивающимся предметом мышления, «втягивая» в него в то же время весь внешний мир (как в случае с чувствами). Разум сохраняет предметность движения, обретая, производя и воспроизводя способность к относительной самостоятельности развития. В эпоху, когда, как отмечалось выше, идеальный план деятельности отщепляется от самой непосредственно производительной деятельности, такая самостоятельность обретает первостепенное значение.
Разработка, «анализ» способностей подготавливает и начинает осуществлять отщепление рутинных, в принципе механизируемых способностей мышления и постепенную передачу их — вначале в «машинную» технологию метода, а затем, через его посредство, в «машину» науки и в технико-технологические структуры непосредственного производства. Перефразируя слова Гейне, «трещина „Мира“» прошла через сердцевину разума. Но она в конечном счете была «трещиной мира», мира, где определяющим принципом становился, как отмечалось, принцип крупной промышленности, воплощавшийся постепенно во всех видах деятельности в виде процесса «дифференциации — специализации — упрощения» (4, стр. 26).
Приглядимся теперь к системе метафизики, представленной выше в ее некоторых определяющих чертах, именно определяющих как ее специфику в качестве подсистемы всей декартовой системы, так и ее специфически Декартово понимание.
Говоря в общем, это — система обретения начал и принципов «выведения» на их основе всех материальных и духовных вещей. Декарт разъясняет: при всей несомнительности существования мира реальных вещей предстоит еще работа по «выведению» этих вещей из их небытия по отношению к механико-математизированному познавательному аппарату. Вот в чем тайна выведения в рамках всей развернутой Декартовой системы. И лишь затем, после такого выведения, подключается намеченная выше цепочка внутри-логических выведений, кончающаяся вновь в машинах, рабочей части которой теперь, через передаточный механизм, задается жесткая конкретная программа — алгоритм выведения, на этот раз выведения реальных объектов материальной природы из небытия для человека.
Впоследствии, в процессе все развивающейся рефлексии, эти гиперусложненные структуры «плана» деятельности оторвались от самой деятельности и разошлись уже «пространственно», в виде идеализма и материализма, причем их внутренняя специфика приняла превращенные («извращенные») формы: материализмом «предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно», в то время как «деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» (2, стр. 1) — была разорвана передаточная цепь «выведения», обеспечивавшая связь с практикой, и это привело к потере предметности мышления идеализмом. Для материализма это обернулось потерей всеобщей взаимосвязи в ее движении и развитии.
Но как же тогда сумела выжить и продолжиться по сей день живая душа картезианства, его действенность? Весь «секрет» здесь в том, что в рамках картезианской логики (метода) мысль сохраняла свою предметность благодаря взаимной рефлексии аналитической и геометрической составляющих: когда одна из них выступала в качестве логики, другая автоматически обнаруживала свою предметность. Условием оставался постоянно сохраняющийся «зазор» между ними.
Сделаем вновь скачок через три столетия. Декартовский зазор между геометрическим образом и аналитически выводимым движением и декартовская диалектика их взаимоперехода осуществляется сейчас уже не только в контексте теории (аналитическая геометрия) и не только в контексте связи между теорией и ее приложениями (теория механизмов и машин). Современная машинная техника все более артикулированно и выявленно работает по этой схеме, как бы наглядно демонстрируя и наиболее полное воплощение «в жизнь», и вместе с тем наибольшую разрядку, выговоренность наружу, картезианского замысла. Этот, да простят нам читатели, «за-мысел» все более становится «по- (после) мыслом».
Представим себе, как работают четырехзвенные системы агрегатных автоматических устройств с программным управлением, которыми (системами) управляют «самообучающиеся» ЭВМ. «Самообучаемость» заключается в том, что разработанный с помощью ЭВМ план меняется по ходу обработки в зависимости от появления привходящих, непредусмотренных факторов, говоря в общем, в зависимости от непрерывного появления «новых тел» (геометрических конфигураций), которые, исходя из своих «принципов», машина должна мгновенно «вывести», перевести на «язык» последовательных движений. Объемное зрение следящих устройств и сверхтонкая «тактильная» («ощупывательная») способность датчиков практически отождествляют их с соответствующими чувственными органами человека. «Железная» (строгая) логика метафизики воплотилась в логику «железных» (традиционного железа в них все меньше и меньше) структур современного производства.
Ну, а в сфере мышления, в движении структур «чисто интеллектуальной» деятельности? Декартова метафизика здесь весьма своеобразно замкнулась на себя: в Мичиганском институте социальных наук группа сотрудников под руководством Джона М. Мориса пропустила сквозь «решето» компьютера полное собрание сочинений Декарта (см. 13). Целью этих работ были пока чисто лингвистические разработки внутренней структуры Декартова письменного наследия. Но со времени первых работ (середина 60-х годов) и в отношении целей, и в результатах достигнут определенный прогресс (подробнее см. 79, где дается библиография первых работ по экспериментальным результатам и теории эксперимента). «Декарт» и «Луллий» вновь встретились, и вновь, как и три с половиной столетия назад, «Луллий» пока сумел усмотреть в «Декарте» только луллианское…
Но вернемся вновь к нашим проблемам. Одна из конечных целей метафизики, по Декарту, — обретение «начал» — реализуется вскоре после выхода «Размышления…» появлением в свет книги.
Б. «Начала философии»
…Каждый народ тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют; поэтому нет для государства большего блага, как иметь истинных философов.
Р. Декарт.Появившись впервые в свет в 1644 году на латинском языке, «Начала философии» вышли в 1647 году на французском в переводе аббата Пико. Письмо Декарта к последнему было опубликовано в виде предисловия к этому изданию. Помимо предисловия книга содержит четыре части: «Первая из них содержит начала человеческого познания и представляет собою то, что может быть названо первой философией или же метафизикой…остальные три части содержат все наиболее общее в физике; сюда относится изложение первых законов для начал природы» (11, стр. 422). И если сам текст «Начал» необычным, по сравнению с предыдущими работами Декарта, образом изложен — разбит на следующие друг за другом пункты, пронумерованные и содержащие каждый законченное суждение либо определение, — то предисловие является квинтэссенцией того разговорно-рассуждающего стиля, который присущ знакомому нам по прежнему рассмотрению Декарту.
В предисловии вновь предстает перед нами история духовного развития Декарта, но уже более богатая достигнутыми результатами — «плодами», с одной стороны, и впервые с такой полнотой останавливающаяся на разборе своих культурно-исторических корней и духовных потенций, с другой стороны. Впервые, отбросив всякие иносказания, Декарт прямо и не однажды на протяжении предисловия критикует Аристотеля, сравнивая аристотелизм с другими философскими направлениями. Декарт следующим образом определяет философию: «…высшее благо…есть не что иное, как познание истины по ее первопричинам, то есть мудрость; занятие последнею и есть философия», а те, кто отыскивал «первые причины и истинные начала, из которых выводили объяснения всего доступного для познания…получили имя философов по преимуществу» (11, стр. 413–414).
«Вся философия, — отмечает далее он, — подобна как бы дереву, корни которого — метафизика, ствол — физика, а ветви, исходящие от этого ствола, — все прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике. Под последней я разумею высочайшую и совершеннейшую науку о нравах; она предполагает полное знание других наук и есть последняя ступень к высшей мудрости. Подобно тому как плоды собирают не с корней и не со ствола дерева, а только с концов его ветвей, так и особая полезность философии зависит от тех ее частей, которые могут быть изучены только под конец» (11, стр. 421). Продолжая образное течение мысли Декарта, подумаем о той почве, из которой растет «дерево философии»; о «семени», из которого оно выросло и которое, как следует ожидать, во множестве представлено в каждом из плодов; о том, что каждое из этих «семян» в потенции готово повторить весь путь развития «дерева», но уже в другой почве, а значит, готовность к повторению означает и готовность к изменению, и т. д.
Такая образная эстраполяция подводит нас к мысли о началах в Декартовом понимании и представлении в «Началах…» — как «первых причин» всего пути следования к этим «Началам…» начал. По мысли Декарта, все предыдущее развитие было лишь своеобразной предысторией, а собственно история начинается с закладки начал в «Началах…», долженствующих послужить основанием для последующей главной работы: «дать роду человеческому законченный свод философии» (11, стр. 422). Конечно, говорит он, все это сделать и в его, Декарта, собственных силах, но реально вряд ли он сможет осуществить такое мероприятие: нужны гигантские средства для осуществления огромного числа опытов; но здесь сказана не вся правда. Вся правда состоит в том, что сам факт построения системы, свода философии говорит о том, что развитие уже не может происходить только в эмпиреях метафизической рефлексии; опытное знание, опытная наука уже перешагнули порог, и тень метафизики (характерной для конца XVII–XVIII века), отбрасываемая ими, уже легла на рабочий стол Декарта.
В рамках прежнего, продолжающего развиваться по своим принципам метода надо было найти место для «нового» метода, потребность которого выросла «изнутри» прежнего, а не существовала, как ранее, «рядом» с ним. Декарт уже давно знал о возможности возникновения такой ситуации, но был в этом отношении спокоен: такой метод, как ему было известно, разрабатывал Ф. Бэкон. «Мы с Веруламцем[21], — писал он в одном из посланий корреспонденту, — дополняем друг друга. Мои советы могут служить для общего объяснения Вселенной, его же — позволяют уточнять детали посредством необходимых опытов» (13, I, 318). Но дело в том, что нараставшая лавина опытов быстро меняла лицо самого экспериментального метода в том виде, как оно (лицо) известно было Декарту…
И все-таки Декарт говорит «всю правду» в том отношении, что все «говорение» в системе его собственных принципов и категорий (логических, этических и нравственных) было возможно только как правда, истина, «вся правда», все остальное бытовало в душе Картезия только в виде смутных, неясных предчувствий, т. е. было не существенным для разума.
Определение философии дает ответ на вопрос, «что» есть философия; «дерево» мудрости показывает, «как» она есть. «Начала…» призваны дать ответ на вопрос о ее началах, т. е. о первых причинах, т. е. «почему» она такова: в конце ответа на такое «почему» обретается новое «что», служащее началом в обычном понимании, как исходный пункт. Что же тут удивительного? Метод и развивающаяся теория в закономерностях развития верны своим историческим началам.
Все прежние идеи и принципы не просто собраны в «Началах…» «под одной крышей»: они здесь следуют друг за другом в строгой последовательности причудливо переплетающихся двух логик, двух ипостасей Декартовой логики — логики определений и логики доказательств, логики дедуктивного следования. При включенности в такую систему все прежние положения, бывшие как бы «рядо-положенны-ми», в отношении координации, теперь вынуждены встать в отношение субординации. Но тогда, значит, иллюзия Декарта «ясно и отчетливо» предстает перед нами. Он рассуждал так: будут заложены начала — Начало, а затем из него будет развернута система вывода всего остального, будет наконец-то обретена Логика. А тут, в «Началах…», выясняется со всей очевидностью, что все предшествовавшее выведение — это, собственно, и есть логика, логика par excellence[22].
Одним из первых определений, даваемых Декартом в первой части «Начал…», является определение мышления: «Под словом „мышление“ я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить» (11, стр. 429). Выясняют свое отношение бывшие критерии истинности восприятия — ясность и отчетливость: «Ясным я называю такое восприятие, которое очевидно и имеется налицо для внимательного ума, подобно тому, как мы говорим, что ясно видим предметы, имеющиеся налицо и с достаточной силой действующие, когда глаза наши расположены их видеть. Отчетливым же я называю восприятие, которое…содержит только ясно представляющееся тому, кто надлежащим образом его рассматривает» (11, стр. 445). «Ясность», таким образом, включается в «отчетливость».
Раньше достаточно было сказать, что ввиду конечности нашего разума бесконечность непостижима разумом. Но теперь, сказав «не следует пытаться постичь бесконечное», этим «не» ограничиться нельзя: надо сказать, что же следует постигать. И Декарт говорит, что «надлежит лишь полагать неопределенным все, чему мы не находим границ» (11, стр. 437). А как же быть с неотвязным представлением, что многие вещи кажутся нам беспредельными? Очень просто: раз и навсегда понять, что проистекает это из недостаточности нашего разума, а вовсе не из их природы: бесконечен один лишь бог. Поэтому следует рассматривать, не для какой цели бог создал весь мир и каждую вещь в отдельности, а лишь каким образом он ее создал. Ну а здесь, понятно, включается известный уже нам механизм, прекрасно «работающий» в рамках инерции, за которыми осталась бесконечность: неопределенность не только не мешает, наоборот, она вселяет энтузиазм безграничного совершенствования всея и всех.
Далее Декарт вводит строгие различения между субстанциями и атрибутами: первые «нуждаются лишь в обычном содействии бога», так что не нуждаются для своего существования ни в чем, кроме себя самих; вторые не могут существовать без субстанций и являются поэтому их «качествами» (11, стр. 448). При этом «всякая субстанция имеет преимущественный атрибут: для души — мысль, для тела — протяжение» (11, стр. 449). Все зависящие от этого атрибута свойства являются модусами, или способами; они соотносятся с субстанцией через посредство атрибутов.
Вводя понятие универсалии, Декарт отмечает, что существует пять универсалий (общих понятий): род, вид, различие, свойство и акциденция. Различие между ними бывает троякого рода: реальное, модальное и рациональное (разумное). Первое встречается только между субстанциями, которые действительно отличны друг от друга, ибо можно одну мыслить ясно и отчетливо без другой. Модальное различие двояко: «Одно между модусом, который мы назвали способом, и субстанцией, от которой он зависит и которую видоизменяет, другое — между двумя модусами одной и той же субстанции» (11, стр. 452–453). Третий из указанных видов различия «состоит в том, что мы иногда проводим различие между субстанцией и каким-либо ее атрибутом, без которого она, однако, сама не может быть отчетливо понята, или в том, что мы пытаемся отделить от одной и той же субстанции два таких атрибута, мысля об одном и не мысля о другом» (11, стр. 454).
Но теперь уже недостаточно указать на общую причину наших заблуждений — следует в ней самой выделить особенные причины. Декарт выделяет четыре такие причины: предубеждения детства, неспособность избавиться от них, утомляемость ума (особенно при занятии интеллигибельными вещами), наконец, та, что мы связываем мысли с неточно выражающими их словами (см. 11, стр. 459–462). В свете этих причин Декарт получает возможность кратко изложить то, чему нужно следовать, чтобы правильно философствовать, и начинается, естественно, изложение с рекомендации устранить указанные причины: освободиться от предрассудков; пересмотрев наличные понятия, оставить в качестве истинных лишь ясные и отчетливые. И тогда начинается второй ход, именно что мы приобретем: себя как мыслящих, бога, протяженную субстанцию и т. д. Теперь, сопоставив первый, деструктивный процесс с конструктивным, приобретем «навык составлять себе ясные и отчетливые понятия обо всех познаваемых вещах» (11, стр. 463). В этих нескольких правилах, заключает Декарт, «я выразил наиболее общие и основные начала человеческого познания» (там же).
После тщательной, скрупулезной разработки выработанных до сих пор принципов и идей Декарт в «Началах…» возвращается «якобы к прежнему» — вновь появляются, в качестве исходных, немногие «правила».
Конечно, Декарт-философ — обыкновенный нормальный человек со здоровой психикой, он «достаточно убежден в существовании тел», но, чтобы знать об этом, знать достоверно, их надо подвергнуть сомнению, повергнуть в небытие, а затем сквозь круги чистилища сомневающейся мысли «вывести» одну за другой, вызволить из этого небытия, но — memento mori![23] — как уже зараженные относительностью, в постоянном «воспоминании» о своей исходной «потусторонности», непонятности, недо-очищенности и тем самым о своей предметности для разума.
Философское древо познания, увешанное плодами, — это, следовательно, выведенная из себя природа, природа, вызванная из своей извечной косности человеком, но человеком мудрым, умнеющим, сохраняющим и углубляющим свою исконную сущность, свое рацио, разумную душу, ясность и отчетливость ума. Ибо ум этот постоянно помнит — memento mori! он сам вызван из небытия, выведен из неумного, — что всякое выведение из себя есть нарушение первоначального равновесия, разрыв связи. А поскольку человек делает это в обществе, в государстве, он должен быть мудрым, не выводить природу из себя в расхожем, житейском смысле — ни «природу вообще» (экологическая катастрофа), ни «природу в узком смысле слова» (неуправляемая цепная реакция стрессовых состояний)… Таков глубинный смысл вынесенных в эпиграф параграфа слов Декарта, и это — смысл предпринятого во второй, третьей и четвертой главах «Начал…» выведения мира природных, материальных вещей — в их первопричинах, началах, во взаимосвязи и взаимозависимости их: цель анализа природных сил состоит в переводе их во внутреннюю гармонию функциональных законов, управляющих миром. Этика должна завершить древо потому, что она — вершина. А для того чтобы вершина находилась на достойной всего дела высоте, надо развить «ствол» — физику — как можно обстоятельнее и основательнее. Так продолжает развиваться познание мира как самопознание.
Новизна, уникальность механизма — в новизне прежде всего понимания (понятия) движения как механического перемещения, как движения местного. В истоках Декартова метода и его философии такое понимание движения было и историческим, и логическим началом. Мы видели, как прямо и сравнительно легко «вошло» это движение в математику. С созданием аналитической геометрии математика (alter ego декартова метода) претерпевает изменения, охарактеризованные Ф. Энгельсом как революционные: «Поворотным пунктом в математике была декартова переменная величина. Благодаря этому в математику вошли движение и тем самым диалектика и благодаря атому же стало немедленно необходимым дифференциальное и интегральное исчисление» (6, стр. 537).
Теперь надо было соответствующим образом «подготовить» физику (механику) к предстоящему плодотворному взаимодействию с математическим аппаратом. Однако используемое нами выражение «подготовить физику» скрывает за собой далеко не простое дело. Эта «подготовка» есть сложный процесс взаимодействия физики и математики. В таком процессе физика, например учение о твердых телах, должна все более математизироваться, а математика — все более проникаться сложнейшими физическими идеализациями, все более, так сказать, «физикализироваться». И по сути дела, действующие лица этого взаимодействия, физика и математика, отнюдь не остаются все время тождественными сами себе, они постоянно изменяются, трансформируются, и сама возможность такой их трансформации составляет одно из величайших достоинств метода Декарта.
Исходным моментом такого взаимодействия является протяженная субстанция, чистая протяженность которой всегда сохраняется и является существенной. При рассмотрении пустоты и раскрытии природы «разрежения» наличие пустоты отрицается, ибо «пустое пространство» сохраняет протяженность в длину, ширину и глубину, т. е. свою пространственность. Поскольку величина разнится от имеющего величину лишь в нашем мышлении (ст. 8)[24], нельзя отнять от некоторой величины чего-либо протяженного (т. е. субстанции) «без того, чтобы тем самым отнять столько же от субстанции; и обратно, невозможно отнять что-либо от субстанции без того, чтобы не отнять столько же от величины или протяжения». Природный аналог операции вычитания налицо; для сложения такой аналог был установлен (в ст. 6). Соотношение пространства и заключенных в нем тел уже при первых своих определениях оказывается невозможным без движения (ст. 10–19). Но по самой своей сути протяженная субстанция, или материя, допускает изнутри себя движение лишь виртуальное, как возможное перемещение частей, т. е. мысленное движение. Естественно, что, когда надо перейти к движению реальному — местному, приходится призывать на помощь бога. И он появляется (ст. 20), с тем чтобы ввести бесконечную делимость материи, что заложено в ней актом творения. Таким образом, материя в свойственной ее частицам беспредельной «элементарности» однородна, так что все ее разнообразие (начинается обратный ход: вслед за деструкцией наступает собственно творение — конструкция) обязано лишь одному — движению: «Все различие встречающихся в материи форм зависит от местного движения» (ст. 23).
Свершилось! И бог вновь отступает в тень (но, как и следует ожидать, ненадолго, до следующей непреодолимой трудности). Движение подвергается обычной серии операций: дифференциация (определение — расчленение родовое и видовое) — закрепление (привязка к определенной группе тел — введение координат) — упрощение (фактическое перенесение на материальную точку всех «силовых», динамических определений, в результате чего совершается их перевод в простейшие фундаментальные отношения: формулируется ряд функциональных законов).
В классической механике Декарта (Галилея, Ньютона) понять вещь — значит понять ее в момент действия на другое, т. е. в точке взаимодействия: все разнообразие взаимодействий стягивается к точке[25]. И хотя, разворачивая сцепление взаимодействий в точке, мы каждый раз рассматриваем взаимодействие двух сил (тел), потенциально в ней сходится бесконечное множество взаимодействий. Вот почему точка эта бесконечно делима, и здесь лежат корни непостижимого чуда беспредельного деления (ст. 35)[26].
Вводится, в виде заявки, один из ключевых — для установления искомого взаимодействия — моментов: «Несомненно, что одному движимому телу мы можем приписать одновременно не больше одного движения» (ст. 28). Но «несомненность» для Декарта, тем более только что в виде непосредственного следствия из одного определения провозглашенная, — наилучший объект для проверки сомнением как ближайший кандидат на звание «достоверного», истинного. И после ряда «за» и «против» (ст. 29–31) это предложение принимается. Но тут вновь — пропасть: ввиду возможности в Декартовой материи лишь круговых движений (пустоты нет!) прямолинейные движения абсолютно исключены… исключены для человека, но не для всевышнего. Бог неизменен. А «толчок» — дело его рук, и законы этого «первотолчка» распространились на все тварное.
Первый закон: «Всякая вещь пребывает в том состоянии, в каком она находится, пока ничего ее не изменит» (ст. 37). Но «первотолчок» передался от первого тела второму непосредственно, прямо. Это дало себя знать во втором законе природы: «Всякое движущееся тело стремится продолжать свое движение по прямой» (ст. 39). Свидетельство тому — уже упоминавшийся выше камень в праще. Не надо большой проницательности, чтобы усмотреть в соединении, или одновременной выполнимости, первого и второго законов введение нашего старого знакомого — принципа инерции, правда в слегка ослабленной, но вместе с тем для предстоящего достаточной форме.
Итак, вспоминая одно из «Правил», согласно которому при действии над величинами следует везде, где это возможно, употреблять сложение (-многократность которого, «градус», или степень, есть умножение) вместо деления, а также имея в виду, что «определенное протяжение» — это и есть величина (ст. 10); наконец, учитывая, что действия над частями субстанции взаимно-однозначно соотносятся с действиями над величинами (вспомним «и обратно» из упомянутой выше ст. 8), — если все это собрать воедино и прибавить, что в Декартовом определении протяженные отрезки материи ведут себя как идеально твердые тела, то созданная («создавшаяся» здесь не подходит!) ситуация лучше всего может быть описана следующим высказыванием А. Эйнштейна: «Если…эвклидову геометрию рассматривают как науку о возможности взаимного расположения реальных твердых тел, т. е. если ее трактуют как физическую науку, не абстрагируясь от ее первоначального эмпирического содержания, то логическое сходство геометрии и теоретической физики становится полным» (60, стр. 182. Курсив мой — Я. Л.). Значит, некоторое логическое сходство обнаруживается между Декартовой относительностью движения и современным релятивизмом. И оно действительно существует (см. анализ этого соотношения в (38, стр. 422–427)).
Вернемся от космоса к земле, от бога — к человеку.
В. «Описание человеческого тела. Об образовании животного». «Страсти души»
«Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя. Польза, которую можно ожидать от такого познания, относится не только к области ведения морали…но преимущественно к области медицины. Медицина могла бы дать очень много обоснованных указаний как для лечения болезней и их предупреждения, так и для замедления процесса старения, если бы в достаточной мере занималась изучением природы нашего тела» (11, стр. 547). Первое впечатление от приведенного извлечения из Декартова трактата — даже если кое-что от стиля отнести на счет переводчика — что это фрагмент из перспективного плана по крайней мере двух медицинских НИИ. Но опомнившись от первого впечатления, невольно думаешь: что это для человека, уже «сотворившего» всю бескрайность универсуума и Землю только из материи и движения!
Действительно, точно таким же образом Декарт-дуалист приступает к исследованию человека: душа — субстанция, отличная от тела, познаваема благодаря «мышлению, т. е. пониманию, желанию, воображению, воспитанию и сознанию, так как все эти действия являются различными видами мышления» (11, стр. 548). При исследовании «механизма нашего тела» движения, не связанные с волей, так же бессмысленно относить к душе, как мало оснований для вывода, что у часов есть душа, раз они показывают время.
В машине тела, как и любой другой машине, есть лишь два движения — прямолинейное и круговое. Двигатель — сердце, энергия — имеющаяся в нем теплота. Сердцевина всего объяснения — «объяснение движения сердца» (11. стр. 559). Декарт отдает должное английскому врачу Гарвею, впервые обнаружившему круговое движение крови. Но, как он считает, Гарвею объяснить движения сердца не удалось, что сам Декарт обстоятельно проделывает, опираясь на многочисленные опыты, собственноручно произведенные над телами различных животных, а также почерпнутые из наблюдений.
В третьей части он объясняет процесс обновления организма, рассматривая, как происходит регенерация тканей, костей скелета, мозга; почему наступает старение; чем объяснить, что в процессе этого непрерывного обновления основные структуры организма вновь воспроизводятся в прежнем виде.
Но все это, отмечает Декарт в начале четвертой части, можно объяснить гораздо лучше, «если изучить, каким образом они (части тела. — Я. Л.) первоначально возникли из семени» (11, стр. 568). Хотя рассматриваемые в трактате вопросы Декартом затрагивались и в других работах, он воздерживался от изложения своих взглядов по ним, так как, говорит он, «еще не сделал достаточно опытов и не мог проверить все мысли, которые у меня по этому поводу имеются» (там же).
Декарт приступает к творению человека. «Если бы мы хорошо знали, — мечтает он, на минуту отвлекшись, — что представляют собой все части семени любого вида животных, в частности, например, человека, то из этого одного можно было бы вывести на основании чисто математических и совершенно достоверных доказательств всю фигуру и строение каждой его части; и обратно, при знании некоторых особенностей этого строения из него можно вывести, что представляет собой семя» (11, стр. 585). Это ли не «проблематичный идеал» современной генетики! Идея стара, как мир…человека, возможный мир, сотворенный Декартом, из того «материала», который и сегодня таков же, с помощью метода, логика которого и сегодня «работает», выдавая проблемы «на-гора» — «и обратно», как добавил бы сам Картезий…
Лауреат Нобелевской премии 1924 года голландец В. Эйнтховен, которому современная электрокардиография обязана многими своими успехами, в знак признательности Декарту за вдохновившие ученого на открытие идеи, когда встал вопрос о символике для обозначения элементов ЭКГ, ввел Декартовы обозначения величин ряда (сегментов между зубцами): Р, QRS, Т и т. д. (см. 88; 24), в чем каждый читающий эти строки может легко убедиться, заглянув в свою ЭКГ.
Трактат Декарта «Страсти души» состоит из трех частей. В первой выясняются общие контуры предмета («страсти вообще») для того, чтобы вновь — в который раз! — взглянуть на «машину тела» еще с одной точки зрения, заложив основания для нового, под новым углом зрения, понимания всего человека, под углом зрения одной из самых ярких, впечатляющих, «человечных» характеристик.
Обращаясь к «машине тела» под новым углом зрения, Декарт, наряду с привычным рассмотрением уже не раз обсужденных им ранее механизмов взаимодействия души и тела через посредство «животных духов» и непарного органа в мозге — особой железы, направляющей движение «духов», теперь постепенно осознает и развивает еще один двоякий «механизм»: это механизм рефлексов, безусловных (см. 11, стр. 617) и условных (см. 11, стр. 622, 647, 660), у человека и животных (например, см. 11, стр. 623).
Именно механизм рефлексов, этот, по словам самого Декарта, «основной принцип, на котором построено все описанное здесь» (11, стр. 660), свидетельствует «о существовании такой связи между нашей душой и нашим телом, что всякое соединение какого-нибудь телесного действия с любой нашей мыслью требует, чтобы и в дальнейшем с появлением одного появилась и другая, причем не всегда одно и то же действие соединяется с одной и той же мыслью» (там же).
Во второй части Декарт рассматривает собственно страсти, из великого множества которых он постепенно выделяет «шесть первоначальных страстей»: «удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, все же прочие либо составлены некоторыми из этих шести, либо же являются их видами» (11, стр. 629).
Первая, непарная страсть, удивление, «вызывается в душе неожиданностью, которая заставляет ее внимательно рассматривать предметы, кажущиеся ей редкими и необычайными» (11, стр. 629). Страсть эта, не имея своей целью «ни добра, ни зла, а только познание предмета, вызвавшего удивление», связана только с мозгом, ибо она является сильнейшим эмоциональным стимулом познания: «Развитие…умственного мира представляет собой в известном смысле преодоление чувства удивления — непрерывное бегство от „удивительного“, от „чуда“» (60, стр. 261). Это — Эйнштейн. А вот сам Декарт: «Хотя известная склонность к этой страсти имеет ценность, располагая нас к приобретению знаний, но все-таки мы должны стремиться насколько возможно освободиться от нее» (11, стр. 632). Единственное средство преодолеть ее — приобрести обширные познания и исследовать кажущееся редким и неизвестным.
Чувства страстями развиваются, порождая новые и новые страсти. Но вот постепенно следование за ними приводит нас к другой непарной страсти, «не имеющей себе противоположной», — желанию (11, стр. 637). Эта страсть уникальна по сравнению со всеми предыдущими хотя бы потому, что она, в отличие от них, обращена в будущее. Декарт по-прежнему верен себе и упорно любое течение любого исследования в «пункте возврата» опрокидывает в будущее, к манящей вершине древа философии — этике. Окончательно изгоняется свойственное средневековому человеку чувство первородного греха, которое, как и мысль о самом грехе, о греховности страстей, воспитывает религия с детства: страсти «все хороши по своей природе, и…мы должны только избегать неправильного их применения» (11, стр. 698). На смену привычному девизу «Страсти — души!» приходит мудрая гуманистическая убежденность, что «мудрость… учит властвовать над собой с таким умением, чтобы беды, приносимые страстями, переносились бы легко и чтобы, таким образом, можно было найти наслаждение во всем» (11, стр. 700).
И если в предыдущих частях трактата бог еще представительствуется мелкими божками на побегушках — духами, занятыми «в малом» тем, чем бог во вселенском, — постоянным увязыванием желаний души со стремлением тела «и обратно» (11, стр. 611), то в третьей части роль таинства сведена к нулю, как, впрочем, и во всем трактате: таинство и рефлексы несовместимы. Религия начинает изгоняться из своего последнего прибежища — психики человека. И это понятно. В третьей части предстоит самоотчет — на каком основании человек может уважать себя. «Я вижу, — говорит Декарт, — только одно основание, на котором покоится уважение к себе. Свободное решение и власть над нашими собственными желаниями вызывают действие, заслуживающее похвалы или порицания. Свободное решение…уподобляет нас, до известной степени, богу» (11, стр. 671. Курсив мой. — Я. Л.).
Человек-творец, «со-творивший» вместе с богом мир и себя в Декартовых сочинениях; человек, «со-чинивший» в себе миры, — разве такой человек недостоин «известной степени»?
Поставлена последняя точка (по известному совету Ежи Леца она поставлена под знаком вопроса) в «геометрической диалектике» Декарта. Первое слово в ее рассмотрении принадлежало А. И. Герцену. Заключим также его оценкой этой своеобразной диалектики: «Со времени Декарта наука не теряет своей почвы; она твердо стоит на самопознающем мышлении, на самозаконности разума» (33, стр. 244).
Глава IV. «Республика ученых»
…всеобщее сознание есть лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность, общественность.
К. МарксВ течение всего предыдущего рассказа трудно отделаться от впечатления какой-то неестественной, трагической одинокости Декарта, развивающегося почти в полном вакууме внесоциальности, выключенности из реальной, живой жизни, особенно после описания сотрудничества с Бекманом и Фаульхабером в начале пути. Автор считает долгом сделать некоторые разъяснения в этом отношении, которые, отчасти, могут быть приняты за извинения перед читателем, ибо касаются замысла всей работы, а его следовало бы раскрыть заранее, не испытывая терпения человеческого.
По мысли автора, в этой книге намечалось дать абрис Декарта во всем доступном конкретном многообразии взаимопорождающих идей. Но это невозможно, даже в рамках краткого очерка, без включения жизнедеятельности Декарта в живой и напряженный контекст «Республики Ученых» XVII века, деятельным участником и «подданным» которой был Декарт. Необходимо раскрыть конкретные связи Декарта с другими «подданными» этой «Республики» — учеными, философами, естествоиспытателями, инженерами, писателями, медиками и мастерами — Бекманом и Фаульхабером, Мерсенном и Мидоржем, Вильбресьё и Феррье, Гоббсом и Гассенди. Впрочем, чаще всего многие из «специальностей» совмещались в одном лице. И реальная роль, скажем, Мерсенна совершенно не соответствовала его официальному статуту и ритуальной маске повседневно отправляемых обязанностей. В «нормальной жизни» перед нами предстали бы мундиры и парики советников различных рангов и состояний; сутаны клириков; колпаки врачей; во множестве — плащи различного покроя, в зависимости от принадлежности носящего их к тому или иному монашескому ордену — иезуитов, миноритов, ораторианцев, янсенистов и т. п.; скромные одежды инженеров и спецодежда мастерового… Но все эти одежды оказывались несущественными и иллюзорными, когда врачи и клирики входили в святилище «Республики» — храм новой науки. У входа с ног отряхивался прах и сводились на нет существующие нормы жизни, предрассудки, мнения, обычаи и ценностные критерии. Новая социальность, этика новых отношений и закономерности новой жизни творились в недрах «Республики» из живого материала наличной жизни, из ее «теста», замешанного на «дрожжах» новых идей.
«Республика Ученых» с самого начала приняла характер интернационального сообщества, объединенного одним — нетрадиционным — предметом, изучением природы, одной целью — познанием истины в ходе этого изучения и преобразования, одним языком: вначале это была латынь, затем, наряду с ней, все больше и больше им становился язык математики, который окончательно утвержден был трудами нашего героя. Никакой научной периодики, никаких институированных структур: обмен мыслями между разделенными национальными и религиозными барьерами, многочисленными войнами и прочими преградами учеными происходил, как правило, путем переписки; редко, и то случайным образом, — в результате личных встреч.
Поистине неоценимым было значение человека, игравшего роль «поворотного круга» в среде разнообразнейших идейных течений в «Республике Ученых», течений, «пересекавших в начале XVII века все области интеллектуальной жизни: математику, философию, теологию, физику, естественные науки, механические искусства…музыку» (102, стр. 5–6). Таким человеком был патер Марэн Мерсенн (1588–1648) — старший соученик Декарта по Ля Флеши, один из его ближайших друзей, монах, ученый, автор многочисленных трудов по теологии, математике, механике, физике, музыке и т. д.
Бернар Рошо, взявший на себя труд продолжения начатого К. де Ваардом издания огромной переписки Мерсенна (предположительно 16 томов, к настоящему времени уже появилось 12 томов), приводит список корреспондентов этого «генерального секретаря ученой Европы…келья которого поставила будущей Французской (и не только ей. — Я. Л.) академии ее первых членов» (102, стр. 9). Фактически имена в этом списке представляют всех гигантов мысли первой половины XVII века, но не только их.
Так вот, Мерсенн был посредником в переписке Декарта почти со всеми из указанных в списке «подданных» «Республики». Именно благодаря Мерсенну Декарт мог, оставаясь в своих «убежищах», спокойно мыслить и экспериментировать и быть в то же время в самом центре бурной интеллектуальной жизни эпохи, участвовать в дискуссиях, в которых он желал участвовать, и избегать потери времени, траты сил и душевного спокойствия в никчемных спорах и полемике, не представлявших для него интереса. Из найденных на сегодняшний день семисот с небольшим писем Декарта примерно четверть адресована Мерсенну. Следует иметь в виду, что многие из этих писем представляют собой полновесные научные трактаты или полемические работы…
Через Мерсенна Декарт свел знакомство уже в начале 20-х годов с амьенским казначеем К. Мидоржем, занимавшимся вопросами оптики, инженером Э. Вильбресьё, также отдававшим весь свой досуг оптическим занятиям. Совместно с прекрасным мастером, шлифовальщиком линз для оптических приборов, Феррье они подготовили все необходимое для проведения Декартом того исторического оптического эксперимента, о котором шла речь выше.
Знаменательным было его знакомство с голландским ученым, профессором Лейденского университета, математиком и востоковедом Я. Голиусом (1596–1667). Именно Голиус предложил Декарту геометрическую задачу, в ходе решения которой Декарт сформулировал основные идеи своей аналитической геометрии. Он же был первым человеком, с которым Декарт поделился воспоминаниями об успешном проведении упомянутого эксперимента.
О трудах Ф. Бэкона Декарт часто беседовал с хранителем бумаг Веруламца, англичанином, секретарем посольства в Голландии В. Босвеллом. Гоббс, Гассенди, Ферма, Гюйгенс, Паскаль, Дебон — перечень мыслителей первого ранга, корреспондентов, друзей, участников дискуссий, развернувшихся вокруг его работ, — этот список блестящих имен, анализ их взаимоотношений, споров, порой доходивших до разрывов всяческих отношений, и снова восстанавливавшихся контактов составят, без сомнения, основу еще ждущего своего исследователя анализа того уникального феномена культурной жизни Нового времени, который условно назван здесь «Республикой Ученых». Попытка создания своеобразного путеводителя по этой «Республике» была предпринята Нисероном, однако опубликованные в начале XVIII века 43 тома отразили лишь небольшую часть «населения» этого невидимого государства (97).
Многие из внутренних установлений «Республики» находились в прямой противоположности привычным нормам жизни общества, — например, в этой среде теряли всякий смысл господствовавшие во «внешнем» мире отношения собственности. Вот характерный пример. Декарт, столь многим обязанный Бекману и поддерживавший с ним самые дружеские отношения долго после сотрудничества в Бреда, решительно и очень резко порывает с ним, когда тот пытается распространить такие отношения собственности на их научные отношения. В письмах к Бекману, положившему начало их бурному (длившемуся, правда, недолго) разрыву, Декарт, в частности, пишет: «Смешно говорить о собственности в отношении знаний, как это говорят о поле или некоторой сумме денег, и прилагать столько усилий, чтобы, как Вы это делаете, отделить собственное достояние от чужого» (14, I, 32).
В «Республике Ученых» становился и обретал собственные формы существования новый вид труда, названный Марксом всеобщим трудом: «…следует различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль, каждый из них переходит в другой, но между ними существует также и различие. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников» (4 а, стр. 116). Именно в силу такого характера труда движение идей в универсуме «Республики Ученых», на первый взгляд прямолинейное (цепочка филиации «идей»: Авраам роди Иакова…), на поверку оказывается движением круговым, спиральным, совокупностью переплетающихся вихрей, что живо напоминает характер движения во Вселенной Декарта. «Комета» мысли ученого, переходя из одного «неба» идей и мировоззрений в другое «небо», постоянно трансформирует свое «ядро», обрастая меняющимся «хвостом» идей, понятий, ассоциаций, образов предшествующих «небес».
Но своим, пусть на первых порах невидимым постороннему глазу существованием «Республика Ученых» сразу же обрела своего врага, почуявшего в ее возникновении, в возможности дальнейшего существования и развития смертельную для себя опасность. Таким врагом стала корпорация средневековых ученых-университариев, схоластов и богословов, причем последние сразу же взяли на себя главенствующую роль в борьбе с Новой наукой. Как уже говорилось выше, немало пришлось претерпеть волнений и бед от них нашему герою. Автор «Декарта» В. Ф. Асмус посвящает борьбе мыслителя с протестантскими богословами одну (по-моему, из лучших) главу, прочитав которую понимаешь, почему Декарт все-таки пошел на предвиденный им риск поездки в Швецию; и мы не станем здесь пересказывать всех перипетий этой борьбы. Вот только небольшой арифметический подсчет: из неполных 13 лет своей растущей научной известности (после выхода в свет «Рассуждения о методе») и деятельности «на виду» у мира ученых католик Декарт 8 (!) лет отдал борьбе с этими врагами в Голландии, стране протестантизма, что вовсе не играло роли в развернувшейся против него кампании лжи, клеветы и судебных преследований: не менее яростными нападками было встречено после выхода в свет его «Рассуждение…» со стороны представителей взрастившего его ордена иезуитов — Племпия, Фромонда и Сирманса, профессоров католического Лувенского университета (см. 17, стр. 167–171).
Так формировалась, росла и развивалась в борьбе с мракобесами и церковниками «Республика Ученых», и эту борьбу она ведет и посегодня — это неустанная борьба рационализма с иррационализмом и мистикой, знания, ясности мысли с невежеством, с недомыслием, возведенным в принцип. В этой борьбе в качестве одной из разграничительных линий между фронтами двух данных только что в перечислении противоборствующих сил сформировалось направление в науке, философии, логике и других сферах деятельности, получившее по имени его основоположника название картезианства.
В борьбе с «яростным гадом» Гизебертом Воэцием как раз и проявились душевная стойкость, непримиримость к любому компромиссу идей и преданность своему духовному отцу людей, распространявших учение Декарта в университетах, во время лекций и диспутов, и считавших себя его учениками.
Первым из них должен быть назван медик, натуралист-физиолог Анри Леруа, или Регий, профессор ботаники и теоретической медицины в Утрехтском университете. Именно этот университет стал ареной первой ожесточенной схватки Регия и других профессоров, последователей Декарта, с профессором, а затем ректором университета Воэцием. И здесь, в борьбе, выявилась еще одна сторона отношений в «Республике Ученых» между ее «подданными»: непримиримые в отношении врагов, они столь же непримиримо отстаивали свои идеи, если считали их истинными. Вчерашние союзники, они, при обнаружении идейных разногласий, становились непримиримыми противниками. Такова судьба отношений Декарта с Леруа. Именно медик «Леруа перенес декартовскую конструкцию животного на человека…и объявил душу модусом тела, а идеи — механическими движениями. Леруа думал даже, что Декарт скрыл свое истинное мнение. Декарт протестовал» (1, стр. 140).
Помимо внутренних потребностей дуалистической системы, которая рушилась при таком толковании тождества двух различенных Декартом субстанций, для протеста была и другая причина. Декарту, как мы знаем, виделось, что с применением машин люди высвободятся из тисков прежних форм труда, и в перспективе они должны будут «стать…господами и хозяевами природы»: еще не произошло, ввиду спорадического применения машин, обращение отношения человек — машина, в результате которого в развитом машинном производстве капитализма человек становится придатком машины. Но в механизме мануфактуры оно уже весьма прозрачно просматривалось. Таков гуманистический запал полемики Декарта. Как ни странно, Леруа тоже исходил из гуманистических устремлений учителя, но сказался так называемый «профессиональный идиотизм»: медик по профессии, Леруа считал, что именно «машинообразным» объяснением человека можно лучше понять его и тем самым достичь тех успехов в медицине, к которым стремился Декарт.
Леруа был не одинок в борьбе с богословами. Его поддерживали ученики и сторонники Декарта — профессора Реннэри, Эмилий, Киприан. Среди учеников — последователей Декарта следует назвать также янсениста Арно, который в дальнейшем совместно с Николем разовьет учение Декарта о методе в известной книге «Логика Пор-Рояля». Но это были, так сказать, сформировавшиеся помимо Декарта ученые, которые примкнули к его идеям в ходе их критического осмысления. Были у Декарта и такие ученики, которых он сам лично обучил, часто начиная «с нуля». Его слуги Жилло и Жерар ван Гутшовен, не имевшие никакого образования, в результате освоения Декартовых идей стали профессорами математики. Точно так же Декарт развил начатки знаний А. Шлютера, сопровождавшего его в Швецию, сделав из него также ученого. Сапожник Дирк Рембранц прошел столь солидный курс обучения у Декарта, что стал хорошим астрономом, которому Декарт поручал проведение весьма сложных наблюдений в обсерватории.
В начале этой главы были перечислены некоторые из «граждан» «Республики Ученых», состоявших в непосредственных отношениях с Декартом. Только что я назвал непосредственных продолжателей дела Декарта — картезианцев по определению. Но ни тот, ни другой перечни не дадут наиболее точного и глубокого представления ни о действительном статуте и социальной роли «Республики Ученых» XVII века, ни о подлинном месте Декарта в становлении науки и методологии Нового времени. Не в буквальном, но по сути дела в наиболее существенном смысле самое тесное полифоническое сотрудничество, дающее жизнь великому сообществу ученых XVII века, осуществлялось между Галилеем и Декартом, Декартом и Бэконом, Спинозой и Декартом, Декартом и Лейбницем, Декартом и Мальбраншем, Мальбраншем и Паскалем… Это сотрудничество положило начало тому многогранному и полифоническому теоретическому разуму, существование которого было тайной движущей силой всего научного мышления Нового времени.
Декарт был одним из «фокусов» этого сложного, многогранного теоретического разума, и подлинный смысл картезианства может быть понят только в единстве и диалоге с другими голосами и мелодиями этого контрапункта. Картезианство есть картезианство, только соотнесенное и сопряженное со спинозизмом, лейбницианством, галилеевскими «началами науки» и ньютоновскими «Математическими началами натуральной философии». В этой книге нет места для детального анализа реальной жизни этого многофокусного теоретического разума. Но все-таки сказать несколько слов нужно.
Возьмем, например, один из центральных пунктов картезианства — метод (разумеется, в качестве примера можно было бы взять любой другой фундаментальный вопрос, рассматриваемый Декартом) и посмотрим, как он был воспринят, в каком направлении развит, под какими углами критиковался и т. д. согражданами Декарта по «Республике Ученых».
Основа метода — механическое понимание движения. Как видно было из рассказа о Декартовом понимании движения в сопоставлении с его пониманием Спинозой, движение, как изменение вообще, выступает у Декарта как движение мыслительное. И Спиноза в этом отношении следует Декарту. Всякий раз, когда они оба говорят о мышлении, они говорят неявно о движении: последнее задано уже имплицитно. Поэтому в последующих дедуктивных построениях движение с большей или меньшей степенью логической строгости «вводится». Ситуация «большей или меньшей степени строгости» в высшей степени не устраивала Спинозу и была постоянным источником его духовного беспокойства. Он обращается к исходной предпосылке Декарта — существованию двух субстанций — и рассуждает, что если у Декарта бог — «ничто», то ничто не препятствует ему стать всем. Мышление и протяженность, констатирует он, как два соотносящихся образа непрерывности являются двумя (бесконечными!) атрибутами одной, единой субстанции — в боге, но боге спинозовском: deus sive natura[27]. Итак, философия обретает внутренний источник движения; система мира, обретшая в себе этот источник самодвижения, саморазвития, становится «кауза суи»-стичной; философия Спинозы становится монистической философией активности.
Мальбранш подобно Спинозе принимает метод Декарта, но отмечает, что возникающая при обращении всеобщей необходимой связи случайность не менее закономерна, чем необходимая связь. «Все естественные причины не суть действительные причины, — утверждает он, — а причины случайные» (42, стр. 320). Разработанная им система случайных, окказиональных причин явилась теоретической платформой, на которой вокруг Мальбранша сгруппировался кружок математиков и механиков, заложивших фундамент принципиально нового направления картезианского метода и соответственно новых ветвей математики и механики (физики) — теории вероятностей, статистики, вариационного исчисления. Имена этих людей говорят сами за себя: Г. Лопиталь, Я. Бернулли, И. Бернулли, П. Вариньон. Мальбраншинский вариант картезианского метода не менее успешно переходит в свои «приложения» (см. 100, стр. 331).
При всех своих расхождениях с Декартом Лейбниц остается на позициях картезианского метода: «У Декарта я согласен только с самим методом, ибо, как только дело дошло до приложения последнего, Декарт совершенно позабыл свою строгость и сразу запутался в каких-то удивительных гипотезах» (39, стр. 15). Лейбниц вынужден настаивать на своем понимании «строгости», так как в его трудах происходит обращение Декартова взаимоотношения «алгебра— геометрия», а отсюда и всей концепции математики в ее взаимоотношениях с физикой. Подвергая критике Декартово стремление все явления природы «подогнать, — пишет С. Ф. Васильев, — под одни только понятия алгебры» (27, стр. 35–36), Лейбниц выдвигает идею создания «общей науки о качестве», противопоставляемой им Декартовой всеобщей математике — «общей науке о количестве»: «Комбинаторика, представляющая, по словам Лейбница, собой эту науку…есть специально такая наука — ее можно назвать всеобщей характеристикой — которая трактует о формах или общих формулах вещей, т. е. об их качестве вообще или об их отношениях подобия или неподобия… Таким образом, алгебра подчинена комбинаторике и непрестанно пользуется ее правилами, которые представляются гораздо более общими и находят свое применение…в самой геометрии» (цит. по 27, стр. 35).
Фактически в Лейбницевом «переворачивании» декартовского геометрико-аналитического соотношения были намечены все возможности дальнейшей «спирали» обращения так, как эти возможности реализовались в XVII–XX веках. Дальнейшее развитие метода как «параллелизма» алгебра — геометрия могло происходить лишь при условии «разведения» этих наук, установления между ними «зазора». Логика становящегося антиномического строя мышления (так условно можно назвать строй мышления Нового времени) требовала «беспощадного» разрыва основы картезианской системы мира — протяженности.
Это сделал И. Ньютон, введя понятие пустоты. Теперь стало возможным постулировать абсолютность пространства, времени, места и движения. Если для Декарта и Лейбница единство было целью науки, а раздвоение — методом ее достижения, то теперь происходит оборачивание этого соотношения… Ньютон исходит из единства (всеобщность взаимодействия; единство механики и геометрии), имея целью объяснение всех явлений действительности в антиномически противопоставленных понятиях силы и функционального закона.
Цикл замкнулся и стал рабочим циклом метода. По такой схеме метод и работает отныне. Понятие движения, окончательно сформировавшееся в классической механике благодаря трудам Ньютона, продолжает развиваться.
Именно такое, полифоническое понимание метода позволяет, например, сегодня выяснить причины, приводящие в ходе теоретического развития естественных наук к возникновению трудностей и парадоксов: последние считаются свидетельством наличия кризиса метода в его общелогической и (специально) в представленной только что (Декарт—Лейбниц—Ньютон) форме. Одним из основных выражений этого кризиса оказывается распространенная сегодня онтологизация геометрических представлений. Приведем, например, некоторые (характерные для всего содержания) заголовки из книги Дж. Уилера (см. 52): «Ничто, кроме длин», «Уравнения движения без уравнений движения», «Уравнения поля без уравнений поля». Исчезает понимание метода как идеализации — в его сложных отношениях с действительностью. Возникает тенденция к полному отождествлению двух определений картезианского метода — как метода геометрического и метода аналитического. Метод, потеряв возможность развиваться, перестает работать. Вспоминаем: в основе метода лежит понимание движения как механического перемещения в пространстве. Значит, первопричина всех бед — в этом исходном понимании. Вывод: исчерпав возможность эволюционного развития, понимание (понятие) движения требует своей коренной трансформации.
Повторяю, в качестве такого «образца» может быть взято другое фундаментальное положение картезианства, и с ним в «челноке» «Республика Ученых» XVII века — «Республика Ученых» XX века проделана та же серия «операций». Острейшая актуальность таких «челночных» рейдов, по-моему, в особых аргументах не нуждается…
Заключение
Мы вновь в XX веке. Как воспринимается сегодня образ Декарта?
Вкратце об этом «сегодня». Декарт, воспринятый сегодня, — это Декарт, воспринятый глазами и умом современного человека, участника решающих социальных и научно-технических трансформаций. Сегодня под вопрос, под сомнение не меньшей, а, наверное, большей силы, чем картезианское сомнение, поставлены все без исключения привычные нормы жизни и деятельности в науке, производстве[28], мышлении, быту, во всей системе ценностей. И в этом великом пересмотре ценностей и норм жизни Нового времени обнаруживается, что очень и очень многое из того, что вызывается ныне на историческую проверку, связано с образом Ренэ Декарта, с системой его мышления, больше того, с тем способом сочинять свою собственную жизнь, который разработал наш герой.
Обнаруживается, что для современного человека Декарт — это не только и даже не столько крупный философ середины XVII века, один из основоположников и т. д., и т. д., сколько определенный исторический образ громадной эмоциональной, мыслительной и нравственной силы, диалог с которым начинает и продолжает современный человек, зачастую даже не зная самого имени «Декарт» и не читая его сочинений. Но, надеюсь, читатель этой книги сможет теперь соотнести тот анонимный образ, с которым он столь часто неявно полемизировал, с реальным и действительно живым образом Ренатуса Картезия (и очень к месту вспомнить здесь, что по-латыни значение имени философа «Ре-натус» — «Возрожденный», «Вновь рожденный»).
И если сейчас диалог нашего читателя с самим собой не будет уже иметь анонимного характера и его alter ego приобретет имя Декарта, то постараемся ответить на вопрос: какое отношение к этому своему другому, картезианскому «я» можно предположить у современного человека?
Прежде всего жесткая «геометрическая диалектика» Декарта, жесткий рационализм его метода и самого построения жизни, «по Декарту», выступают предметом преодоления, предметом критики, недовольства, сомнения со стороны современного человека. Столько раз в жизни человека XX века не срабатывала самая великолепная, самая кристальная рациональность; столько раз обнаруживалось, что есть рациональность и рациональность, разум и разум; столько раз страшнейший рассудочный порядок оказывался обратной стороной кровавых внерациональных стихий, что современный человек, человек нашего столетия, не может не подвергнуть сомнению «когито» Ренэ Декарта, не может не заняться вновь картезианским делом сомнения, но уже по отношению к самим картезианским ценностям. Но это только одна сторона расчета современного человека со своим картезианским «я».
Есть и другая сторона, делающая этот расчет особенно сложным, мучительным и ответственным. При всей жесткости, непримиримости современного размежевания с картезианскими ценностями человек XX века чувствует острейшую, насущнейшую необходимость сохранить эти ценности, развить их, выявить их новый смысл. Имеется в виду отнюдь не гегелевское «снятие», во всяком случае не только оно.
Дело не в том, что рационализм Декарта «снимается» сегодня в более высоком рационализме, в более развитой логике современного мышления. Дело в том, что для современного мыслителя, скажу точнее — для современного деятеля в любой сфере существенно как раз, чтобы Декарт не «снимался», а оставался постоянным его собеседником, оппонентом, способным выдвигать все новые и новые картезианские аргументы в ответ на всемогущий современный скепсис. Я имею в виду прежде всего, что современный человек с особой остротой ощущает необходимость продолжения и усиления той линии высокого рационализма, той диалектики метода и теории, отстранения от собственной жизни и предельно напряженного включения в нее, того умения сознательно и свободно строить свою жизнь в предлагаемых обстоятельствах, которой обладал болезненный, мнительный и непреклонный человек начала Нового времени Ренэ Декарт (Картезий).
Наше отношение к Декарту отнюдь не тождественно, например, отношению Декарта к схоластике. Декарт «нужен» XX веку не в качестве очередной ступеньки восхождения к идеалу (прошли, чтобы не возвращаться), а в качестве непреходящего героя и мученика в Пантеоне мысли современного человечества, скажем мы, перефразируя слова молодого Маркса о Прометее.
И картезианство, и главным образом Ренэ Декарт необходимо становятся героем и образом культуры, постоянным спутником человечества на все времена, пока оно существует — мысля.
Приложение
Приведенные тексты впервые публикуются на русском языке. Перевод с латинского и французского выполнен Я. А. Ляткером.
I. P. Декарт Небольшие сочинения 1619–1621 гг.[29] [Копии] г-на Лейбница Частные мысли
1619. Январь
«Подобно тому, как актеры, дабы скрыть стыд на лице своем, надевают маску, так и я, собирающийся взойти на сцену в театре мира сего, в коем был до сих пор лишь зрителем, предстаю в маске».
«Юношей, сталкиваясь с открытиями, требующими изобретательности, я стремился к тому, чтобы, не читая автора, самому попытаться прийти к ним; и, таким образом, я мало-помалу заметил, что каждый раз действую, следуя определенным правилам».
«Наука подобна женщине: поскольку, оставаясь добродетельной, она принадлежит лишь своему мужу, ее уважают; когда она становится доступной всем, становится дешевой».
«Большинство книг таково, что, прочитав несколько их строк и просмотрев несколько фигур, уже знаешь о них все, так что остальное помещено в этих книгах лишь для того, чтобы заполнить бумагу».
«СОКРОВИЩНИЦА МАТЕМАТИКИ ПОЛИБИЯ КОСМОПОЛИТА, в которой даются истинные средства решения всех трудностей этой науки и доказывается, что человеческий ум не может продвинуться дальше в решении этих проблем, чем должна возбуждаться нерешительность либо порицаться опрометчивость тех, кто обещает новые чудеса во всех науках; наконец, для облегчения трудов множества мучеников, денно и нощно распутывающих гордиевы узлы математики, затрачивая бесполезно силы своего ума, эту сокровищницу всему просвещенному человечеству… Р[енатус] К[артезиус] вновь предлагает».
«Современные науки носят маски; если эти маски снять с них, они предстанут во всей своей красе. Для постижения их связи удерживать в памяти порядок их следования покажется не труднее, чем удерживать в памяти числовой ряд».
«Для каждого ума предначертаны пределы, переступить которые он не может. Те, кто из-за недостатка способностей не могут пользоваться принципами для совершения открытий, по крайней мере смогут познать истинную цену наук, а этого достаточно для приобретения истинных суждений о ценности вещей».
«Я называю пороки болезнями души, которые менее легки для распознания, чем болезни тела, так как мы часто можем давать себе отчет о хорошем состоянии здоровья нашего тела, но в отношении ума — никогда».
«Я замечаю, что в периоды грусти или опасности, также и во время безрадостных занятий мой сон глубок, а аппетит — чрезвычайный; но, преисполненный радости, не ем и не сплю».
«Из теней, представляющих различные фигуры, — деревьев и т. д. — можно составить сад; точно так же сады можно подстричь таким образом, что в различных перспективах они будут представлять соответственно различные фигуры; точно так же, как в комнате можно сделать так, что лучи солнца, проходя через определенные отверстия, будут представлять различные цифры или фигуры; точно так же, как можно заставить возникать в воздухе комнаты образы языков огня, огненных колесниц и других фигур. И все это — посредством определенного вида зеркал, собирающих лучи солнца в некоторой определенной точке. Точно так же можно сделать, чтобы солнце, сияющее в комнате, всегда казалось восходящим с одной и той же стороны или хотя бы движущимся с запада на восток — посредством параболических зеркал, для чего необходимо, чтобы лучи солнца, сияющего над крышей, падали на зажигательное стекло, так называемая точка рефлексии которого находится на одной прямой с небольшим отверстием, а затем чтобы эти лучи попали на другое зажигательное стекло, точка рефлексии которого также находится на одной прямой с этим отверстием (и точкой рефлексии первого зеркала), и тогда лучи будут падать в комнату в виде параллельных линий».
«В 1620 году я начал понимать основание чудесного открытия». [На полях: «Олимпика, X. Ноября начал понимать основание чудесного открытия»].
«Сон ноября 1619 года, во время которого приснилось начало седьмой поэмы Авзона: „По какому жизненному пути я последую?..“
Авзон».
«Порицание друга столь же полезно, сколь почетна похвала врага.
Похвалы мы ожидаем от постороннего, а от друга — правды».
«В каждом уме имеются определенные части, которые, будучи лишь слегка задеты, возбуждают сильные страсти. Так, ребенок сильного темперамента, если его ругают, не станет плакать, но вспылит; другой — обольется слезами.
Если нам скажут, что случилось большое несчастье, мы опечалимся; если же добавят, что его причиной является некий дурной человек, мы придем в ярость. Переход от одной страсти к другой происходит по смежности; часто, однако, сильнее переход по противоположности: представим себе, например, сообщение о большом несчастье среди радостного пира».
«Так же, как воображение пользуется образами для познания тел, так и разум привлекает различные чувственные тела для вещественного воплощения духовного, например образы ветра, света. Более глубокая философия может возвысить дух до познания высочайших и чистейших эмпирей».
«Может показаться удивительным, что великие мысли чаще встречаются в произведениях поэтов, чем в трудах философов. Это потому, что поэты пишут, движимые вдохновением, исходящим от воображения. Зародыши знания имеются в нас наподобие огня в кремне. Философы культивируют их с помощью разума, поэты же разжигают их посредством воображения, так что они воспламеняются скорее».
«Высказывания мудрецов могут быть сведены к очень небольшому числу общих правил».
«Перед концом ноября я доберусь пешком до Лоретто из Венеции, если это будет удобным и если таков обычай; если же нет, то я проделаю это путешествие по крайней мере со всем благочестием, привычным для отправляющегося туда, и закончу полностью мой трактат[30] перед пасхой. И если у меня не будет недостатка в книгах, а также если трактат покажется мне достойным опубликования, я его опубликую, как обещаю сегодня, 23 февраля 1620 года».
«Во всем действует одна и та же активная сила: любовь, благосклонность, гармония».
«Чувственные вещи весьма пригодны для постижения высших духовных [олимпических] сфер: ветер означает дух; движение во времени — жизнь, свет — познание, тепло — любовь, мгновенное действие — акт творчества. Все телесные формы действуют гармонично. Имеется больше влажных вещей, чем сухих, холодных — нежели теплых. Без этого активное начало очень скоро одержало бы победу и мир бы долго не продолжался [во времени]».
«Бытие [первая книга Библии] говорит, что бог отделил свет от тьмы, что то же самое, как если бы сказали, что он отделил хороших ангелов от плохих, ибо нельзя отделить некоторое отсутствие чего-нибудь от некоторого естественного свойства. Не надо, следовательно, понимать этот текст дословно. Чистое понятие есть бог».
«Бог создал три чуда: вещь из ничего, свободную волю и человека-бога».
«Человек познает природные явления только через их подобие вещам, подпадающим под его чувства. Наилучшим и наиболее глубоким философом является тот, кто сопоставляет с наибольшим успехом искомые вещи с результатом чувственного опыта».
«Высокое совершенство, с которым животные производят различные действия, заставляет нас подозревать, что они лишены свободной воли».
«Несколько дней назад я подружился с ученейшим человеком, предложившим мне следующую задачу:
камень, сказал он, падает из А в В за один час; он постоянно увлекается к земле одной и той же силой и не теряет ничего из той скорости, которая сообщена ему предшествующим тяготением, так как то, что движется в пустоте, движется, согласно ему, вечно. Спрашивается: за какое время камень покроет некоторое заданное расстояние?
Я решил задачу…».
«Он подозревает, что струны лютни, издающие более резкий звук, колеблются быстрее; так что в верхней части октавы струна совершает два колебания против одного для ее нижнего звука, для квинты это отношение равно 1 1/2 и т. д.».
«Если дана математическая нить, то она будет в равной мере и прямой, и кривой. Действительно, мы говорим, что такая линия допустима, но лишь в механике, точно так же, как мы можем применять весы для взвешивания тяжестей, струну для сопоставления со звуком, площадь, заключенную в циферблате солнечных часов, для измерения времени и другие подобные установки, в которых сравниваются два [различных] рода».
«Пробежав глазами с пользой для себя все вздорные вещи Ламберта Шенкеля [в книге „Об искусстве запоминания“], я подумал, что мне будет легко объять воображением все, что я открыл, посредством сведения к причинам, а так как при этом все причины сводятся в свою очередь к одной, ясно, что, применительно ко всем наукам, нет необходимости в памяти, ибо тот, кто возвысился до понимания причин, в своем мозгу сможет воспроизвести ускользнувшие образы, явления, связанные с этой причиной, и это — истинное искусство запоминания, прямо противоположное искусству этого мошенника, которое не то чтобы было недейственным, а занимает место лучшего искусства, и что порядок, предлагаемый им, неверен. Истинный порядок запоминания состоит в выявлении взаимной связи образов. Он это опускает [не знаю, сознательно ли], но в этом — ключ ко всему таинству. Я представил себе другой способ: если из несвязанных образов вещей, обладающих определенной взаимосвязью, образовывать новые классы образов, общих для всех, или по крайней мере объединить их все в один, нашему взгляду будут доступны не только одни лишь соседние, но и все другие…».
«Недавно, когда я сжигал какие-то бумаги и огонь, на котором они горели, становился сильнее, я заметил, что [написанное] остается нетронутым и столь же легким для прочтения, как и раньше. Напротив, я видел, как написанное чернилами, смешанными с серой, исчезает в течение двадцати четырех часов».
II. Извлечения из писем Р. Декарта различным корреспондентам (1619 г.)[31]
Декарт — Бекману.
Бреда, 24 января 1619 г.
(I, 1)
«…Я, по своему обыкновению, постоянно бездельничаю, я едва сформулировал названия трактатов, которые Вы посоветовали мне написать. Не подумайте, однако, что, бездельничая, я теряю напрасно все свое время. Больше того, никогда еще я не проводил его с такой пользой, как сейчас, но по преимуществу в отношении вещей, которые Ваш разум, с точки зрения своих более возвышенных занятий, будет, без сомнения, презирать, глядя на них из величественных сфер науки: это — рисование, военная архитектура и особенно фламандский язык. О моем прогрессе в этом языке Вы скоро сможете судить сами, так как я прибуду в Миддельбург, если на то будет воля господня, к началу поста».
Декарт — Бекману.
Бреда, 26 марта 1619 г.
(I, 2)
«Позвольте попрощаться с Вами в письме, так как я не смог это сделать лично перед своим отъездом. Вот уже шесть дней, как я, возвратившись сюда, с небывалым усердием вновь взялся за науки. За столь краткое время я нашел, с помощью моих циркулей, четыре замечательных и по существу новых доказательства.
Первое — для знаменитой проблемы деления угла на произвольное число частей. Три других относятся к трем родам кубических уравнений… Если я найду решение, то приведу в порядок все вышеизложенное, если только смогу преодолеть свою врожденную апатию и если судьба ниспошлет мне свободную жизнь. И разумеется, не буду скрывать от Вас предмета своей работы: это — не „Краткое искусство“ Луллия, я пытаюсь изложить совершенно новую науку, которая позволила бы общим образом разрешить все проблемы независимо от рода величины, непрерывной или прерывной, исходя каждый раз лишь из природы самой величины. […] Я намереваюсь показать, какие именно виды проблем могут быть разрешены тем или иным способом и не иначе, так что в геометрии почти нечего будет открывать. Это не может быть трудом одиночки, и его никогда не закончат. Какой честолюбивый проект! Это маловероятно! Но в смутном хаосе этой своей науки я усмотрел свет, сам не знаю еще какой, благодаря которому самые густые потемки смогут рассеяться».
Указатель имен
Абеляр П. 33
Авзон 64
Агриппа А.-К. (Неттесхеймский) 24
Аполлоний 101
Аристотель (Стагирит) 25, 74, 145
Арно А. 172
Архимед 38, 74
Асмус В. Ф. 17, 170
Ахутин А. В. 73
Бальзак Г. 97
Бекман И. 46–50, 52–55, 57, 72, 155, 165, 168
Бернал Дж. 179
Бернулли И. 175
Бернулли Я. 175
Библер В. С. 33, 50
Блок А. А. 6
Босвелл В. 168
Бройль Л. де 12
Бруно Дж. 57
Бурбаки Н. 13
Быховский Б. Э. 17
Бэкон Ф. (Веруламец) 146, 168, 173
Ваард К. де 166
Вариньон П. 175
Васильев С. Ф. 176
Вильбресье Э. де 165, 167
Вителлий (Вителлион) 75
Воэций Г. 171
Галилей Г. 37, 96, 99, 124, 155, 173
Гарвей В. 158
Гассенди П. 165, 168
Гегель Г. В. Ф. 5, 62, 129
Гейне Г. 140
Генрих IV (Великий) 20, 37
Герох Рейхерсбергский 56
Герцен А. И. 67, 69, 163
Гоббс Т. 165, 168
Голиус Я. 167
Гораций 96
Гэлбрейт Дж. К. 13
Гюйгенс X. 168
Даль В. И. 97
Дебон Ф. 168
Декарт И. 19
Евстахий Сент-Польский 25
Жерар 172
Жилло 172
Кеплер И. 75, 76
Киприан 172
Клавий Хр. 26, 38
Коперник Н. 99
Кузэн В. 33
Легоф Ж. 24, 33
Лейбниц Г. 133, 134, 173, 175-177
Ленин В. И. 12, 116
Леонтьев А. Н. 124
Леруа А. (Регий) 121, 171
Лец, Ежи 163
Лопиталь Г. 175
Луллий Р. 51–53, 143
Мальбранш Н. 173, 175
Маркс К. 13, 48, 58, 59, 70, 71, 118, 133, 134, 135, 164, 169, 182
Мерсенн М. 165—167
Мидорж К. 165, 167
Мило Г. 9, 135
Монтень М. де 24
Морис Дж. 143
Негри А. 15
Николь П. 172
Нисерон 168
Ньютон И. 155, 157
Павел IV 127
Паскаль Б. 105, 168, 173
Пастернак Б. Л. 19
Пико (аббат) 144
Племпий 170
Пойа Дж. 90
Порта Ж.-Б. 24, 126
Порфирий 25
Рембранц Д. 173
Реннэри П. 173
Розэ 67
Рошо Б. 166
Сирманс 170
Спиноза Б. де 94, 107, 173—175
Стевин С. 47—49
Толет 25
Тынянов Ю. Н. 9
Уиллер Дж. 177
Фаульхабер И. Б. 57, 58, 60, 72, 165
Ферма П. 136, 168
Ферми Э. 136
Феррье 165, 167
Фонсека 25
Форд Г. (старший) 13
Фромонд 170
Хайдеггер М. 16
Хебенштрайт И. Б. 57, 72, 75
Хомский Н. 14
Христина (Шведская) 23, 128
Шаль М. 111
Шарле 22
Шаррон П. 24
Шателье 22
Шлютер А. 173
Эйнтховен В. 158
Эйнштейн А. 7, 136, 157, 161
Эмилий 172
Энгельс Ф. 69, 105, 118, 152
Литература
1. К. Маркс и Ф. Энгельс. Святое семейство. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2.
2. К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3.
3. К. Маркс. Капитал, т. I. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23.
4. К. Маркс. Машины. Применение природных сил и науки. — «Вопросы истории естествознания и техники», вып. 25. М., 1968.
4а. К. Маркс. Капитал, т. III. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. I.
5. К. Маркс. Математические рукописи. М., 1968.
6. Ф. Энгельс. Диалектика природы. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20.
7. В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч., т. 18.
8. В. И. Ленин. Философские тетради. Полн. собр. соч., т. 29.
9. Р. Декарт. Разыскания истины посредством естественного света. — Соч. Декарта, т. I. Казань, 1914.
10. Р. Декарт. Геометрия. М.—Л., 1938.
11. Р. Декарт. Избранные произведения. М., 1950.
12. Р. Декарт. Рассуждение о методе с приложениями «Диоптрика», «Метеоры», «Геометрия». М., 1953.
13. R. Descartes. Oeuvres, vol. 1—12. Publiee par Ch. Adam et P. Tanneri. Paris, 1896–1910.
14. R. Descartes. Correspondence, vol. 1–8. Paris, 1936–1963.
15. G. Sebba. Bibliografia cartesiana (1800–1960). The Hague, 1964.
16. А. С. Арсеньев, В. С. Библер, Б. М. Кедров. Анализ развивающегося понятия. М., 1967.
17. В. Ф. Асмус. Декарт. М., 1956.
18. В. Ф. Асмус. Очерки истории диалектики в новой философии. М.—Л., 1929.
19. «Антология мировой философии», т. 2. М., 1970.
20. Дж. Бернал. Мир без. войны. М., 1960.
21. В. С. Библер. Галилей и проблема единых истоков гуманитарного и естественнонаучного знания. — «Труды XIII Международного конгресса по истории науки», т. I. М., 1974.
22. В. С. Библер. Мышление как творчество. М., 1975.
23. В. С. Библер. Творческое мышление как предмет логики. — «Научное творчество». М., 1969.
24. БСЭ, изд. 2-е, т. 48 («Эйнтховен»).
25. Н. Бурбаки. Очерки по истории математики. М., 1963.
26. Б. Быховский. Философия Декарта. М., 1940.
27. С. Ф. Васильев. Из истории научных мировоззрений. М.—Л., 1935.
28. С. Ф. Васильев. К вопросу об историческом возникновении физики Декарта… Баку, 1929.
29. С. Ф. Васильев. К вопросу о происхождении механического мировоззрения… (б/г и м. изд.).
30. «Вопросы причинности в квантовой механике». М., 1955.
31. П. Гассенди. Сочинения, т. 2. М., 1968.
32. Г. В. Ф. Гегель. Собрание сочинений, т. 1—14. М.-Л., 1929–1958.
33. А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 3. М., 1954.
34. А. А. Глебов, Я. А. Ляткер. О достоверном и неопределенном в науке. — «Вопросы философии», 1973, № 12.
35. Дж. К. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., 1969.
36. «Интернациональная литература», 1937, 10, «Накануне нового аутодафе в „Третьей империи“».
37. «История математики», т. 1–3. М., 1970.
38. Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. М., 1972.
39. Г. В. Лейбниц. Избранные философские произведения. М., 1908.
40. Г. В. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме. М.—Л., 1936.
41. Я. А. Ляткер. Декарт и методологический замысел математизации физики. (Канд. дисс.). М., 1968.
42. Н. Мальбранш. Разыскания истины, т. II. СПб., 1906.
43. «Немецкий город XIV–XV веков». Сб. материалов. М., 1936.
44. Дж. Пойа. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1957.
45. Дж. Пойа. Математическое открытие. М., 1970.
46. В. Л. Рабинович. Символизм в Западной алхимии и традиция Ибн-Рушда (Доклад на XIII Международном конгрессе по истории науки). М., 1971.
47. В. Л. Рабинович. Ученый средневековья. Психологический очерк. — «Научное творчество». М., 1969.
48. Б. Спиноза. Избранные произведения, т. 1–2. М., 1957.
49. Н. Н. Сретенский. Лейбниц и Декарт. Казань, 1915.
50. Б. А. Розенфельд. Геометрические преобразования в работах Леонарда Эйлера. — «Историко-математические исследования», т. X.
51. К. Уивер. Разгаданные и неразгаданные тайны Луны. — «За рубежом», 1973, № 29.
52. Дж. Уиллер. Гравитация, нейтрино и Вселенная. М., 1962.
53. «Философская энциклопедия», 1–5. М., 1960–1970.
54. О. Фрейденберг. Происхождение греческой лирики. — «Вопросы литературы», 1973, № 11.
55. Н. Хомский. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
56. Н. Хомский. Язык и мышление. М., 1972.
57. Г. Г. Цейтен. История математики в XVI и XVII веках. М.—Л., 1938.
58. В. Шекспир. Король Лир (пер. Б. Пастернака). М., 1949.
59. В. Шекспир. Гамлет (пер. Б. Пастернака). М., 1964.
60. А. Эйнштейн. Собрание научных трудов, т. 4. М., 1967.
61. М. Г. Ярошевский. Декарт — родоначальник детерминистической психофизиологии. — «Вопросы психологии», 1961, № 4.
62. Ch. Adam. De methodo apud Cartesium, Spinosam et Leibnizium. Lutetiae, MDCCCLXXV.
63. A. Baillet. La Vie de Monsieur Des-Cartes, vol. 1–2. Paris, 1691.
64. L. Batifol. Un magicien brule vif (1623). — «Revue de Paris», 15 mars 1902.
65. I. Beeckman. Journale tenu par Isaak Beeckman de 1604 a 1634. Publ. avec un intr. et des notes par C. de Waard, t. 1–4. La Haye, 1939–1953.
66. Y. Belaval. Leibniz, critique de Descartes. Paris, 1960.
67. F. Bouiller. Histoire de la philosophie cartesienne. Paris, 1868.
68. L. de Broglie. Certitudes et incertitudes de la science. Paris, 1966.
69. L. Brunschvieg. Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne. Neuchatel, 1945.
70. E. Callot. Problemes du cartesianisme. Paris, 1956.
71. L. Chauvois. Descartes. Sa methode et ses erreurs en physiologie. Paris, 1966.
72. N. Chomsky. Cartesian linguistics. New York — London, 1966.
73. Chr. Clavii. Geometria practice. Moguntiae, 1606.
74. Chr. Clavii. Fabrica et usus instrument ad porologiorum descriptionem peropportuni. Romae, 1586.
75. A. C. Crombie. Histoire des sciences… Paris, 1959.
76. «Descartes et le cartesiaisme holandais. Etudes et documents». Paris — Amsterdam, 1950.
77. R. Dugas. De Descartes a Newton par l’ecole anglaise. Paris, 1953.
78. «Les etudes philosophiques», 1972, N 3.
79. «Les etudes philosophiques», 1970, N 2.
80. Eustache de Saint-Paul. Summa philosophica quatrepartita de rebus Dialecticis, Moralibus, Physicis et Metaphysicis, vol. 1–2. Paris, 1609.
81. «L’Express», 1969, 20–26 oct., N 954.
82. H. Ford. My Philosophy o! Industry. New York, 1929.
83. A. L. Foucher de Careil. Leibniz, Descartes et Spinosa. Paris, 1862.
84. L. Gabe. Descartes’Selbstkritik. Hamburg, 1972.
85. J. Le Goff. La Civilisation de l’Occident medievale. Paris, 1965.
86. J. Le Goff. Les. Intellectueles au Moyen Age. Paris, 1957.
87. «La Grande Encyclopedie», t. 17.
88. J. R. Henson. Descartes and the ECG Lettering Series. — «Journ. of the Hist. Med.», 1971, 26, p. 181–186.
89. J. Kepler. Gesammelte Werke, Bd. 17. Munchen, 1955.
90. A. Lalande. Sur quelques textes de Bacon et de Descartes. — «RMM», mai 1911, p. 296–311.
91. R. Lenoble. Mersenne ou la naissance du mecanisme. Paris, 1943.
92. R. Mandrou. Introduction a la France moderne… 1500–1640. Paris, 1961.
93. G. Milhaud. Descartes savant. Paris, 1921.
94. P. Mony. Le developpement de la physique cartesienne. 1646–1712. Paris, 1934.
95. J.-F. Murdoch. «Rationes matematicae»: un aspect du rapport des matematiques et de la philosophie au M. A. Paris, 1962.
96. A. Negri. Descartes politico (o della ragionevole ideologia). Milano, Feltrinelli, 1970.
97. Niceron. Memoires pour servir a l’histoire des Homines illustres dans la Republique des Lettres, vol. 1—43. Paris, 1727–1745.
98. H. Poincare. Notes sur les principes de la mecaniques dans Descartes et dans Leibniz. — Dans: «Leibniz. La monadologie». Paris, 1925.
99. R. Richta a kol. Civilizacia na razcesti… Vidani III. rozsirene. Praha, 1969.
100. A. Robinet. Malebranche et Leibniz. Paris, 1955.
101. С. de Rochemonteix. Un College de Jesuites aux XVII-e & XVIII sciecles. Le College Henri IV de la Fleche., t. IV: Rene Descartes a la Fleche. Le Mans, 1889.
102. B. Rochot. La correspondance scientifique du Pere Mersenne. Paris, 1966.
103. J. Sirven. Les annees d’apprentissage de Descartes (1596–1628). Paris, 1928.
104. «Travaux du IX-e Congres international de philosophie. Congres Descartes», vol. 1—12. Paris, 1937.
105. G. Vladucesku. Introduce in istoria filosofiei medievale. Bucuresti, 1973.
106. R. A. Watson. The Dawnfall of Cartesianism. 1673–1712. The Hague, 1966.
Примечания
1
Здесь и далее первая цифра в скобках означает порядковый номер в помещенном списке литературы (в конце книги). При ссылках на приложение к данной книге в качестве источника указано «прил.». Для многотомных изданий после порядкового номера книги указан номер тома римскими цифрами, при ссылке на переписку Декарта вместо номера страницы указан соответствующий порядковый номер цитируемого письма.
(обратно)2
Картезий — латинизированное имя Декарта.
(обратно)3
Следует подчеркнуть чисто символическую роль персонажа «Г. Форд»: укажем, например, на работы современного американского исследователи Дж. К. Галбрейта (см., например, 35), в которых, в частности, развенчивается легенда, созданная вокруг имен «капитанов бизнеса», и в их числе Г. Форда. Последнему приписываются заслуги, талант и организаторские способности других людей, в том числе и авторов книг, где изложена его философия.
(обратно)4
По свидетельству Жака Легофа, устав монастыря Клюни требовал от монаха, читавшего рукопись язычника, неверного, «собаки», почесывать себя по-собачьи за ухом, всем своим видом отмежевываясь от этой рукописи (85; цит. по 105).
(обратно)5
О степени такого послабления со стороны иезуитов можно судить хотя бы по тому, что несколькими годами позже (в 1623 году) во Франции, например, был осужден как колдун и сожжен на костре человек, у которого нашли экземпляр книги Агриппы (см. 64).
(обратно)6
«Определяющей чертой ремесел являлась стабильность техники. Вне зависимости от специализации ремесленная деятельность предполагала подчинение совокупности приемов, жестко кодифицированных сводом корпоративных (писаных и неписаных) правил. Виртуозность, обучение которой длилось многие годы, — лучшее тому свидетельство. Истинное мастерство обреталось лишь в ходе и по мере совершенствования собственных мышц и чувств, в основе которого лежало подражание более старым образцам» (92, стр. 208).
(обратно)7
«Запрещается… молодым и старым носить пробор на голове. Следует носить вихры, как эго было принято и старину» (43, стр. 162).
(обратно)8
В изложении основ схоластического и — шире — антитетического мышления средневековья мы опираемся на ряд формулировок В. С. Библера, изложенных, в частности, в его работах (21, 22, 23) и в подготовленной для печати рукописи «Об изменениях логического строя мышления».
(обратно)9
Жак Легоф говорит о книге Абеляра «Да и нет», что это «поистине „Рассуждение о методе“ средневековья», соглашаясь с В. Кузэном, что «Абеляр — это Декарт XII века» (86, стр. 427, 558).
(обратно)10
См. 3. стр. 360–361. В начале второй главы мы более подробно остановимся на этих моментах — в связи с рассмотрением коренных истоков новой науки.
(обратно)11
Мы согласны здесь с мнением А. И. Герцена, предполагающего, что именно испытываемые в отмеченный период Декартом «неуверенность и мучения совести» (33, стр. 24) подтолкнули его к предпринятому паломничеству к Лоретской богоматери («прил.», стр. 186–187).
(обратно)12
Причина самой себя (лат.).
(обратно)13
Решающий эксперимент (лат.).
(обратно)14
«Материальная точка есть единственный способ нашего представления реальности, поскольку реальность способна к изменению…Материальную точку мыслят как аналог подвижных тел, лишенных… „внутренних“ свойств, за исключением… инерции и перемещения» (60, стр. 136–137).
(обратно)15
«Естественная магия» — так назывался труд Джамбатисты делла Порта, в котором впервые (1589) упоминалось о линзах.
(обратно)16
Об одном из них Декарт говорит в «Метеорах» (см. 12, стр. 280).
(обратно)17
В «Рассуждении о методе»: «…из этого пепла одной резкой силой своего действия он (огонь. — Я. Л.) образует стекло…это превращение золы в стекло казалось мне более удивительным, чем любое другое в природе» (11, стр. 292).
(обратно)18
Когда, вскоре после его смерти, имя Декарта стало символом новой философии, а картезианство распространилось во всем мире, встал вопрос о перенесении останков мыслителя во Францию. Под давлением богословов церковные власти решительным образом воспротивились тому, чтобы во Французской земле был захоронен человек, чье имя стояло в «Индексе…». Лишь в результате усиленных хлопот его бывших друзей и сторонников, а также под давлением многочисленных поклонников его философии эти трудности были преодолены: 24 июня 1667 года(!) урна с прахом Декарта была торжественно перенесена в церковь св. Женевьевы (ныне — Пантеон Французской республики).
(обратно)19
Другое я (лат.).
(обратно)20
Старинные французские меры длины. Одна туаза содержит шесть футов.
(обратно)21
То есть с Ф. Бэконом.
(обратно)22
По преимуществу (фр.).
(обратно)23
Буквально «помни о мертвых» (лат.).
(обратно)24
Поскольку в дальнейшем речь идет о второй части «Начал…», мы ссылаемся на соответствующие пункты принятого Декартом подразделения, обозначая их вслед за автором ст. («статьи»).
(обратно)25
См. 22, часть II.
(обратно)26
Впервые Декарт столкнулся с этим «чудом», когда пытался доказать Бекману, что «угла не существует», о чем свидетельствует запись в дневнике голландца При этом Декарт исходил из факта бесконечной делимости точки (математической).
(обратно)27
Бог, или природа (лат.).
(обратно)28
Как отмечает Дж. Бернал, основной задачей современного работника становится «непрерывное изучение того, как функционирует существующая система, и критика ее с целью повысить ее эффективность» (20, стр. 295).
(обратно)29
Текст для перевода взят из 13, X.
(обратно)30
Один из подготовительных трактатов к будущему «Рассуждению о методе».
(обратно)31
Тексты писем взяты из восьмитомного издания «Переписки» Декарта (см. 14).
(обратно)
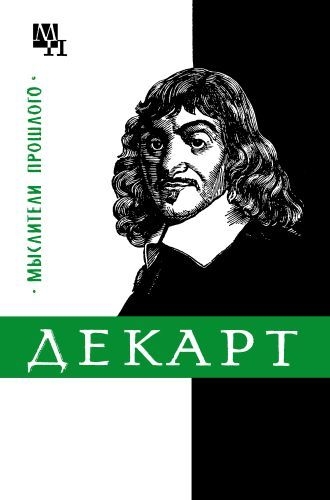


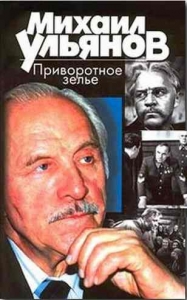

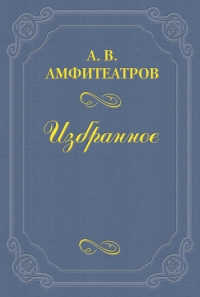
Комментарии к книге «Декарт», Яков Абрамович Ляткер
Всего 0 комментариев