Воспоминания. Книга об отце
Вступление
Говорят, что Август нашел Рим кирпичным, а оставил его мраморным, и что подобное же и в том же поколении произошло с латинской поэзией. Конечно, для кого‑то кирпич может оказаться предпочтительней, и те, кто его предпочитают, всегда с подозрением будут смотреть на писания великого латиниста другой эпохи, поэта, критика и философа Вячеслава Иванова. Его роль как вождя религиозного крыла символистского движения, — следует признать ключевой в формировании русской литературы начала века. И все‑таки жалобы и нарекания, которыми были встречены самые первые стихи дебютанта Иванова, до сих пор повторяются критиками и «там» и «здесь» каждый раз, когда речь заходит о его творчестве. Даже в тех случаях, когда способность критиков отличать «кирпич» от «мрамора» нельзя подвергать сомнению, они, говоря о стихах Иванова, словно извиняются, оправдываются за то, что в его поэзии так много эрудиции и культуры. Хотя, если разобраться, таковым было и творчество Пушкина, одного из кумиров Иванова; Пушкина, как‑то обмолвившегося, что «поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», но нигде не сказавшего, что она должна быть глупа…
Пора уже наконец восстановить справедливость по отношению к поэзии Вячеслава Иванова, признать очевидным, что у каждого поэта своя музыка. Споры по поводу «искренности» в противоположность «величию», «ясности» в противоположность «невразумительности», «простоты» в противоположность «сложности», как и споры по поводу правильного или неправильного истолкования мифа и традиции — споры вечные. Каждый поэт решает их в рамках собственных конкретных достижений (или провалов) в области поэтического выражения. И конечно, здесь не следует даже пытаться найти подобное решение в случае Вячеслава Иванова, поэта интеллектуального и философского склада ума, в течение всей жизни искавшего путей для выражения через искусство своего опыта и религиозного миросозерцания. К тому же в «доме» русской поэзии найдется место и для «обителей» из «мрамора» и для «квартир» из «кирпича». В этом отношении мемуары Лидии Вячеславовны Ивановой призваны сыграть значительную роль для вынесения справедливой и гармоничной оценки как поэта Вячеслава Иванова, так и человека, чей портрет никогда еще не представал столь живым и ярким.
Эти воспоминания послужат также исправлению гротескных ошибок как в западных, так и в советских источниках, которые, с легкой руки авторов статей в «Литературной энциклопедии» (т. 4, 1930) и «Краткой литературной энциклопедии» (т. 3, 1966), продолжают повторяться до сегодняшнего дня «комментаторами», утверждающими, что Иванов «был ректором Бакинского университета, замнаркомпроса Азербайджана» и что в эмиграции он занимался исключительно «теологией». Можно надеяться, что после публикации этих мемуаров с такими мифами будет покончено навсегда.
О некоторых периодах жизни Иванова мы имеем представление по воспоминаниям и описаниям современников, но мемуары Лидии Вячеславовны превосходят по полноте и степени освещения наиболее интимных сторон личности Иванова все, что когда‑либо появлялось. Она родилась в Париже 28 апреля 1896 года. В своей в высшей степени автобиографической работе (которая вместе с тем не является автобиографией) она не пишет о ранних годах жизни отца, ибо мемуары ее являются рассказом лишь о том, чему она была свидетельницей и что пережила сама; поэтому в приложении мы поместили автобиографию Вячеслава Иванова 1917 года. Кроме того, первые десять лет жизни, когда отец и мать постоянно странствовали по городам Европы и Ближнего Востока, Лидия Вячеславовна часто жила вдали от своих родителей. Для восполнения сведений об этом периоде жизни Иванова незаменимым источником является «Введение», предпосланное Ольгой Дешарт первому тому собрания его сочинений. Однако в течение более сорока лет Лидия Вячеславовна была неизменной спутницей отца, и даже когда они физически были разделены пространством, они находились в постоянной и тесной переписке. В мемуарах она описывает эту жизнь, изображая под очень необычным углом зрения знаменитую «башню», живо повествуя о перипетиях страшных пореволюционных московских лет, о бакинской жизни начала двадцатых годов и, что ценнее всего, представляет ни с чем не сравнимую по детализации картину последнего, итальянского периода жизни Иванова, периода менее всего изученного и известного, когда влияние его распространилось на европейские интеллектуальные круги, периода постоянных контактов и обмена идеями с такими выдающимися деятелями европейской культуры, как Шарль Дю Бос, Габриель Марсель, Роберт Курциус, Бенедетто Кроче, Жак Маритен, Мартин Бубер.
Столь же важна и та особенность мемуаров, что они показывают нам как «мрамор», так и «кирпич». Многие годы молодая Лидия испытывала благоговейный трепет перед величественно олимпийской, находящейся в каком‑то отдалении фигурой отца, личные контакты с которым порой обретали форму своего рода «аудиенций». Это Иванов — maître, тот самый, кого мы считаем нам «известным» и кому как нельзя более подходит шестовское определение «Вячеслав Великолепный». Но со времени третьего брака — на Вере Константиновне Шварсалон, трагически погибшей в 1920 году, отношения отца и дочери становятся все более близкими, особенно в тот период, когда Иванова постоянно ранит смерть близких ему людей и он мог бы вслед за Флобером повторить: «Мое сердце превращается в некрополь». Семья становилась для него еще дороже.
Каким образом мы завладеваем прошлым? Мы читаем, изучаем, мы спрашиваем, запоминаем — и вдруг случайная деталь смещает всё. В этом состоит ценность мемуаров, особенно таких, как эти. Несомненно, мы видим здесь «русского европейца» Иванова, но вместе с тем мы как бы становимся свидетелями спора о том, как правильно пользоваться салфеткой, впервые видим перед собой внимательного читателя и ценителя журнала своих детей, «Пуля Времен», наслаждающегося их пародиями на поэтический стиль и ученость отца; слышим голос человека, подписывающего письма семье «р — р-р — Да!». Мы находим здесь детали, навсегда смещающие наше одномерное представление о Вячеславе Иванове.
Структуру мемуарам как целому придает хронология, но в них нет «академической» биографии, с подробным перечислением событий день за днем. Жизнь Иванова отмечена прерывностью времени и пространства, вплоть до последнего римского десятилетия. На протяжении больших промежутков времени он переезжал с места на место, не имея постоянного адреса и снимая квартиры самого разного сорта; ему пришлось испытать на себе следовавшие один за другим исторические потрясения: три русских революции, гражданскую войну, две мировых войны, крушение старого порядка в Европе, в том числе и в его любимой Италии. Иванов провел за границей почти столько же времени, сколько и в России — сорок шесть из своих восьмидесяти трех лет. Сама Лидия Вячеславовна, по сути, жила в России менее двух десятилетий своей в общем долгой жизни. «Разбросанность» ее книги аналогична ее собственной жизни и жизни ее отца, наполненной множеством переездов и устройств на новом месте (даже последние годы Л. В. прошли под страхом выселения из квартиры на Авентине — самого продолжительного места жизни семьи Ивановых). Доминируют в книге, по выражению Ремизова, «узлы и закруты памяти».
Они, эти «узлы и закруты», также отражены и в довольно умышленной непоследовательности тона. Иногда слышится «нейтральный» голос взрослого человека, вспоминающего и воспроизводящего события. И сразу же вслед за этим текст может неожиданно и по ассоциации сместиться на какой‑нибудь фрагмент прошлого, рассказанный в том виде, в каком он воспринимался с точки зрения ребенка или девочки, со всеми языковыми особенностями, свойственными этому возрасту. Эти красочные «картинки», то трогательные, то комические или испытующие читателя, заставляют вспомнить, что автор — композитор, художник большого таланта, учившийся у одного из величайших мастеров «картин» в современной музыке — Респиги. Эта живая изобразительность очень хорошо отражает особое очарование Лидии Вячеславовны как собеседника. Меткие наблюдения, своеобразный взгляд художника, с неожиданными всплесками обезоруживающей наивности. Не зная ее близко, никогда нельзя было быть уверенным, где начинаются и где кончаются ее шутки. В 1922 году одна из ее бакинских подруг, Елена Александровна Миллиор, отметила в своих записях: «Сегодня утром после библиотеки я зашла к Лидии Вячеславовне (я знала, что Вячеслава нет дома). Я расспрашивала ее о Белом, и она, начав говорить о нем, рассказала мне столько интересного, что я слушала ее с открытым ртом». Лидия Вячеславовна всегда сохраняла этот особый дар рассказчика, и читатель ее мемуаров найдет в них те самые «рассказы о Белом» (и о многих других), которые так пленили одну из ее современниц более шестидесяти лет тому назад.
То, что Лидия Вячеславовна сблизилась с отцом, всегда ценившим и поощрявшим ее музыкальный талант (о котором итальянский композитор Гоффредо Пертасси писал: «ее музыкальное и художественное дарование было достаточно велико, чтобы обеспечить ей определенное незаурядное место в мире музыки») — было данью не только ее удивительным личным качествам, непринужденности ее манер, но и ее интеллекту и развитому вкусу — всему тому, что так полно проявилось в ее мемуарах. Сам Иванов легко внушал желание дружеских отношений (подтверждение этому можно найти, скажем, в воспоминаниях Белого) и поощрял это чувство в манере легкого поддразнивания, что временами могло перейти едва обозначенную (и опасную) черту между поддразниванием и провоцированием. Лидия Вячеславовна обладала в отношениях с людьми теми же талантами, что и ее отец. Несомненно, что многие приходили в римскую квартиру на Via Leon Battista Alberti 25 по той причине, что там жил последнее десятилетие своей жизни великий поэт (и как неслучайно, что улица, на которой он жил, была названа именем величайшего лативского гуманиста пятнадцатого столетия), превращая эту квартиру в место обязательного паломничества. Однако возвращались они туда снова и снова (если им выпадала удача возвратиться) из‑за прекрасных людей, продолжавших там жить — самой Лидии Вячеславовны, ее брата Димитрия и Ольги Александровны Шор (которую мне так никогда и не удалось увидеть). Возвращались из‑за той атмосферы, определить которую с точностью представляется трудным, но такой редкой в наше время, что сама возможность существования ее в маленьком уголке на Авентине всегда представлялась мне не чем иным, как «чудом». «Теплота», «отзывчивость», «великодушие», «забота» — все эти определения подходят, хотя в результате стереотипного их употребления целым поколением доморощенных «психологов» с них стерся языковой чекан (по крайней мере, в Америке). Кроме того, в них нехватает какого‑то очень важного элемента, который можно было бы обозначить как «аристократизм». Это определение отражает те утонченные манеры, с которыми принимали гостей, без малейшего признака надутости, давая им почувствовать себя свободно и непринужденно, а их присутствие в доме ощущить желанным. Но более всего это был «аристократизм духа» (я отдаю себе отчет в невыразительности этой «формулы»), отчетливо ощутимый в мемуарах и определяемый как фигурой самого Вячеслава Иванова, так и в не меньшей степени обаятельным образом автора воспоминаний, «всегда сострадательной и терпимой, неизменно готовой к самопожертвованию, но при этом не теряющей заразительного, а иногда и лукавого задора», — говоря словами некролога Лидии Вячеславовне, помещенного в «Новом журнале» (№ 162, 1986).
И если жизнь Иванова и его детей была отмечена отсутствием внешней непрерывности, внутренняя связность и единство в ней, достигнутые в результате долгих поисков и страданий, дали им возможность охватить ее в одном целом и в конечном итоге возвыситься над всеми многочисленными переменами и противоречиями. Символом этого возвышения стало органическое преодоление пропасти между культурами православного Востока и католического Запада, когда перейдя в католическую веру, они осознавали ту единую духовную сущность, которая лежит в основе разнородного мира феноменов.
Американский поэт Роберт Пени Уоррен писал: «в самой последней области сердца только те, кто стар, молоды» («In the heart’s last kingdom / Only the old are young»). Пусть эти строки будут эпиграфом для мемуаров Лидии Вячеславовны, написанных, когда автору было восемьдесят лет (до самой своей смерти 9 июля 1985 года в Риме она все еще исправляла и, по моей просьбе, добавляла новые материалы к этим мемуарам).
Ранний вариант первой части мемуаров появился в четырех книжках «Нового журнала» (№ 147–150) в 1982–1983 гг. Эти воспоминания были написаны Лидией Вячеславовной по просьбе профессора Роберта Джексона, председателя Первого международного симпозиума, посвященного творчеству Вячеслава Иванова, в Yale University 1–4 апреля 1981 года. Небольшие фрагменты из второй части, с отрывками из переписки Иванова с семьей, были напечатаны в альманахе «Минувшее», т. 3, 1987.
Мне остается поблагодарить Галину Шабельскую и Владимира Гитина за внимательную сверку текста и выразить слова особой признательности Димитрию Вячеславовичу, без помощи которого, оказываемой в течение нескольких лет и при подготовке текста, и при составлении комментариев, это издание не могло бы появиться. Я хотел бы видеть в этой публикации дань его отцу и сестре, делу и памяти которых он с такой беззаветностью посвятил себя.
Джон Мальмстад
Гарвардский университет.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. ЖЕНЕВА
«Какая ты шикарная», — говорю я с восхищением маме, с которой иду куда‑то в Петербурге. А она: «Вот опять! Что я ни надень, всем кажется, что я нарядная!» Так оно и было, так как мама выглядела всегда пышной, роскошной и одновременно утонченной. Но главным было то, что и она, и Вячеслав казались мне не простыми людьми, а вроде богов с Олимпа — во всяком случае, не такими, как другие. У мамы было трое детей от ее первого мужа; я одна была дочерью Вячеслава. Была еще сестричка Еленушка, умершая в Лондоне шести месяцев. Горюющие родители хотели усыновить сироту мальчика, родившегося в день ее смерти, но английские законы не позволили отдать его иностранцам — «вырастет и будет служить у нас во флоте».
Сережа, Вера и Костя, старше меня на 9, 7 и 4 года, звали отчима Вячеславом, и чтобы среди них не выделяться, мне сказали тоже так делать; но у меня это как‑то не выходило. Да он мне вообще казался очень страшным и недосягаемым. Мы с ним сблизились гораздо позже и тогда уже крепко подружились.
* * *
Родители очень много путешествовали, и у меня в воспоминании остались урывками многие сцены из раннего младенчества (когда мне было 2–3 года): скала в море в Аренцано; море Неаполя; тесная каюта с круглым окошечком во время мучительного, бесконечного морского переезда в Англию. Мне не спится; я капризничаю, сержусь и брыкаю сестричку Еленушку. А вот мы в Корнуэле (где Сережа был отдан в английский колледж).
Пасхальное утро. Анюта нас выстроила всех четверых вдоль стены, и мы поем маме и Вячеславу «Христос Воскресе». Домик маленький, вокруг — степь до самого обрыва над морем, дует свирепый и крепко пропитанный океанскими запахами ветер.
Мама возила с собою нескольких девушек, которых держала как членов семьи. Она их находила в России, где спасала их от разных тяжелых, иногда трагических обстоятельств. Помню Дуню из рыбацкой деревни, Анюту, Олю — дочь пьяницы — художника, прикладных дел мастера, которая потом вышла замуж за нашего друга, профессора женевской консерватории Феликса Острога. Вспоминаются еще имена Васюни и Кристины.
За воспитанием детей родители очень внимательно следили, но они часто и надолго уезжали, то в Россию, то в Палестину или в Грецию, и практическими подробностями не занимались. До женевского периода они предоставляли их девушкам, а затем этому делу себя всецело посвятила Мария Михайловна Замятнина, мамина подруга, преданная ей на жизнь и на смерть.
Мария Михайловна (мы ее звали Марусей) познакомилась с мамой на Высших женских курсах, бывших передовым учреждением, допустившим женщин к высшему образованию. Маруся вся была поглощена общественной деятельностью и организацией курсов, а для мамы — молоденькой девушки из аристократической, монархической семьи, — даже одно посещение курсов было бунтом и вызовом обществу, в котором она выросла. Встреча с мамой была для Маруси переворотом в ее жизни, а ко времени нашего пребывания в Женеве она окончательно переселилась к нам и сделалась членом семьи. Меня, как самую маленькую, она сразу взяла под свое покровительство, и до конца своих дней, в особенности после смерти мамы, она была для меня как бы второй матерью.
* * *
С 1900 года началась оседлая жизнь: был нанят дом в Женеве. Там родители поселили семью, вдали от смутного времени на родине. Это к тому же освобождало их для литературной деятельности. (Позже, в Петербурге, они сами сняли квартиру, получившую название Башни.) К семье приезжали только на более или менее краткие побывки. Каждый приезд ощущался как большой праздник, всё преобразовывалось и оживлялось. Вот мама только что приехала и кинула мне из окна мансарды золотой апельсин; я подбежала, а он вдруг начал прыгать. Это был мячик, но мне казалось, что это божественная игрушка небожителей. Наша маленькая вилла в Женеве, villa Java (Жава́), была милая, в 2 этажа, а сверху еще третий, где были чердак и мансарды. Вокруг — очень большой сад. Я представляла себе рай по образу нашего сада весной, когда цвели все фруктовые деревья: яблони, черешни и многие другие. Красота этого сада захватывала дыхание. Посередине сада, сбоку находился маленький сарайчик. Половина его была занята садовыми орудиями — лопатами, граблями, лестницей и т. д., а другая половина представляла собой крошечную комнату, которую мама приспособила себе под студию. Я помню смутно (меня в нее обыкновенно не пускали) чем‑то пестрым и красивым украшенные стены, на полу, может быть, ковер или циновка, и, кажется, шезлонг, на котором, полулежа, писала мама. Вячеслав работал дома, в своей мансарде. Из сада в окне виднелась его голова. Над чем он тогда работал, для меня было еще неясно, а мама писала повесть, называвшуюся «Тридцать три урода». Ко дню рождения мамы я вырезала из бумаги 33 фигурки, сшила их в виде маленькой тетрадки, преподнесла маме с надписью и вопрошала: не могут ли 33 урода образовать одного красавца? Я помню, что эта мысль позабавила взрослых и, к моей гордости, возбудила у них целую дискуссию.
Вспоминаю, как оскандалилась от излишнего рвения. Я успешно училась читать. Вдруг, вечером, приезжает мама. Я уже в постельке, но мне очень хочется сразу показать маме, как я быстро умею читать. Беру книгу и залпом начинаю сказку. Все радуются и меня поздравляют. И вдруг мама замечает, что я в волнении книжку перевернула и все читаю наизусть.
Мама обожала красивые ткани. Большей частью гладкие, но всевозможной окраски. Когда ей случалось проходить мимо распродажи материй, она обязательно покупала отрезы, без всякого намерения шить из них что‑либо — просто за красоту цвета. Со временем образовалась целая корзина этих тканей. Быть может, уже в женевский период они украшали стены «уютного домика» (как мы его звали) в саду. Позже мама в Петербурге свою так называемую «оранжевую комнату» отделала по — восточному: никакой мебели, у стен на полу матрасы, покрытые тканями, коврами, подушками. Все веселое, радостное и пестрое. Для себя мама из своих тканей делала хитоны, как она их называла. Хитон состоял из двух кусков материи, длинных, до полу, скрепленных на плечах брошками. Сверху она накидывала ткань в виде длинного и широкого шарфа, спускающегося с плечей вдоль рук. Когда много лет спустя, уже после смерти мамы, мы, по инициативе Веры, устроили спектакли так называемого Башенного театра, все декорации и костюмы были созданы из тканей, взятых из маминой корзины.
* * *
Меня начали учить музыке с 4–летнего возраста. Это произошло после того, как в виллу Жава́ въехало только что купленное скромное, но золотистое и милое пианино фабрики Эрар. В тот же приблизительно период я в играх своего воображения выдумала идеальный город — весь один общий дом с садами, настоящих улиц нет, все обитатели как одна семья, и я с другими девочками города весело живу в общежитии по имени «Пипаста». За роялем я сочинила сигналы Пипасты; они как бы исполняли роль трубы кавалерийского полка. (Это была первая из моих детских композиций.) Когда мама это узнала, она пришла в восторг. Теперь я понимаю, почему — ведь я сочинила социалистическую утопию, по всей вероятности, под влиянием маминого социализма (а, может быть, социалистическая утопия сама по себе есть детская игра?). Мама была ярой социалисткой; она выросла в аристократической богатой семье. Когда она была молоденькой девушкой, к ней пригласили блестящего преподавателя, пользовавшегося большой популярностью, чтобы он ей дал несколько уроков на общие культурные темы, — Константина Семеновича Шварсалона. Он посвятил свою ученицу во все общественные движения эпохи. Она страшно ими увлеклась, поверила в беззаветный идеализм своего наставника, решила с ним вместе посвятить себя служению народу, и, несмотря на отчаянное сопротивление семьи, вышла за него замуж. Брак оказался несчастным. Мама наняла нарочито бедную, неотапливаемую квартиру (принципиальный вызов буржуазии!), присоединилась к партии эсеров (она жалела и любила крестьян) и стала в своем доме устраивать тайные политические сходки. Муж был от этого в ужасе, он опасался за свою карьеру. Постепенно выяснилось, что его проповеди были только приманкой для невесты с деньгами и высокими связями. Прошло несколько лет, пока мама, наконец, убедилась в том, что он ее во всем обманывал; как только это произошло, она взяла своих троих детей и уехала с ними за границу. Брак окончился разводом.
Встреча с моим отцом отвела маму от ее замыслов прямого участия в политической жизни. По его примеру она занялась литературой и стала писательницей. Но в душе она все время оставалась ярой социалисткой.
* * *
В эту эпоху (1905 год) в Женеву стало попадать много эмигрантов из России. Я не очень понимала, в чем тут дело, но мне казалось, что это что‑то героическое и очень увлекательное.
Появился какой‑то родственник Степа. Мама его посылала в сад рубить дрова. Были трогательные брат и сестра Митрофан и Катерина Елшины[1]. Был бородатый Кузьма, который любил ходить в театр на ненумерованные места галерки, предварительно наевшись чесноку: «Я всегда нахожу себе сидячее место». Нина Гейман, приходившая следить за моими фортепьянными занятиями, была исключена из Петербургской консерватории за участие в революционных сходках и теперь продолжала свое учение в Женеве. В городе бывали политические собрания, и кто‑то, вернувшись с одного из них, подарил мне какой‑то значок с красной ленточкой; я его бережно и любовно запрятала в потаенное место.
* * *
Один раз мамин социализм и мое живое воображение в играх привели к очень неприятному приключению. Пришла к маме работать поденно домашняя портниха. Не имея сверстников, я сразу к ней побежала дружить и вскоре начала ее просить поиграть со мной в школу: «Я буду учительница, вы — ученица». Она выразила согласие. Увлекшись и видя в ней только школьницу, я что‑то пустилась ей объяснять, а не получив желаемой реакции, обругала ее теми же словами, какими нас ругали наши школьные учительницы. Портниха обиделась, но ничего не сказала, а когда была наедине с мамой, нажаловалась на меня. Что дело шло об игре, мама не поняла. Гром и молния разразились над моей головой, был вызван даже Вячеслав. Меня побили и посадили в «одиночное заключение», т. е. три дня держали под ключом в отдельной комнате. Почему этот эпизод вызвал такую преувеличенную реакцию родителей, я поняла лишь теперь, вспоминая этот случай. Мама в юности насмотрелась, как часто бары относились к народу с презрением и грубостью. Мое поведение она объяснила как дерзость девчонки из господствующего класса по отношению к низшему рабочему классу. Честная труженица, пролетарка, была оскорблена ее собственной дочерью. Ясно, что такое недопустимое явление в семье нужно было сразу и в основе искоренить!
Когда наше пребывание в Женеве стало подходить к концу, господин Ламартин, хозяин виллы Жава́, предложил нам купить дом. Дело было выгодное, цена очень сходная, и в тот момент доступная нам. Мама со всей своей пылкостью отказалась от этого проекта. Она была принципиально против собственности и заявила: «Я хочу, чтобы мои дети оставались честными людьми».
* * *
У мамы был прекрасный голос. По настоянию отца она стала его развивать, и когда была еще в Париже, брала уроки у знаменитой певицы Полины Виардо, которой тогда было за 80. Как известно, у Виардо с Тургеневым был длинный роман, и она, по всей вероятности, научилась двум — трем русским словам. Во время уроков с мамой она всегда настаивала: «Surtout pensez toujours à votre gilivotte». В Женеве мама дала несколько концертов. Я смутно помню ее поющей за решеткой хоров в одной протестантской церкви. Она была красавицей, в декольтированном белом газовом платье, с ожерельем из жемчуга. На одном из этих концертов, который она дала через несколько дней после неудачных родов, она сорвала себе голос и больше уже не могла петь. Одно из самых дорогих воспоминаний — это ее упражнения дома. Она сама себе аккомпанировала; я запомнила в ее исполнении такие вещи, как «Лесной царь» Шуберта и «Миньона» Бетховена. Последнюю я научилась ей даже, как умела, аккомпанировать; что же до «Лесного царя», я чувствовала в нем каких‑то бешеных коней и в экстазе галопировала по всем комнатам под его ритм. Мама не протестовала — может быть, сочувствовала.
* * *
В трудные годы России родители не хотели покидать родину. Они приезжали к нам редко, всецело погруженные в литературную жизнь Петербурга. Там на «Башне» у них кипела бурная жизнь, которую столь многие описывали. У нас же все развивалось органично и мирно. Сережа жил и учился в Англии и очень любил свой колледж. Он приезжал к нам на каникулы, старался нас «англизировать» и учил играть в футбол и в крикет, до которого я, впрочем, еще не доросла.
Костя часто бывал товарищем моих игр. Когда у него не было ничего лучшего, он довольствовался мной, хотя я была младше его на четыре года, да к тому же еще девочка. Он был тогда толстый и неуклюжий. Позже, в России, он поступил в 1–й кадетский корпус, вытянулся, сделался очень стройным и красивым. После окончания Михайловского артиллерийского училища он был послан в Ровно, где через несколько месяцев его застигла война. Он пробыл на фронте благополучно до 1918 года, а затем пропал без вести — по всей вероятности, погиб.
Вера училась в классическом женском лицее. Для Женевы это было учреждение передовое. Помню ее, рано утром зубрящую еще в постели: «Sicarius — assassin, sicarius — assassin». Она была вспыльчивой, увлекающейся, всегда не в ладах со своими классными дамами. Одной из ее больших страстей был альпинизм. Мне запомнилось событие, пережитое Верой как тяжелая драма. Была организована альпинистская экскурсия, восхождение на Юнгфрау. Сережа и Вера к ней присоединились. Восхождение было трудное, но все участвующие в экспедиции дошли до вершины. Все, кроме Веры, которая обессилела, почти добравшись до цели: оставалось полчаса легкого подъема. Дожидаясь спуска товарищей, она лежала на снегу, ослепленная солнцем, в полуобморочном состоянии, а в душе переживала неописуемую трагедию своего поражения. Помню ее возвращение. Она была сожжена солнцем до неузнаваемости и ее сразу уложили в постель. К этому событию относятся стихи моего отца:
И ты в снегах познала благодать — Ослепнуть и прозреть нагорным светом[2].* * *
Одно время жил с нами дедушка, мамин отец, Дмитрий Васильевич Зиновьев. От природы он был очень добрый и щедрый. К старости эти черты приняли болезненный характер. Он начал раздавать свое имущество кому попало. Испуганная семья взяла его под опеку. Чтобы скрасить ему старость, мама решила выписать его в Женеву. Семья купила ему дом в местечке Иаир, в 15 минутах ходьбы от нас. Вокруг дома был парк, фруктовый сад, огороды; были ульи с пчелами. Все это владение находилось на самом берегу Роны. Дедушке наняли домоправительницу, мадам Дювернуа, чтобы за ним ухаживать и вести хозяйство. Мы очень любили его навещать. Вот он сидит в кресле, одетый в стеганый турецкий халат; я подхожу, а он одновременно вынимает из двух карманов двух маленьких котят. Он всегда старался также дать нам что‑нибудь вкусное. А то возьмет, да и подарит монету в пять франков.
Тогда же к нам приезжала в Женеву из России большой друг наш — Александра Николаевна Чеботаревская, которую Вячеслав называл «Кассандрой»[3]. Однажды вечером приходит к дедушке представитель сельской полиции: «Скажите, вы знаете эту даму? Я за ней долго наблюдал; она все гуляла вдоль реки и также по мосту, и все в реку смотрела. Уж не собирается ли она покончить с собой?» Замечательно то, что 20 лет спустя, во время читать лекции по истории греческой литературы и религии, мы записались на эти курсы и с нетерпением ждали приезда В. И., которого никто из нас не видел, но о котором мы были наслышаны, как об оригинальном поэте и выдающемся ученом. Мы также знали, что В. И. живет в Швейцарии, где ведет очень уединенный и замкнутый образ жизни. Приехал В. И., и курсы начались. Как‑то раз я сидела в национальной библиотеке и занималась. Мимо моего стола прошел В. И. с книгами. Так как нам обоим на обратном пути было по дороге, я условилась с В. И., что после занятий позову его (к этому времени я была уже с ним знакома). Когда после окончания занятий я подошла к его столику, он мне подал записку с обращением ”Кассандре“. Это был сонет, впоследствии помещенный в сборнике ”Прозрачность“ [I, 790. — Ред.]. Посвящение я просила снять, так как стихотворение было очень ответственным. Там, между прочим, была строка: ”Ты новые затеплишь Александры“. Каждый мог меня спросить: ”Да что ж вы такое сделали, чем вы потом оправдали пророчество поэта?“ Помню, когда я прочла впервые этот сонет, я ничего не поняла, но обращение — ”Кассандре“ — меня поразило. Дело в том, что у меня два брата классика и, бывало, еще в детстве, желая меня дразнить, они становились передо мной, чертили круг и вопили: ”Трагедия, трагедия — греческий козел“ [”трагедия“ — по — гречески означает ”козлиная песня“, или ”песня козлов“. — М. А.]. Поэтому я была необычайно поражена, когда В. И., меня совершенно не зная, назвал Кассандрой. Такой же прозорливостью поразил меня В. И. и в другой раз, когда принял Ивановского (впоследствии профессора) за моего мужа и тем попал ему не в бровь, а в глаз, ибо как раз в это время Ивановский сделал мне уже вторично предложение, и хотя я ему и отказала, но продолжала оставаться с ним в хороших дружеских отношениях. Второе стихотворение [”Осенью“, I, 771–72. — Ред.] посвящено мне по следующему случаю. Я гостила у Ивановых в Швейцарии. Однажды, на прогулке, я нарвала массу цветов повилики. Их набрался такой огромный ворох, что я, не зная, куда их девать, бросила цветы в воду, и они поплыли, и так как по берегам росли высокие тростники, обвились вокруг них, и получилась очень красивая картина повилики в тростниках. В. И., увидев, что я бросила цветы в воду, вскрикнул. Но затем, когда повилика застряла в тростниках, он остановился, задумчиво любуясь ими. Это было под вечер. А на второе утро В. И. повел меня в беседку, где Лидия Дмитриевна Зиновьева — Аннибал имела обыкновение уединяться и писать, и прочел своей жене и мне написанное им стихотворение. Между прочим, в это время В. И. подготовлял свой сборник стихов ”Прозрачность“, он был в три недели закончен, мне продиктован и затем мною вторично переписан. И, вообще, эта книга мне отчасти обязана своим возникновением. Третье стихотворение ”Повилики“ [II, 321–22. Ред.] возникло вот как. Живя в Саратовской губернии и гуляя раз по берегу Хопра, я увидела, что в прибрежных тростниках вьется повилика, и так высоко, что почти достигает верхушек тростников. Я сорвала повилики, высушила их и вложила в письмо к В. И. Он прислал мне в ответ стихотворение. Но уж очень в этом стихотворении повилики уничижительны:
Жадные пристрастия мертвенной любви, Без улыбки счастия и без солнц в крови…— Нет, не уничижительные, — отозвался В. И., — а очень грустные: и тростники, и повилики. Повилики — символ верности, а тростники — символ поэта. Повилики в тростниках — это ваша связанность с моей судьбой, ваша верность мне. гражданской панихиды по Михаилу Гершензону, она действительно бросилась с моста в Москву — реку[4].
Под конец жизни дедушка сильно заболел, и мама наняла для него соседний с виллой Жава́ дом, чтобы лучше за ним ухаживать. Когда он умер, меня позвали прощаться. Он благообразно лежал на столе. Запомнилась его длинная шелковистая борода. Горели свечи; стояли цветы. И я впервые удивилась непонятной тайне смерти.
* * *
В доме жила черная, с медными отливами, кошка Медея; ее супруг, некрасивый, с черной несимметричной кляксой на носу, звался Пострелом, хотя Сережа прозвал его «Ангел небесный». Третий кот, Jungle, был грустный cavalier‑servant, страдавший от неразделенной любви к Медее. Рождались котята, мама их усыпляла без сентиментальности, хотя обожала зверей. Она завела также канареек, их было штук 20, и для них было построено двойное широкое окно.
Приходили к нам друзья. Среди них мой профессор фортепьяно Феликс Острога, женившийся на нашей красотке Оле. Я помню, как он композиторским тенорком исполнял для родителей свой романс «Et les grenouilles criaient, criaient». Позже он писал для «Аполлона» рецензии о заграничной музыкальной жизни. Помню, как он у нас за ужином ел свою любимую спаржу и отложил самую толстую, чтобы съесть напоследок, как вдруг из‑за стола появилась белая лапа Пострела и стащила ее. Я узнала тогда, что значит выражение «pour la bonne bouche» (так он печалился и говорил, что оставил к концу самый лакомый кусочек).
* * *
Помню, как за ужином отец рассказывал о своих парижских приключениях с Бальмонтом, как Бальмонт пьянствовал, как был арестован и как его спросили, какое его ремесло (так как во Франции арестованных заставляли работать каждого по своему ремеслу), и как Бальмонт ответил: «Je sais faire des livres», после чего его заставили переплетать книги. Как‑то раз, наслушавшись этих рассказов, я ушла из столовой, пошла в темную переднюю и, зарывши нос в висевшую одежду, стала плакать. Ко мне пришли: «Что с тобой?» — «Мне жаль Бальмонта». Я плакала так же втайне над портретом Ницше (он висел в маленьком салоне): из разговоров взрослых я много наслышалась о его сумасшествии.
В маленьком салоне вся семья сходилась каждое воскресенье утром, и все по очереди читали вслух Евангелие. Мы были все православные, но как огромное большинство таковых, церковь посещали только раз в году, на Пасху. На Страстной говели. Церковь была далеко, так как мы жили вне города, и потому на заутреню не ездили, а то бы я запомнила. Не помню также, чтобы Вячеслав и мама ездили с нами в церковь.
* * *
По разу в год торжественно организовывались семейные экспедиции. Раз в лето мы уезжали на пароходе в близкое село на берегу озера, долго шли пешком и выходили на крошечный безлюдный песчаный пляжик. Там мы с наслаждением купались, как полагалось в России, без костюмов.
Каждый год, в начале весны, мы уходили пешком довольно далеко и, стараясь сделать это тайно, проходили, несмотря на обычную в Швейцарии надпись на столбике «Propriété privée. Défense d’entrer sous peine d’amende»[5], в чудное огромное частное владение с полянами и рощами. Солнце ослепительно серебрило пробуждающуюся мокрую траву, а на опушках виднелись целые ярко — голубые разливы цветочков syllas, маленьких, на хрупких стебельках, с изрезанными лепестками. Они и были целью экспедиции: мы набирали целые букеты. Удовольствие обострялось опасностью быть увиденными gardes champêtres’ами. По отношению к взрослым, которые ходили с нами, я чувствовала товарищеское восхищение. Все это, думаю, происходило не без участия и сочувствия мамы.
Так же раз в год все садились на трамвай и ехали в город. Там мы входили в кондитерскую, и нас угощали пирожными. Мы не были избалованы, и они нам казались невероятно вкусными. Раз я решила продлить удовольствие и стала есть свое пирожное с преувеличенной медленностью. Другие уже съели свои, и им дали по второму. Взглянув на мое блюдечко, взрослые сказали: «Лидии не нужно, она еще не съела свое». Это было огорчение, которое я еще помню. Не знаю, сделала ли я тогда вывод вроде «carpe diem» (лови мгновение).
* * *
Приближался конец нашего пребывания в Женеве. Летом 1906 года мы с друзьями Вульфами наняли шале высоко в горах, в Comballaz, над городом Эгль (Aigle)[6]. Туда приехала к нам мама. Это был ее последний приезд в Швейцарию, и она приехала без Вячеслава. Как всегда, ее появление как бы покрыло всю душу волной радости; но все же на этот раз чувствовалось что‑то иное, что‑то очень печальное, какой‑то солнечный закат. Мама была грустная, отяжелевшая; быть может, это было после ее опасного воспаления легких (не помню, была ли ее болезнь до Comballaz или потом). Ей тогда оставалось не более года жизни. Или она бессознательно ощущала будущее, или мои теперешние воспоминания окрашиваются этим сознанием.
Она не захотела остаться в шумном нашем доме и наняла себе крошечное шале в совсем безлюдном месте. Из трех — четырех стоящих там шале только ее имело внизу жилую комнату. В верхнем этаже был сеновал. Остальные шале были просто сеновалами или складами. Дойти до маминого жилища можно было только пешком, без тропинок: минут 10 ходьбы, круто спускаясь по скользкой траве альпийских пастбищ. Должно быть, она работала там. К нам заходила нечасто. Самое желанное было провести ночь у нее. Она брала по очереди Веру и Костю. Я запротестовала: почему же не меня? И однажды была выбрана и я. Она меня научила, как разжигать печь (я до сих пор это свято вспоминаю, когда мне приходится это делать). Мы с ней состряпали яичницу. Все, что мама приготовляла, казалось невероятно вкусным и совсем необычным. В ней была какая‑то жизненная солнечная сила.
II. БАШНЯ
Наступила весна 1907 года, в течение которой родителями было решено ликвидировать женевский дом и всей семьей окончательно переехать в Петербург.
Все было отослано в Россию. Вера осталась до осени у Оли и Феликса Острога, чтобы сдать последние экзамены своего лицея, а мы с Костей под предводительством Маруси поехали поездом в Петербург, куда прибыли в первый день Пасхи. Душа моя переливалась счастьем и патриотизмом. Я первый раз в жизни въезжала в Россию. Все встречные и извозчик говорили по — русски! Дождь и слякоть? Неважно — я на родине. Мама была с нами ласкова, но, думается, что в глубине души она ощущала наш приезд как неприятную необходимость. «Башню» пришлось расширить: присоединить к ее четырем комнатам еще три, проломив стену, отделяющую нас от соседней квартиры с окнами на Тверскую[7]. Заводилось хозяйство, дети, прислуга: посягательство на богему, на свободу.
* * *
Первое, что мама сделала через час после нашего приезда, это — послала нас с Костей вдвоем к Сомову, Кузмину и (не помню, сразу ли) к Струве, которые жили на Суворовском проспекте. Заблудиться было трудно по прямой линии от Таврической. Мы должны были представиться сами как ее дети и пригласить их зайти вечером в гости. Воспоминания этого первого дня у меня очень смутные, как если бы все это было во сне. И неудивительно: едва приехали после многодневного путешествия, а кроме того, патриотизм, волнение, природная застенчивость.
Я помню, как пришли Сомов и Кузмин (кажется, порознь). Сомов мне очень понравился: круглый, мягкий и ласковый, как уютный кот. Кузмин пригвождал внимание своими странными глазами: огромными, темными и спускающимися от переносицы по наклонной линии.
Мама нас позвала. Мы сидели в ее восточной оранжевой комнате на полу — на тюфяках, покрытых мягкими тканями и подушками.
Вечером нам отвели с Марусей и Костей большую комнату. В ней было одно мансардное окно; она была очень мрачная, обитая серыми обоями.
— Это Волошины так оклеили, — сказала мама.
Со временем обои переменили на красивые, ярко — голубые, но я все же вспоминаю эту комнату с неприязнью.
* * *
В начале 1907 года помню, что мама послала нас с Костей гостить на 3, 4 дня на дачу к Чулковым в Финляндию. Я думаю, что ей было приятно понемногу вводить нас в свое общество. Чулков очень дружил с нами. Я помню его довольно часто приходящим к нам. Он вскидывал свои темные густые волосы, придерживал их всей пятерней, чтобы они не падали на лоб и при этом почти декламировал: «Тайга! Вячеслав, тайга!..»[8] Он обожал тайгу и рассказывал про Сибирь очень интересно. Его жена, Надежда Григорьевна, была женщина красивая, очень южного типа, большой духовности, проникновенности и доброты. На даче у Чулкова нам было хорошо. Один раз они взяли нас кататься на лодке по какой‑то узкой речке. На лодке был также Леонид Андреев. Он был видный мужчина, черноволосый, с бородкой и длинными волосами. На нем была белая косоворотка. Узнав, что мы дети В. И., он стал о нем очень много и крайне недружелюбно говорить.
А дня через 2 или 3 после нашего приезда мама отправила нас с Костей познакомиться с дядей Сашей, тетей Лизой и их сыновьями — нашими кузенами. Дядя Саша был братом мамы. Александр Дмитриевич Зиновьев был тогда губернатором петербургской губернии. Много позже, когда мы виделись в Риме, он сказал: «Я счастлив, что при мне не было ни одной смертной казни». (Город Петербург имел своего градоначальника и в управление губернии не входил.)
Зиновьевы жили в роскошном особняке. Внизу важный швейцар, обширный холл, широкая лестница, покрытая хорошими коврами. Мы взошли по ней на первый этаж и были введены в длинный зал — столовую. Стол нам показался бесконечным; за ним сидел целый отряд военных, которые как один встали и пошли нас приветствовать, подставляя свежепромытые одеколоном щеки под наши поцелуи. Только потом выяснилось, что кроме родителей, там было шесть кузенов: младшие учились в пажеском корпусе, старшие уже были офицеры. Всего у дяди Саши было семь сыновей, но старший, Саша, был убит на японской войне. Тетя Лиза мечтала иметь дочку, но все рождались защитники отечества. Младшего, Мишу, она долго одевала как девочку и оставляла ему длинные волосы. Костя очень привязался к Зиновьевым; постоянно у них бывал и гостил; они с ним обращались, как с сыном. Я их видала также, но любила в особенности тетю Лизу; позднее она мне как‑то сказала, что после смерти мамы она думала, насколько возможно, мне ее заменить. Но мы с Зиновьевыми жили в таких разных мирах, что это было невозможно.
Кажется, это было в 1908 году, уже после маминой смерти. Тетя Лиза пригласила меня к ним на месяц в Копорье — зиновьевское родовое имение. За три версты от барского дома с невероятно обширным парком находилась сама историческая крепость Копорье, известная, так же как Ям и Орешек, своим героическим сопротивлением шведам. Крепость превратилась в развалины. Вокруг нее — село с церковью, куда по воскресеньям Зиновьевы ездили к обедне. В церкви они стояли на клиросе. Ездили в изящной коляске, с парой выездных лошадей, которыми правил кучер, одетый, когда хозяева жили в деревне, под ямщика: суконная синяя безрукавка, шелковая яркая косоворотка, на завитых волосах круглая шапочка с павлиньими перьями. В городе барскому кучеру подбивали под шинель невероятно толстый слой стеганой ваты, так что на козлах он сильно смахивал на ваньку — встаньку. Мы с Костей называли таких кучеров подушками — «Я сегодня ездил на подушке». — «Неужели?»
В Копорье мне показали старую сорокалетнюю белую лошадь «Каприз», на которой еще в юности ездила мама. Также показали и маленькую лохматую сибирскую лошадку с гривой до колен, которая была под Сашей, когда его убили на войне.
Приходила из недальней рыбацкой деревни бывшая наша «девушка» Дуня. Она вышла замуж за рыбака, была голодная и несчастная.
* * *
Летом 1907 года мы были все приглашены в Могилевскую губернию к Марусиной тете Елизавете Афанасьевне, в ее именье «Загорье». Имение было абсолютно разорено, и почти все земли были уже заложены. Но Елизавета Афанасьевна с большой семьей жила еще в усадьбе. Природа там была удивительной красоты: холмы, леса хвойные, осиновая роща, похожая на храм с высокими серебряными колоннами, пруд.
Здесь тихая душа затаена в дубравах И зыблет колыбель растительного сна; Льнет лаской золота к волне зеленой льна, И ленью смольною в медвяных льется травах. И в грустную лазурь глядит осветлена, — И медлит день тонуть в сияющих расплавах, И медлит ворожить на дремлющих купавах Над отуманенной зеркальностью луна. Здесь дышится легко, и чается спокойно, И ясно грезится; и все, что в быстрине Мятущейся мечты нестрого и нестройно, Трезвится, умирясь в душевной глубине, И, как молчальник — лес под лиственною схимой, Безмолвствует с душой земли моей родимой[9].Был большой дом хозяев, флигель, отведенный нам (Марусе, Косте, мне и позже приехавшей Вере), а кроме того, новый большой дом, только что построенный и еще не заселенный, который пах свежим деревом и смолой; в нем были помещены Вячеслав и мама. Они там жили и работали, а к нам приходили во флигель только на время еды. На просторном дворе усадьбы, как полагается, была конюшня, скотный и птичий дворы, жилища для работающих при усадьбе, дом для немца — управляющего. Когда мама увидела Загорье и вошла в свой новый дом, красота места ее потрясла: она взволновалась и вдруг начала плакать… Поздно осенью (17 октября) мама неожиданно умерла в этом доме после четырехдневной болезни. В это время объявилась сильная эпидемия скарлатины, мама ходила по деревням лечить крестьян и заразилась.
* * *
Помню маму, гуляющую по Загорью в своих хитонах. Она гордилась, что очень сильно похудела, выдумав себе какой‑то режим. В купальне она меня научила плавать «по — собачьи и по — лягушачьи»; на пруду была лодочка, она любила грести. Из‑за меня у них с Вячеславом случилась маленькая перепалка. Мама обожала лошадей и была прекрасной амазонкой. Во время их путешествия в Палестину они с Вячеславом совершали какой‑то длинный поход по пустыне. Ехали верхом с арабскими проводниками. Лошадь под Вячеславом была с норовом и сбросила его. Он упал, сильно поранил о скалу голову, и они оказались в очень тяжком положении посреди пустыни. У Вячеслава остался на всю жизнь страх к верховой езде. В Загорье были лошади. Мне страстно хотелось ездить верхом. Мама, несмотря на опасения Вячеслава, решила мне доставить эту радость. Чтобы приучить меня понемногу к этому спорту, мне на первый раз оседлали старую 26–летнюю водовозку, посадили меня на нее и предоставили ехать куда хочу. Водовозка размеренным и мудрым шагом проковыляла прямо по дороге через усадьбу, потом мимо осиновой рощи, потом дальше. Горе было в том, что я хотела вернуться, но не решалась достаточно энергично дернуть уздечку, чтобы лошадь повернула. На беду как раз по дороге шел навстречу именно Вячеслав, и шел один. Я его попросила — «Возьми лошадь за уздечку и поверни ее, она меня не слушается». Вячеслав переборол свой страх перед лошадьми и исполнил мою просьбу. Водовозка обрадовалась, прибавила шагу, а затем, не спрашивая меня, пустилась галопом в конюшню. По счастью, я догадалась наклонить голову при въезде в нее. Но между Вячеславом и мамой было бурное объяснение, и в результате мне больше не пришлось кататься верхом в Загорье.
Было другое бурное объяснение по поводу моей салфетки.
За обедом Вячеслав вдруг посмотрел на меня и на поданный соус и приказал завязать за шею салфетку. Мать, однако, выразила свое несогласие.
— Англичане, — уверяла она, — которые прекрасно ведут себя за столом, никогда так не пользуются салфеткой… Нужно уметь есть аккуратно.
— В Париже, — ответил Вячеслав, — всегда затыкают салфетку за воротник…
Спор шел долгий и оживленный, а в каком положении находилась моя салфетка — не помню.
* * *
Несмотря на все радости этого лета, воспоминания о маме делаются какими‑то все более грустными, тускнеющими. Проходили через Загорье и заходили к маме богомольцы, идущие пешком в Иерусалим. Маме сильно захотелось тоже уйти на богомолье, — вот так же уйти одной, пешком.
В конце летних каникул Маруся уехала с Костей и со мной в город, где Костя поступил в реальное училище Гуревича (он там пробыл год до кадетского корпуса), а я в гимназию «Новая школа общества преподавателей» на Преображенской улице, а также в музыкальную школу Боровки в класс С. Е. Енакиевой. Маме, Вячеславу и Вере не хотелось покидать Загорье и их пребывание там затянулось до поздней осени.
Смерть мамы резко прерывает все течение жизни[10]. Кончается один период и начинается другой. Жизнь вокруг идет очень разнообразная, богатая, но кажется, точно все мы живем и действуем в какой‑то стесненной и полуреальной атмосфере, точно над нами тяготеет темная туча, та самая, которая разразилась грозой 17–го октября и которая никак не может окончательно развеяться. Потребовались годы для ее исчезновения. Это произошло лишь в конце петербургского периода нашей жизни.
* * *
Дом на Таврической, 25 находился на углу Тверской улицы. Форма дома была особенная: его угол был построен в виде башни. Половину этой башни образовали внешние стены, с большими окнами, а другая половина состояла из внутренней части квартир. Над башней возвышался купол и туда можно было с опаской заходить, чтобы любоваться чудным видом на город, на Неву и окрестности[11]. Я часто туда отправлялась, а изредка даже и Вячеслав с гостями. В квартирах под нами башня представляла собой большой круглый зал (на одном этаже там была школа танцев Знаменских, на другом — общественная читальня). В нашей квартире этот зал был разделен на три маленькие комнаты с крошечной темной передней. Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. В каждой комнате было очень большое окно с видом на море макушек деревьев Таврического сада. Отец поселился в средней комнате башни. Наша квартира на пятом этаже была скромная. Кроме башни все комнаты имели маленькие мансардные окна. В доме был лифт, работавший до четвертого этажа. Нижний большой вестибюль и лестницы до четвертого этажа были покрыты коврами. Внизу священнодействовал швейцар Павел, средних лет, с рыжеватой холеной бородой, одетый в ливрею[12]. В 1904 году в этом доме в нижнем этаже снимал квартиру генерал Куропаткин (главнокомандующий русской армией). Павел любил похвастаться таким жильцом и так с ним отождествлялся, что как‑то рассказывал: «К нам приезжал министр Плеве, но мы его не приняли».
Телефона частного не было, а общий стоял внизу у Павла. Чтобы звонить, нужно было спускаться пять этажей (обратно на подъемной машине). В передней висела старая меховая накидка, прозванная «общественной пелеринкой». Хозяева и гости ее накидывали на плечи, когда нужно было спускаться к телефону.
* * *
Сколько народу перебывало на Башне! Гости и друзья не только приходили, но даже останавливались: кто на два — три дня, кто и надолго. Некоторые московские друзья и не предупреждали, а прямо ехали к нам с чемоданами. Уже стало не хватать двух квартир, созданных при маме. Пришлось проломить стену и вставить дверь, присоединяющую еще к нам и третью квартиру. Она выходила окнами на Таврическую и имела три маленькие комнаты и отдельный вход с другой лестницы. В последние годы в ней жил Кузмин.
Одной прислуге было справляться уже невмоготу, но вторую Вячеслав и Вера ни за что не хотели брать принципиально. Печи были голландские, изразцовые — их топили дровами. Лампы керосиновые. Помню, как я однажды, помогая по хозяйству, с радостью оправляла лампы вместо того, чтобы играть на рояле. Ламп было двадцать шесть. Не будем говорить о том, что иной раз, если не усмотреть, одна из них начинала коптить, и тогда…
За обедом всегда сидело человек восемь — девять или больше. И обед затягивался, самовар не переставал работать до поздней ночи. Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные писатели, поэты, философы, художники, актеры, музыканты, профессора, студенты, начинающие поэты, оккультисты; люди полусумасшедшие на самом деле и другие, выкидывающие что‑то для оригинальности; декаденты, экзальтированные дамы. Вспоминаю одну, которая приходила к Вячеславу, упрямо приглашала его к себе на какой‑то островок, где у нее был дом. Она хотела, чтобы он помог ей родить сверхчеловека. Говорили, что она обходила многих знаменитых людей с этим предложением. Разговоры были очень оживленные и обыкновенно мне непонятные. Я раз сбегала на кухню поболтать с Матрешей, а она говорит: «Странно! Говорят по — русски? А ничего нельзя понять!»
У Матреши на кухне было уютно: горела плита, на ней всегда что‑нибудь вкусное, что можно попробовать. А перед плитой сидит вымазанный в угле, в котором он любил валяться, Матрешин собственный кот Флёкин (на Башню его не пускали). Имя Флёкин дала ему Матреша, утверждавшая, что в очень «благородной» семье, где она служила, так звали собачку. Думаю, что это она русифицировала имя Флок. Так же преобразовала имя позднее Димина няня, возвестившая нам визит «Трушачкина». Это был Балтрушайтис.
Среди разговоров за столом были и такие, которые увлекали одинаково и меня и моего отца. Это были, например, рассказы Гумилева об Африке, которые он чередовал с чтением своих стихов:
… далеко, далеко на озере Чад Изысканный бродит жираф[13].Мы оба слушали затаив дыхание, так как отец имел в душе много струн совсем юношеских и при живом воображении любил отдаваться переживаниям, неосуществимым для него реально.
В Швейцарии, уже в старости, он любил лежать подолгу на шезлонге, смотреть на высокие горы перед ним и мысленно медленно взбираться на них, переживая трудности, усталость и наслаждение. Он принимал живое участие в нашей жизни, интересуясь каждой мельчайшей ее подробностью и таким образом всегда в ней присутствовал.
* * *
Среды со смертью мамы были отменены. Но изредка на Башне происходили большие собрания. На одном из них меня представили Зинаиде Гиппиус. Она посмотрела на меня (кажется, в лорнетку) и сказала немного нараспев: «Скажите мне что‑нибудь для меня интересное и страшное». Боюсь, что я оцепенела, и она осталась без ответа.
Один раз на ковре посреди собравшихся в кружок приглашенных Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку, которую воткнули вертикально в коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая и одетая во что‑то длинное, темное и облегающее, так что походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое существо.
Среди коротких бликов воспоминаний вижу у нас за столом человека немолодого, совсем лысого, с трудом и с нелепым произношением сказывающего какую‑то сложную мысль: это философ Столпнер, — мне так объясняют. А то за тем же столом сидит студентик, кажется, в потертой форме, неказистый шатен с длинным носом. Он молчит, сидит весь собранный в себя, спустив нос в тарелку; и так и не поднимает его в течение всего ужина. Его зовут Павел Флоренский.
Вот, за столом редкий гость. Всем известно, что красавец — Аполлон. Да, красавец, но какое же тяжелое лицо. Это Александр Блок. Вот музыкальный критик Каратыгин приходит к отцу и играет ему на рояле вещи Дебюсси и Равеля, чтобы познакомить его с новой музыкой. Равель отцу нравится, а Дебюсси ему чужд. Отец был в высшей степени музыкален. Композитор, который связан со всей его жизнью, это Бетховен[14]. У меня впечатление, что в ткани души моего отца, если можно так выразиться, находится много бетховенских нитей. В первый год после смерти мамы он каждый вечер выслушивал по сонате Бетховена, которая исполнялась Анной Минцловой, прекрасной пианисткой — дилетанткой. Приезжал из Москвы Гнесин и также играл свои новые композиции.
Мы оба с Вячеславом очень любили вечера, когда Кузмин показывал отрывки из своей очаровательной оперетки: то, что он сочинил за день. Он писал и стихи, и музыку. Сюжет был взят из восточной сказки. Влюбленный в султаншу переодет птицей, посажен в клетку и внесен в гарем[15]. Помню отрывки:
Ах, не Европа ль Константинополь? или Какая чудная картина, Ну, право, как живой мужчина или этот отрывок, с особенно удачной мелодией: Честь султана, честь султана! Кто ее посмеет взять? Кто свой голос смел поднять, Что я жертвой стал обмана?* * *
Андрей Белый был один их тех москвичей, которые приезжали к нам прямо с чемоданом. Как‑то при разговоре со мной Белый открыл, что мне нравится играть в солдатики. Это привело его в восторг. Он объявил, что это его любимая игра. На Башне была одна полупустая комната, где висели кольца для моей гимнастики, где я играла на скрипке и где стоял очень длинный раздвижной стол. Этот стол сделался нашим царством. Мы завели целые армии разнообразных солдатиков, разных наций и родов войск — пехоты, артиллерии, кавалерии. Из чего попало было создано что‑то вроде крепостей: моя с одной стороны стола, его — с другой; происходили бои, при которых мы стреляли по враждебному войску горохом из минискюльных пушек. Это увлечение у Белого длилось довольно долго. Он не раз привозил новых солдатиков, приезжая в Петербург. Но в один прекрасный день произошла драма. В своей крепости я нашла солдатика из враждебного войска: стало быть, шпиона. Из прочитанных рассказов военных приключений я знала, что шпионов казнят, и повесила солдатика на стене крепости, чтобы враги его видели. Когда Белый явился, он был потрясен и молча убежал в свою комнату. Я была смущена, но объяснений между нами не произошло, а игра прекратилась.
В этот период Белый писал свой роман «Петербург» и по мере его создания читал новые части Вячеславу. Вячеслав очень увлекался этим романом и называл Белого с ласкою «Гоголек»[16].
Белый любил изображать кинематограф. Он подскакивал к стене и начинал двигаться, жестикулируя, вдоль нее. При этом все тело его спазматически дрожало. Это должно было вызывать смех, но в сочетании с его стальными, куда‑то вдаль устремленными глазами, все это меня скорее пугало.
Диме тоже запомнился силуэт Белого, но уже в Москве, на Зубовском бульваре, в семнадцатом году, когда ему было лет пять. Диме было весело смотреть на длинного танцующего друга «Царя Барана» (так он мифологически прозвал своего отца), который решил учить его азбуке. Широко раздвинув ноги и подбоченясь, Белый очень явственно мимировал букву «Ф», а потом соответственным движением длинных рук букву «У».
То и дело приезжал из Москвы Эмилий Метнер. Он обыкновенно горько жаловался на своего друга, Белого, который тоже всегда в чем‑то винил Метнера. Белый, Метнер и Эллис жили в Москве. Они были связаны между собой особою дружбой, проявляющеюся чередованием трагических разрывов с патетическими примирениями.
Приезжала и бывала у нас одно время и жена Белого, очаровательная Ася Тургенева, художница. Она делала неубедительный портрет Вячеслава[17].
Одно время у нас гостил немецкий поэт Гюнтер. Он был очень симпатичный и уютный и у нас в семье его звали обыкновенно Гюгюс. Вячеслав с ним дружил и между ними существует целая переписка в немецких стихах[18].
В связи с «немецкой темой» у Вячеслава вспоминается эпизод в гимназии. Мне пришлось изучать немецкий язык — боюсь, без большого успеха. «Петр Великий» я переводила, к возмущенью преподавателя, «Peter der Grande». Раз нам задана была домашняя работа, на какую‑то классическую тему, вроде: сравнить произведения Шиллера и Гете. Я пришла домой обескураженная и обратилась за помощью к Вячеславу. Он с удовольствием согласился, существенно заинтересовался темой и на следующее утро передал мне «мой» урок. Составляя его, Вячеслав — очень любящий и Шиллера и Гете, — писал его на изящном старинном языке эпохи обоих поэтов. Мне оставалось списать и передать сочинение учительнице, которая, прочтя его, сердито спросила:
— Из какой книги Вы списали сочинение?
— Я не списала не из какой книги. Мне отец помог. Тут учительница еще больше разгневалась.
— Вы выдумываете! Сразу видно, что списали, да еще из старой книги. Сейчас никто так писать не может.
Частым и дорогим гостем бывал поэт Юрий Верховский: большой, бородатый, со светло — голубыми близорукими глазами. Его Вячеслав очень любил.
Мы очень часто виделись с Сергеем Городецким. Одно время он у нас гостил. Он был молодой, длинный — длинный, лицо некрасивое, но с ним было всегда весело. Мы с ним, Верой и Костей (когда тот приходил домой на праздники) ходили в Таврический сад. Нам в виде исключения разрешали проходить в ту часть его, которая была отгорожена для Думы. Там на пруду был каток и чудные ледяные горы для салазок. Салазки слетали с них с захватывающей дух быстротой. Я помню себя сидящей на неизмеримо длинной спине правящего салазками Городецкого.
Городецкий был прекрасный карикатурист. Каждую неделю он создавал домашний выпуск журнала, посвященного быту Башни. Он его назвал «Les puces de gamins». Надеюсь, что в России в каком‑нибудь архиве он сохранился. Он был талантливо сделан, и Городецкий хорошо зарисовывал людей и семейный быт этого времени[19].
Вспоминается картина «Le lever du Roi». Отец проснулся и звонит в колокольчик. Часы показывают два часа дня. По коридору едет во всю прыть в какой‑то вагонетке Маруся. В вагонетке поднос с завтраком, почта, на крючках висят предметы одеяния. Вот еще семейная картина. Я возвращаюсь домой. Нарисована со спины: две косы и руки, невероятно вымазанные, все в чернильных кляксах; сбоку видны два рояля, стремглав убегающие от меня. Еще картина: шпиль Петропавловской крепости, и к нему привязан воздушный шар с лицом Е. В. Аничкова. Внизу подпись: «Ballon captif».
Аничков — наш большой друг — сидел тогда в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Он был очень толстый. Семья Аничковых жила долго в Париже. Жена его, Анна Митрофановна, писательница, печаталась под псевдонимом «Иван Странник». Она дружила с Анатолем Франсом, и он, кажется, руководил немного ее литературными занятиями. У Аничковых было трое детей. Младшая, Таня, была моей подругой и сверстницей. Вячеслав был специально приглашен, чтобы познакомиться со старшими: Игорем — 14 лет и Ветой — 16. Он вернулся в восторге от ума и высокого развития этих подростков, рассказывал, что они вели невероятно умные философские разговоры.
Аничковы пригласили меня к ним гостить в их имении «Ждани», и я у них прожила два лета; а зимой постоянно виделась с ними в Петербурге. Отношения были самые семейные. К моему ужасу, Игорь утверждал, что читает Канта. А Вета дала обет четыре часа в день делать медитации, и часто проделывала эти медитации в то время, как я играла на рояле. Она без конца ходила вокруг круглого стола, звонко отстукивая каблучками свои мелкие и абсолютно аритмические шажки. Изредка слышался хруст отгрызаемого ее хорошенькими белыми зубками кусочка сахара. Она была права: сахар помогает думать. Но если старшие дети Аничкова вели себя как мудрецы, нельзя сказать того же про Таню, по крайней мере вместе со мной. Несмотря на осуждение крестьян, нам сшили панталоны, и почти весь день мы бегали по землям имения (500 десятин), лазали на крыши амбаров, воровали горошек и морковку у садовника; мы присутствовали при отеле коровы, умоляя, чтобы мокрого, только что родившегося теленка не осуждали на закалыванье; бежали под вечер в лес в надежде заблудиться, искали свободных лошадей, чтобы ездить верхом — с седлом или без. А однажды не спали всю ночь (ах, как это было трудно, но нужно было это испытать), и до зари вышли на большую дорогу поблизости от цыганского табора, который тогда там кочевал. Мы мечтали, чтобы цыгане нас «похитили» и увезли с собой; они нас выкрасят неузнаваемо в темный цвет (я, наконец, сделаюсь брюнеткой), научат ходить по канату и скакать через серсо, галопируя на лошади. Увы! Цыгане не только нас не крали, но даже лошадей у Аничковых не трогали из благодарности, что им разрешают у них останавливаться.
Семья и в особенности дети Аничкова были монархистами и мечтали попасть в придворные круги. Но политические убеждения и аресты Евгения Васильевича этому препятствовали. Таня Аничкова сделалась талантливым скульптором, а позже и живописцем. Я с ней встречалась в Риме.
* * *
Лето, когда меня на десять дней послали гостить к Мейерхольдам, было в моей жизни очень счастливым, так как я страшно полюбила Марусю — старшую дочку Мейерхольда. Они часто жили на даче в Финляндии, кажется, в Куоккале. Сам он появлялся только на мгновения; семья же состояла из его жены Ольги Михайловны и трех девочек: Маруси, Тани, Ириши. Ирише было четыре или пять лет, но она уже решила стать балериной. Она хотела славы и чтобы ей преподносили море цветов. Когда я приехала, меня сразу направили к детям в крошечный садик с большой кучей песка посередине. Я почувствовала себя сильно оскорбленной в своем достоинстве. Маруся была младше меня на два года, ей было девять лет и я должна была водиться с этой малышкой, играть с ней, да еще с двумя бебе: выделывать из песка пирожки или шарики!.. Через четверть часа я этим занялась, забыв обо всем на свете. Марусю я обожала, считала святой и вообще идеалом. Она была добрая, великодушная, очень веселая. И страстно любила танцевать. Когда где‑нибудь устраивали детский бал, она так умоляла, чтобы ее пустили на него, что духу не было ей отказать. На следующий день она неизменно лежала с воспалением легких. Через год или два нашего знакомства ее по требованию докторов отправили в Москву, где отдали в пансион Арсеньевской гимназии (чрезвычайно строгой и педантичной). Петербург — яд для легочных заболеваний, а Москва, со своим сухим, холодным и солнечным климатом, считалась целебной. Маруся приезжала на каникулы в Петербург, но после моего отъезда из него мы больше не встречались. Я слыхала, что она умерла совсем молодой от туберкулеза.
* * *
Вера поступила на Высшие женские курсы на факультет классической филологии, и ее мэтрами были Михаил Ростовцев и Фаддей Зелинский. Ростовцев имел у себя на дому jour fixe’ы, которые часто посещали Вячеслав с Верой. Там бывало интересно и, по — видимому, весело. Вера с восхищением рассказывала нам один раз, как Ростовцев переоделся котом, нацепил себе длинный меховой хвост и ходил на четвереньках по ковру.
В эти дни появился какой‑то человек, который утверждал, что нашел способ извлекать из травы все нужное людям для питания. Голода больше не будет — провозглашал он по всему городу. Ростовцевы на свой очередной вечер пригласили всех кушать сено. Я спрашивала Веру, как это прошло, но она меня разочаровала, сказав, что сена не давали.
Что же до Зелинского, Вера задумала инсценировать и разиграть у него на семинаре маленький отрывок из какой‑то античной пьесы. Костюмы были созданы из тканей, скрепленных булавками, взятых из маминой корзины. Играли Вера и ее подруга Нахман. Они попросили Мейерхольда срежиссировать эту сценку, и Мейерхольд весело согласился. С терпением и охотой обучал их движениям, жестам и декламации. Нахман с диадемой на голове полулежала на диване. Входила Вера, одетая вестником (Вера обожала играть мужские роли), и что‑то сообщала на древнем языке (по — гречески? по — латыни?). Нахман что‑то драматически отвечала, вынимала браслет, сделанный в виде золотой змейки, накладывала его на руку и падала на подушки мертвой. Не помню, имело ли это представление успех или нет, но мы с Марусей долго передразнивали его. Одна из нас входила и говорила напыщенно: «Шурум, бурум!» Другая на диване отвечала с достоинством: «Рахат Лукум», одевала браслет и падала мертвой.
* * *
Мейерхольд ставил тогда Вагнера в Мариинском театре. Как‑то раз он провел Веру за кулисы и посадил ее на какое‑то место, находившееся прямо над сценой, откуда она видела все действие как бы на дне колодца. Она мне на следующий день рассказывала об этом, как об огромном для нее событии. Так она видела оперу «Лоэнгрин», содержание которой я узнала от нее в то утро.
Помню, как Мейерхольд говорил за столом о своей работе при постановке «Тристана»[20]. Он жаловался на обычную жестикуляцию певцов и уморительно передразнивал их. Он хвалился своей выдумкой. Он велел сделать декорации такие сложные, неудобные и опасные для малейшего движения, что несчастные певцы должны были стоять неподвижно, как тумбы, из опасения сломать себе ногу. Актеры были очень рассержены, а режиссер потирал руки от удовольствия: он добился постановки, какой хотел. Мейерхольд пригласил нас всех — старых и малых — на генеральную репетицию.
* * *
У меня были две подруги — Саша и Таня Черносвитовы, племянницы А. Н. Чеботаревской, которые очень долго жили в Париже и говорили по — французски в совершенстве. Вера задумала сделать детское театральное представление на французском языке, дав нам главные роли и сама занимаясь режиссурой. Мы разыграли «Esther» Расина с приложением фарса «Maître Pathelin»[21]. Текста фарса у Веры не было, она только помнила его содержание по урокам литературы в Женеве. Она мне рассказала его и предложила мне написать своими словами фарс, распределив все по сценам и наметив разговоры. Мы не учили наизусть мой текст. Он служил канвой, по которой разыгрывали пьесу, а когда наступил вечер спектакля, мы так разошлись, что стали многое импровизировать. На спектакле присутствовал Мейерхольд, который отнесся к нашему драматическому представлению с полным пренебрежением, но пришел в энтузиазм от «Maître Pathelin», считая его проявлением commedia dell’arte и находя, что эта постановка дает ему интересные идеи.
* * *
Этот спектакль для Веры был как бы упражнением, подготовкой к осуществлению ее мечты о целостном театральном действии, о создании «Башенного театра». Выбор пьесы долго обсуждали. Была избрана пьеса Кальдерона «Поклонение Кресту». План постановки создавался месяцами, и предприятие привлекало к себе интерес все большего и большего числа талантов, нас окружающих. В заключение ткани из корзины моей мамы попали в руки Судейкина, который создал из них декорации и костюмы, а на последние репетиции явился Мейерхольд и стал всем управлять. Вера играла Эусебио, главного героя, как всегда выбрав мужскую роль и вложив в нее всю душу. Даже мне дали роль, правда, небольшую и комическую: я играла Менгу. Было страшно весело. Публики, казалось, было больше, чем могла вместить тесная комната, да еще с отгороженной частью для сцены. Это благодаря какому‑то фокусу Мейерхольда. О Башенном театре писали[22], а у моего отца есть стихи «Хоромное действо», описывающие этот вечер:
Лидии Ивановой
Менга, с честию вчера Ты носила свой повойник! А прекрасная сестра Впрямь была святой разбойник. Помню сжатые уста, Злость и гибкость леопарда И склоненья у Креста… Страшен был бандит Рихардо! Лестницу он уволок Чрез партер, с осанкой важной. Курсио, отец, был строг, Черноокий и отважный. В шлеме был нелеп и мил Наш Октавио. И злобен Дон — Лисардо, — только хил. Фра — Альберто — преподобен. В яму Хиль спустил осла; С Тирсо Хиля ты тузила. Круглолица и смугла, Юлия изобразила Гордость девы молодой, Страсть монахини мятежной. В залу мерной чередой Долетал подсказ прилежный. Кто шатром волшебным свил Алый холст, червоный, черный? В черной шапочке ходил Мэтр Судейкин по уборной. Мейерхольд, кляня, моля, Прядал, лют, как Петр Великий При оснастке корабля, Вездесущий, многоликий. То не балаган, — чудес, Менга, то была палата! Сцену складками завес Закрывали арапчата… Так вакхический приход, Для искусства без урона, В девятьсот десятый год Правил действо Кальдерона[23].Гораздо позже, а именно в Риме в 1925 г., я встретила Мейерхольда еще раз. Это было большой неожиданной радостью, к которой я вернусь во второй, римской части.
* * *
У нас было полушуточно принято выражение «аудиенция». — «Вячеслав Иванович, NN просит назначить ему аудиенцию». NN приходил, они с Вячеславом удалялись вдвоем и долго беседовали наедине. На Башне я больше не боялась Вячеслава, как бывало в Женеве, но все же простоты в наших отношениях не было, и я сильно робела при нем[24]. Однако случилось раз, что у меня возникла проблема, сильно меня смущавшая, которую мне не удавалось одной разрешить. В гимназии как‑то одна девочка отвела меня с подругой в сторону и говорит:
— Слушайте! Бог всемогущий?»
Мы в ответ:
— Да.
— А может ли он создать такой камень, какого он сам не сумел бы поднять?
Мы не смогли ответить. Я пришла домой, и этот вопрос меня все больше и больше беспокоил. Настолько, что я набралась храбрости и как‑то, улучив момент, сказала Вячеславу:
— Можно ли мне иметь у тебя аудиенцию?
Вячеслав отнесся к моей просьбе с ласковым уважением и крайней вежливостью. Условился со мной о времени. Он всегда обращался с уважением и вежливостью со всеми, даже маленькими детьми.
В сильном волнении я явилась в назначенный час в комнату Вячеслава. Он любезно принял меня, предложил мне сесть в важное черное кресло (Ренессанс) и спросил, в чем дело. Выслушав внимательно вопрос гимназистки, он сразу дал ответ, по моему мнению, достойный Соломона.
— Бог не только может, он уже создал такой камень. Это есть человек с его свободной волей.
После этого Вячеслав подробно начал объяснять мне, что значит свободная воля, и я ушла от него счастливая и с легкой душой.
Осмелев, я позже еще раз попросила у него аудиенцию и была так же ласково и внимательно принята. На этот раз мой вопрос был чисто умственный, то есть не задевавший меня внутренне, как при первой аудиенции. Среди многих разговоров за нашим столом меня заинтересовало утверждение — «La propriété, c’est le vol»[25]. Я спросила Вячеслава, что это означает. Он мне дал подробное историческое объяснение. Мы расстались друзьями, но этот разговор на меня сильного впечатления не произвел, да и не мог. Изречение «la propriété c’est le vol» меня глубоко не затрагивало, а быть может, и его тоже.
* * *
Вячеслав работал много и регулярно. Отправив всех гостей, он ложился в постель и писал до восхода солнца. Естественно, что его утро начиналось иной раз в два часа дня. Он курил не переставая в буквальном смысле слова: иной раз выкуривалось до 80 папирос в день. Правда, Вячеславу помогали его гости. Комната, где он находился, всегда была наполнена густым дымом. Как‑то раз он отправился на извозчике (на санях, дело было зимой) на Высшие женские курсы, где он читал лекции по греческой литературе[26]. Чтобы закурить, он зажег спичку и для защиты от ветра сунул ее в раздвинутую коробку, не заметив, что спички в коробке направлены головками вверх. Коробка вспыхнула, пламя охватило половину его бороды. В этот день курсистки напрасно ждали: их профессор сидел у цирюльника и с тех пор бороды больше не носил. О «самосожженной бороде» было много шуток[27].
А вот еще вспоминается забавный эпизод. Приходит домой Костя, ликующий, возбужденный. Великий князь Константин Константинович посетил в это утро первый кадетский корпус.
— Я с ним лично разговаривал, — объявляет Костя.
Великий князь Константин Константинович был поэтом (печатал свои стихи под инициалами K. P.), и некоторые его стихи пользовались огромной популярностью. На дворе были выстроены шеренгами все кадеты. Обходя их ряды, Великий князь остановился перед Костей.
— Шварсалон, поэт Вячеслав Иванов твой отчим?
— Так точно, Ваше Императорское Высочество.
— Ты читал его произведения?
— Так точно, Ваше Императорское Высочество.
— И понял их?
— Так точно, Ваше Императорское Высочество.
— Ну, значит, ты умнее меня, я ничего не понял.
* * *
Летом 1911 года была снята дача в Силламягах (Эстония). Дача стояла посреди чудной рощи недалеко от моря. Когда я туда приехала из Жданей (имение Аничковых), я застала на классическом дачном балконе сидящих за самоваром Вячеслава с еще неизвестным мне гостем. Это был Гершензон, который жил тоже на даче недалеко от нас и часто заходил к Вячеславу. Думаю, что это было началом их прочной дружбы. На даче было уютно и семейно. Приехала также и Матреша со своим котом Флёкиным. В поселке рядом жила целая группа москвичей, профессоров университета — помню имена историка Петрушевского и адвоката Ордынского. Все они после обеда собирались на площадке, где устраивали игру в городки. Вячеслав тоже к ним ходил и участвовал в игре[28]. Было весело, и игра затягивалась до темноты.
* * *
Наступает весна 1912 года. Мне скоро минет 16 лет. И вдруг Вячеслав ко мне обращается и приглашает к себе в комнату на башню, чтобы со мною поговорить. Мы проходим через маленькую левую боковую комнату. В ней сидит Вера и робко смотрит, как мы удаляемся. Я опять сажусь в важное черное кресло и слышу невероятные вещи.
Вячеслав и Вера любят друг друга и решили соединить свою судьбу и всю жизнь. Это не есть измена маме. Для Вячеслава Вера есть продолжение мамы, как бы дар, которые ему посылает мама. Будет ребенок. А ребенок всегда создает новую жизнь, новый свет.
Принимаю ли я то, что Вячеслав мне говорит? Если да, я буду с ними. Если для меня это неприемлемо, мне будет устроена самостоятельная жизнь: если я хочу, вместе с Марусей.
То, что я услышала, переворачивало весь внутренний мир, в котором я жила. Для Вячеслава Вера — продолжение мамы! Вот они оба, робкие, полные волнения, ждут словно приговора от какого‑то подростка. И я должна быть судьей? Принять что они говорят? Но, может быть, это будет измена матери? Я предам ее? Минута была острой… Сердце исполнилось любовью, и я решила:
— Я с вами.
Вячеслав сказал:
— Что бы ни случилось дальше в нашей жизни, я этого момента не забуду.
Мы вышли в соседнюю комнату, где ждала Вера.
— Она с нами, — сказал Вячеслав.
Несколько дней спустя мы уехали втроем — Вячеслав, Вера и я, — во Францию и поселились в Neuvecelle, около Эвиана, на озере Леман.
III. ЭВИАН. РИМ. МОСКВА
Башенный период кончился. Наступила совершенно новая пора жизни. У меня было ощущение, точно рассеялись та туча и тот морок, которые висели над нами в Петербурге даже и в радостные минуты. Точно наступило утро.
Не только мое отношение к Вячеславу стало иным, но он сам сделался совсем другим: простым, полным юмора, лирическим, беспомощным. Я долго не могла опомниться от удивления, что вот сижу за столом с совсем простым человеком, с другом, товарищем, с которым можно говорить и об умном и о всяком вздоре, который всем интересуется во всех подробностях, с которым можно даже играть. Я стала писать музыку на его стихи и одну балладу мы сочинили совместно. Я написала мелодию для первой строфы песни, спела ему и заказала стихи в форме баллады, в которых говорилось бы о лесе, волках и луне. Он обрадовался (он всегда любил, когда ему заказывали стихи) и написал «Уход царя».
Вошел, — и царь челом поник. Запел, — и пир умолк. Исчез… — «Царя позвал двойник», — Смущенный слышен толк. Догнать певца Царь шлет гонца… В долине воет волк. Царевых вежд дрема бежит; Он бродит, сам не свой: Неотразимо ворожит Напев, еще живой… Вся дебрь ясна: Стоит луна За сетью плющевой. Что вещий загадал напев, Пленительно — уныл? Кто растерзал, как лютый лев, Чем прежде счастлив был?.. В душе, без слов, Заветный зов, — А он забыл, забыл… И царь пошел на смутный зов, Тайком покинул двор. Широкошумных голосов Взманил зыбучий хор. И все родней — О ней, о ней! — Поет дремучий бор. И день угас; и в плеске волн, Где лунною игрой Спит, убаюкан, легкий челн, — Чья песнь звенит порой? Челнок плывет, Она зовет За острой той горой. На бреге том — мечта иль явь? — Чертога гость, певец: Он знает путь! — и к брегу вплавь Кидается пловец… Где омут синь, Там сеть закинь — И выловишь венец[29].Первая строфа соответствовала моей мелодии. Я пыталась сочинить музыку на остальные строфы, решив дать всей балладе форму канона, но замысел превышал мои композиторские технические возможности того времени: баллада осталась неоконченной. В то же лето я написала песню на слова Вячеслава — «Амалфея». Мы шуточно основали совместное творческое содружество с девизом: «Лапа об лапу». На нашем гербе изображался куб, называемый основой, на нем стояла лира, а по бокам два кота подавали друг другу лапы. Кот был тотемом нашей семьи[30].
Вспоминаются мне Вячеслав и Вера идущими по дороге. Они возвращаются с прогулки. Как всегда, каждый вечер — они были у Мадонны: в крошечной часовне на берегу озера. Там же бил маленький ключ. Почему‑то, глядя на них, сердце сжимается: солнце закатывается, они идут тихие, покорные, хрупкие. За них как‑то страшно, их жалко.
КАПЕЛЛА Сердце, сердце, ты мир несешь, и еще есть в тебе место, еще есть место — для Бога.Л. Зиновьева — Аннибал. «Тени Сна».
У замка, над озером, ключ и капелла Мадонны:
Туда на закате приходим с тобой богомольно. Цветы полевые вплетешь ты в решетку оконца; Испить ключевой — дотянусь до студеной криницы. На камне сидим перед славой вечернего солнца: Не больно глазам, и покорному сердцу не больно. Над ласковой гладью промчатся пугливые птицы — То чайки, то ласточки. Смолкнут недолгие звоны: То Angelus дальний… И мнится: у милой гробницы Мы побыли вновь, и родная прошла, нашептала Нам Ave — и с нею молились уста мимовольно; С улыбкой склонилась, улыбкой двоих сочетала… Но мглою прозрачной лесные подернуты склоны; Звезда разгорелась; как розовый пепел — дорога Меж темных деревьев… Обителей светлых не мало В просторе Господнем; и в сердце простора — для Бога[31].В это лето в Эвиане родился мой брат.
— А ты, какое ты хотела бы дать ему имя? — спрашивает меня Вячеслав.
— Одно из трех — Димитрий, Алексей или Александр.
— Алексей и Димитрий, понимаю. Но почему Александр?
— Мне кажется, что это имя талантливое, обещающее.
Брат был назван Димитрием.
Нас посетила в «Villa des bosquets», как назывался (и называется до сих пор) домик, где мы жили, А. Н. Чеботаревская. Она заехала по делу. Издавался роман Madame Bovary в ее переводе под редакцией Вячеслава. Когда дело шло о редакции перевода, Вячеслав обыкновенно спокойно, не желая думать о сроках, назначенных издателем, брал сначала текст оригинала, с любовью в него вчитывался, затем брал поданный ему перевод и начинал не торопясь его перечитывать, переделывать, перерабатывать во всех тонкостях, так что от первоначального текста не оставалось камня на камне. Это обычно вызывало бурные реакции переводчика и нередко кончалось серьезной ссорой. Вячеслав не обращал на это внимания: ему прежде всего важно было спасти художественное произведение.
На этот раз дело шло о стиле Флобера. Они с Александрой Николаевной засели работать вдвоем на многие часы; потом стали слышаться отчаянные крики, рыдания; из окна наверху стали вылетать какие‑то предметы. Переводчица была в ярости, и ссора разразилась, но, слава Богу, не на всю жизнь. После этого в России было много дружественных встреч, но о Мадам Бовари лучше было больше не упоминать.
* * *
В конце осени приехала Маруся. Мы переехали в Рим и поселились на Piazza del Popolo в пансионе одной англичанки, мисс Dove. Место было восхитительное, на углу via del Babuino. Некоторые окна выходили прямо на площадь, а некоторые в парк Monte Pincio.
Вячеслав был счастлив и весел в своем любимом Риме. Он много и успешно работал. Знакомых было мало. Были встречи с проезжими друзьями; но самое ценное было то, что в Риме окрепла дружба с Владимиром Францевичем Эрном. Дружба на всю жизнь, до смерти Эрна в 1917 г. Ему посвящено много стихов Вячеслава[32].
В Эрне была какая‑то доля шведской крови[33]. Он был молодой, высокий, чуть рыжевато — белокурый. Что особенно останавливало внимание, — это был замечательный цвет его глаз: такой почти неправдоподобной синевы, которая напоминала синеву полдневного южного моря. «…Друг, был твой взор такою далью синь…» — так Вячеслав обращается к Эрну в поэме «Деревья», к которой я вернусь позже, описывая нашу совместную жизнь в Красной Поляне. Эрн был родом из Тифлиса. Он рассказывал, как в студенческие годы в Москве он соединился с друзьями, такими же как и он революционерами. Они наняли сарай, где работали и спали на дощатом полу с большими щелями. Там он страшно разболелся и нажил себе хронический нефрит. Со временем его убеждения переменились, и он осуждал этот период своей молодости. Несмотря на плохое здоровье, он всегда был веселый и радостный. Он стал крупным философом, занимался много Платоном, был убежденным православным христианином[34].
Вячеслав, который его крепко любил, применил к нему в шутку поэму — «Жил на свете рыцарь бедный…» Я запомнила стихи:
По хвосту одной идеи Раз забравшись на звезду, Видел он, как в Эмпирею Нес Эрот Сковороду…(Одна из первых книг Эрна была этюд о философии Г. С. Сковороды[35].)
В Риме Эрн жил с женой — армянкой, Евгенией Давидовной Викиловой, и с трехлетней дочкой Ириной. Он был в командировке от Московского университета для подготовки своей докторской работы. Он писал книгу о Розмини и подготовлял свой труд, посвященный Джоберти[36].
В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в два являлся к нам Эрн, и начинались между ним и Вячеславом интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной темой римских разговоров была апология католичества со стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна. — «Лидия у нас стала совсем богословом», — говорили они в шутку про меня, но поскольку я их слушала молча, я возражала: «Не богослов, а богослушатель».
С Эрном я очень дружила. Позже, в Москве, я провела зимний сезон 1916–1917 с Эрнами, которые жили у нас на Зубовском бульваре и как бы совсем вошли в нашу семью. Иной раз мы говорили с ним об очень задушевных проблемах, а иной раз, к восхищению его маленькой дочки Ирины, предпринимали ярые сражения диванными подушками.
Интересное знакомство было у отца в Риме и со священником Пальмьери, ученым августинцем, влюбленным в Россию и в православие (боюсь, что тут было не без влияния Эрна). Когда уже в 1924 году мы зашли в его монастырь, то узнали, что он порвал с орденом; нам не могли или не хотели дать о нем сведений. Кажется, он примкнул к богословскому и философскому движению Модернистов — осужденному католической Церковью[37].
* * *
Первого мая 1913 года я оставила наших в Риме и уехала в сопровождении Эрнов в Москву, чтобы подготовиться к приемному экзамену в консерваторию. Позже уехала и Маруся, чтобы найти и устроить нам квартиру: было решено переехать в Москву. На лето Вячеслав и Вера остались еще в Италии, где они венчались в греческой православной церкви в Ливорно и где был крещен, во Флоренции, Дима. Старенький и трогательный священник в Ливорно, венчавший Вячеслава и Веру, был тот же самый, который в свое время венчал Вячеслава с моей матерью.
Окончательный переезд в Москву на Зубовский бульвар, 25 произошел осенью[38]. Наша квартира в Москве была меньше, чем на Башне: комнат было пять. Две выходили окнами во двор и три на Зубовский бульвар, посреди которого был широкий сквер с лужайками, скамейками и развесистыми деревьями. Вид из всех трех комнат был великолепный, т. к. квартира находилась на верхних этажах, а впереди не было высоких домов; перед нами расстилалась широкая, открытая панорама на весь город.
Первая из этих комнат служила столовой, вторая гостиной, но в обеих находилось по широкому дивану, на которых можно было спать. Последняя комната принадлежала Вячеславу. Богатая библиотека покрывала все стены ее до самого потолка. Вячеслав любил, чтобы его постель была в алькове, замаскированном занавесями и книжными шкафами. На окне были гардины, на полу ковер. Господствовал темно — красный бордовый цвет.
Москва приняла Вячеслава с тем радушием, которое ее всегда характеризовало. Мы сразу почувствовали себя дома, возникли тесные отношения со многими москвичами, с которыми нам прежде не приходилось встречаться. Мы были окружены друзьями старыми и новыми: Рачинский, Маргарита Кирилловна Морозова, Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Бердяев, Густав Шпет, Флоренский, Эрн, Скрябин, Гречанинов, Цетлин, Высоцкие, Брюсов, Метнер, Степун. Меня лично в Москве поглощало прежде всего мое ученье в консерватории. К тому же я еще поступила на частные вечерние курсы, где подготовляли желающих сдавать экстерном экзамены на аттестат зрелости.
При таких усиленных занятиях моя жизнь не сливалась с жизнью моего отца, а шла как бы параллельно. Всецело мы были соединены лишь в летние периоды, когда у меня были каникулы и мы выезжали из Москвы.
В Москве жизнь была более нормальная, нежели в Петербурге, хотя друзей было не меньше. Быть может, существование маленького ребенка создавало уже само по себе известный ритм. С нами жила милая няня Ольга Петровна из Тульской губернии, еще не старая, но степенная, всей душой принадлежащая старому укладу доброй крестьянской семьи. У нас няня мягко, но с убеждением наводила порядки в отведенном ей мирке. Я очень любила слушать рассказы про ее деревенскую жизнь. Она была вдова и очень гордилась своей дочкой Машей. «Она у меня красивая, мордастая. А когда умер муж, как она хорошо плакала! Вся деревня сходилась, чтобы слушать, как она плачет». Няня рассказывала мне также, как в деревне полагается себя вести. Этикет был сложнейший, куда сложнее наших городских правил поведения: как войти в дом, как перекреститься на иконы, как кланяться присутствующим и в каком порядке…
Неожиданные приезды друзей с чемоданами прекратились. К Вячеславу приходили друзья, но беседы с ними не назывались аудиенциями. Сам Вячеслав часто ходил в гости. Вообще все было просто и ясно. Вячеслав читал много докладов[39]. Он надевал свой старенький сюртук, который ему чрезвычайно шел — вся его фигура становилась очень элегантной. Перед лекциями ему дома готовили гоголь — моголь для укрепления голоса.
Он принимал деятельное участие в Религиозно — философском обществе и выступал там нередко. Заседания происходили в красивом особняке Маргариты Кирилловны Морозовой. Вспоминается Рачинский с окладистой седой бородой, князь Евгений Трубецкой и сама добрая Маргарита Кирилловна, высокая пышная красавица. Где‑то в этом же доме висела прекрасная, но неуютная картина Врубеля «Демон», который, казалось, вот — вот выйдет из рамы, — что было нежелательно.
Зимний сезон 1913–1914 в Москве был необычайно возбужденный и радостный. Было ли это подсознательным предчувствием, что идет последний светлый и беспечный год? Или у всех были точно завязаны глаза? Люди жадно веселились: театры, концерты, а главное балы: всем хотелось танцевать. На святках был маскарад, не помню кем организованный. У Веры опять вспыхнула театральная страсть. Она еще раз открыла мамину корзину и создала три костюма, не касаясь ножницами старых тканей: сама она оделась турчанкой, меня одела итальянской цветочницей, а мою подругу Парашу Васину — какой‑то восточной женщиной. У нас хранится фотография этого вечера. В этих же костюмах мы отправились на бал к Бердяевым несколько дней спустя.
Бердяевы — Николай Александрович, его жена Лидия Юдифовна Рапп и ее сестра Евгения Юдифовна — жили в центре города, где‑то в переулках между Арбатом и Остоженкой, в старом барском особняке. У них был чудный двусветный большой зал прекрасной архитектуры. Они любили время от времени собирать изрядное количество друзей у себя в зале и в шутку называли эти вечера «балами». Но на святках 1913–14 они пригласили друзей действительно на бал, и даже костюмированный. Было чрезвычайно весело, и мы танцевали. Но тут словно бы мимоходом прошла какая‑то туча, которую, однако, не все заметили.
В том году появился в Москве Бог знает откуда какой‑то мистик, высокий старик — швед с пышной бородой, длинными волосами, как‑то странно одетый. Он был принят у многих наших друзей. На этот раз он оказался на балу у Бердяевых. Я была слишком увлечена танцами в кружке молодежи, чтобы подходить к нему и его слушать, но знаю, о чем он говорил, со слов Лидии Юдифовны: «Вот, вы все радуетесь, встречаете Новый год. Слепые! Наступает ужасная пора. Кровавый 1914 открывает катаклизм, целый мир рушится…» И прочее в этом духе[40].
Завидев издали входящую Веру, он спросил: «Кто эта женщина?» И, получив ответ, сказал: «Какая несчастная! Какая несчастная женщина!»
Пророк? или черный ворон на празднике?
У Веры действительно было несчастье. Это была какая‑то болезнь, которая, начиная еще с отроческих лет, медленно ее мучила, подтачивала и в конце концов свела в гроб в 1920 г., когда ей только — только минуло тридцать лет. Болезнь проявлялась во все усиливающейся атонии кишек, дошедшей до паралича. Доктора не умели понять, в чем дело. Атония кишек вызывала припадки интоксикации, сначала редкие, потом все более частые и все более длительные. Вера лежала в темной комнате с жестокими головными болями, а когда припадки проходили, не знала, чем питаться, т. к. со временем все меньше и меньше оставалось вещей, которые бы ей не вредили. Она героически боролась, чтобы участвовать в общей жизни — в ее радостях и трудностях, — чтобы выработать в себе духовную силу и стать выше своей болезни. Последние 2–3 года ее жизни были мученичеством. В 1919 году обессиленный и истощенный организм сделался жертвой быстротечного процесса легочного туберкулеза.
* * *
На лето 1914 года мы поехали в «Петровское на Оке» (Костромская губерния). Там на крутом, лесистом берегу Оки находилась усадьба. В ней было четыре флигеля, которые сдавались на лето как дачи. Мы сняли один из них, Муратов другой, Балтрушайтисы третий.
ПЕТРОВСКОЕ НА ОКЕ Юргису и Марии Ивановне Балтрушайтис Колонны белые за лугом… На крыльце Поэтова жена в ванэйковском чепце, — Тень Брюгге тихого… Балкон во мгле вечерней, — Хозяйки темный взгляд, горящий суеверней, — Мужского голоса органные стихи… И запах ласковый сварившейся ухи С налимом сладостным, подарком рыболова Собрату рыбарей и сеятелей слова… Вы снова снитесь мне, приветливые сны! Я вижу, при звездах, кораллы бузины В гирляндах зелени на вечере соседской, Как ночь, торжественной, — как игры Музы, детской… И в облаке дубов, палатой вековой Покрывшем донизу наклон береговой, В мерцаньи струй речных и нежности закатной, Все тот же силуэт, художникам приятный, Прямой, с монашеской заботой на лице, Со взглядом внемлющим, в ванэйковском чепце[41].Природа вокруг была чарующая, а сама местность холмистая. Я любила рано утром забираться в лес и смотреть с высоты холма, как глубоко внизу ослепительно сияет похожая на расплавленную сталь извилистая лента Оки. На крутом обрыве раскаленного южного берега раскинулся парк, к моему ужасу полный ужей и змей, сверкающих разноцветной чешуей. По утрам мы спускались купаться с Верой и Евгенией Владимировной — женой Муратова. Она была босоножка, проделывала в купальне свою эстетическую гимнастику и за компанию обучала и нас с Верой своему искусству. Дима играл на лужайке с няней. К ним присоединялся и Никита Муратов, старший и рано умерший сын Павла Муратова.
Вечером по дорожке между нашим домом и рощей долго шагал взад и вперед Балтрушайтис. Он сочинял стихи. Дима подстерегал с балкона его появление и возвещал с восторгом:
— Дядя Тпруа! Дядя Тпруа!
«Тпруа» на его языке означало лошадь. Кто знает, не принимал ли он почтенного поэта за лошадку? Дима очень любил лошадей и радовался, когда его приводили в конюшню и показывали их в стойлах. Он просовывал руку сквозь решетку и говорил лошади:
— Здравствуй, дядя Тпруа! — а потом обижался: — Мама, почему он не хочет мне дать ручку?
Помню ясный молодой месяц на бледном, еще светлом небе. Дима указывает его няне:
— Няня! Няня!
— Это месяц, Димочка.
— Дай! Дай! Я его хочу! Дай!..
* * *
Внезапно весь этот мир поэзии и тихой радости разбивается вдребезги. Объявление войны (17 июля/1 августа) было как неожиданный грохот грома, когда молния ударяет совсем близко от вас.
Костя и Сережа отправляются на фронт. Деревни наполняются плачем. На станциях стоят готовые к отправке на фронт поезда. Солдаты голосят патриотические песни, провожающие рыдают, визжит гармошка. Общественным мнением неожиданно овладевает волна патриотизма. Как и все русские девушки, я подаю прошение на подготовительные курсы для сестер милосердия, и, как все мои сверстницы, получаю отказ — «Слишком молоды!» Мы с Марусей едем в Москву, куда начинают стекаться беженцы. К Марусе приезжают ее мать, Павла Афанасьевна, и ее сестра, Варвара Михайловна, с тремя дочерьми: они эвакуированы из Варшавы. Муж Варвары на фронте. Маруся устраивает Павлу Афанасьевну у нас в доме. Получаем известие от Сережи: он ранен и его везут в Москву. Сережа был призван как прапорщик запаса и на 5–ый день войны послан в штыковую атаку, где пуля перебила ему основной нерв бедра. Мы с Марусей ходим встречать поезда с ранеными. Поезда приходят, приходят, перед нами проносят нескончаемые вереницы носилок. После одного из таких тщетных розысков, возвратившись домой, мы находим Павлу Афанасьевну мертвой в своей постели. Через несколько дней приходит телеграмма от Сережи с обозначением дня и часа приезда. Мы его устраиваем в военном лазарете в соседнем с нами доме. К этому времени в Москву возвращаются Вячеслав и Вера с Димой.
* * *
Осень. На фронте идет война. В городе возобновляется культурная жизнь. В академических кругах огромный скандал: Владимир Эрн напечатал статью «От Канта к Круппу», где доказывает, что диалектическое развитие философии Канта неизбежно приводит к войне. Возмущение в университете неописуемое. Вся карьера Эрна была испорчена и ему грозил остракизм. Он смело продолжал стоять на своем[42].
Приблизительно в это время начинается знакомство и дружба Вячеслава со Скрябиным.
Мы оба с отцом любили Бетховена и Шуберта, любили классиков, а к новой музыке относились недружелюбно, как относятся к подозрительным иноземцам. Скрябин это почувствовал и, т. к. очень полюбил Вячеслава, захотел непременно его ввести в свой мир. Один раз вечером он к нам пришел, сел за наш старый рояль и долго нам играл отрывки из своей поэмы «Прометей», повторял их, объяснял. Мы были только втроем: Скрябин, Вячеслав и я. Когда Скрябин ушел, Вячеслав обратился ко мне и говорит:
— Ну, что же?
Я сознаюсь:
— Хорошо.
— Не правда ли?
Мы оба были смущены, а у Вячеслава было такое выражение лица, как будто ему дали отведать от запретного плода познания добра и зла.
Мы со Скрябиным часто видались и подружились также с его женой, Татьяной Федоровной Шлецер. Они жили где‑то у Арбата.
У них было трое маленьких детей: две девочки, Ариадна и Марина, и гениальный мальчик Юлиан, который впоследствии утонул[43].
На первый взгляд Скрябин со своими закрученными усами и аккуратной бородкой мог показаться элегантным, поверхностным и банальным посетителем светских салонов. Но когда он начинал говорить о своих идеях и замыслах, его глаза зажигались, он весь светился и казался легким — легким, точно возьмет, да и взлетит (что, кстати, соответствует характеру его музыки).
Вячеслав очень тесно сблизился со Скрябиным, который сообщал ему все свои замыслы, или, вернее, посвящал его в один свой великий замысел. Он считал, что его миссия — написать музыку для «Мистерии»: окончательной мистерии. Она будет исполнена всего лишь один раз, и после этого окончится Эон, в котором мы живем — этот мир кончится. Скрябин подготовлялся к этой миссии. Пока что нужно было написать «предварительное действие», которое он уже конкретно начинал осуществлять.
Он так верил во все это, что мы за него сильно опасались: что будет, когда он напишет эту музыку и дело дойдет до ее исполнения. Казалось, что Судьба решила за него и как бы пресекла его дерзновение. Было что‑то жуткое в его совсем неожиданной смерти, после немногих дней болезни, от случайного заражения крови. Он умер весною 1915 года. Ясное солнечное утро. Торжественная церковная похоронная процессия медленно двигалась, сопровождаемая толпой народа, от его дома до кладбища Новодевичьего монастыря.
Развертывалась дружбы нашей завязь Из семени, давно живого в недрах, Когда рукой Садовника внезапно Был сорван нежный цвет и пересажен (Так сердцем сокрушенным уповаю) На лучшую иного мира пажить: Двухлетний срок нам был судьбою дан. Я заходил к нему — «на огонек»; Он посещал мой дом. Ждала поэта За новый гимн высокая награда, — И помнит мой семейственный клавир Его перстов волшебные касанья. Он за руку вводил по ступеням, Как неофита жрец, меня в свой мир, Разоблачая вечные святыни Творимых им, животворящих слав. Настойчиво, смиренно, терпеливо Воспитывал пришельца посвятитель В уставе тайно действенных гармоний, В согласьи стройном новозданных сфер. А после, в долгой за полночь беседе В своей рабочей храмине, под пальмой, У верного стола, с китайцем кротким Из мрамора восточного, — где новый Свершался брак поэзии с музыкой, — О таинствах вещал он с дерзновеньем, Как въяве видящий, что я провидел Издавна, как сквозь тусклое стекло. И, что мы оба видели, казалось Свидетельством твоим утверждено; И, в чем мы прекословили друг другу, О том при встрече, верю, согласимся. Но мнилось, — все меж нас — едва начало Того, что вскоре станет совершенством. Иначе Бог судил, — и не свершилось Мной чаемое чудо — в час, когда Последняя его умолкла ласка И он забылся; я ж поцеловал Священную хладеющую руку — И вышел в ночь…[44]Большим событием этого времени было появление в печати монументального труда Флоренского — Столп и утверждение истины [45]. О нем много говорилось во всей культурной Москве. Вячеслав с Флоренским был связан старой дружбой — еще со времени, когда тот заходил на Башню, будучи молоденьким студентом — математиком. В Москве они конечно видались, но не часто, т. к. Флоренский жил в Троице — Сергиевске. На меня книга Флоренского произвела огромное впечатление — даже повлияла на мою внутреннюю жизнь. Мне было очень трудно понимать ее, но все же я одолела весь том. Флоренского лично я помню, когда мы на святках поехали с Верой говеть и остановились на несколько дней в одном из скитов посада. 23–го декабря мы, возвращаясь домой, зашли к Флоренскому. Было туманно, тепло и сыро. Домик вроде избы, вокруг садик с густыми кустарниками. Сам Флоренский в рясе, небольшой, очень худой, с бородкой, с длинными, как полагается, волосами, имел вид благообразный, тихий, напряженный, ласковый. Дом внутри бедный и очень чистый, о чем заботилась скромная, смиренная молодая жена. Вокруг много маленьких детей. На столе было блюдо из какого‑то зерна, крупного, белого (ячмень?), сваренного с медом. Флоренский угощал и объяснил, что это по старинным обычаям полагается есть накануне сочельника. Мы долго сидели, говорила Вера, я дичилась, но жадно слушала каждое слово. Флоренский нам рассказывал, как он хотел быть монахом; как старец, его духовник, ему этого не позволил, а велел сделаться «белым священником» и жениться; как он встретил на мосту, по предсказанию духовника, свою суженую[46]. Когда мы уходили, ему попались, не знаю как, рисунки, которые я набросала на полях какого‑то листа бумаги. Он взглянул и попросил их ему дать: что‑то в них его заинтересовало.
Он провожал нас. Мы шли по каким‑то дорогам, сырым и узким. Переходя через речку или канаву по деревянному мостику, я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять.
— Оставьте ее, — сказал Флоренский, — вещи с остриями опасны. Они могут быть заколдованы.
* * *
С Вячеслава многие художники писали портреты — в Петербурге, в Москве, а после и в Риме. В Москве скульптор Голубкина сделала его бюст. Работала она в своей мастерской, и Вячеслав должен был ходить к ней на сеансы. Но кроме того она часто приходила к нам просто в гости. Она была грузная; большая голова с очень крупными чертами лица низко посажена на сутулых плечах. Как часто бывает у скульпторов, когда она говорила, то выражала свои мысли с усилием. Производила впечатление чего‑то среднего между гениальностью и сумасшествием. Когда бюст был готов, его перенесли к нам в гостиную.
Среди наших частых посетителей был старичок Николай Николаевич Прейс. (Ему посвящено стихотворение «Тень Фета»[47].) Он не очень свободно двигался, и его реакции в разговоре были не совсем нормальны. Николай Николаевич был влюблен в поэзию и все время декламировал вслух стихи. Он знал наизусть целые сборники и говорил, что прежде чем заснуть, он каждую ночь тихонько читает в постели десятки и десятки стихотворений. Они были главным образом взяты из классиков, но попадались и стихи Вячеслава. Сидя у нас за столом, он то и дело чередовал чтение стихов с какой‑нибудь церковной молитвой.
Когда был поставлен в гостиной бюст Голубкиной, Николая Николаевича пригласили посмотреть на него. Он мелкими шажками подошел к нему, взглянул, издал тихий стон и начал креститься, произнося какую‑то молитву, и затем удалился поскорее обратно в столовую, где долго еще крестился.
Был ли прав Николай Николаевич, что бюст казался дьявольским наваждением? Во всяком случае, он был кошмарным, а чертами лица походил на саму Голубкину, не на Вячеслава[48].
* * *
Заходит Брюсов. Они разговаривают с Вячеславом за стаканом чая. Какие у Брюсова глаза! Огромные, красивые, лучезарные, но какие неуютные! Совсем другие, чем у его сестры, музыкантши Надежды Яковлевны, с которой я дружу. У нее глаза тоже красивые, огромные, лучистые, но они открытые, как бы зазывают на дружбу, приглашают вместе чем‑то восторгаться. У Валерия же в глазах точно, как если бы после первого, внешнего света находится оборонительная преграда, отчуждающая собеседника; преграда светлая, но из зеркального отражающего и отстраняющего материала.
Были люди, которые ненавидели Вячеслава без всякого видимого повода. Это особенно видно было на примере философа Ильина. Однажды я была этим потрясена. Мы уходили из квартиры друзей, у которых провели вечер. В передней одевались шубы, ботики, хозяева провожали. Откуда ни возьмись появился Ильин и начал вопить что‑то совершенно непонятное в сторону Вячеслава. Казалось, что у него на губах была пена, он весь извивался, как в конвульсиях. Друзья его окружили, спровадили на лестницу и куда‑то увели. Никакой внешней причины для этой ненависти не было[49].
* * *
Сережина рана долго не заживала. Нога была скрючена, нужно было разрывать сухожилия, чтобы ее выпрямить; операция не удалась и нужно было повторять ее. Сережу долго мучили, и когда наконец отпустили, одна нога была короче другой, и он всю жизнь ходил с палкой. Мы бывали у него ежедневно. Его военный лазарет был в соседнем доме. Там же была церковь, которую мы посещали; с нами ходил и Вячеслав. В церкви служил очень хороший и культурный священник, о. Воробьев. Он стал другом Вячеслава, а также целого кружка религиозных философов, которые жили на том же Зубовском бульваре, но в № 15 (а мы в № 25). Среди них особенно нам близок был С. Булгаков, тогда еще не священник, а профессор одного из высших учебных заведений. Помню его двух детей: хорошенькую девушку Марусю и подростка Федю, учившегося живописи. Когда я была тяжело больна, Булгаков дал мне Федину картину, и мне ее повесили перед постелью. Это был крымский пейзаж, и синева моря действовала на меня целебно, умиряя мои кошмары. Булгаков был одним из частых посетителей нашего дома.
* * *
Летом 1916 года мы наняли вместе с Эрнами дачу в Красной Поляне — несколько десятков верст к югу от Гагр[50]. Это был греческий поселок с несколькими дачами, построенными группой профессоров из разных университетов. Красная Поляна лежала в глубине небольшой равнины среди высоких горных стен, поросших почти непроходимыми зарослями густого леса. Среди них находились одичалые сливы, яблони, груши и черешни. На стволах — глубокие раны от когтей медведей, карабкавшихся за вкусными плодами и диким медом. Плоды были очень мелкие, но очень сладкие, и при нужде можно было бы не умереть с голода, целый год живя в лесу.
— Мама, мама! Иди скорей сюда. Тут четыре медвежонка. Они играют, — кричит Дима.
Они с няней отправились как всегда на лужайку над нашей дачей.
Протестующего Диму с няней скорей забрали домой: не дай Бог, придет мать медвежат, испугается и бросится на защиту детей. Медведей в Красной Поляне очень много. Медведь, однако, там не опасный. Он бурый, небольшой и вегетарианец. Только не нужно его пугать. Однажды монашенок, еще молодой, о. Маркел, со своей котомкой спускался по тропинке к речке; вдруг с той стороны русла ему навстречу медведь; о. Маркел так испугался, что, сам не зная, что делает, сел на землю, закрыл глаза и начал твердить молитву. Медведь удивился, остановился, постоял, затем повернулся, поднялся обратно по тропинке, которой пришел, и исчез.
В монастыре на Афоне среди русских монахов завелась группа пустынников, учивших о божественной силе имени Иисусова. Они были известны под названием «имяславцы». Почему‑то это учение не понравилось русскому правительству. Святейший Синод заявил, что это ересь, и имяславцы были изгнаны с Афона[51]. Они рассеялись по разным краям, ища себе убежища. Некоторые из них попали в Красную Поляну и стали жить в лесах отшельниками. Они располагались за много верст один от другого, и зимой были абсолютно лишены какого‑либо общения с людьми, отделенные от них глубокими и непреодолимыми снегами. Летом же посредником меж ними служил о. Маркел. Он им носил провизию для зимы — муку, крупу, свечи, спички. Деньги о. Маркел добывал продажей мелких деревянных изделий — ложек, блюдечек, разрезных ножей, которые пустынники вырезали из красивого белого дерева, напоминающего слоновую кость и прозванного в этих местах «кавказской пальмой».
Эрн чтил этих пустынников и каким‑то образом сумел посещать их[52]. Он даже однажды добился от одного из них согласия покинуть на несколько часов свою келью и почтить его и Вячеслава своим посещением. Вячеслав был очень заинтересован и обрадован таким редким и почтенным гостем. Они закрылись втроем в комнате и между ними состоялась долгая, оживленная и интимная беседа.
В неоконченной поэме «Деревья» Вячеслав вспоминал Красную Поляну:
VIII И первою мне Красная Поляна, Затворница, являет лес чинар, И диких груш, и дуба, и каштана Меж горных глав и снеговых тиар, Медведь бредет, и сеть плетет лиана В избыточной глуши. Стремится, яр, С дубравных круч, гремит поток студеный И тесноты пугается зеленой. IX Не минуло трех весен, а тебя, Вожатый мой в тайник живой Природы, Уж нет меж нас, дух орлий! Возлюбя И дебри те, и ключевые воды, Меня ты звал, мгновений не дробя, Замкнуться там на остальные годы, Дух правилом келейным оживить И, как орля, мощь крыльев обновить. X Орешники я помню вековые, Под коими мечтательный приют Мы вам нашли, Пенаты домовые, Где творческий мы вожделели труд С молитвенным соединить впервые; И верилось: к нам общины придут, И расцветут пустынным крином действа В обители духовного семейства. XI Владимир Эрн, Франциска сын, — аминь! Ты не вотще прошел в моей судьбине. Друг, был твой взор такою далью синь, Свет внутренний мерцал в прозрачной глине Так явственно, что ужасом святынь, Чей редко луч сквозит в земной долине, Я трепетал в близи твоей не раз И слезы лил внезапные из глаз.В Красной Поляне кроме Эрна почти не с кем было общаться, за исключением одного соседа — профессора киевского университета, филолога — классика Юлиана Кулаковского. Он был правый и глубоко убежденный монархист. За самоваром шли долгие политические споры.
* * *
После Красной Поляны Вячеслав, проделав двухнедельный курс лечения грязями в Мацесте (около Сочи), поселился с Верой и Димой в пансионе «Светлана» в Сочи и не возвратился на зиму в Москву, оставшись на своем любимом юге целый год, т. е. до ранней осени 1917. Я же вернулась с Марусей в Москву для своих занятий в консерватории. С нами в Москве жила семья Эрнов.
В декабре я поехала в Сочи, чтобы там провести рождественские праздники. После снежной московской зимы было радостно видеть черную землю, траву, вечно зеленые деревья, даже цветы, — но Боже мой, как человеку, попавшему на юг, приходится страдать от холода в этих легких домах с плохим отоплением! Чем южней, тем холодней! Среди пансионеров были певцы, один пианист; они устраивали музыкальные вечера. Вячеслав для забавы написал маленькую драматическую сценку, и Вера устроила спектакль. Я забыла, о чем шла речь, но было что‑то патетическое и появлялся отравленный букет цветов.
Вячеслав работал очень много в Сочи. Там написана часть «Человека», много лирических стихотворений, а также был закончен стихотворный перевод трагедий Эсхила в размере подлинника. Машинок тогда было мало, и я ему там переписала рукой перевод «Эвменид»[53].
* * *
Когда Дима подрос до трех- или четырехлетнего возраста, я начала ему сочинять приключения воображаемого негритенка, которого мы назвали Тотошкой. Тотошка встречался с крокодилами и тиграми, а раз перешел через Босфор по мосту, составленному из турок в фесках: два крайних турка зацепились за минареты, а остальные, как звенья цепи, держали друг друга за ноги. С образом Тотошки мы так породнились, что он, казалось, стал с нами жить. Постепенно появились и другие воображаемые личности: главный красильщик Петухов, квалифицированный рабочий, полный достоинства, «немец» военнопленный, влюбленный в локомотивы и мечтающий ими управлять, и т. д. Эти личности к нам приходили, с нами разговаривали; мы участвовали в их каждодневной жизни, а они в нашей.
Не знаю, как это случилось, но игра воображаемых личностей дошла и до Вячеслава, который страшно забавлялся ею. Само собой разумеется, все происходило, когда не было никого постороннего. Сидя за обеденным столом, я обыкновенно разыгрывала какую‑нибудь выдуманную персону, приходящую к Вячеславу. Естественно, что к Вячеславу приходили другие типы, чем к маленькому Диме, но по мере того, как он подрастал, они становились общими. Был художник Курлыков (я так подписывала свои шуточные рисунки), Фьоресценский, рационалист, libre penseur, человек полукультуры, недоучившийся семинарист; была старая, нетерпимая дама теософка Седмисферова; был молодой человек Пантелеймоша, модный светский лектор, который читал по несколько публичных лекций в день и заболел от перегрузки работой. Были еще и многие другие. Позже, когда мы жили в Баку и обедали всегда втроем с Вячеславом и Димой, они меня заставляли выдумывать им фельетоны — каждый день по главе. Оба мои слушателя следили за рассказом с одинаковым интересом.
Из‑за нашей привычки к воображаемым личностям вышел забавный инцидент. Вячеслав и Вера просили меня дать им телеграмму по приезде в Москву (это было после рождественских каникул). Еще нужно добавить, что я, балагуря, говорила, что отсутствие формы первого лица единственного числа настоящего времени глагола «быть» в русском обиходном разговоре неудобно, и потому я выдумала глагол «существовать быть». Вернувшись, я послала в Сочи телеграмму:
«Существую быть. Курлыков».
Через два дня явился к нам в Москву солдат.
— Здесь проживает господин Курлыков? Ему повестка от военного министерства незамедлительно явиться в цензурную комиссию.
Я страшно испугалась, за меня пошла Маруся: сидит целый синклит генералов.
— Объясните нам, что означает эта телеграмма?
Маруся была энергичная. Она заявила, что «существую быть» есть старинная, истинно русская форма, а Курлыков естественный вид подписи: просто дочь осведомляет отца, что приехала благополучно. Бедные генералы смутились и извинились. Они думали, это шифр, «а ведь, знаете, у нас война, предосторожности никогда не лишни».
Этот воображаемый мир сопровождал нас в течение всей жизни Вячеслава. Замечательно, что сам Вячеслав прямо в действии не участвовал: он был лишь зрителем или читателем; но он так любил этот мир, так интересовался им, что когда его не стало, сразу все погасло. В 1926 году мы с Димой были на даче в Олевано (горное местечко близ Рима) и решили вместо того, чтобы писать Вячеславу письма, издавать газету. Мы ее назвали «Пуля Времен — Гляс наших, открытый всему новому, НО благородному». («Гляс» — опечатка вместо «глас», но опечатки в «Пуле» принципиально не исправлялись, и «Гляс наших» печатался так в течение многих лет.) «Пуля» выходила в одном рукописном экземпляре. С беспощадным юмором ее редакторов, она была отблеском семейной и вокруг семьи разыгрывающейся злободневности.
В сотрудники мы привлекли группу воображаемых персонажей. Политические передовицы писал, не боясь громовых метафор, заядлый монархист, генерал Поедай — Жаркое; культурной частью ведал бывший семинарист Фьоресценский. Курлыков занимался иллюстрациями. Но в «Пуле» все больше и больше участвовали — сами того не подозревая — все литературные и нелитературные друзья, далекие и близкие, римские монсиньоры, а то просто наведывающиеся из разных стран посетители, модные — знакомые и незнакомые — писатели, а подчас и Римский папа.
Среди именитых сотрудников часто был и сам Вячеслав Иванов — так, по крайней мере, уверяла редакция. «Пуля» очень забавляла Вячеслава, он с нетерпением ждал ее появления и искал в ней свои апокрифные произведения.
В отделе объявлений появлялись сообщения о литературных псевдоновинках. Так, например, «Пуля», вдохновленная переводом (подлинным, на этот раз) В. Иванова из Алкея:
Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся — этот отсюда, тот
Оттуда…[54]
сообщает:
«Вячеслав Иванов наконец‑то издает свои многочисленные фрагменты из греческих классиков… Книга выходит под заглавием ”То туды, то сюды“, ввиду крайней пестроты ее содержания, в книгоиздательстве ”Буйная дурь“ Фадейкина, Олимпия 1932».
Редакция печатает примеры (псевдо) переводов Вячеслава Иванова. Из Гомера:
«В море отбросив сырую ладью, вылезали на берег. Тут жирногубым своим приказал Одиссей дальнохвостый Парням в пищу огню седомохие бросить дубины. Сам же бесстрашной рукой нанизал на копье десять сотен Грозно — клыкастых самцов с пятаку уподобленным носом Рода, а также подруг их быстро и двойно копытых. Так сидели они пожирая без отдыха пищу, Кости глотая вослед жиротечному вкусному мясу».Из «Лирических отрывков» Алкея «Пуля» дает более лаконичный пример: «— Брысь…»
В специальном номере «Пули» была напечатана обширная «Публичная исповедь супругов Эллипсов» (прозрачный намек на друга Вячеслава, символиста Эллиса, который поселился в те годы близ Локарно, в мистическом уединении). Публичной исповедью, — уверяли Эллипсы, — «мы хотим воздействовать и на других, молчаливо погибающих в пучине рутины и в тине молчания. Мы хотим создать общину публичного морального обнажения, дабы протянуть последнюю апокалиптическую нить помощи овцам, колеблющимся совлечь ветхие ризы…»
Появлялись в «Пуле» портреты Вячеслава, принадлежащие перу Курлыкова. Один из них сделан во время работы над немецкой книгой Вячеслава о Достоевском[55]. Несмотря на почтительные возражения издателя, боявшегося спугнуть читателей слишком непонятными выражениями, Вячеслав настаивал, чтобы три части книги носили подзаголовки, вдохновленные дорогим сердцу автора греческим языком: Tragodumena. Mythologumena. Theologumena.
Долгие споры об этих терминах дали богатую пищу для безграмотных редакторов «Пули».
Облик автора «Достоевского» явно напоминает кошачий тотем семьи. Рядом с Вячеславом стоит Фламинго, т. е. Ольга Александровна Шор, которую часто принимали за его племянницу. Под «снимком» пояснения редакции:
«Муки творчества. Моментальный снимок Фьоресценского с именитого поэта В. И. во время формулирования трагедодумены. Рядом с творцом мыслит его племянница на ролях секретаря».
IV. МОСКВА
Наступила февральская революция. Я почему‑то оказалась на улице: иду вдоль кремлевских стен, пробираюсь сквозь толпу. Весенний ласковый день, светит солнце. И тут странное явление: конечно, в церковные колокола никто не бил, но у меня осталось яркое воспоминание о пасхальном перезвоне всех московских колоколен. Встречные все смотрят друг на друга, как на родных, многие целуются. Упал старый режим, точно тяжелая свинцовая крепость по чудесному мановению растаяла — исчезла. Как карточный домик. Бескровная революция.
Попадаю, наконец, домой и бросаюсь делиться радостью с Эрном. Не знаю, выходил ли он из дому в тот день. Он не хочет меня разочаровывать, но я чувствую, что он как‑то недоверчиво относится к событию. А может быть, уже начиналась его болезнь и бросала тень на его жизнь.
Эрн действительно заболевает. Его хронический нефрит принимает неожиданно острую форму, и после недолгой, но очень мучительной болезни, он умирает. Перед смертью к нему приезжал Флоренский. Похоронная процессия благообразно проводила гроб в Новодевичий монастырь под пение «Христос Воскресе».
Для меня это было большое горе.
К этому событию относится стихотворение Вячеслава «Скорбный рассказ», помещенное рядом с «Оправданные», одно из стихотворений, посвященных Эрну. Оно описывает, как я рассказывала про смерть Эрна Вячеславу и Вере, после приезда к ним на каникулы в Сочи, когда мы сидели на берегу моря на скалах у самой воды.
* * *
Хотя ход истории начал омрачаться и в стране уже появились первые признаки развала, жизнь еще шла нормально. Все вернулись в Москву сравнительно рано. Вера и Вячеслав даже опередили общий приезд — мы остались на недолгое время с Марусей и Димой для перевозки вещей. Наш переезд произошел не без волнения. Только что провели железную дорогу между Туапсэ и Сочи (до того эти города соединялись моторной лодкой или автомобилем). Осложнялось дело тем, что железная дорога была готова лишь до Лазаревки, но т. к. по контракту она должна была быть проведена до Сочи, то отрезок пути от Лазаревки до Сочи был выполнен только по видимости: когда курица ходила по шпалам, рельсы дрожали и норовили сдвинуться. Поэтому от Сочи до Лазаревки (около 15 верст) мы ехали с шести утра до семи вечера.
Официальных билетов нам не дали, а разрешили на свой страх поместиться с багажом на платформе товарного вагона. На этой платформе мы провели ночь в Лазаревке, перед тем, как поезд двинулся дальше. Но какие звезды над головой! Какой пейзаж! Это место, где главные цепи Кавказа подходят к морю совсем близко, как бы бросаются в него.
* * *
Лозунг Керенского «Война до победного конца и мир без аннексий и контрибуций по самоопределению народов» — не смог спасти фронта, который стал разлагаться. Разлагался медленно и порядок в тылу. В среде интеллигенции, однако, еще было много оптимизма. Еще верили в созидающуюся светлую свободную родину. Вячеслав напечатал тогда несколько патриотических стихотворений:
ВПЕРЕД, НАРОД СВОБОДНЫЙ Пока грозит свободе враг, И не шумит народный стяг Над всей землей народной, — И грохот пушек не умолк, Сомкнись, народ, в единый полк! На брань, народ свободный! Свобода — честь, свобода — долг, Свобода — подвиг славный, Свобода — труд державный. Доколе попран твой очаг И братский не алеет флаг На вражеской твердыне, Пока сосед соседу волк, Сомкнись, народ, в единый полк, Вокруг своей святыни! Свобода — честь, свобода — долг, Свобода — подвиг славный, Свобода — труд державный. Вперед идя, за шагом шаг, Будь верен первой из присяг: Пока не сыт голодный И с братом брат как с волком — волк, — Твоя свобода — праздный толк. Вперед, народ свободный! Свобода — честь, свобода — долг, Свобода — подвиг славный, Свобода — труд державный.10 мая 1917 г.
Боже, спаси Свет на Руси, Правду Твою В нас вознеси, Солнце любви Миру яви, И к бытию Русь обнови! Боже, веди Вольный народ К той из свобод, Что впереди Светит земле Кормчей звездой! Будь рулевой На корабле![56]Решено было создать новый гимн России. Сочиняли Вячеслав и Бальмонт[57]. А. Т. Гречанинов с энтузиазмом написал музыку к гимну Бальмонта:
Да здравствует Россия Свободная страна! Свободная стихия Великим суждена.Музыка была легкая и сходившиеся друзья подпевали. Устраивались концерты. Ходили в гости. Мы дружили в ту эпоху с Кокошкиными.
Мое школьное гимназическое учение уже второй год как было окончено. Я была уже на третьем курсе консерватории по классу фортепиано у профессора А. Б. Гольденвейзера. Занятия становились все интересней.
* * *
Октябрьская революция грянула, как гром на голову. Наш дом оказался на линии фронта. В Москве сражение длилось шесть дней. Гремели пушки; нам говорили, что стреляют с Воробьевых гор в центр, — значит, снаряды пролетали над нами. Но по улицам тоже шла непрерывная стрельба из ружей и пулеметов. Обыватели сидели дома, нельзя было проскользнуть на площадь за хлебом или молоком. Прямо против наших окон, из которых был широкий обзор, пылал огромный пожар. Ночью адское зарево охватывало полнеба. Это горели строения, в которых между прочим помещалось и книгоиздательство Сабашникова. Там в типографии испепелялись все экземпляры только что напечатанной книги Вячеслава «Эллинская религия страдающего бога». К счастью, у Вячеслава остался его корректурный экземпляр.
У меня впечатление, что пожар не угасал три дня.
Под вечер одного из этих дней в нашу квартиру начали стрелять. Одна пуля пробила окно комнаты для прислуги. Почти одновременно зазвонили и застучали в дверь, ворвалась группа красноармейцев, может быть, пьяных, а может быть, просто вне себя, как бывает во время сражений.
— От вас стреляли из окна. Выдавайте оружие. К ним вышел Вячеслав, совершенно спокойный.
— От нас не стреляли, мы не имеем оружия.
— Это мы сейчас увидим.
Они ворвались вслед за Вячеславом в его библиотеку.
— Обыщите, — говорит Вячеслав.
— Кто же это может такую комнату обыскать. Идите с нами вниз, там объяснимся.
Вячеслав согласился: — Идем, — и начал надевать шубу. Но что‑то в его спокойствии — голос, может быть, какая — то духовная сила, — подействовало на них. Они вдруг как‑то осели, почти смутились.
— Не надо, не надо, товарищ. Это недоразумение.
И ушли.
Помню наш испуг, а потом радость избавления. Ведь в эту черную смутную ночь, когда царил полный хаос, если бы они увели Вячеслава, вряд ли мы бы его больше увидели. Я почувствовала уважение к его внутренней силе. Кстати, опасность была еще в том, что в ящике письменного стола лежал старинный зиновьевский револьвер; из слоновой кости, но все же револьвер[58]. Маруся его туда сунула пока что, не зная, что с ним делать, т. к. было повелено всем, кто имеет оружие, сдать его. Вячеслав, однако, этого не знал.
Никто не был осведомлен о том, что происходит. Соседи встречались и друг другу объясняли:
— Это большевики забирают власть.
— А что это за артиллерия?
— Это союзники с Воробьевых гор. Они нас освободят.
— Но вот что‑то не ладится.
— Неважно. Если большевики и заберут власть, то это будет на месяц, максимум на два.
Сражение кончилось. Победили большевики. По улицам стало возможно ходить.
Мы на семейном совете решили револьвер у себя не держать и его уничтожить, чтобы из него никто никого не мог бы убить. Мы пошли для этого с Верой к Москве — реке, как если бы для прогулки, а револьвер завернули в белый пакетик из кондитерской и перевязали цветной ленточкой. Он был небольшой, но тяжелый. Подойдя к воде и улучив момент, когда, как нам показалось, не было вокруг ни души, мы размахнулись и бросили револьвер подальше. Не успел он удариться об воду, как лодка с тремя матросами огибает луку реки.
— Что это вы бросили?
Пакет наш исчез под водой.
— Ничего. Это мы бутерброды ели и бросили бумагу.
И тут вдруг, к нашему ужасу, происходит что‑то дьявольское: наш тяжелый револьвер всплывает на поверхность воды, матросы сразу подплывают, чтобы словить его веслом. Мы поражены и испуганы столь сверхъестественным явлением. Но все хорошо кончилось: весло хлопнуло по пустой бумаге, наш зиновьевский револьвер, пробуравив в ней дырку, пошел ко дну. Где‑то он теперь? Жизнь стала быстро ухудшаться. Продовольствие исчезало. Стало все труднее отапливать дома. К соседям, живущим против нашей квартиры, приехала родственница, старушка — скелет. Не знаю, из какой губернии, очевидно, где уже был настоящий голод. Она недолго болела — организм не поддавался леченью. После ее смерти мы ходили к соседям на панихиду. Он лежала: кости, обтянутые кожей, желтая под желтым светом свечей.
Отголодавшая старуха, Под белым саваном лежу. Священник, фимиамом Духа Над желтой мумией кажу. И свечку, чуженин захожий, В перстах рассеянных держу; На кости под иссохшей кожей В недоумении гляжу. Но «Память Вечная» пропета. Черед — Забвенью… За межу Троих зовет тройная Лета, — И малый дом свой нахожу.Димина няня уехала к себе в деревню и трогательно несколько раз посылала нам «гостинцы» — главным образом пшенную крупу, которая долгое время составляла основу пищи. Голод надвигался постепенно, но неукоснительно. (У нас‑то он прекратился с выдачей «академического пайка» в 1920 году.) Одно лето появился на рынке сом, потом без конца сушеная вобла. Коровье масло исчезло, затем разные сорта постных масел. Когда они тоже пропали, вдруг появилось недели на две масло — какао, затем рыбий жир и даже касторка, на которой жарилась картошка. Когда я ходила на службу по утрам в 1919 году, помню, что на улице сидела баба и я пила у нее кружку молока; на обед я носила в пакетике несколько вареных картошек. Паек хлеба был тогда 1/4 фунта на два дня. Хлеб и картошку нужно было добывать у мешочников, так называемых спекулянтов, которые провозили в Москву мешки муки и картошки контрабандой с опасностью для жизни. Возили на переполненных поездах, где многие из них находили себе место только на крышах вагонов.
Отопление в нашем доме уже совсем прекратилось. Маруся стала слабеть, тело ее опухло; от слабости предметы начали падать у нее из рук. По совету докторов, ее поместили в больницу, где было тепло и кормили более сносно. Мы стали хлопотать о переводе на другую квартиру, т. к. в нашей начали лопаться от мороза водопроводные трубы. Вячеславу отвели полквартиры в б. Афанасьевском пер., куда мы и переехали. Квартира была меблирована и кем‑то покинута; нам дали в ней три комнаты и общую с соседями кухню. Это был, если не ошибаюсь, 1918, и квартира одну зиму была теплая. На следующий год отопления уже не было и в ней. По углам комнат виднелся иней, трубы лопнули. Маруся телефонировала, что ей в больнице голодно. К ранней весне 1919 года она заразилась там сыпным тифом (была сильнейшая эпидемия) и умерла. Мы похоронили ее на Новодевичьем кладбище, близко от Эрна. Гроб был из деревянных досок со щелями.
Вера все больше и больше страдала от своей гастрической болезни. Пища, которой мы питались, была для нее непереносима. Нужно было ходить на рынок у Сухаревой башни, чтобы продать там старую одежду и на вырученные деньги купить немного белой муки или манной крупы, если такая находилась под полой мешочника.
Вячеслав переживал все лишения стоически, ни на что не жаловался, переносил спокойно все неизбежные болезненные вспышки нервов у домашних и продолжал свои мысли и свои занятия.
* * *
В 1918 году я решила, что нужно мне найти заработок, чтобы помогать семье. Я заявила Вячеславу:
— Я хочу поступить на службу к большевикам.
Вячеслав не удивился.
— Ах да? Я слышал, что в Наркомпросе есть музыкальный отдел и во главе Артур Лурье. Это тот молодой человек, который ко мне приходил показывать свои стихи на Башню. Я тебе дам к нему письмо.
Не без великого страха я отправилась в здание бывшей Первой мужской классической гимназии, той самой, где в свое время учился мой отец. Это было у Пречистенских ворот, на углу Гоголевского бульвара. Я подала письмо, и Лурье меня сразу принял. Он был изысканно любезен, с утонченными манерами. Мое внимание приковывали его белые холеные руки с драгоценными кольцами. Он меня спросил, машинистка ли я. Я этого термина не знала и решила, что мне предлагают орудовать огромными рычагами какой‑нибудь машины. Я вспомнила пароходы на женевском озере, где виден машинист с голым торсом, освещенный красным пламенем и управляющий огромными стальными колесами.
— Нет, я не машинистка.
Мы поговорили, и я выбрала библиотечный отдел. В библиотечном отделе, кроме меня, никого еще не было.
Меня повели в проходную темную комнату и поручили маленький шкап, наполненный нотами, по всей вероятности, оставленными каким‑нибудь уехавшим любителем музыки: кое‑что для фортепьяно, кое‑что для пения.
— Можете составить каталог.
Мне не пришлось составлять каталога (да я не имела ни малейшего представления, как это делается), т. к. через мою комнату проходила Надежда Яковлевна Брюсова. Сначала она меня просила переписывать ей русские народные песни — «Мы издаем новый сборник». Потом постепенно, рассказывая со страстью о своей работе в школьном отделе, она переманила меня к себе. У нее было весело. Наша небольшая группа сотрудников состояла из нескольких учениц, музыкально очень малограмотных, но ярых поклонниц Надежды Яковлевны. Их объединение походило на фанатическую секту. К ним присоединилась я. (О страх! О ужас! Консерваторка, то, что они презирали и чего боялись больше всего.) К тому же я привлекла еще двух своих подруг, тоже из консерватории. Мы все одинаково интересовались нашей работой и жили в полной дружбе — a happy family. Наше творчество, как тогда говорилось, было рассчитано не на всероссийский, а на всемирный масштаб. Нужно было добиться, чтобы все дети с колыбели распевали «правильные» старинные русские песни; чтобы в школах они их изучали, любили; а после школы, уже будучи взрослыми, собирались бы по вечерам, пели их хором и вели о них дискуссии. К народным песням мы присоединяли еще и оперную музыку, преимущественно русских авторов. Сверх того, мы приготовляли еще инструкторов, умеющих все это осуществлять, а также знакомить людей с инструментальной классической музыкой на курсах так называемого «Слушания музыки». Нас было 3–4 инструктора. Меня как‑то послали в Пресненский район читать лекцию. Слушали меня голодные, пожилые, опытные и ничем не интересующиеся школьные учителя музыки. Мне было неловко их поучать, но меня утешало, что я излагаю не свои мысли, а идеи Брюсовой; причем идеи Брюсовой были наполовину ее, а наполовину Яворского, с которым у нее была всю жизнь романтическая дружба.
Идеи Яворского были необычайно оригинальны и талантливы, и сильно меня увлекали. С ним лично я не встречалась: он жил в Киеве. Инструкторов также заставляли давать в школах показательные уроки. К великому страху моему, мои слушатели на Пресне заявили, что придут на мои уроки поучиться, но, к моему большому облегчению, они этого не осуществили.
С двумя моими подругами — инструкторами мы решили под прикрытием уроков хорового пения преподавать детям религию. После первого урока мы встретились. Первая моя приятельница, Вера, имела какой‑то магнетический дар: ученики после урока отказались от игры на перемене и следовали за ней, как в сказке о волшебном флейтисте. У Нади урок прошел гладко: все всё спели без скуки, но и без особого интереса.
У меня же было полное фиаско. Мне не удалось собрать детей вокруг рояля (мне отвели эстраду маленького зала), никакого хора не состоялось, а когда я встала и вышла из зала, у меня оказался прикреплен сзади бумажный хвост.
В эти переходные годы школы были в хаотическом состоянии. Учителям было указано дать детям полную свободу. Детей же поощряли к слежке за учителями и писанию доносов. Школа, куда нас послали, была создана через объединение женского института благородных девиц с мужской школой какого‑то самого низкого ранга.
Особенный беспорядок царил в «Показательной школе Наркомпроса». Там дети каждый понедельник свободно избирали себе группу, в которую их записывали, и несчастные учителя каждую неделю видели перед собой новые лица. Это называлось тогда «текучими группами»[59].
Вскоре после моего поступления на службу в музыкальный отдел приехали к Вячеславу представители из Театрального Отдела, чтобы пригласить его работать с ними. Вячеслав согласился[60], а вслед за ним поступила на службу по «Охране памятников искусства» и Вера. В то время почти все были на какой‑то службе. Случалось, что людей, не зачисленных ни в какое учреждение, посылали на тяжелые работы.
Не всем удавалось работать по специальности. Так, например, Евгения Юдифовна Рапп, belle‑soeur Бердяева, была принята в Центроспичку. Когда Бердяевых высылали за границу, Центроспичка не хотела отпускать Евгению Юдифовну, заявляя, что она у них «незаменимый работник».
Наша служба в Наркомпросе мне вспоминается как отрадный оазис, где соединяешься с друзьями, вырабатываешь какие‑то светлые утопии во всемирном масштабе и забываешь на время кошмар, тебя окружающий. Город был мрачный, точно из него бежало население. Кое — где виднелась пустая лавка кооператива с листочком на витрине — списком вещей, которые продаются: «гуталин, перец». Все магазины были закрыты, обыкновенно грубо заколочены досками. По вечерам улицы походили на кладбище. Перед окнами Музыкального отдела, на нынешней площади Кропоткина, долго лежал труп павшей от голода лошади. Никто не убирал его, и труп исчезал лишь постепенно, пока его сгрызали собаки. Свирепствовала эпидемия сыпного тифа. Из‑за лопнувших водопроводов везде в домах была невероятная грязь — клопы, тараканы, вши.
Я не помню в эти годы больших собраний друзей. Бывали лишь интимные встречи. Вячеслав часто ходил по соседству к Гершензону. Как‑то раз, вернувшись домой, он рассказывал с одушевлением, какой Гершензон аскет. На стол были поданы скромные угощения, но хозяин за весь вечер медленно, с уважением и почти благоговейно скушал только одну луковицу. С уважением и благоговением относился Михаил Осипович и к предметам. Я помню, как он при мне раз указал на простой деревянный некрашенный стол и начал нам говорить, сколько творчества, сколько работы понадобилось людям, чтобы создать эту кажущуюся простой обиходную вещь. Он показывал с любовью на форму стола, на его ножки, полировку, ящик. Это уважение к предметам, к творчеству и труду, в них вложенным, мне передалось на всю жизнь.
Если не ошибаюсь, именно в тот период, когда начались гонения на Церковь, Булгаков был посвящен в священники[61]. Перешел в католичество и был рукоположен также О. Абрикосов. Он создал маленькую католическую общину, к которой привлек и жену Бердяева, Лидию Юдифовну[62]. Сам о. Абрикосов, по свойству своего характера, склонного к фанатизму, вел тогда жизнь до крайности аскетическую.
Где‑то под Москвой находилась образцовая школа с общежитием для маленьких детей. Они учились, играли на свежем воздухе, имели весьма привилегированное питание, медицинский контроль, спорт и т. д. Вере не хотелось расставаться с сыном, но т. к. при совсем исключительных обстоятельствах удалось получить для Димы место в этой школе, он был туда помещен. Верин инстинкт был правильным: через пять дней Дима заразился скарлатиной, давшей как осложнение воспаление легких.
Вера (это была осень 1919 года) была уже в совсем плохом состоянии, и они оба, Вера с Димой, были приняты в санаторий «Габай» в Серебряном Бору[63].
На некоторое время мы остались с Вячеславом вдвоем. Как‑то пришел к Вячеславу один из его друзей (не помню имени), кажется, религиозный православный философ. Пришел вечером, засиделся, и мы его оставили переночевать. Он утром куда‑то спешно уезжал. Через несколько дней в два часа ночи стучат в дом:
— Открывайте, вставайте, одевайтесь! — Это была ЧК.
Я спала одетая, как днем, в шубе и под грудой всего теплого, что только могла найти. Помню себя такой отупевшей от холода и всей этой жизни вообще, что ощутила лишь животную муку — необходимость вылезти из своей теплой норки в ледяную комнату. А в голове одна мысль: «Если теперь арестуют Вячеслава, нужно будет идти вслед за ним по морозу куда‑то далеко по улицам». В мою комнату открыли дверь, заглянули, но не вошли, пошли к Вячеславу. Затем начальник группы отослал всех в переднюю и стал долго разговаривать с Вячеславом. Он мне на следующий день рассказал, что сразу не мог понять, что тому было нужно; чекист говорил о том о сем и наконец, как бы случайно, спросил, не был ли тут NN ночью и куда он уехал. Вячеслав объявил, что не знает куда. Затем начальник попросил Вячеслава уйти из комнаты и стал докладывать «кому нужно» что‑то по телефону. После этого он вежливо извинился, сказал, что это недоразумение, и они все уехали прочь. Вся Москва тогда жила под страхом таких ночных визитов: они часто оканчивались не так благополучно.
Позже мы узнали, что нашему другу удалось благополучно бежать за границу.
В это время Вячеслав завел большую дружбу с Дегтеревским, который ему организовал целый курс лекций по Достоевскому, а затем и по Пушкину.
Перед Рождеством я отправилась в Серебряный Бор проведать Веру с Димой, и Дегтеревский взял на себя хлопоты кормить Вячеслава. Путь был нелегкий. Я присоединилась к каким‑то людям, ехавшим на розвальнях в направлении Серебряного Бора. Меня ссадили на перекрестке узкой дороги с двумя глубоко врывшимися в снег колеями.
— Идите по колее до самого леса, видите там, вдали? В лесу будет широкая дорога, потом недалеко, повернете по тропинке и выйдете прямо к санаторию.
По полю идти было мучение: либо в узкой глубиной в1/2 метра колее, либо спотыкаться в снегу. Вокруг ни души. Темнело, и отражение снега слепило глаза. Дорога через покрытый инеем как бы завороженный лес была восхитительна. Никакого поворота я не нашла, доплелась до какой‑то избы и постучала. Добрая одинокая женщина приютила, даже угостила чем‑то, что имела, и положила спать на теплую печь. Было бы совсем хорошо, если бы не клопы. Впрочем, в те годы и в городе было мало квартир, где их не было.
Рано утром я пришла в санаторий и застала Веру с Димой больными в постелях. У Димы после скарлатины воспаление легких, у Веры начало быстротечного туберкулезного процесса. Не прошло и двух дней, как в комнату внесли постель и для меня, т. к. у меня начался острый бронхит с температурой. Все москвичи, попадавшие из своих ледяных квартир в тепло отопленный Серебряный Бор, сразу заболевали. На Рождество к нам заехал Вячеслав. К этому Рождеству 1919 года относятся его зимние Сонеты[64]. По ним и по фотографиям того времени можно догадаться, какой ад у него был тогда на душе. Внешне он был все тот же спокойный и открытый для всех.
Зима души. Косым издалека Ее лучом живое солнце греет, Она ж в немых сугробах цепенеет, И ей поет метелицей тоска. Охапку дров свалив у камелька, Вари пшено, и час тебе довлеет; Потом усни, как все дремой коснеет… Ах, вечности могила глубока! Оледенел ключ влаги животворной, Застыл родник текучего огня. О, не ищи под саваном меня! Свой гроб влачит двойник мой, раб покорный, Я ж, истинный, плотскому изменя, Творю вдали свой храм нерукотворный[65].В санатории одновременно с нами был немецкий поэт Groeger[66]. Он часто заходил к нам в комнату и долго беседовал с Верой. Меня же интересовал другой больной санатория. Это был профессор Георгий Конюс, музыковед. Видя мою страсть к теоретической части музыкальной композиции, он часами мне показывал за роялем свои исследования музыкальных форм, которые он готовил к печати, и рисовал мне составленные им интереснейшие схемы.
Все возможные продления санаторных сроков были использованы, и Вере с Димой пришлось уехать в город. Меня оставили еще на несколько дней, т. к. у меня тоже начался процесс в верхушках легких. У кого же его не было в эту эпоху?
В начале 1920 года, благодаря покровительству Луначарского, были выданы командировки за границу Бальмонту, Вячеславу и другим. Наш случай был особенно исключительным, т. к. командировки с семьей обычно не давали. Все было уже организовано и даже назначен день отъезда, кажется, в мае месяце. Вера и все мы мечтали об отъезде в Швейцарию, в Давос. Мы верили, что там она сможет вылечиться от легочного процесса.
Я была на последнем курсе по фортепьяно в консерватории. Гольденвейзер дружески меня уговорил досрочно держать выпускной экзамен, чтобы перед отъездом снабдить меня дипломом. Я работала с утра до вечера. Мы наняли комнату на даче, где‑то под Москвой, в имении «Голубое», чтобы Вера с Димой пока могли там жить на хорошем воздухе.
В июне, после окончания консерватории, и я туда поехала. К этому времени относится Переписка из двух углов между Вячеславом и Гершензоном[67]. Они оба получили разрешение провести шесть недель в Доме отдыха для литераторов под Москвой, и им отвели одну общую комнату.
Когда Луначарский выхлопатывал командировки Бальмонту и Вячеславу, он попросил их дать ему лично честное слово, что они, попав за границу, хотя бы в первые один или два года не будут выступать открыто против Советской власти. Он за них ручался. Они оба дали это слово. Но Бальмонт, который выехал первым, как только попал в Ревель, резко выступил против Советской России. В результате этого выступления Бальмонта командировка Вячеслава была аннулирована. Помню трагическое лицо Веры в окне поезда (она ехала в Голубое), когда она узнала эту весть.
— Это смертный приговор[68].
Последняя ее надежда на выздоровление в Давосе рушилась.
Мой выпускной экзамен в Малом зале консерватории не был праздником. Была на нем с Вячеславом и Димой также и Вера — но в каком состоянии!
Вера скончалась 8–го августа 1920 года, в клинике Московского университета. 6 августа ей минуло тридцать лет. Она была похоронена рядом с Марусей и близко от Эрна на кладбище Новодевичьего монастыря.
После смерти Веры на Вячеслава напал ужас от мысли оставаться еще другую зиму в Москве. Он попросил на службе командировку, раз нельзя в Италию, то куда угодно на юг, где не нужно будет больше видеть снега, где все другое[69].
Чтобы дать ему отдохнуть, его послали пока что вместе с семьей (Дима и я) на шесть недель в санаторий в Кисловодск и даже устроили ему удобное путешествие в первом классе какого‑то привилегированного поезда. Мы выехали очень скоро после смерти Веры — еще в августе, после одной из панихид по ней. Я уложила какие‑то вещи (по неопытности много лишнего) и мы оставили Москву, покидая навсегда все остальное: библиотеку, рукописи, письма.
Путешествие в Кисловодск было не лишено осложнений. В то время на юге бушевал «Батька Махно», командовавший вооруженными шайками, которые грабили поезда, убивали людей, нападали на села, угрожали даже Харькову, через который мы должны были ехать. Наш поезд был отправлен куда‑то далеко в сторону и остановился. Был вечер. Из окна слышался жалобный звук кларнета — кто‑то упорно разучивал все тот же пассаж.
— Где мы?
— Синельниково.
Станция находилась, по — видимому, на скрещении железнодорожных линий: стояло несколько поездов. Один был военный — тот, где солдат упражнялся на кларнете. Мы улеглись спать. Ночью просыпаемся, поезд все еще стоит, играет кларнет.
— Где мы?
— Синельниково.
Утром просыпаемся — то же самое. Думаю, что когда мы наконец получили известие, что под Харьковом все благополучно, солдат прекрасно разучил свой пассаж. Поезд двинулся и, описав большой крюк, благополучно попал на путь к Кисловодску.
* * *
В Кисловодске жизнь текла мирно до известного дня, когда вдруг с раннего утра послышалась канонада. Сначала слабая, далекая; потом все громче. В зале санатория появилось объявление, приказывающее всем партийным больным незамедлительно приготовить багаж и спуститься на вокзал к такому‑то поезду.
— В чем дело?
— Зеленые идут на Кисловодск. Они уже близко. Если увидят коммуниста, беда. Режут.
В полчаса санаторий оказался пустым. Выяснилось, что все были партийные, кроме нас. Мы остались втроем в пустом здании. Канонада усиливалась. Было жутко: если явятся «зеленые», докажи, что ты не верблюд. Вечером мы легли спать. На следующее утро канонады больше не было, и все больные вернулись обратно в санаторий.
— Их отбили.
— А кто эти «зеленые»?
Ответ был неясный:
— Какие‑то кавказские племена.
Вскоре нам объявили, что кисловодский санаторий ликвидируется. Всем больным было предложено написать, куда они желают быть отправленными. Выбор был между Москвой, двумя городами центральной России и Баку. Баку? Вячеслав стал осведомляться. Баку — это юг, он южнее даже Неаполя.
— Что вы? — говорили знакомые. — Баку — это дикий нефтеиндустриальный город. Раз в месяц одно из племен там режет другое. Воды нет, пьют морскую, опресненную. Воздух черный от копоти нефти, а когда дует ветер «норд», то он срывает вывески магазинов, и они летают над городом.
Были и защитники.
— Нет, это все у вас устаревшие сведения. Вода в Баку проведена. Правда, недавно тюрки вырезали почти все армянское население, но это дело прошлое. Сейчас спокойно. А главное, с тех пор, как сделали «парапет», город преобразился.
Вячеслав неустрашимо выбрал Баку. Юг, да и граница близка. Кто знает, не удастся ли перебраться через нее, а потом окольным путем в Италию? В назначенный день приехал санитарный поезд № 14, на котором нам были отведены три плацкарты. Вагоны были все III класса. Посередине каждого вагона стояла железная печка, на которой пассажиры варили себе в общем котле пшенную кашу и кипятили воду для чая. Когда нужно было топливо для печки, поезд любезно останавливали и пассажиры забирали дрова, заготовленные вдоль полотна. Путешествие до Баку длилось девять дней. Осложнение было в том, что наш поезд то и дело встречался с другим, на котором должен был ехать какой‑нибудь важный комиссар, оставшийся почему‑то без паровоза. Комиссар забирал себе наш паровоз, а мы стояли в ожидании: авось судьба нам пошлет другой. Все станции и железнодорожные здания вдоль нашей дороги были сожжены. Люди куда‑то попрятались. Мы ехали по прекрасной пустыне мимо немногих обгорелых покинутых строений.
В одном месте, где вдали виднелся аул, пассажиры попросили начальника поезда остановиться близ маленькой станции, где еще сидел одинокий телеграфист. Пассажирам очень захотелось найти в ауле сала, яиц или сыра, вообще чего‑нибудь необыкновенно вкусного. Целая компания двинулась к аулу. Вячеслав остался в поезде, а мы с Димой отправились в сопровождении молодого галичанина, студента (единственного, кроме нас, беспартийного пассажира). Мы как‑то оказались в стороне от других. В ауле нам удалось найти одного старика, который нам рассказал, что тут население восстало («зеленые?»); потом была красноармейская карательная экспедиция, все было отобрано, люди разбежались, в ауле нет корки хлеба. Добрый старик дал нам кусок арбуза, и мы отправились обратно. Каков же был наш ужас, когда, выйдя из аула, мы увидели вдали наш поезд, который пустил дымок и сначала тихо, а потом набавляя ход, укатил вдоль долины, повернул и скрылся.
Мы дошли до станции и обратились к телеграфисту. Тот вошел в контакт с соседней станцией:
— Терек, чертова кукла, это ты?
После переговоров со станцией Терек он сообщил, что № 14 теперь поедет до Тепловодной, а затем без остановок до Баку. В Тепловодной есть паровоз. Здесь поезда никакого не будет.
— А вот если пройдете пешком по линии, то верст через шесть будет скрещение, с другой линией, где ожидается товарный поезд: он, может быть, довезет вас до станции Тепловодная. Там, быть может, вы еще застанете № 14.
Было невесело оказаться одним среди враждебного населения. Темнело. Мы пошли по мокрым шпалам. Дима смело шел (ему было восемь лет). Потом устал, и наш милый спутник взял его себе на спину. Никакого товарного поезда мы не встретили и продолжали путь пешком, уже в полной темноте, в страхе, что из‑за спины вдруг нагрянет локомотив.
Мы наконец дошли до Тепловодной, большой станции, где стояло много поездов, главным образом перевозящих нефть. Идем мимо красноармейцев, играющих на гармошке.
— Где тут санитарный поезд № 14?
— А он только что ушел.
Через несколько шагов мы открыли, что дурак — красноармеец, который с нами говорил, сам сидел на № 14.
Больше всех настрадался за этот день Вячеслав; ему казалось, что теперь он потерял и детей. Когда он увидел, что нас нет, он устроил страшный скандал начальнику поезда; благодаря этому, поезд и остановился надолго в Тепловодной. В тот же вечер, когда мы пришли, праздновалась годовщина октябрьской революции. В поезде № 14 оказался агитвагон, где стояло пианино. Всех пригласили на вечеринку, скромно угостили, пели хором под мой аккомпанемент; дочка тов. Каплана, одного из спутников, играла на рояле «Жаворонка» Глинки. Потом все разошлись, и мы вернулись спать в наш вагон, стоявший между двумя нефтяными цистернами.
V. БАКУ
На девятый день поезд № 14 доехал до Баку. Все пассажиры из него вышли, кроме нас: нам некуда была направиться. Вячеслав пошел взглянуть на город и вдруг встретился с Городецким. Оказалось, что он с семьей живет в Баку, что он вступил в партию, что он организовал стенную газету (новинка для этих мест), которую он составляет и издает. Жилища в городе найти было невозможно, но на первые дни он нас поместил в темную проходную комнату какой‑то квартиры, набитой многочисленными семьями. Наш багаж был втащен, и нам разрешили тут же спать на полу. Я вынула из сундуков, что можно было, чтобы смягчить ложе Вячеславу. Помню ноги шагающих через нас людей, когда мы лежали. В Баку торговля была — о радость! — еще свободная. Можно было купить чаю, колбасы, хлеба и масла, а добрые наши сожители нам одалживали чайник с кипятком, чтобы мы утешались горячим чаем. Так прошло два, а может быть, три дня. Пока что я пошла в музыкальный отдел Наркомпроса со своим документом: инструктор по общему музыкальному образованию, а Вячеслав — в общий отдел того же Наркомпроса для осведомления.
Оказалось, что в Баку, незадолго до нашего приезда, был основан университет. Ядро его состояло из группы профессоров Тифлисского университета, так как во время краткого национального правительства в Грузии все русские профессора были изгнаны. Постепенно в Бакинский университет начали съезжаться профессора из разных городов. Из Казани, например, приехала целая группа (на Волге тогда был лютый голод).
* * *
В Наркомпросе Вячеслава направили сразу в университет, где его приняли с распростертыми объятиями. Ему поручили кафедру классической филологии. Он читал курсы по греческой и римской литературе и античной религии. Новые коллеги пожертвовали своей курительной комнатой, чтобы нас в ней поселить. Проф. Селиханович (введение в философию) подарил нам одну из двух своих керосиновых печек, чтобы на ней стряпать. Проф. Гуляев (платоник и убежденный коммунист, хотя и беспартийный) одолжил ведро; кто‑то еще подарил котелок для варки риса (царство пшена в Баку заменилось царством риса); студент Моисей Альтман (будущий ученик и друг Вячеслава) стащил для меня у своей тетушки пару красных чувяков (т. к. я оказалась совсем без обуви). — «Ничего, не беспокойтесь, у нее много».
Консерватория мне поручила для работы чудный рояль Бехштейна, который занял по крайней мере одну шестую часть нашего нового жилища. Вдоль одной из стен была построена перегородка из натянутой на рамы бязи; за ней скрывались три железных кровати (пока что с голыми досками вместо матрасов). В остальной части комнаты стоял письменный стол Вячеслава и помещалась наша кухня.
Умывались мы в больших университетских уборных. Чтобы добраться до них, нужно было пройти по бесконечному коридору, наполненному густой толпой студентов.
Как в природе существует солнцеворот, до которого дни постепенно темнеют, укорачиваются, а после него начинают удлиняться, так и в нашей жизни настал день, после которого судьба начала меняться. Баку был нашим солнцеворотом. У нас были там трудности, болезни, даже большие несчастья, но общая линия судьбы шла на улучшение[70].
* * *
Как вспоминается Баку? Ослепительный, белый, каменный амфитеатр домов, спускающихся к густому, тяжелому, синему морю. В порту у берега радужно лоснятся пятна плавающей нефти. Горы, на которых расположен амфитеатр, то белые, то дымчатые, а то цвета бледной соломы. На горах никакой растительности. Это пустыня, выжженная зноем. Да и сама почва пропитана нефтью, ничего на ней не растет; разве полынь, мята, колючки. Среди камней кишат скорпионы, тарантулы, змеи. В горах есть места, где, особенно ночью, можно видеть, как танцуют и летают высоко над землей пламенные языки. Их называют «вечными огнями». Вячеслав ездил смотреть на них ночью и был в восторге. Ученые говорят, что в старину в этих местах жили огнепоклонники. Это как будто подтверждается при изучении архитектуры «Девичьей Башни».
Башня теперь стоит у берега; прежде она находилась глубоко в море, которое, как известно, медленно высыхает и постепенно отодвигается. Местное население объясняет существование башни романтической легендой. Жил султан, обожавший свою молодую жену. Она умерла от родов, оставив ему дочь. Сломленный горем султан не захотел ее видеть. Но по прошествии лет случайно встретился с ней, когда она была уже взрослой девушкой. Он остановился, пораженный: ему показалось, что он видит свою покойную жену, так она была похожа на мать. Он решил на ней жениться, но она сначала долго отказывалась, а затем попросила, чтобы он ей построил высокую башню в море, обещая покориться ему, когда башня будет готова. В день, когда постройка была завершена, она поднялась на крышу и бросилась оттуда в море.
Помню, что мы ходили осматривать башню изнутри. Ее стены составляли восходящие круги. Она не походила ни на роскошное жилище, ни на крепость. Скорее всего, на оккультный храм какого‑нибудь древнего языческого служения. По гипотезе нашего ученого вожатого, это был храм огнепоклонников. Кстати, если я правильно помню, и внешняя архитектура башни очень своеобразна. Она имеет не цилиндрическую форму, а представляет собой как бы огромный каменный ключ, вставленный в море.
Город был веселый, залитый ослепительным солнцем. Торговали вовсю, восточный базар с пестрыми тканями и коврами; женщины были покрыты чадрами; по улицам иератически шагали верблюды.
Нефтяные промыслы окружают Баку кольцом, но они все на большом расстоянии, так что вдали видны трубы с черным дымом, но до города копоть почти совсем не доходит.
Порт не был в те времена очень оживленным. Но вблизи университета была торговая пристань, там кипела работа и было весело. Приезжали баржи с арбузами. Перед ними организовывались большие группы разгрузчиков. Они становились в ряд на определенном расстоянии друг от друга и быстро перебрасывали друг другу арбузы, ловя их, словно играли в мяч.
Маленький Дима (ему было 8 лет, когда мы приехали) любил играть в порту с другими ребятишками. Когда им было жарко, они прыгали с причала прямо в море как были — одетыми. Одет же был Дима, как и другие мальчики, в штанишки и рубашку (в жару только в штанишки) из бязи, которые я ему шила под материнским руководством Нины Васильевны — жены профессора Гуляева.
* * *
Сильное впечатление произвел на меня магометанский праздник «Шахсэй Вахсэй»[71]. Мы его видали с Димой в 1921 году в прибрежном местечке Бузавны, где мы жили на даче. В день «Шахсэй Вахсэй» вспоминается, как Гусейн, один из ближайших преемников Магомета, был коварно предан своим народом войскам неверных и как он был убит. По всей стране устраивались покаянные шествия. Когда мы с Димой услышали звуки приближающейся процессии, мы прокрались к забору, отгораживавшему наш садик от дороги, и спрятались в густые кусты. Нас, слава Богу, никто не заметил. Кроме процессии, никого на дороге не было, — магометане запрещали присутствие посторонних. Шли только мужчины, одетые в черное. В рубашках на спине и на груди у них был широкий вырез от верха до пояса. Шли они ритмически раскачиваясь, как одержимые, под нестерпимо настойчивый полувыкрик — полуприпев: «Шах — сэй… Вах — сэй…». Они высоко вскидывали над плечами цепи или ремни и под тот же ритм хлестали себя до крови по голым спинам. Вокруг вырастала слепая, фанатическая атмосфера, какая‑то темная сила, которой уже никто не может владеть и которая может кинуться куда угодно. Не только тогда мне стало страшно, даже и теперь жутко об этом вспоминать.
Вячеслава не было с нами. Он дач не любил и жил один в Баку. Празднование «Шахсэй Вахсэй» его, однако, прямым образом затрагивало, так как он тогда занимался древними культами. В самом городе все носило гораздо более грандиозный характер. (На следующий год советское правительство запретило уличные празднования «Шахсэй Вахсэй»). Вот как эти церемонии описаны самим Вячеславом в его книге Дионис и прадионисийство:
«В сентябре шииты правят плачевный и экстатический праздник, именуемый в обиходе, — по неустанно повторяемому его участниками френетическому восклицанию, — ”Шах — сэй, вах — сэй“ (т. е. ”шах Гусейн, горе, Гусейн!“ — срв. греческое ”oitolinos“, ”ailinon“, ”ô ton Adônin“ и т. п.). Этиологически приурочен этот праздник к воспоминанию о гибели исторического Гусейна, но очевидно восходит своими корнями к древнейшим плачам, — как и вообще в религиозном быте Персии сохранились остатки первоначальных культов. Пишущий эти строки имел случай наблюдать описываемые обряды в Баку. Больше чем за неделю до главного дня начинают ходить по городу, в окрестностях мечетей, процессии верных, бичующих себя в такт причитаний по голой спине связками цепей или ударяющих себя кулаками в обнаженную грудь. Вечером, при факелах, эти процессии, с несомыми впереди и под бой барабана разноцветными знаменами, металлическими изображениями отсеченных кистей рук Гусейна, тюрбанами с вонзившимися в них мечами и т. п., особенно часты и многолюдны. Число участников заметно возрастает со дня на день; растет и воодушевление по мере приближения к завершительному акту печального торжества. С утра в последний день разыгрывается на большой площади пышное действо со многими действующими лицами, воинами, пешими и конными в старинных кольчугах, детьми Гусейна и исполняющими женские роли переряженными мужчинами. В прологе зрители уже видят Гусейна последней сцены, сидящим на коне, в чалме с врубленными в нее ятаганами. Изображаются со многими перипетиями битва, предательство, поединок, мученическая смерть героя. В заключение, его палатка (как ”хижина“ Пифона в дельфийских Септериях) объята пламенем. При виде окровавленного, обезглавленного, изуродованного убийцами его тела в окружающей толпе пробегает огонь подлинного исступления, и белые туники обагряются первою кровью. Многочисленные процессии, еще более густые, пестрые и разноцветные, с боем барабанов, бряцанием и громом металлических орудий, ритмическими псалмодиями, расходятся по улицам. Бичующиеся, в черных одеждах с вырезами на груди и на спине, продолжают с еще большею ревностью свое самоистязание; но большинство, с непередаваемым выражением сосредоточенной решимости в искаженных чертах лица и в дико горящих глазах, движется с мечами, шашками, кинжалами наголо, чтобы в определенные сроки и на урочных перекрестках возобновить резню. Их белые одежды постепенно окрашиваются в густо — красный цвет. /…/ Поиски отсеченной и украденной врагами головы составляют предмет отдельного обряда: ищущие заглядывают во все дворы и закоулки, изображая тревогу и надежду. Любопытно, что, по обезглавлении героя, отрубленная голова раскрыла уста и произнесла исповедание единого Бога и Его пророка. По окончании патетической части празднования начинается кафартическая, открываемая многодневным постом, за которым следует пиршество. Таковы современные пережитки древнего энтусиастического плача, в его доныне сохранившейся непосредственности, — со всем тем, что породил он: миметическим действом, обрядом собирания разрозненных членов, культом пророчествующей головы — явлениями родными Дионисовой религии. Обычай карийцев в Египте наносить себе головные раны ножами при всенародных плачах по Осирисе отмечен Геродотом»[72].
* * *
Началась моя музыкальная деятельность в Баку сразу.
Не успела я представиться в музыкальный отдел, как меня встретили как неожиданного освободителя. «Ради Бога, идите скорее в консерваторию. Там хаос. Помогите!» Прихожу к Николаеву (директору) — та же встреча. Консерватория основана на днях — это преобразованная музыкальная школа. Всем разрешено записываться в ученики без вступительных экзаменов и ограничения возраста. И (о ужас!) — записалось 6000 человек. Дело было в том, что одновременно появилось распоряжение реквизировать все частные рояли, если на них не учатся по меньшей мере шесть учеников консерватории. К довершению хаоса, все бакинские дамы, которые умели немножко играть на рояле или петь, записались во ВСЕРАБИС (профсоюз работников искусства), как преподаватели музыки, ибо полагалось каждому гражданину принадлежать к какому‑нибудь профсоюзу. Чтобы иметь возможность обучить 6000 учеников, начальство мобилизовало всех преподавателей ВСЕРАБИСа. Их оказалось около 200. К тому же, еще не было помещения. Мобилизованные преподаватели налетели как ярые мэнады на бедного Николаева, человека нервного, утонченного и хрупкого (он вскоре бежал за границу через Персию). Как нам учить такую бездну народа? А тут явилась я с программой Брюсовой, в которую входило «групповое обучение фортепьяно». Николаев поручил мне прочесть мэнадам лекцию. На следующий день стою я в консерватории в хвосте за хлебом, на стене объявление о моей лекции, а вокруг озлобленные голоса: «Наконец‑то догадались. Прислали инструктора. Теперь узнаем, как это делать».
Я прочла им лекцию, все были довольны, сказали, что придут на мои уроки, и не пришли; а постепенно жизнь наладила всё сама: схлынули мэнады и фиктивные тысячи учеников; консерватория зажила своей нормальной профессиональной жизнью.
Я была зачислена в консерваторию преподавательницей (фортепьяно, сольфеджио, позже и гармонии) и одновременно студенткой в отделе композиции.
В курительной комнате мы провели два года. Не понимаю теперь, как столько жизни могло вместиться в столь малое пространство. Бичом этого жилища было невообразимое количество клопов. Я поливала керосином доски, на которых мы спали, — это не помогало. Лишь к концу второго года мы избавились от клопов, когда смогли выехать на дачу (на Зых, поселок под Баку) и проделали в комнате полную дезинсекцию.
Быть может, иногда, очень редко, семья Гуляевых (с ними у нас была общая тонкая стенка) и могла слышать повышенные голоса, но жили мы очень дружно, причем у каждого из троих была своя отдельная жизнь.
Упражнения по контрапункту я писала утром в постели, пока Вячеслав и Дима спали. Но днем я много играла на рояле. В этот период я еще считала себя пианисткой. Кроме того, я занялась камерной музыкой и систематически работала в той же комнате со скрипачом Хорозяном, готовя концертный репертуар.
Дима в первый год бакинской жизни еще не ходил в школу. Он много играл с детьми соседних профессоров, а когда возвращался домой, всегда гармонически приспособлялся ко всем обстоятельствам и всем помогал. Несмотря на мои протесты, он упивался чтением Достоевского. Что этот 8–летний мальчик мог понять в Достоевском, мне было неясно, но его нельзя было отогнать от книги. Он написал тогда очень талантливую комедию «Война царства порядка с царством беспорядка». К сожалению, она потеряна.
Наша комната находилась в университетском коридоре и потому в нее ежеминутно кто‑нибудь заходил. Забегали студенты, с которыми у Вячеслава были особенно близкие отношения. Среди них ежедневно, хотя бы один раз, Моисей Альтман.
При нашем вселении в новое жилище я сама была проникнута большим уважением к университету и старалась внушить это уважение также и Диме. Я ему сказала, что он должен вести себя очень хорошо, и что университет — «храм науки». Это выражение очень его заинтересовало: он вел себя прекрасно, но весь проникся острым любопытством к этому храму и стал понемногу исследовать все, что только мог. В первой, самой главной аудитории, были хоры, и я как‑то заметила, что он туда зашел во время лекции и слушал, спрятавшись за перила, о неудавшемся бегстве Людовика XVI и его аресте в Варенн. Очень ему нравился историк проф. Байбаков и он любовался элегантностью, с которой тот играл со своей шляпой во время лекции.
Коридор нашей курильни принадлежал Естественному факультету. Рядом, в соседнем коридоре, был анатомический музей, где стояли стеклянные шкапы, наполненные скелетами. Как‑то утром Дима гулял по коридору; навстречу ему идет служащий из лаборатории и несет блюдо. Поравнявшись с ним, Дима увидел лежащую на блюде отрубленную человеческую голову. Это видение ему запомнилось навсегда, но особенно его не поразило.
Вести хозяйство: в той же курильне чистить, стряпать, мыть — было нелегко, т. к. в комнате не было воды и за ней нужно было ходить через нескончаемый коридор, наполненный студентами. Особенно затрудняла необходимость выносить из комнаты все то, что принято скрывать от посторонних взоров. Обедали мы за маленьким столом обычно всегда интимно, втроем. Во время обеда я импровизировала главы очередного романа, который увлекал одинаково обоих моих сотрапезников. Роман был высоко романтический. Героиня — Долорес — рожденная в тюрьме таинственной заключенной, была красавица и жила одна с тигром, приставленным к ней каким‑то ее невидимым охранителем и властелином. Интриги были очень сложные и выдумывались с места в карьер. Но когда наступило время кончать роман, мне стало очень трудно: мои слушатели ожидали логического заключения фабулы. Я ходила взад и вперед по коридорам, ломая себе голову, как распутать все нити, которые я намотала, и как, распутавши, внести их в стройную заключительную ткань.
Вечером мы ложились с Димой спать довольно рано, скрывшись за нашу бязевую перегородку, а к Вячеславу заходил кто‑нибудь из друзей. Очень часто, почти каждый вечер, бывал проф. Всеволод Томашевский, который занимал тогда пост замнаркома просвещения, очаровательный человек, добряк, коммунист старинного романтического стиля, санскритолог, но, к сожалению, безнадежный алкоголик. Сидели они вдвоем за бутылкой водки и беседовали до позднего часа.
* * *
В эти два года, когда мы жили в курильне, к общим трудностям приложились еще разные невзгоды. У Димы бывали очень опасные острые бронхиты с высокой температурой. Осенью 1921 я заболела брюшным тифом и пролежала в лазарете 60 дней, покинув двух моих бедных сирот[73]. Тогда приехала в Баку, чтобы нас выручить, Алекандра Николаевна Чеботаревская, «Кассандра». После 60 дней тифа с рецидивом наш милый доктор Тарноградский продержал меня в постели еще почти месяц, и на это время Кассандра взяла меня к себе в свою комнату. (Она сняла себе комнату в городе.) Она же выхаживала Вячеслава, когда у него в этот же период сделалась желтуха[74].
На лето 1922 года мы наняли с друзьями комнаты на очень пустынном и красивом полуострове около Баку — Зых. Кассандра много хлопотала об устройстве этой дачи и не раз отправлялась туда на пароходе «Меве» (от немецкого «Möwe» — чайка), регулярно ходившем на соседнюю фабрику того же Зыха.
В одну из таких поездок она взяла с собой Диму. На обратном пути, когда они уже сидели на пароходе на Зыховой пристани, Дима загляделся на какого‑то малыша на молу и, обернувшись, перекинул правую руку через борт. Пароход тронулся, но потом его вдруг кинула обратно волна, и Димина рука оказалась защемленной между бортом и огромным столбом на пристани. Диму сразу отвезли в клинику к хирургу, проф. Ошману. На раненной руке была возможность оставить лишь большой палец, а четыре других были невосстановимы[75].
Природа Зыха отличается совершенно своеобразной красотой, и несмотря ни на что, мы все трое очень полюбили это место. Мы прожили там лето 1922 года.
На Зыхе нет ни виноградной
В кистях лозы, ни инжиря:
Все выжег зной, все выпил жадный;
И в сакле я дремал прохладной
До половины сентября.
А перед саклею, горя
Сафирами восточной славы,
Текли Хвалынские струи.
И милы стали мне твои,
О Зых, возгорий плоских главы,
Твой остов высохшей змеи
Меж двух морей живой оправы,
И солнцем пахнущие травы,
И в белом камне колеи. [III, 504. — Ред.]
Университет в ту эпоху был совсем молодым, и чувствовалось, что профессора и студенты относились к нему с любовью, как к чему‑то собственному. С центральными властями он имел еще мало соприкосновений и придерживался традиционной старой структуры. Вячеслав там охотно работал. Там же состоялась и торжественная защита его докторской работы «Дионис и прадионисийство». Вступительные лекции к курсам Вячеслава проходили в первой аудитории, очень обширной, куда собирались студенты со всех факультетов, а также и просто публика. Затем занятия продолжались для специальной, хотя довольно обширной группы слушателей, становившихся его учениками. Вячеслав любил молодежь и имел для нее какую‑то притягательную силу. К нему стали обращаться не только для помощи в научной работе, но также для интимных бесед. И, естественно, стали появляться также и поэты. Основался поэтический кружок, названный «Чаша». Членами «Чаши» были не только ближайшие университетские ученики Вячеслава. Помню, раз к нему явилась в сопровождении матери 15–летняя девочка и показала ему свои высокоталантливые стихи. Это была Леля Самойлова. Участвовала в «Чаше» студентка восточного факультета Лена Юкель. Она «пела» стихи различных поэтов членов «Чаши», а также персидские песни. Она их распевала на простые мотивы, которые ей нравились — чужие или свои собственные, без всякого аккомпанемента. У нее создавался собственный стиль лирической сказительницы[76]. С многими учениками у Вячеслава образовалась тесная связь — связь, которая сохранилась у некоторых даже и по сей день, какое‑то братское единение на основе преданности и любви к учителю. Это тем более удивительно, что Вячеслав прожил в Баку всего четыре года. Вспоминается Виктор Андроникович Мануйлов. Он не был еще тогда профессором Ленинградского университета и известным литературоведом. Это был просто Витя Мануйлов, поступивший чуть ли не в семнадцатилетнем возрасте на филологический факультет, блондин, голубоглазый, в белой косоворотке, худенький, хрупкий, с опасно начинающимся туберкулезом, невероятно прилежный, себя не жалеющий и пользующийся большим успехом у девочек. Мануйлов написал воспоминания о Вячеславе[77]. Талантливой ученицей была также Елена Александровна Миллиор. Она много лет занималась изучением истории Греции, которую она особенно чувствовала, любила и заставляла других любить. В последние годы она была заведующей кафедрой истории Ижевского университета, а затем жила в Ленинграде, где написала интереснейшее исследование о «Мастере и Маргарите» Булгакова. Вокруг нее постоянно собиралась молодежь, которую притягивали ее личное обаяние и педагогический дар. Ее в Баку все звали Нелли. Она умерла в 1978 г. в Ленинграде. Я с ней переписывалась всю жизнь, и она мне прислала отрывок своего дневника. Приведу здесь фрагменты, относящиеся к Вячеславу:
2 июля 1921 г. Зых.
Все‑таки общение с В. Ивановым, чтение Зелинского и т. д. /…/ все это налагает отпечаток на мою, надо признать, даже чересчур восприимчивую и впечатлительную натуру. Оставаясь сама собой, не сходя с материалистического позитивного миросозерцания, я, однако, заглядываю в некоторую бездну! Да, я еще забыла влияние «Братьев Карамазовых», еще не совсем осознанное, но, вероятно, значительное, хотя я, кажется, не все там достаточно поняла. Но все это составные силы, а какова равнодействующая? Не знаю. Но я глубоко ненавижу все самоуверенно плоское, это умственное мещанство, эти теории, ставшие догматами, это меня отталкивает от марксизма. Нет, научный марксизм, понимание истории у Дубровского — это одно, а «то» — совсем другое.
21 июля 1921 г.
На днях держала экзамен у Вяч[еслава] Иванова. Наша беседа длилась около одного часа. При этом мы рассматривали и план Афин и фотографии развалин, и он рассказывал о них. Читал мне целые лекции о Дионисе и пра — Дионисе. И невзначай задавал коварные вопросы. Спрашивал даже мелочи, даже термины. Экзамен прервал вошедший в комнату ст[арший] науч[ный] сотрудник Тумбиль. В. И. представил меня как чрезвычайно любящую филологию и т. д. Потом записал свое «весьма» и отпустил душу на покаяние. Устала я отчаянно. Сам В. И. заметил, что у меня было «обморочное состояние» во время экзамена.
24 июля 1921 г.
22–го я присутствовала на защите диссертации Ивановым. Благодаря общению с ним, я была вполне в курсе дела и могла разобраться в смысле его тезисов. Затем было прочитано постановление факультета и при громе аплодисментов профессора начали поздравлять и целовать В. И. Я со всеми студентами вышла в вестибюль. В дверях увидала Альтмана, который спешил поздравить В. И. Меня заметил проф. Маковельский. «Пойдите, поздравьте», обратился он ко мне. Я призналась, что не решаюсь подойти. Но тут я решилась. Его окружали уже только «свои»: профессора с женами, его дочь. Я робко произнесла свое поздравление. «Можно мне поцеловать вас?» — спросил со своей доброй улыбкой В. И. Я не сантиментальничаю. Но все же, когда он приехал, я надела сильные очки, чтобы рассмотреть его издали и не была в числе студентов, знакомых с В. И., и, пожалуй, гордящихся этим. А теперь я надеюсь, он будет моим научным руководителем. И случилось это само собой.
2 августа 1921 г.
Я презираю и ненавижу эту будничную жизнь, она мне кажется не сутью, а так, неприятным сном. Суть — Достоевский, Ницше, Вяч. Иванов.
5 сентября 1921 г.
Сегодняшний день я могу считать действительно значительным и важным днем своей жизни. Вяч. Иванов «трижды благословил меня на научную дорогу». Я ему сказала, почему хочу заняться именно древним миром, изложила все то, о чем думала последние два года, те историко — философские проблемы, которые стоят предо мной. Вяч. Ив. выслушал меня внимательно. Он характеризовал меня, мой ум как теоретический, стремящийся познать закономерности (между прочим, вначале посылал меня к философам). Затем он сказал, что путь, выбранный мной (план занятий), правильный вывод из заданий, которые я поставила себе /…/
«На научную дорогу я вас благословляю трижды, у вас научно работающий ум», я внутренно вооружена благодаря своим способностям. Мне придется перейти через много колебаний, пока я найду мой настоящий путь. «А прежде всего, надо вооружиться основательным знанием древних языков».
Наш разговор в такую форму вылился случайно. Но В. И. сам сказал, что интересуется моим внутренним миром, даже моими мечтаниями. Тогда я «исповедовалась» перед ним. Много раз я повторяла имя Николая Александровича [Дубровского. — Ред.], который первый дал мне толчок для серьезного отношения к истории.
Первый раз ко мне так близко подошел авторитетный человек, которого бы я так глубоко уважала. Я вечно находилась в состоянии неуверенности и сомнений. Теперь я должна поверить в себя, значит, удесятерить энергию и тогда νικη!
16 марта 1922 г.
Бывают же в жизни такие фантастические дни! Такой странный день был вчера. /…/ Хорошо выдержала экзамен, интересно беседовала с Вяч. Ив. уже вечером, после экзамена; был блестящий реферат Нины /…/ Потом пошли после реферата чай пить. Пришел Вяч. Ив. Он сказал о Лиде: «Она всё притворяется, что она естественница, она только притворяется. Она ведь бесенок». А бесенок улыбался и был правда похож на бесенка[78].
15 июня 1922 г.
Воистину блаженный, священный Ζυχоς: эти чистые четкие линии, это море — νλαγγα — синее, полное сдержанной смелой силы, — и эти ночи — небо не заслоненное домами — «Sterne, die man nicht begehrt» — но которыми любуются, — которые любят, — и бухта, золотая ниточка огней, драгоценное ожерелье, и маяк, равномерно вспыхивающий и гаснущий. И улыбка и юмор и серьезность Вяч. Ивановича. Ведь он здесь, я его вижу каждый день, несколько раз в день; вчера я возвращалась от него ночью, часов в одиннадцать, было совсем темно. Весь вечер мы просидели на террасе и говорили — о звездах die man nicht begehrt или, напротив, begehrt, и об университете и о чем угодно. А сегодня я пришла к нему с Майковым (я тогда увлекалась его поэмой «Три смерти»), жаль, не было времени прочитать ему все. /…/ Когда я любуюсь морем, я счастлива, я никогда не привыкну к нему, видеть море для меня праздник и говорить с Вячеславом — тоже праздник, и приезд Гуляевых, и мой приезд домой.
20 июля 1922 г.
Недавно Вяч. Иванович гадал мне по руке. Вот главное, что я запомнила: преобладание интеллектуализма, отсутствие мистики; в жизни для достижения практических целей я проявляю мало энергии, — не хватает желания, поэтому я не буду богатой; предпочтение созерцательности; идеализм в любви. Затем предсказал какой‑то перелом в середине жизни. Жить буду долго.
На фотографии, которую Вячеслав подарил Нелли, он надписал: «Моей филологической сотруднице и сомечтательнице Елене Александровне Миллиор» и приписал следующие стихи:
Какая светлая стезя
Открыта мысли, сердцу Нелли.
Иди же, Нелли, не скользя,
Сквозь горы, льдины и метели
На Дионисовы свирели.
Кому они однажды пели,
Тому нейти на зов нельзя.
Из близких учеников была также Ксения Михайловна Колобова (впоследствии — профессор истории в Ленинграде). Она была очень умная, писала стихи. Я с ней лично мало встречалась, но Вячеслав ею занимался, следил за нею и очень ее ценил.
В дневнике Вячеслава под датою 1–е декабря 1924 года (т. е. через три месяца после нашего приезда в Рим) читаю: «Письмо от бедной Ксении. Как ее встряхнешь? Надо написать ученикам».
В 1927–ом году в Павии Вячеслав написал стихи «Палинодия». В них поэт в духовном волнении вопрошает себя:
…И твой гиметский мед ужель меня пресытил?…
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?[79]
Прочитав это стихотворение, Колобова послала Вячеславу в Италию страстные обвинительные письма, разгневанная его «изменой» античности. Но к этому я еще вернусь.
Одно из редких бакинских стихотворений было навеяно глубоко поразившей Вячеслава вестью о смерти Блока.
УМЕР БЛОК
В глухой стене проломанная дверь,
И груды развороченных камней,
И брошенный на них железный лом,
И глубина, разверстая за ней,
И белый прах, развеянный кругом, —
Всё — голос Бога: «Воскресенью верь».
10 августа 1921[80].
В рукописи приписка: «Баку, 10. VIII — вечером, при виде проломанной в университетском коридоре двери. Утром узнал, что вчера в 10 ч. утра умер Александр Блок».
* * *
Моисей Семенович Альтман был не только поэтом, очень прилежным студентом, но, несмотря на разницу возраста, и большим другом Вячеслава. Он у нас бывал почти ежедневно и вел с Вячеславом бесчисленные беседы на самые разнообразные и глубокие темы[81]. Он был очень трогателен во время моей болезни, приходил навещать меня ежедневно, чтобы приносить обо мне сведения отцу. Лазарет же отстоял от города за шесть верст. Никаких средств сообщения: он ходил пешком. Разговоры со мной происходили через окно.
Один раз кто‑то из друзей, профессоров — медиков (медики составляли нашу аристократию, помогали всячески и лечили нас даром) устроил Вячеславу поездку ко мне на автомобиле. Его как почетного посетителя пустили внутрь лазарета, и он, к моей радости, неожиданно явился передо мной наряженный в докторский балахон и белый колпак.
Семья Альтманов (отец, мать, младший брат студент — медик Рафаил, к которому Вячеслав питал особенную нежность, и сестричка — подросток) происходила от литовских хасидов. Родители были благочестивы, а дети, как бывает часто, агностики. Но чтобы не огорчать родителей, они соблюдали обряды. В первый год нашего пребывания в Баку родители Альтмана пригласили Вячеслава к себе на интимную пасхальную трапезу, и, действительно, кроме семьи никого не было. Вячеслав был очень растроган этим вечером. На следующий год они пригласили и меня, и я навсегда запомнила общую духовную атмосферу, ритуальную еду, и питье, и молитвы. Помню, как постучали в дверь и как маленькая сестра Моисея пошла открывать ее, чтобы впустить пророка Илию.
* * *
«Чаша» не была единственной группой поэтов. В Баку было много поэтов, объединявшихся в разных кружках[82]. Среди них — поэтесса Татьяна Вечорка. На одно ее стихотворение я написала музыку. Вячеслав никогда не просил меня писать на его стихи, но когда я это делала, был всегда очень счастлив. По поводу романса Вечорки в нем вдруг загорелась ревность: он возненавидел эти стихи и начал их высмеивать. Особенно доставалось «кожаному дивану»:
Ну что же? Счастье, может, в том,
Чтобы войти в твой тихий дом,
Прилечь на кожаном диване…
Он настоял, чтобы пели «дедовском диване». Много позже, в Риме, эту вещь должны были исполнять в концерте и желательно было текст перевести на итальянский. Вячеслав взялся за это сам. Вышли великолепные строки, хотя ничего общего не имеющие с оригиналом, разве только что упоминается луна и говорится о примирении с судьбой.
* * *
В Баку в это время вдруг появился Хлебников. Он показался в одно прекрасное утро совершенно неожиданно. Абсолютно ни на кого не похожая фигура, высокий, в кожаном тулупе, обитом бараньей шкурой, меховая шапка, а на ногах какая‑то странная обувь. Весь желтый, и одежда и лицо, с большими отеками, как у голодающих. Действительно ли он голодал или был болен, не знаю. Вячеслав страшно обрадовался, так как его очень любил. Жил в Баку и Алексей Крученых[83]. Он заходил к Вячеславу, и они охотно беседовали. Крученых проповедовал свою «заумную речь». Он вскоре уехал в Москву, чтобы действовать на более широком поприще. Из Москвы он писал, что поэтов там великое множество, что их группируют по «стойлам»[84].
* * *
В Москву некоторые ездили также и на короткий срок, чтобы стряхнуть свой провинциализм. Проф. Селиханович, очень популярный лектор («Введение в философию»), вернувшись из Москвы в Баку, рассказывал Вячеславу с восторгом о новостях в столице и сообщил, что даже сделал некоторые изменения в своей системе, убрав, например, из нее Бога.
Очень полезной для нас лично была поездка в Москву Наркома просвещения Азербайджана Буниат — Заде. После разговоров в Москве он узнал, что есть на свете Вяч. Иванов, и воспылал к нему большим уважением. В письме со всякими указаниями Замнаркому Томашевскому была такая приписка: «А особенно кланяйся от меня Вячеславу Иванову и делай все, что ему нужно, чтобы эта знаменитость осталась у нас в Баку именно». Впоследствии меня пригласили в подвальный склад Наркомпроса и выдали мне пару настоящих кожаных ботинок (на смену красных чувяков тетки Альтмана, а зима была холодная и даже снежная), два рубашечных отреза белого ситца, один с мушками, а другой в полоску (из них я сшила себе платье, которое мне казалось верхом парижской роскоши) и ночной горшок. Этот последний дар снял с моей души невероятную тяжесть. Нина Васильевна Гуляева одолжила мне свой, когда мы приехали, и я не знала, чем ей заменить его, т. к. старый стал неказистым. Откуда можно такую вещь добыть?
* * *
Из забавных поездок, не в Москву, а по линии халтуры, можно рассказать про Ленкорань. Томашевский предложил Вячеславу поехать с ним и проф. Байбаковым в ближайший персидский город Ленкорань, чтобы прочесть там лекции. Оплата была заманчивая: сумма денег — «туманов», мешок «ханского» риса и мешок кишмиша (изюма). Вячеслава это предложение позабавило, и он с радостью согласился.
Поездка была очень короткая, и в Персии Вячеславу не удалось много повидать, но он с гордостью привез «туманы», рис и кишмиш. Он рассказал, что ему там предложили покурить опиума, он согласился, надеясь испытать какие‑нибудь экстатические переживания, но был разочарован. Он должен был забраться на верхний этажик так называемого «чайного домика», где ему предложили курить, но перед домом скопилась целая толпа зевак смотреть на это редкое зрелище. Зеваки помешали всякому экстазу, а сам дурман вызвал у него тошноту.
Возврат Томашевского домой был хуже. Жена, как часто случалось, отсутствовала; он сел бобылем перед керосинкой и решил сварить на ужин риса, не очень хорошо зная, как это делается. Зажег керосинку, насыпал котелок до краев рисом и налил воды, сколько вошло. Все закипело, рис начал расти и расти, вылезая через край. Рис был драгоценный, и Томашевский, сидя у керосинки, все подбирал ложкой то, что шло через край, и глотал. Кошмар, казалось, никогда не кончится.
* * *
Вячеслав во время пребывания в Баку заинтересовался персидским языком. Ему захотелось читать Гафиза в подлиннике. Он обратился к преподавателю персидского языка на нашем восточном факультете. Это оказался оригинальный и симпатичный человек, похожий скорее на дервиша, но примитивный как педагог. Он, несмотря на просьбы Вячеслава, категорически отказался говорить о грамматике и конструкции языка, ему, наверное, мало известных. А это‑то и составляло любовный интерес Вячеслава как филолога.
Я присутствовала при первом уроке и потешалась про себя. Дервиш, последователь метода Берлица, хлопал себя по лбу и распевал: «Ба… зу», требуя многократного повторения того же от ученика, затем стучал себя по зубам: «ден… зи», после многих повторений указывал на руки: «ма — ну»…
Что персидский язык индоевропейского происхождения, стало ясно, но также стало ясно, что по такой системе и такому ученику добраться до Гафиза невозможно. Уроки прекратились.
* * *
На третий год нашего пребывания в Баку умер университетский кассир Кабанов, и его квартиру разделили между нами и его вдовой с ее племянницей Амалией. Они были выходцами из приволжской немецкой колонии.
Мы оказались владельцами настоящей квартиры! У нас было две комнаты. Одна, побольше, для Димы, Бехштейна и меня; другая, маленькая, через которую мы проходили, принадлежала Вячеславу. Постель была припрятана за альковом, как он всегда любил, а в остальной части был письменный стол, два — три стула, книги. Кроме того, была у нас собственная ванная комната. Ванна согревалась нефтью при помощи очень примитивного приспособления, и я панически боялась взрыва.
Кухня была общая с Кабановыми, и Амалия там поместила свою постель. Тетка ее жила в нарядной отдельной комнате. Она была еще очень красива, хотя ей уже было под 50. Свою племянницу, уродливую и курносую, она била и морила голодом.
* * *
Но населению нашей квартиры суждено было умножиться. Нам порекомендовали домработницу. Кажется, это еще устроила до своего отъезда из Баку Кассандра. Это была Настенька Косырева, двадцатилетняя девушка из хорошей крестьянской семьи Саратовской губернии. В их краях был неописуемый голод. Отец Насти ездил за мукой и на обратном пути был ограблен и убит. Огромное количество крестьян двинулось вниз по Волге к персидской Ленкорани в поисках работы и хлеба. Среди них и Настя с матерью, сестрой и братишкой. Не успела она приехать в Ленкорань, как тяжко заболела тропической малярией и была эвакуирована в Баку. На кухне над постелью Амалии была сооружена верхняя лежанка, как в казарме. Настя поселилась у нас и сделалась любимым членом семьи. От лихорадки бакинским медикам, которые очень глубоко эту болезнь изучали и с ней боролись, Настю удалось вылечить. Она всегда обедала вместе с нами, и мы все ее любили. Когда мы уехали из Баку, она осталась совершенно растерянной и убитой горем.
Настя была из старообрядцев — беспоповцев. Вспоминаю один из ее многих рассказов о своей деревне. Появлялся у них время от времени странник, старик, которого все очень боялись и чтили. В их деревне он останавливался всегда у одной очень бедной и очень набожной вдовы. У вдовы случилась большая радость: ей как‑то удалось раздобыть самовар. Когда появился странник, вдовы не было дома. Он увидел самовар (изделие новой дьявольской индустрии, исчадие ада), схватил его и, громко выкрикивая что‑то, потащил через деревню к Волге. Народ последовал за ним толпой. Вслед за ними подоспела и сама вдова, в страхе и отчаянии. Странник бросил самовар в реку и стал бить его палкой, стараясь погрузить его в воду. Но самовар не шел ко дну, а выпускал из себя, булькая, воздух. «Вишь ты, окаянный, не хочет тонуть; и преисподня его не берет!»
Настя каждый вечер молилась Богу, но в церковь никогда не ходила. Когда ее мать умирала, она беззаветно за ней ухаживала и заботилась особенно, чтобы мать умерла на правом боку, хотя больная и стремилась повернуться на левый. Настя мне объяснила, что когда человек умирает, то слева у него бес, а справа ангел.
* * *
Но дело не ограничилось Настей. В один прекрасный день явился с маленьким узелком в руках Сергей Витальевич Троцкий. Это был старинный друг Вячеслава, навещавший его периодически еще на Башне. Он был малороссийский помещик, жил у себя в хуторе, обожал поэзию, музыку и искусство, вышивал шелками картины, любил украшаться кольцами, брелоками из драгоценных камней, носил бархатные курточки, волосы причесывал в стиле Ренессанса, с кудрями, кажется, не завитыми, а натуральными. (Ему посвящено стихотворение «Соловьиные чары» в «Нежной тайне[85].)
Он был тихий, нежный, ясный, веселый, чуткий и одухотворенный. В Баку он попал после многих тяжких приключений: бежал с родными из своего малороссийского хутора на кавказское побережье Черного моря; после неудачной попытки переплыть границу в лодке контрабандистов, был ими ограблен и лишен всех своих драгоценностей; затем, оставив своих родных, один перебрался через весь Кавказ и достиг Баку, где, он знал, живет Вячеслав. В котомочке у него были две рубашки, которые он сам мыл, т. к. ткань была так изношена, что он никому не доверял ее в руки. Курточка была старая, но черная, бархатная. Брелоки у него еще были, но не драгоценные. Сам он был такой изголодавшийся, что если поставить перед ним фунт масла, через мгновение ока оно исчезло бы, даже без хлеба.
Что было с ним делать? В ванной была поставлена постель, и наша семья увеличилась. Нас стало пятеро, и Сержик сделался родным и любимым. Несколько лет после нашего отъезда С. В. был арестован и погиб в лагере.
Ночью, когда было жарко, на веранде стелились ковры, и все ложились спать под звездным небом рядом: Кабанова, Амалия, Настя, Дима, Сержик, я. Вячеслав оставался в своем алькове.
* * *
Продовольствие к этому времени уже не составляло проблемы. Можно было все необходимое купить. Кроме того, профессорам выдавались пайки. Один раз Рыбком выдал чудесную рыбу, но из‑за плохой организации за два месяца сразу. Пока ее распределяли, она уже стала не первой свежести. Хозяйки были в отчаянии, что делать с таким количеством рыбы? У всех болели желудки. К кому не зайдешь, потчуют: «Заходите, заходите, скушайте рыбки. Это, знаете, лососина».
Позаботилось начальство как‑то раз и о белье профессоров. Были выданы всем подштанники из кричаще розового ситца. Помню как на Зыхе, где мы жили с тремя другими профессорами, на веревочках ласково и приветливо развевались под солнышком, наподобие облачков, академические штанишки.
В начале нашего пребывания в Баку я раза два ходила продавать старые вещи на базар. Но здесь это не носило такого кошмарного характера, как в Москве, когда мы с Верой это делали в надежде купить для нее что‑нибудь диетическое, манной крупы, белой муки. Здесь все было весело и солнечно, как и сам базар. Не знаю, что купила Лидочка Гуляева, с которой я однажды пошла вместе, но на вырученные от продажи деньги мне экстренно необходимо было найти для Вячеслава хорошие брюки. Вернулась домой я гордой и счастливой: брюки были из прекрасного сукна, совсем новые, хорошо скроенные… Увы! По неопытности я не разглядела, что они были матросские со всеми особенностями покроя, а также с изящным клешем книзу, образующим на щиколотке воланчики. Моя победа обернулась фиаско.
* * *
Дима ходил в школу с 1921 года, когда его записали в старший приготовительный класс. Там ему преподавали и тюркский язык, но он мало из него усвоил. Он вообще школой пренебрегал. Думаю, что при развитии, которое ему давала окружающая среда, он в школе скучал, и бедный его преподаватель Александр Сергеевич тщетно меня вызывал, чтобы читать нравоучения: «Нельзя допускать, чтобы дети ежедневно так опаздывали в школу. Такое поведение может пагубно повлиять на всю будущую жизнь».
Дима много времени проводил с нами, но имел и своих друзей, с которыми играл на дворе. Сначала это были дети профессоров (пока мы жили в курильне), а затем дети технических служащих университета. Из них он особенно любил Герку, пионера, уже подростка, много старше его.
Когда умер Ленин, мальчики устроили у нас в чулане заседание, постелили на сундучке одеяльце, расцвеченное под леопарда, поставили сверху портрет Ленина, зажгли 2 свечи по обе стороны и говорили речи. Взрослых не пускали, но декорацию мне Дима потом показал в знак доверия.
* * *
Появление Настеньки сильно облегчило мою жизнь, и главное — мои музыкальные занятия (к которым Вячеслав всегда питал живой интерес). В бакинские годы я изучала под руководством Михаила Попова (молодого композитора, учившегося у Танеева) контрапункт, фугу и формы, а в последний год даже начатки инструментовки. Попов не был опытным педантичным педагогом. Он увлекся работой с продвинутой ученицей, но при этом забывал посвятить ее в самые элементарные схоластические правила. Учебников тогда в Баку не было. В результате мне учиться было вольно и радостно, композиторская техника начала немного оперяться, но на экзамене фуги я провалилась. В области музыки провал на экзамене был для меня абсолютно новым и тягостным переживанием. Когда я пришла домой, Вячеслав не только не стал меня утешать, но своими настойчивыми упреками довел меня до полной и отчаянной злобы. «Если тебя провалили, значит, ты была не подготовлена, значит, ты недостаточно изучила все ваши правила». (Вячеслав был исключительно музыкален, но абсолютно не сведущ в области музыкальной техники.)
Оставшись одна в комнате, я в ярости начала кидать стулья об стену, потом мне их стало жалко, я успокоилась, но в душе осталась горечь. Много позже, когда в Риме пришлось заняться схоластической фугой, я поняла всю степень моей бакинской безграмотности; мне стало ясно, что мой провал был необходим, и что интриги врагов Попова тут были не при чем. Однако, если Мишпо́ (как мы его дружески звали) и плохо объяснил мне правила фуги, он, с другой стороны, способствовал развитию моей свободной композиции.
Я написала в Баку ряд фортепьянных вещей. Исполняла сама на рояле на консерваторских вечерах свою «фантазию и фугу» (не схоластическую) и свою «сонату». Написала целый ряд романсов, которые молодые певцы из наших студенческих друзей охотно разучивали. Кто знает, было бы ли это так, если бы милый Мишпо был ученым педантом, а не талантливым артистом.
У меня была музыкальная дружба с Ниной Карницкой, приехавшей из Ростова — на — Дону. Она была исключительным явлением. Ей было пятнадцать лет (друзья называли ее Пупс), она была уже на высших курсах по фортепьяно, писала интереснейшую музыку, была очень культурна, развита и интересовалась теософией. Я читала, что она стала потом профессором консерватории в Ростове — на — Дону. Мы с ней сочинили новую форму: «музыкальную переписку», обмениваясь сочинениями маленьких пьес для фортепьяно в форме прелюдий. Стиль музыки у Пупса был крайне новаторский.
* * *
Появился в Баку музыкант Авраамов. Это был долговязый, рыжий энтузиаст, на вид — голодающий. Все его жалели, подкармливали, слушали его теории. Наступал один из крупных гражданских праздников, и Авраамов задумал его отметить еще невиданной, грандиозной, всенародной симфонией. Трубы всех нефтяных промыслов, окружавших Баку, должны были составить один колоссальный орган, на котором должна была быть сыграна мелодия Интернационала. Каждой сирене поручалась одна нота из мелодии. Маленькие сирены лодок, стоящих в порту, должны были соединяться группами, чтобы составить аккорды для аккомпанемента. Дирижировать всей этой симфонией должен был Авраамов, стоя на батарее и указывая артиллеристам момент, когда они должны были стрелять из портовой пушки. В то же время на каждом нефтяном промысле знали, после какого выстрела их сирена должна была загудеть. Авраамов добился разрешения и денег на это у соответствующих учреждений. Подготовка длилась очень долго и была действительно сложна.
В торжественный час большая группа людей собралась слушать, но симфония потерпела крах. Послышалась пушка, гудок, пушка, другой гудок и вдруг пушка замолкла. Замолкли и сирены, потом каждая начала издавать свой звук как попало, сначала поодиночке и затем все вместе заревели, что есть мочи. Оказалось, что на горизонте появилось судно, и начальство запретило пушке стрелять. Авраамов заявил, что, несмотря на неудачу, он никогда не чувствовал себя более великим, чем когда дирижировал пушкой 60–верстым оркестром.
Авраамов прожил еще немного в Баку на полученные за свою симфонию деньги и, взяв у знакомых взаймы сколько удалось, исчез из города, покинув жену, которую уже успел за это время завести. Злые языки говорили, что он систематически объезжал разные города и покидал их, оставив за собой долги и местную жену.
* * *
В Наркомпросе Вячеслава пригласили заведовать секцией искусства. Эта работа брала у него много времени и ввела его в междуусобную войну музыкантов. Дело шло о назначении нового директора консерватории: одни стояли за Айсберга, другие за ростовского Пресмана. Консерватория одно время даже раскололась на две, и я была ученицей в одной и преподавательницей в другой половине. Жил в Баку некоторое время Глиэр, которого азербайджанское правительство выписало в надежде создать тюркскую национальную оперу.
Были интересные гастроли. Из них запомнились мимолетный концерт двух молоденьких, начинающих артистов: Горовица и Мильштейна. Я была в восторге от Горовица, а мне говорили: «Не увлекайтесь, он продержится два или три года; он кокаинист».
В опере стареющая Айседора Дункан танцевала нам «Интернационал» при кроваво — красном освещении. Мы смотрели из литерной ложи, и мне это запомнилось, как danse macabre.
Образовались многочисленные дружеские связи с артистическим миром.
* * *
И вот в один прекрасный день (уже в конце нашего пребывания в Баку) Вячеслав получает совсем невероятное предложение. К нему приходят режиссер оперы Боголюбов и мой преподаватель композиции Попов и просят его написать им либретто для оперетты, которую они хотят поставить. Сюжет у них есть — это пьеса Косоротова «Мечта любви». Попов напишет музыку, Боголюбов займется постановкой. Вячеслав часто удивлял близких своими неожиданными реакциями, — он согласился.
Он вообще очень любил, когда ему заказывали стихи. Кроме того, он был чрезвычайно любопытен и, думается мне, что небывалое предложение создавать либретто для оперетты его позабавило и увлекло. Он с оживлением начал работать над новым для себя жанром; стихи выливались яркие, шуточные, задушевно — лирические. Друзья взялись за дело с энтузиазмом. Каждый вечер «Мишпо́» приходил к нам, слушал новые стихи Вячеслава и показывал ему сочиненные мелодии. Всё коллективно обсуждалось.
«Любовь мираж?» (так переименовал Вячеслав эту пьесу) до сих пор не издана. Вот «предисловие» к оперетте, написанное уже в Риме, и несколько строк из либретто:
На совести моего уважаемого приятеля, известного оперного режиссера Николая Николаевича Боголюбова, желавшего, по — видимому, испробовать на мне свой способ лечения ипохондрии, — на его совести, заявляю я, тот сомнительный факт моей литературной биографии, что во время совместного пребывания нашего в городе Баку я, поддаваясь его упрямой прихоти, написал эту полу — шутливую, полу — печальную пьесу по канону оперетты — мелодрамы. Легкомысленные куплеты и чувствительные дуэты немедленно, вдохновенно и весело облекались в столь же «каноническую» музыку другим моим добрым приятелем и явным сообщником первого, профессором бакинской консерватории Михаилом Евгеньевичем Поповым. На совести H. H. Боголюбова и «авиапролог», им — как картина — придуманный, и… — но эту последнюю вину мне всего труднее ему простить! — повелительное и роковое внушение: заимствовать основу сюжета непременно из драмы Косоротова «Мечта любви». Скованный тягостными узами с нелюбимою «Мечтой», напрасно объявлял я ей войну на взаимоистребление: все же ее завязка послужила мне отправным пунктом. Что из всего этого вышло, пусть судят те, коих может занять произведенный нами опыт химического превращения элементов.
Рим, 1 октября 1924 г.
В пьесе представляется, как Крушинин, разочарованный в жизни, встречает Мари Бланпре́. Мари тоже во всем разуверилась: она талантливая актриса, но ей не удалось сделать карьеры; ей остается одна дорога: кафешантан.
Между Крушининым и Мари загорается настоящая большая любовь. Они оба в нее не верят, считают ее миражем, борятся с нею и расстаются. Крушинин доходит до попытки самоубийства, но в конце судьба неожиданно соединяет влюбленных, и пьеса кончается счастливо. Нет, любовь не мираж и может спасти человека. Всё действие происходит в шантане. Форма пьесы — оперетта, а поэтому все изложено как бы шутя, в веселых и легкомысленных куплетах, которые перемежаются со стихами лирическими и глубокими.
ДЕЙСТВИЕ I
Хор:
Вечерами
Над толпами
Нам горит маяк,
В заломленных шапо — кляк
Манит гуляк.
Меж платанов
И каштанов
В даль звенит канкан:
Для сердца кто обманов ждет,
Идет в шантан.
Здесь мы жадною грудью вдыхаем
Наши чувства нежащий дурман.
Милых женщин вольно мы ласкаем:
Лёгок нрав их, сладостен обман.
В танце медленном пары сплетаются:
Бабочки кружатся так у костра.
Влажные очи в глаза улыбаются,
Томные жгут и томят до утра.
В вихре пьянительном пары сливаются,
В пахнущем пряно тумане плывут;
Дерзкие очи в глаза улыбаются,
Негу сулят, и ласкают, и лгут.
Вечерами
Над толпами
Нам горит маяк
В заломленных шапо — кляк
Манит гуляк.
Меж платанов
И каштанов
В даль звенит канкан:
Для сердца кто обманов ждет,
Идет в шантан.
СОСТЯЗАНИЕ КОЛЕН
Господин с орхидеей в петлице
(стуча молоточком):
Колен открыто состязанье.
Как так? Всё тотчас доложу.
Но прежде славное сказанье
По новым данным изложу.
На пристань гость всходил к Елене.
Дул Норд*… Одежды вдруг взвились.
Увидел… что? — ее колени…
И страстью воспылал Парис.
Прекрасного поклонник пола,
Быть должен знатоком колен:
Парисова так учит школа,
Так сам познал он сладкий плен.
Публика (хор):
Да, вкусы различны.
Так вот что — браво! —
В Елене античной
Пленило его.
В прекрасной Елене
Прекрасней всего
Нашел он колени!
Mais c’est du nouveau!
(меж тем в пролетах трельяжа выставляются две пары колен)
Господин с орхидеей:
Дианы легкой в них упругость,
Венеры женственной в них лень,
Холмов роскошная округлость,
Долинок розовая тень.
О, эти выпуклости, ямки!
Какие вам найду слова,
Какие дам, художник, рамки,
Но, вот, мечта любви — жива!
Вот осязаемо вступает
В оправу из цветов — мечта,
И к двум защитникам взывает
Двух пар стыдливых нагота.
Публика (хор):
Да, вкусы различны,
Как стили колен:
* Норд — бурный северный бакинский ветер (прим. автора).
То — мрамор античный,
А то — порселэн.
Сравнить без обиды
Их формы легко:
Там идол Киприды,
А тут Рококо.
ДЕЙСТВИЕ II
Хор рыбаков:
Кормит нас море родное,
Помнит прилива час,
Издали хлынет седое,
Подхватит рыбачий баркас.
На́ версты мели затопит
В буйном разбеге вода;
Ветер гуляет, торопит,
Закидывать в глубь невода.
Море уловом откупит,
Всё, что награбит у нас;
С рокотом прочь отступит,
В урочный вернется час*.
Крушинин:
Дивишься ты моей отваге,
С какой встречаю новый час,
Что принесет, быть может, нам разлуку,
Когда сожму в последний раз
Я ускользающую руку.
Но, если любишь ты, что разлучило б нас?
Мари:
Не лжет, о милый, эта ласка.
Но я несчастнее тебя:
Со мною ты расстанешься, любя,
А я… я вся — живая маска.
Скинь маску — и лица не сыщешь моего,
Вынь сердце, — не найдешь ты в сердце ничего, —
Обиды разве, да кручину…
Мне чувствовать дано, лишь воплотясь в личину.
* «Кормит нас море родное» — впервые напечатано по черновой записи в тетради I римского архива В. Иванова, в IV, 98.
ДЕЙСТВИЕ III
Крушинин:
Лишь вечер настает, я должен эту муку,
По капле пить, как вор, тайком от липких глаз,
Опять переживать ту встречу, ту разлуку,
В притоне, где ее увидел в первый раз.
И стены пошлые заветны и священны,
Как склеп чистилища, где ждет меня дрема,
Которой слаще нет из всех огней геены,
И пыткою манит поганая тюрьма.
Отчаянье, как смысл вселенной, как разгадка
Последняя всех тайн, отчаянье, как хмель,
Со мною шепчется так вкрадчиво, так сладко;
«Все жизни марева — лишь путь ко мне; я — цель».
«Я смерч, Я смерть, Я смех волшебницы Морганы,
Я в белом саване, твоя Мари Бланпре…»
Чу, похоронные по ком гудят органы?
И свечи перед кем горят на алтаре?
«Иди к Мари: умри. На снежные поляны
Мари зовет: умри. Иди к Мари, к сестре.
Я — цель. Я — смерть. Я — смех мерцающий Морганы.
Вся в розах, я — скелет: закружимся в игре…»
* * *
Летом 1924 года случилось у нас событие, давно желанное и одновременно неожиданное. 1924 год был годом пушкинского юбилея, 125 лет со дня его рождения.
Вячеслава пригласили в Москву для выступления на торжественном чествовании Пушкина в Большом театре. Он уехал один, а мы с Димой продолжали нашу мирную повседневную жизнь[86]. Вдруг получается из Москвы телеграмма от Вячеслава с сообщением, что мы едем в Венецию, и с поручением: забрав все вещи, прибыть в Москву. Это сообщение меня так взволновало, что все последующее мне казалось полусном.
Я хорошо знала, что существует на свете Венеция и вообще какая‑то «заграница». Но за событиями в России все это стало таким далеким, что воспринималось мною как нереальность. Есть только Россия, а позади где‑то что‑то неясное, туманное.
Речь Вячеслава в Большом театре имела успех[87]. Он воспользовался благоприятной минутой, чтобы возобновить просьбу — отпустить его с семьей за границу[88].
В правительстве тогда было чередование полос: то все идет легко, просто, все позволено, то всех подтягивают и во всем отказывают. Прошение Вячеслава попало в благой момент. Он был командирован на шесть недель в Венецию по случаю открытия Советского павильона на Biennale. И что было самое трудное: его семье разрешалось его сопровождать.
Приготовления к путешествию прошли как в тумане. Не помню ни хлопот, ни проводов на вокзал, ни того, как мы с Димой очутились в поезде, как испытывали горечь расставания с друзьями, с родными Настенькой и Сержиком.
И вот, после сложного путешествия мы оказались в Москве. Нам отвели комнату рядом с Вячеславом в Цекубу — учреждении, находящемся на улице Кропоткина (тогда Пречистенке). Последовал длинный период бесконечных бюрократических хлопот, неизбежных при выезде за границу.
Мы оказались в Москве в период НЭПа. Не знаю, как описать угнетающее, мрачное настроение, которое меня охватило по приезде. Я уехала в 1920 году из города, где царил кошмар, где были пережиты голод, болезни, смерти, но душа была жива, а духовная жизнь даже повышена. В 1924 году было куда страшнее. Материально было неплохо, но стоял какой‑то дух тления, потеря всякой надежды. Я говорю, конечно, о своих личных ощущениях, но мне кажется, что они разделялись и друзьями, с которыми я повидалась перед отъездом на Запад.
Одно только было благотворно для меня. Если бы я не видела при отъезде НЭПа, у меня была бы страшная тоска по Родине. НЭП избавил меня от этой невзгоды.
* * *
К двум — трем месяцам, которые Вячеслав провел в Москве, относится и начало новой дружбы, которой было предопределено расти и длиться всю его жизнь. Я говорю о встрече с Ольгой Александровной Шор. Она вскоре стала любимым членом всей нашей семьи.
Она мне рассказывала позже, что у нее впервые зародился интерес к поэзии Вячеслава Иванова на его лекции в Обществе Свободной Эстетики. Ей было только 14 лет, но мать взяла ее с собой (контрабандой — гимназисткам присутствие на лекциях воспрещалось). Вернувшись домой, Оля всех поразила: она без труда изложила, во всех утонченных подробностях, труднейшую лекцию.
С тех пор O. A. стала следить за творчеством Вячеслава. Впервые встретилась она с ним в 18–м или 19–м году: Вячеслав и еще кто‑то — кажется, философ Шпет — были приглашены к Гершензону. Он жил в то время один, был беспомощен в хозяйстве и попросил молоденькую Ольгу взять на себя роль хозяйки на тот вечер. Она смутилась и обрадовалась. Это было для нее большим переживанием.
Пребывание Вячеслава в Цекубу сблизило их. O. A. заходила к нему ежедневно, происходили долгие беседы. Но об Ольге расскажу позже.
У Вячеслава было до отъезда много дел. И тут Ольга сразу оказывала существенную пользу.
Это были и бесконечные бюрократические формальности для выезжающих за границу. Например, каждый путешественник имел право везти с собой три рубашки, а на четвертую уже требовалось разрешение. Разрешение выдавалось в соответствующем учреждении, с соответствующей очередью и волокитой. Нужно было получить столько разных разрешений из разных учреждений, что в последние десять дней мы бегали все втроем — O. A., я и Дима, — и все порознь.
Помню, как за три дня до отъезда, когда все у нас было готово, пришла прощаться с Вячеславом поэтесса Майя Кудашева и подарила ему маленькую вазочку, умоляя его взять этот сувенир с собой. К нашему отчаянию, вазочка попала в категорию предметов искусства и потребовалось опять куда‑то бежать и хлопотать о разрешении.
Чтобы собрать все, что мы хотели взять, мне пришлось сделать большое усилие над собой и войти в квартиру в б. Афанасьевском переулке — наше последнее жилище в Москве. Этот адрес у меня был связан со столькими страданиями, что я его избегала, как побитая собака боится вернуться на место, где ее били. Вошла я с черного хода. Наши комнаты (в квартире, которую мы делили с соседями) стояли так, как мы их оставили четыре года назад. Мы взяли три сундука, некоторые рукописи (главным образом моей мамы), кое — какие книги и одежду. Остальное осталось в Москве на попечении Кассандры[89].
* * *
Вячеслав с радостью встречался со старыми и новыми друзьями. Помещения Цекубу были переполнены с утра до вечера людьми, которые желали с ним попрощаться. В письме к Ф. А. Степуну от 30 июня 1963 года O. A. Шор вспоминает[90]:
Что В. И. откладывал отъезд — это совершенно неверно: было сложно вызвать из Баку детей, где Лидии нужно было все ликвидировать, было волокитно получить все пропуска и разрешения. А что В. И. чествовали — это верно, хотя слово «чествовали» не совсем удачно. Не было ничего официального и организованного. Только вдруг к В. И. со всех сторон стали стекаться люди для наставления, для интеллектуального и душевного укрепления. Помню, как однажды незадолго от отъезда В. И., я, спеша к нему для подписи каких‑то бумаг для каких‑то разрешений, почти бегом направлялась в Це — Кубу, где В. И. жил как почетный гость. Еще издали увидела я длинную, извивающуюся людскую «очередь»; она начиналась у двери, ведущей в комнату В. И., тянулась через коридор, спускалась по небольшой лестнице и терялась где‑то в саду. «Здорово (мелькнуло у меня в голове), очередь за словом поэта, точно за хлебом или сахаром». Приблизившись, я увидела среди толпы Пастернака. Он, слегка склонившись, что‑то карандашом чертил в записной книжке. «Зачем Вы здесь стоите, Боря?» — подошла я к нему. Он вскинул свое смуглое лицо белого араба, сверкнул своими пронзительными, темными, с безуменкой, глазами: — «Зачем стою? — отозвался он грудным, немного театральным голосом, — пришел сюда со своими техническими сомнениями, да и не только техническими». Я рассмеялась: «Помилуйте, я не столь индискретна, чтобы задавать такие вопросы. Спрашиваю, зачем Вы стоите в общей очереди». Мы прошмыгнули боковым ходом. Боясь опоздать в соответственное учреждение, я сразу ушла. До сих пор сожалею, что не осталась тогда при их последней встрече. Быть может, та беседа подтверждала Ваше восприятие Пастернака как последнего символиста.
Были вечера у друзей. На одном из них, после прочитанной Вячеславом лекции, публика — как это часто происходило — стала требовать: «Стихи! Стихи!» Вячеслав наотрез отказался, заявив, что в Баку стихов не писал и что вообще больше поэзией не занимается, а лишь наукой. Он настаивал, что он не поэт, а «профессор»[91].
И вдруг распространился слух, что Вячеслав Иванов в Баку написал либретто для оперетты. Любопытство было возбуждено до крайности. В Цекубу было назначено частное собрание для чтения «Любовь Мираж?». В обширном зале собралось изрядное количество знакомых. Вячеслав читал, а я за роялем намечала музыку Михаила Попова и напевала главные мелодии[92]. Стихи многих пленили и возникло желание сделать публичное чтение этой вещи. Помню, уже были назначены место, день и час, готовы программы и приглашения, и вдруг чтение было официально запрещено, а пьеса объявлена «аморальной». Выяснилось, что многие были возмущены: «Как? Вячеслав Иванов, воспеватель недосягаемых идеалов, умопостигаемых сфер, вдруг пишет оперетку!» Это воспринималось как моральное падение.
Что в этой вещи могло смутить строгих моралистов (к ним позже в Сорренто присоединился и Максим Горький), мне неясно.
* * *
Приближался день нашего отъезда. И вот, почти накануне, случилось маленькое осложнение с Димой. Дима был патриотом, обожал гражданские праздники, парады, развевавшиеся красные флаги, — да ведь никаких других праздников он в своей жизни еще не видел. Как раз перед нашим отъездом Дима узнал, что Гера, старший из его бакинских друзей, поступает в комсомол. Это окончательно укрепило желание Димы поступить в пионеры, и он заявил Вячеславу, что хочет сделать это как раз теперь, до отъезда за границу. Вячеслав ему говорил, что это очень важный шаг, требуется время, чтобы обдумать. Дима плакал, говорил, что он «принципиально» хочет это сделать теперь, что он все уже обдумал, что запрещать ему так поступить есть тирания. Бедный Дима очень страдал, но Вячеслав был непоколебим.
Между тем наступил час нашего, казавшегося нам невероятным, отъезда в Италию: 28 августа 1924 г., в день блаженного Августина, которого Вячеслав очень почитал. Были забраны «три сундука, чемоданы. Мы отправились из дома с опозданием.
Машина мчалась через московские улицы. Водитель все чаще и чаще нажимал на гудок. А из гудка вырывались взволнованные звуки. «Это он кричит: Ри — га, Ри — га», — сказал Вячеслав. Рига была первым городом внешнего мира.
Мы еле успели на поезд. Были милые лица провожающих. Поезд тронулся, вокзал исчез. Мы сели в вагон, где уже устроились огромная собака и карлица, которую выписывала, кажется, в Грецию, труппа актеров — карликов.
Потом была граница: паспорта, длинная процедура таможни. Опять все сели в вагон. Поезд снова тронулся, сначала поехал медленно, медленно. Красноармеец, сидящий с пачкой документов в руках, встал, подошел к двери вагона и спрыгнул. Поезд стал прибавлять ходу. Перед нами в окне появилась длинная канавка и на двух столбах прикрепленная большая надпись, направленная по ту сторону границы: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Минута была торжественная. Мы открыли бутылку и чокались. Осуществлялось, наконец, страстное желание Вячеслава: — «Я еду в Рим, чтобы там жить и умереть».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. РИМ
Началось путешествие. Все воспринималось как во хмелю, как что‑то веселое и неправдоподобное: карлица, которую мы на ночь помещали в сетку для багажа, из соседнего купе чинный пес сенбернар, смеющиеся немцы на границе. При въезде в Берлин читаем объявление: в опере дают Мейстерзингеров, если поспешить, успеем[93].
Отправляемся чуть ли не с вокзала в театр, погружаемся в вагнеровский океан, вокруг на галерее благоговейная публика, некоторые дамы взяли с собой работу и вяжут. Дима тихонько спрашивает, что происходит на сцене; а я помню лишь смутно из истории музыки, что идет конкурс певцов, что осмеивают педантов и что герой — сапожник. Во время антракта мы с Димой идем в буфет, заказываем пива; нас что‑то спрашивают; мы отвечаем наобум. Нам дают по огромной кружке пива. Возвращаемся. Хмель нас одолевает, мы отяжелели. «Он все еще сапоги делает?» — спрашивает Дима. Через полчаса он облокачивает голову на мое плечо и крепко засыпает. Я смотрю со снисходительной строгостью, — он еще маленький. Проходит время, и вдруг на другое мое плечо склоняется голова заснувшего Вячеслава. Я возмущаюсь. Спать на Вагнере! Святотатство! Но, увы, минут через пятнадцать что‑то и меня неукоснительно погружает куда‑то в глубь бьющихся музыкальных волн. Я сдаюсь. Не знаю, у кого из нас первого блеснула мысль: а что, если уйти? И мы позорно пробираемся мимо шокированных немцев и выходим на ярко освещенную шумную улицу. Сразу просыпаемся, но все еще как бы опьянены. Вот зазывно блещут огнями рекламы, вот роскошная пивная. Мы сразу в нее.
* * *
Через несколько дней путешествие продолжается. Мюнхен. Приезжаем рано утром, идем осматривать город, оказываемся опять в какой‑то пивной. Подают белые колбаски и черное пиво. Утром это непривлекательно. Меня ждет большое разочарование — собор не такой, в который в я детстве влюбилась, когда его видела с Костей в 1907 году. Тогда поезд стоял в Мюнхене меньше часа, и мы пробежали по незнакомому городу через узкие переулки к собору. Собор остался у меня в душе, да и теперь еще стоит, как сказочное кружевное марево, как огромный лес розовых взлетающих ввысь шпилей. Все это тогда внезапно явилось перед нами в конце узкого переулка на фоне не пробудившегося еще, еще не реализованного утреннего неба. Теперь собор был совсем не тот. Да и весь остальной Мюнхен казался мне формальным гипсовым слепком каких‑то классических архитектур.
Едем дальше. Я страдаю от сигар. Купе набито курящими. Поезда не наши, русские: они качаются на узкоколейном полотне и идут быстрее. Меня все время тошнит. Я без удовольствия думаю, что теперь придется смотреть на все эти до пошлости избитые картины Венеции.
И вот мы в нее попадаем поздно ночью. Чтобы проехать в гостиницу, единственное средство — нанять частную гондолу. Город сразу овладевает мною, как по волшебству. Плывем в тишине, как‑то жутко — избитые картины Венеции отошли, как нечто, не имеющее ничего общего с реальностью. Едем долго, сложно. Приезжаем. Нас помещают в маленьком пансионе. Лежу в постели. Через открытое окно слышится гитара, кто‑то поет — классическая серенада. На следующее утро веселый гам и крики: оказывается, что это площадь рыбного базара. В Венеции мы совсем закрутились, бегая по городу, так что вспомнили о нашей обязанности пойти в советский павильон (причина нашей командировки) лишь в последний день, за час до его закрытия.
Пробежали и через итальянский. Там Диму поразила гигантская мраморная голова, с гордо выдвинутой челюстью. Кто‑то объясняет шепотом: «Это Муссолини». Дима слышал это имя в Баку, но не знал точно, что оно значило. Знал только: что‑то страшное.
Опять поезд узкоколейный, опять укачивает. Во Флоренции другой трехдневный праздник, но почему‑то мне он меньше врезался в память. Затем последний отрезок пути — поезд в Рим.
Здесь забавный эпизод: Вячеслав во Флоренции мне купил для чтения французский журнальчик, и также нашумевший тогда роман «La garçonne» для ознакомления с теперешними временами[94]. Поезд ехал через чудные пейзажи Тосканы и Умбрии, перед окнами точно сменялись фоны картин мастеров XVI века. А я сижу, уткнувшись в свой журнальчик, и не смею взглянуть в окно, чтобы не довести тошноту до крайности и не отравлять жизнь другим. Сказать, что тошнит, — будет еще хуже, если говорить об этом. «Смотри, смотри в окно!» Не смотрю, и вдруг журнальчик выхватывается у меня из рук и летит по параболе в умбрийские равнины. Стало смешно: Вячеслав был вспыльчив и ревнив — он решил, что я все забыла из‑за «Garçonne». Он ее возненавидел, и после еще долго, месяцами, то и дело меня попрекал: «Это ты сказала, как Garçonne», «Ты под влиянием Garçonne», «У тебя манеры из Garçonne».
* * *
Первое пристанище наше в Риме — пансион Рубенс, кажется, тогда на виа Бельсиана. Адрес мы получили еще в Москве. Мы попадаем в Рим в самый замечательный его сезон: сентябрь, октябрь. Утром вижу еще из постели, как солнышко через притворенные южными ставнями «персианами» окна радостно играет золотыми струйками по кирпично — красному каменному полу. В пансионе живут два русских служащих советского посольства. Один старается нас познакомить с Италией, — «Итальянцы вовсе не лентяи, как говорят, а невероятные работяги. Главное для них добывать деньги — байоки, байоки»[95]. К нашему новому знакомому приезжает после короткой побывки в России жена. «Ну, как там?» — «Озоном подышала, душу отвела». Вот как устроен свет! Ей там озон, а нам кажется, что озон в Риме!
В пансионе живут также и итальянцы. Молодой женский голос провозглашает: «Buona sera, signor capitano»[96], и мы с Димой прислушиваемся, стараясь усвоить хорошее произношение и певучую каденцию языка. Русский бы сказал ясно «Буона сера», а конец фразы проглотил бы и произнес невнятно, а итальянец, наоборот, повышает к концу фразы и «капитано» отчеканивает.
На третий — четвертый день после нашего приезда — политическое событие: на днях в Париже фашисты убили известного итальянского деятеля — коммуниста. Теперь в отместку коммунисты убили в Риме видного фашиста. Это было в трамвае, он упал на руки своей дочки — подростка лет четырнадцати. На сегодня объявлены его похороны. По обеим сторонам главной улицы, Корсо, собралась довольно густая толпа. Посреди улицы идет кортеж торжественно и мрачно: солдаты, военный оркестр, знамена; а за катафалком сам Муссолини со своими приближенными[97]. Мы стояли в первых рядах зрителей. Вячеславу шепнули тихонько на ухо: «Вот этот, это — Муссолини». Дима был еще мал ростом, и не услышал, и потому не увидел его. Когда он это узнал, он страшно на нас обиделся, однако торжественность процессии ему чрезвычайно понравилась, и он даже заявил: «Пожалуй, монархия лучше, чем республика».
Пребывание в пансионе было кратким.
* * *
Мы сразу начали искать постоянное жилище, и его нашел Вячеслав. Вячеслав был до того не приспособлен к практической жизни, что не сумел бы себе не только яйца приготовить, но даже воды вскипятить, чтобы заварить чай. Да никогда ему и не пришлось этого делать. Но он великолепно умел торговаться, делал это с увлечением и всегда очень успешно. Помню, как в один прекрасный день, когда мы жили в Павии, было решено сшить мне вечернее платье. Вячеслав отправился с Ольгой Александровной и со мной покупать черный шелк. Он ничего, конечно, в шелках не понимал, но, важно спросив цену, сразу возмутился ответом и предложил половину. Переговоры с торговцем длились бесконечно. Голоса настолько повысились, что казалось, что дело дойдет до катастрофы, но неожиданно все кончилось дружбой: Вячеслав настоял на своем, и торговец воспылал к нему уважением и любовью.
Вячеслав сговорился обо всем с хозяйкой, которая должна была нам стряпать и счета расходов приносить всегда ему лично. На нем лежала тогда тяжелая забота: на какие средства мы сможем жить? Кроме того, он явно старался освободить меня от хозяйственных работ, чтобы я могла всецело отдаться композиции. Об этом он всегда очень заботился.
Наша милая квартира находилась на виа делле Кватро Фонтане, № 172, два шага от пьяцца Барберини с ее поросшим мохом и тиною Тритоном. Теперь его стали чистить каким‑то химическим снадобьем, и он мерзнет, голый, несчастный и непристойный. Дом был старый, со стенами, украшенными орнаментальными фресками, черными на белом. Внизу следила за входящими швейцариха — ябедница. (Позже она обвиняла Мейерхольда в аморальности за то, что он целовался на лестнице со своей супругой Зинаидой Райх.) Лестница была благообразная, хотя скромная. Подниматься нужно было пешком на пятый этаж и звонить в дверь с медной дощечкой, где значилось: Maria Cianfarani, vedova Placidi[98].
Синьора Плачиди открывала дверь и неизменно рассыпалась радостными приветливыми восклицаниями. Ей всегда было душно, она щедро откидывала поношенное, непонятного цвета платье, чтобы прохладить вспотевшие полные плечи и немного выступающие груди. Она впускала нас в крошечную переднюю, затем в коридорчик, заставленный по обеим сторонам сундуками, корзинами, всяким скарбом, потом в маленькую крохотную комнату, которая служила ей и ее сыну столовой и где внутри буфета, среди стаканов и графинчиков, сидел большой белый и злой кот. Наконец, она доводила нас до нашего жилища. Оно состояло из трех комнат. Первая — проходная, была вся занята большим обеденным столом. Сбоку были втиснуты — с одной стороны — выцветший красный бархатный диванчик, а с другой — трюмо с большим зеркалом. Окно выходило во дворик дома шотландских семинаристов. «Тут были огромные деревья, полные певчих птиц. Стоял весь день хор щебетаний, но ректор семинарии велел срубить деревья — птицы, мол, мешают ему спать», — говорила синьора Плачиди. Из этой комнаты можно было пройти налево — к Вячеславу, направо — к нам с Димой. У нас, кроме двух кроватей, помещался большой и чрезвычайно старый рояль, взятый мною напрокат. Крошечную комнату Вячеслава с венецианским окном нельзя лучше описать, нежели он сделал это сам в своем римском дневнике 1 декабря 1924 г.:
Мне хорошо и уютно в моей комнатке, которая представляется мне порою то каютой, то отдельным купе вагона — и тогда чувство bien être’a[99] еще острее. В Баку я четыре года не имел такой милой scrivania[100], располагающей к писанию. Забываю, что окно — дверь в пространство, огражденное балконной решеткой. В нашем salottino[101] и повернуться нельзя, но в нем рояль, на котором Лидия, сочиняя, странно — пифийски бормочет на клавишах под сурдинку[102].
(Тут ляпсус памяти: «бормотанье» шло из нашей с Димой спальни.)
Пол был мощен, как во всех итальянских домах, так называемыми mattonella — маленькие плитки майоликового кирпича. У синьоры Плачиди все было старинное, и пол образовывал постоянно лысины — места, из которых выскочили плиты. Сверху синьора постилала деревянные доски, чтобы удобнее было ходить. Нам казалось, что наша квартирка была идеальное и уютнейшее гнездышко, но она, по — видимому, производила впечатление крайней нищеты. Когда в 1928 году была выдана премия в 1000 лир лучшему студенту курсов композиции в Санта Чечилия и двое моих товарищей, конкуренты по получению премии, как‑то зашли навестить меня, они пришли в такой ужас от нашей квартиры, что дружно настаивали, чтобы премия была выдана именно мне. Та же реакция, когда моего отца посетил Петр Семенович Коган, президент Государственной Академии Художественных наук. Благодаря его хлопотам, моему отцу была назначена от Академии субсидия на год[103].
Стряпала г — жа Плачиди вкусно. Обед, по требованию Вячеслава, был всегда тот же самый: fettuccine (плоские макароны) со сливочным маслом и пармезаном, бифштекс с салатом и картошкой, кофе. Кофе у нее не был блестящий: она его оставляла в кофейнике в горячей золе и предоставляла ему тихо кипеть часами со всей гущей. Стряпала она на деревянных углях, которые раздувала посредством веера из петушиных перьев. Веер был весь общипан. Мы с Димой как‑то решились ей подарить новый; она страшно обиделась и бросила его куда‑то в угол. Она была против всех новшеств. Зимой без отопления (очень редкая вещь в римских домах того времени) было очень холодно. Мы купили керосиновую печку. Синьора очень рассердилась: «Мы всегда жили без этого». Каждый день, проходя мимо печки, она ненароком давала ей маленький пинок ногой. Самой драматичной стычкой с консервативной нашей синьорой была стычка по поводу уборной. Она была построена — как часто в старых римских домах — в виде деревянной маленькой кабинки, опирающейся на две узкие балки, прикрепленные к внешней стене дома. Под балками кабинки пустота до самого основания дома. Я заметила, что кабинка уборной становилась с каждым днем все более и более наклонной. До того, что нужно было держаться за ее стенки, чтобы стоять. Посмотрев на нее из окна лестницы, я увидела с ужасом, что балки были совсем гнилые и наполовину надломлены. На наши жалобы синьора Плачиди начала бурно протестовать: «Я тридцать лет живу в этом доме, и никто никогда этого не замечал!». — «Мы пожалуемся консьержке». — «Боже сохрани! Ей ни слова! Она любовница самого синьорино» (синьорино — «молодой барин» — она называла, по старинному обычаю, сына хозяина дома, хотя сыну этому было за пятьдесят). Все же мы так настаивали, что в один день явилась целая комиссия: синьорино, консьержка и инженер. Вердикт: входить в уборную — смертельная опасность. Вход воспрещен. На двери повешена печать. Балки будут менять. Обмен балок длился много дней, а пока что нам приходилось пользоваться публичным туалетом на соседней площади Барберини.
Синьора Плачиди была вдова и жила вдвоем со своим единственным сыном Марио. С мужем она провела очень тяжелые годы. Он ее постоянно покидал и отправлялся в какие‑то далекие путешествия, где не только промотал все их небольшое состояние, но еще приобрел какую‑то неизлечимую болезнь. Долгое время синьора Плачиди ухаживала за ним. Весь день и всю ночь не смела сомкнуть глаз, трепеща от страха за сына: муж спал с заряженным револьвером под подушкой. Он заявил, что, когда почувствует, что умирает, он застрелит сына и жену. «Как вы, беззащитные сиротки, сможете жить без меня?». Оставшись вдовой, синьора Плачиди всецело посвятила себя сыну. Добрые священники — иезуиты приняли его в Collegio Massimo, самую аристократическую школу Рима, не требуя платы, и всячески ей помогали. Марио было довольно не по себе в школе — товарищи были все либо аристократы, либо дети богачей. Но главной бедой было то, что, как Марио ни старался, у него ничего не выходило с учением. Пришлось оставить школу на полдороге.
Когда мы поселились на виа Кватро Фонтане, Марио был двадцатилетним застенчивым и нежным красавцем, — казалось, прямо сошедшим с итальянской фрески. Он ничего не делал весь день, но гордился, что он был записан в «мушкетеры» Муссолини («moschettieri di Mussolini» — 50 юношей — добровольцев, составляющих личную гвардию Дуче). Фашисты стали во главе Италии лишь в 1922 году. В 1924 году это было еще молодое, не совсем укрепленное движение, предмет увлечения многих молодых энтузиастов. В торжественных случаях Марио надевал свой черный, расшитый серебром мундир, черную феску, за пояс кинжал, и становился, если это возможно было, еще более красивым. Сам же Муссолини в те годы жил совсем близко от нас в доме сенатора Титтони, и из наших окон можно было любоваться через красивый двор на терраску его кухни. Из нашего подъезда мы часто видели его возвращающимся верхом с прогулки. Понятно, что весь квартал был полон полиции. Мы с Димой даже узнавали разных шпиков и давали им прозвища. «Кто сегодня внизу, Пеппино?» — «Нет, Чичио».
Синьора Плачиди относилась к нам по — матерински. Диме давала ласково всякие прозвища. Называла его, например, «Чечевица», русское слово, которое она выучила, подавая нам любимую свою чечевичную похлебку, и которое ей очень понравилось. Звала его тоже «Ranocchio» — лягушонок, так как он любопытствовал, как это люди едят лягушек. Поэтому в один прекрасный день к обеду появилось блюдо из них, и мы все трое не без ужаса должны были протыкать вилкой на наших тарелках формы, столь похожие на человеческие бедра в миниатюре.
Я в первые два года римской жизни очень много работала по композиции. Это приводило в ужас синьору Плачиди: «Учиться очень, очень вредно. Я знакома с одной девушкой; как вы, она была ученицей консерватории, но еще, кроме того, записалась и в университет. Все училась, училась. И что же? Сошла с ума. Теперь она в сумасшедшем доме». Эта ненависть к школьному учению была сильно распространена в Италии. Говорилось: «После долгих лет учения, стольких лет тяжелых жертв». Нам было это странно слушать. Выехали мы из России в период, когда исключали из университета студентов «буржуазного происхождения». Многие умоляли только позволить им учиться, отказываясь от всяких дипломов. Были случаи самоубийств. В Италии философ Джованни Джентиле, друг Муссолини и министр народного просвещения, провел радикальную реформу школ. Были сильно повышены все программы и стало обязательным изучение латинского, а часто и греческого языков. Среди молодежи стоял вопль. Многие не осиливали школу, и, по словам синьоры Плачиди, измученные юноши кончали с собой.
Перед концертом, где исполняли симфонические произведения выпускников, она застала меня поздно вечером работающей над своей партитурой.
— Бросьте, идите спать.
— Но завтра партитура должна быть готова. Если я пойду спать, кто за меня ее сделает?
— Кто сделает? Мичьо («miccio» — по — итальянски «киска»), мичьо сделает это ночью.
Этот ответ привел в восторг Вячеслава, и мы потом всю жизнь употребляли термин «мичьо». «Мичьо» — это подсознательный работник, он же муза, вдохновение; работает он преимущественно во сне, когда мы даем ему волю, не мешаем.
Синьора Плачиди зорко наблюдала за нашими друзьями, готовая нас предупреждать и спасать, если мы доверялись нехорошим людям. Она особенно строго относилась почему‑то к итальянцам и покровительствовала иностранцам. Она уважала Ольгу Ивановну Синьорелли, жалела, как ребенка, виолончелиста Окорокова (моего бакинского приятеля, который старался устроиться в Риме, но потом уехал в Париж). Она высокомерно относилась к милому нашему другу поэту Дамиани (итальянцу), хотя он был директором Библиотеки Парламента. Она безапелляционно осуждала за то, что он холостяк, профессора Петтаццони, несмотря на то, что он был академиком. «Ах, оставьте, профессор, — говорила она Вячеславу, — если, дожив до такого возраста, мужчина не женился, не обзавелся собственной семьей, от него ничего доброго нельзя ожидать. Это плохой человек, будьте осторожны». Синьора Плачиди не знала тогда, что у Петтаццони была многие годы тайная любовь; он боялся жениться, чтобы не поразить горем свою ревнивую мать, и только когда та умерла, он, уже в почтенном возрасте, наконец, женился. Если бы синьора Плачиди знала это, она бы прослезилась от умиления.
Синьора Плачиди, подавая обед, обожала рассказывать последние новости. Она знала все обо всем, а точнее — как сама утверждала — всех: все любовные дела аристократического римского круга со всеми подробностями, все дела ватиканские, артистические, литературные. Она очень увлекалась сентиментальными романами Матильды Серао и как‑то, проведав, что та приезжает в Рим, скорее побежала на вокзал встречать своего идола. Она ожидала увидеть томную, высокорожденную красавицу одного из прочтенных ею романов. И что же… — «Ах, профессор, какая уродина, маленькая, толстая мещанка! Я так и остолбенела на месте!» — Дальше следовали биографические сведения о Матильде Серао.
Но вот на этот светлый период жизни синьоры Плачиди надвинулась грозовая туча: Марию влюбился в Лолу. Синьора Плачиди, конечно, ее невзлюбила, но она, кажется, действительно была неприятная и, во всяком случае, принесла Марио несчастье. Лола начала нашептывать синьоре Плачиди: «Твои жильцы тебя эксплуатируют, они иностранцы, они богачи, ты должна сильно повысить плату». Синьора Плачиди послушалась, Вячеслав отказался, и мы заявили, что переезжаем. (Это было осенью 1926 года. Наш переезд совпал с приглашением Вячеслава в Collegio Borromeo. Он уехал в Павию один, а мы с Димой наняли две комнаты на виа Бокка ди Леоне.) Между тем, Лола стала настаивать, чтобы Марио поступил на какую‑нибудь службу. Им удалось найти ему место (это уже было не при нас). Горе было в том, что Марио оказался неспособен к малейшему умственному усилию (по — видимому, плохая наследственность от отца). Не прошло двух — трех месяцев, как он заболел. Не знаю, успел ли он жениться; скоро он умер, оставив несчастную мать одну со своим невыносимым горем. Похоронив сына, синьора Плачиди переменила квартиру, переехала на виа Витториа и жила убого, сдавая комнаты. Она была очень набожна и каждое утро в шесть часов ходила на обедню в церковь на виа Кондотти. Изредка я ее навещала.
* * *
С первых же недель нашей римской жизни вдруг снова заиграла в душе Вячеслава поэзия — после долгого и, казалось ему, окончательного молчания[104]. Он с радостью ходил по знакомым местам — до или после прилежных занятий в Национальной Библиотеке: «Нагулял себе, — пишет он в Дневнике от 5 декабря 1924 года, — запас римского счастья»[105].
Так рождаются осенью и в начале зимы 1924 года «Римские Сонеты». Цикл написан свободно, без всякого заранее выработанного плана. Он начинается с приветствия:
Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, Вечный Рим.
Но сразу же выявляется и постоянная мысль о России:
Мы Трою предков пламени дарим[106].
«Неустанная дума, — записывает он в Дневнике от 2 декабря 1924 года, — о нашей революции и о распространении пропаганды о завтрашнем дне Европы. Signora Placidi берет своего Марио из мушкетеров Муссолини, которых снабжают пулеметами. Бесплодный и нерадостный день»[107].
Муза, однако, не оставляет поэта. Один за другим рождаются девять сонетов. В каждом из них описываются улицы и площади, близкие к нашей квартире, соседний Квиринал и статуи на площади перед дворцом:
Держа коней строптивых под уздцы…[108]
Счастливые, певучие воды римских фонтанов:
И сладостно во мгле их голос гулок…[109]
Баркаччиа, фонтан на пьяцца ди Спанья; тритон соседней с нами пьяцца Барберини; черепахи, которых навещал Вячеслав после работы в Библиотеке, расположенной тогда недалеко от них:
Через плечо слагая черепах,
Горбатых пленниц, на мель плоской вазы…[110]
Фонтан Эскулапа на вилле Боргезе; монументальный Треви, «весть мощных вод», куда мы заглядывали по воскресеньям, после обеда в маленькой траттории. И наконец, Пинчио, откуда любовались горящим закатом над лежащим перед холмом городом:
Пью медленно медвяный солнца свет, Густеющий, как долу звон прощальный; И светел дух печалью беспечальной, Весь полнота, какой названья нет. Не медом ли воскресших полных лет Он напоен, сей кубок Дня венчальный? Не Вечность ли свой перстень обручальный Простерла Дню за гранью зримых мет? Зеркальному подобна морю слава Огнистого небесного расплава, Где тает диск и тонет исполин. Ослепшими перстами луч ощупал Верх пинии, и глаз потух. Один, На золоте круглится синий Купол[111].Работа над «Римскими Сонетами» — это был радостный и немного смущающий отдых после долгих часов, проведенных в Библиотеке.
Большое исследование Вячеслава о «Дионисе и прадионисийстве», написанное и опубликованное в Баку, было основано на богатом материале, собранном в течение многих лет до революции. Книга — разные ее проекты — была задумана давно. Но в Баку не было никакой возможности познакомиться с литературой, появляющейся на Западе после Первой мировой войны.
Вячеславу хотелось спешно узнать, что было найдено, что опубликовано западными учеными. Он возвращался к Четырем фонтанам с тетрадками, наполненными бесчисленными выписками на разных языках. Несколько лет позже этот материал был им переработан для немецкого перевода его бакинской книги — перевода, им задержанного для дальнейших пересмотров и до сих пор не изданного.
Параллельно с работой над Дионисом появлялись другие мысли и планы. Вячеслав пишет статью о «Ревизоре», которую обсуждает в Риме с Мейерхольдом[112]. Он задумывает статью об «Идиоте», о которой просит Горький[113]. Ему смутно мерещится новая трагедия, «Антигона». Но он не уверен ни в сюжете, ни в возможности быть услышанным современниками.
О возможности «заинтересовать» и быть «услышанным» мы много с Вячеславом разговаривали. Дневник от 5–го декабря 1924 г.:
Пробуждаясь от послеобеденной сьесты, прислушиваюсь к музыкальному «бормотанью» Лидии и начинаю от души смеяться. Открываю к ней дверь, поздравляю с превосходной страницей музыкального юмора: она рада его сообщительности и тоже смеется. Когда я признался ей, что «брожу как вол, ужаленный змеей», влюбившись в нелюбимый замысел, не могущий никого захватить, и что благодаря смуте, внесенной в умы большевиками, никого и ничем вообще не могу заинтересовать, так как миросозерцание мое нынешнему в основе чуждо, — Лидия, по обыкновению драчливым тоном и вместе тоном непреложного оракула, изрекла: «Если сам заинтересуешься, то и другие заинтересуются, а если не заинтересуешься сам, не будет силы и других заинтересовать; миросозерцания же меняются каждые 10–12 лет и ровно ничего не значат; нужно, чтобы не миросозерцанием сильна была художественная вещь, а чистым золотом своего искусства, это золото в цене не падает». Таков приблизительный смысл; а слова ее разве передашь?
Одной из первых забот Вячеслава было продолжение моего музыкального образования.
— Вы едете в Рим? Там вы найдете Респиги, — говорил мне Александр Борисович Гольденвейзер, у которого я окончила курс московской консерватории по фортепьяно.
Респиги знали в России и сам он ее очень любил. Он ездил два раза в Петербург, учился у Римского — Корсакова и одновременно работал в императорском оперном театре, где получил по конкурсу место альта — солиста.
Мы приехали в Италию осенью 1924–го года, как раз к открытию курсов в римской консерватории «Санта Чечилия». В этом году Респиги был ее директором, а также профессором класса высшей композиции. Мы пошли к нему с Вячеславом, и я прихватила пачку своих работ, фортепьянных и вокальных. Он был чрезвычайно любезен, взял мои вещи с собой для более подробного ознакомления. При вторичной встрече он долго сидел с нами в своем классе, был очень внимателен, заставил меня играть ему мои композиции и особенно заинтересовался фортепьянной сонатой.
Ему было тогда 42 года — веселый, солнечный, черты лица похожи порой на льва, а порой на Бетховена.
— Ну, как он тебе понравился? — спросил меня Вячеслав.
— Не знаю, не легкомысленный ли?
— А мне он чрезвычайно понравился.
Я же была удивлена простотой, открытостью, полным отсутствием педантизма, которым нередко отличаются педагоги.
В Италии на факультете композиции учатся десять лет. В первые четыре года изучается гармония, в 5–6–ой и 7–ой год — контрапункт и фуга, и, наконец, на старших трех курсах — оркестровка и свободное сочинение.
Респиги записал меня на девятый, предпоследний год, засчитав все мои экзамены в России и, что самое главное, экзамен фуги, который я так мучительно сдавала два раза в Баку.
Через месяц начались занятия. Первый студент, которого я встретила в классе Респиги, был Фернандо Джермани, будущий знаменитый органист. Мы с ним всегда вместе возвращались из консерватории домой. Годом старше (уже на 10–ом курсе) был тогда Марио Росси, будущий известный дирижер. Всего нас было в мое время человек девять. Все сделали карьеру.
На первом уроке Респиги велел мне начать писать струнный квартет. Я уже написала в Баку две — три странички, но вещь остановилась и дальше не шла. Чтобы принести в класс что‑нибудь, я выучила несколько тактов и сыграла Респиги. Он выслушал, потом встал, подошел к окну и, отодвинув большую белую штору, так, что класс залился ослепительным римским солнцем, сказал мне улыбаясь:
— Почему Вы так озлоблены? Взгляните, какое чудное солнце!
Действительно, я приехала из России, хотя внешне радостная и молодая, но в глубине как бы с немного помятой, испуганной душой. И это темное, надломленное прорывалось в моих первых творческих опытах. Слова учителя о солнце руководили всей моей дальнейшей работой в Риме.
Старый квартет был брошен в ящик, и Респиги дал мне полную свободу писать то, что мне хотелось.
У него был редкий дар вслушиваться в сокровенный художественный замысел ученика. Он к нему относился с необычайной осторожностью, абсолютно замыкая в себе всякую попытку повлиять, даже просто подсказать какой‑нибудь прием, достигнутый им при его колоссальном опыте.
Много лет спустя, уже после моего учения в консерватории, я приносила ему свои сочинения. И несмотря на это, к моему огорчению, ни на одной из рукописей нет хотя бы самой легкой отметки его карандаша. (Единственная памятка — короткий список тесситур медных инструментов.)
Мы сразу занялись постепенным изучением инструментовки.
— Напишите что‑нибудь для струнного ансамбля. — Или в другой раз: — Для ансамбля деревянных инструментов.
— А какие руководства существуют для этого? Откуда мне узнать приемы и возможности таких ансамблей? Не самой же мне их выдумывать!
— Да, именно самой.
А то, как‑то позже, прихожу к нему:
— Маэстро, как мне сделать, чтобы получилось море?
А он в ответ только смеется. Подразумевается: «Ищи сама». Он просматривал, что ему приносили, и делал очень короткие технические замечания:
— Это неисполнимо на данном инструменте, это вне его диапазона.
Или:
— Этот пассаж слишком труден по такой‑то причине.
Такой метод требовал от нас большого творческогонапряжения. Мы посещали репетиции симфонических концертов, библиотеку, добывали себе партитуры. У меня было впечатление, что никто мною не руководит. К тому же, за два года моего учения в консерватории Респиги сделал две длинных гастроли по Америке, предоставив нас на время своего отсутствия совершенно ничего не умеющим дать своим заместителям. Когда я была на девятом курсе, он занимался с нами около 5 месяцев, а за время десятого — всего полтора месяца в начале учебного года, и полтора в конце. Я помню, как на уроках чтения партитур один профессор, завистник Респиги, старался убедить меня переменить педагога.
— Вы теряете драгоценное время. Он ничего вам не дает, да и вообще все время пребывает в Америке.
Меня сильно волновала мысль о предстоящих экзаменах. На девятом курсе требовалось написать на заданную тему первую часть струнного квартета. А на десятом, выпускном экзамене нужно было представить оперную сцену, по заданному либретто.
Я ни одного струнного квартета и ни одной оперной сцены до экзаменов не написала. Но вышло, что метод свободной и упорной работы привел к тому, что технически я оказалась подготовлена. Большой неожиданностью для меня оказалось первое публичное исполнение наших сочинений в конце года. Мы все писали каждый свое, все были очень разные. А во время концерта явно выступило, что все ученики Респиги носили на себе яркий отпечаток его школы, а ученики других классов отличались схоластичностью и отсутствием индивидуальности. Как приобретался этот отпечаток, для меня тайна. Он конечно относился главным образом к технике оркестровки.
* * *
То, что Респиги нам давал полную инициативу в работе и ограничивался лишь старанием угадать, почувствовать наши искания, развивало в нас, с одной стороны, силу творческого устремления, а с другой — полное чувство свободы в сочинении. В Риме я впервые почувствовала себя в музыке как бы свободной гражданкой. До этого я ощущала себя в рабстве: какие‑то правила, законы, синий карандаш преподавателя; к этому еще присоединялось специальное старание русских педагогов развивать в ученике смирение, сомнения, недоверие к себе. Трудно определить это ощущение, но теперь, хотя я и понимаю свой скромный масштаб в поле искусства, но гуляю по этому полю как свободный его член, — не как раб.
К концу моего первого учебного года (девятого курса) у меня было сильное драматическое переживание: я представила на ученический концерт маленькую поэму для камерного ансамбля, вдохновленную гетевским «Рыбаком» («Der Fischer»). Ансамбль (около шестнадцати инструментов) состоял из учеников консерватории, которые на первой репетиции играли с листа и врали, кто во что горазд, причем я сама, дрожа от испуга, ими дирижировала (что у меня не выходило): после репетиции я не знала, куда мне спрятаться.
— Боже мой! И эту позорную какофонию написала я? Стало быть, нужно сразу бросить занятия композицией. Все было иллюзией! Провал! И какую же неприятность я причинила Респиги!
Вечером мы пошли с Вячеславом и Димой на площадь Сан Пьетро. Был огромный праздник и купол собора был освещен живыми огнями факелов (это делалось раз в 25 лет). Мы стояли перед грандиозным разливом не то звезд, не то ручьев драгоценных камней, пронзающих взор лучистыми стрелами. От красоты захватывало дыхание — а внутри, в душе у меня ад.
На следующее утро иду, пристыженная, к Респиги, чтобы извиниться за свою позорную композицию и заявить, что бросаю консерваторию. С первых же моих слов Респиги начинает смеяться и говорит:
— Авторам никогда не следует ходить на первую репетицию, хотя обыкновенно они не выдерживают и идут. Не бойтесь, ученики разучат свои партии и все наладится.
И в душе сразу ожила надежда. Концерт сошел прекрасно.
Респиги любили не только его собственные ученики, но и вся молодежь консерватории. Помню бесконечную репетицию заключительного концерта 1926–го года, на котором исполнялась и моя поэма для большого оркестра «La Nuvola» (Облако) на поэму Шелли «The Cloud». Как всегда, почти весь оркестр состоял из учеников консерватории, неумелых, неопытных, и только перед самым концертом приглашались профессиональные музыканты, чтобы пополнить недостающие инструменты.
Июнь месяц, жара удручающая, руки не поднимаются от усталости, часы проходят за часами, конца — края не видно. Ученики пытаются дезертировать, но инспектор закрыл выходные двери на ключ. Вдруг кто‑то провозглашает:
— Идет маэстро Респиги!
Волна радости, спины выпрямляются, усталость исчезла, пассажи вдруг выходят.
В мое время (теперь это упразднили) старшие курсы композиции заканчивались «клаузурными» экзаменами (от итальянского
«clausura» — «уединение», «монастырское уединение»). Кандидата запирали на ключ в пустом классе с роялем. Если нужно было выйти, звонили, являлся сторож, провожал вас до двери уборной, а потом возвращался с вами обратно и запирал на ключ. Обед приготовлял швейцар и присылал его к нам на четвертый этаж. Только во время обеда кандидаты могли встречаться. Выпускной экзамен был самый длинный — нас заперли на трое суток. В классе была поставлена постель. Тюфяк и белье кандидаты доставляли сами; за перевозку платила консерватория. Мы должны были написать оперную сцену — арию со вступлением на данный нам отрывок либретто. Помню, что дело шло о какой‑то Марии, которая Бог весть почему очутилась посреди ночи одна в базилике Сан Марко в Венеции, да еще с бурными переживаниями: ее возлюбленный только что убил ее брата, — страсть, месть, упреки совести…
Для усиления впечатления я вставила в конце хор мертвецов под звуки ксилофона. Требовалось сочинить музыку и оркестровать ее. Говорили, что новый директор консерватории не зачтет экзамена, если партитура будет не закончена. В первую ночь я спала два или три часа, а во вторую и глаз не сомкнула. Помню, что написала двадцать семь страниц насыщенной оркестровки. Я была изнурена и сознавала, что, если экзамен не окажется действителен, второй раз в жизни у меня не будет сил его повторить.
За это время Респиги зашел к каждому из нас только на две или три минуты. И я еще раз испытала, какую силу он может излучать одним фактом своего короткого появления.
За эти три дня — маленький инцидент. Ко мне вдруг постучались и вошла комиссия профессоров. Меня начали допрашивать: подходила ли я к окну.
— Да, я выкурила папиросу у подоконника.
— И Вы ничего не видали?
Оказалось, что в соседнем классе один кандидат держал экзамен фуги, спустил с четвертого этажа в переулок на веревке корзиночку и потом ее вновь поднял. В корзиночке была кем‑то написанная для него фуга. Кто это сделал? Откуда узнали тему?
* * *
Ясно вспоминаю, в первый год моей римской жизни исполнение респигиевской симфонической поэмы «Пинии Рима» («I pini di Roma»). Она была освистана. Свистели в первой части, где игры детей прекращаются нарочито дисгармонирующими звуками трубы: это сторож, возвещающий закрытие парка. В другие разы свистели также в лирической части, где на холме Джаниколо поет соловей. Респиги вставил в свою партитуру пластинку с записью пения настоящего соловья (еще неслыханная новинка!). Респиги воспринял эти свистки весело. Чувствовалось, однако, что у него были враги в публике.
Среди музыкантов были две партии: одни стояли за Респиги, другие за Казелла. Последний несколько левее по направлению. Будучи ученицей Респиги, я не позволяла себе сближения с Казелла до последних лет его жизни. Это, конечно, было совсем неразумно, т. к. он был большой мастер, очень общительный, так что вокруг него была интенсивная жизнь.
Респиги был веселый, с большим чувством юмора, хотя думаю, что у него была сильно повышенная нервная чувствительность, которую он обуздывал гармонической, средиземноморской уравновешенностью. Его стиль, его вкусы были классические. С нами он обращался как старший товарищ и рассказывал нам все, что его позабавило или взволновало. Помню, как он дивился на первые успехи радио, как он восхищался фильмом Фрица Ланга «Кольцо Нибелунгов», как описывал бразильских змей, как потешался смешным зверьком «ленивцем». Раз он мне советовал пойти на биржу — он только что сам там был:
— Послушайте, какой там рой: завывания, крики, целые аккорды.
Он любил рассказывать смешные эпизоды. Как, например, при его возвращении из Америки на трансатлантике один итальянец тяжко заболел тифом и все плакал: «Вот я умру, меня бросят в море и не увижу я более ”мою Италию“». — «Ах, не беспокойтесь, — утешала его фельдшерица, — теперь это все усовершенствовано. В море не бросают. Вас великолепно заморозят, если нужно забальзамируют, и ваш труп будет выдан семье в прекрасном виде».
Респиги делился с нами своими радостями. Американские гастроли принесли ему немного денег, и он в 1928 купил старый дом на виа Камиллучиа (via Camilluccia) с чудным частным парком, полным роз и певчих птиц. Дом понемногу перестраивался и превратился в очаровательную виллу; был приобретен и автомобиль. Респиги мог спокойно работать в своем маленьком раю вдалеке от города — его шума, его людей. (К сожалению, радость Респиги не долго длилась: он умер в 1936–ом году в полном расцвете творческих сил.)
Помню в углу его богатой и очень разнообразной библиотеки целую полку, занятую романами Амфитеатрова.
— И вы их читаете в подлиннике? — спрашиваю.
Я сомневаюсь, чтобы он мог осилить огромные (хотя и превосходные) романы Амфитеатрова. Кстати, я считаю, что этим автором напрасно пренебрегают. Такие невероятно широкие фрески дореволюционной России могли быть созданы только действительно большим талантом.
Респиги дружил с Амфитеатровым, сын которого, Даниил, учился у него, закончил с блеском курс композиции за год до моего приезда в Рим и уехал в Америку.
* * *
Вячеслав стал совещаться со мной по вопросу о Димином образовании. В какую школу его отдать? В итальянскую, решил он, не стоит: живя в Италии, Дима усвоит язык и дух страны без всякого усилия. Школа же должна будет направить его на все его будущее, определить культуру, которой он будет принадлежать. И тут мы единогласно решили — конечно, французская. К тому же он во Франции родился.
Обстоятельства сложились очень счастливо. По инициативе французского священника, жившего в Риме, — монсиньора Шарля Дюма (Mgr. Charles Duma) — была открыта французская гимназия, состоявшая под ведомством университета Гренобля; учась в Риме, школьники получали одинаковые права с теми, кто учился во Франции. «Лицей Шатобриан» был только что основан, учеников в первые годы было очень мало; подчас в том же помещении профессор одновременно руководил двумя классами из двух — трех учеников. Поэтому уроки получались как бы частные, индивидуальные и живые. Ученики, почти все дети дипломатов, принадлежали к всевозможным нациям.
Пока мы жили у синьоры Плачиди, Дима утром шел в школу пешком и, увы, всегда опаздывал. Путь лежал мимо фонтана «Аква Феличе», где находится огромная и неудавшаяся статуя Моисея. По странному совпадению, этот Моисей казался вылитым портретом Monsieur Bellaco, инспектора лицея. Дима съеживался и старался незаметно проскользнуть мимо огромного обличительного пальца Моисея — Bellaco. В ушах у него звенело часто им слышанное: «Vous êtes encore en retard!» (Вы опять опоздали).
По решению Вячеслава, Дима был полупансионером: из школы он шел с группой мальчиков в красивую, покрытую розами виллу маленького общежития католических монахов. Там мальчики обедали, шли гулять в соседний парк, принадлежащий вилле Боргезе, возвращались в общежитие и садились приготовлять уроки. Появлялся дома Дима лишь к вечеру. Исключением были воскресенье и четверг (четверг считался полупраздником).
В Риме с Димой произошла полная метаморфоза: он учился с увлечением и блестяще. Вспоминается торжественный акт в конце учебного года, 1925. Как всегда, ученики лицея и их родители собрались в большом зале французского посольства, в Палаццо Фарнезе. За председательским столом находились посол, один из французских кардиналов в Риме, директор лицея, профессора, представитель министерства просвещения, приехавший специально для этого из Франции. Посол произнес длинную и очень цветистую речь, которую заключил следующими советами, обращенными к ученикам, и сильно, признаюсь, позабавившими всю нашу семью: «Mes jeunes amis, ayez un idéal… n’importe lequel; mais ayez un idéal» («Мои молодые друзья, имейте идеал… все равно, какой; но имейте идеал»). После официальных речей была раздача премий лучшим ученикам. Премии выдавались отдельно по каждому предмету. Дима должен был много раз проходить под аплодисменты товарищей через весь зал, подходить к председателю, чтобы получить в дар нарядную толстую книгу с золотым обрезом. Он был особенно счастлив большим иллюстрированным томом: «Биография Наполеона». За некоторые предметы награда заключалась в картонных позолоченных лавровых венках.
По поводу занятий Димы в первые наши римские годы прилагаю отрывок письма от 16 июля 1926 г., посланного в Тифлис Жене — вдове Владимира Эрна.
… Живем мы, слава Богу, тихо и поучительно. Дима занимался прыганьем через классы своей французской гимназии, где он учится, и сейчас допрыгался до третьего класса (считай наизнанку), остается теперь ему второй, первый и «Философия». Он очень вырос, завтра будет ему 14 лет, имеет определенную любовь и способности к языкам, преуспевает во французском и итальянском, а главное в латыни. Способности, к сожалению, не практические. Математики не любит, стихов не пишет, имеет попеременные мании, очень страстные и преходящие. Начиная с выезда нашего были: пионерство, коллекции великих людей, коллекции марок, католичество (еще не погасшее), обложки библиотеки и книжная торговля в лавке одного приятеля немца, изучение Рима самостоятельное, разыскивание старых изданий классиков по букинистам, увлечение автомобилями, монетами, вопросами о женской притесненности в Италии, о борьбе Папы с королем и ярая защита первого, и т. д. и т. д. Все вскипает, бурлит и проходит. А сам он очень хороший.
Из дневника Вячеслава видно, как, несмотря на счастье, которое он испытывал от сознания, что живет в Риме, он был угнетен заботой о нашем будущем[114]. Вот отрывки из его дневника 1924 года, от 1 декабря.
Итак, мы в Риме. Мы на острове. Друзья в России — rari nantes in gurgite vasto[115]. Чувство спасения, радость свободы не утрачивают своей свежести по сей день. Быть в Риме — это казалось неосуществимым сном еще так недавно! Но как здесь остаться, на что жить? Чудо, ожидавшее меня заграницей, чудо, воистину нечаянное, сказочно — нечаянное — еще не обеспечивает нашего будущего. Во всяком случае возвратить в советскую школу моего ненаглядного Диму было бы прямым преступлением. Итак, одному опять нырнуть in gurgite? He значит ли это испытывать судьбу? Нырнул сызнова в пучину спасенный — der Taucher[116] и уже не вернулсяIII, 850–851[117].
От 3 декабря:
Как бы наладить заработок?[118]
Перейти на положение эмигранта Вячеслав не хочет. В продолжение многих лет он отказывается печататься в зарубежных русских журналах. Он обещал Луначарскому, при получении визы, что не будет — по крайней мере в начале своей жизни за границей — neчататься в антикоммунистических органах.
Из России приходят предложения вернуться. В письме от 24 августа 1925 г., в котором он рассказывает нам (мы с Димой жили на море близ Рима) про свое посещение с Мейерхольдом советского посольства, он пишет:
Обо мне бесчисленные расспросы и также уговоры возвращаться. Профессор Дживелегов спрашивал, не желаю ли я кафедры в Московском] университете. /…/ играли Протопопов, ученик Яворского, и сам Яворский, о тебе расспрашивавший (он уже знал о твоем концерте, Респиги хвалил, а на мое замечание, что он хороший учитель, но часто отсутствует, возразил, что это и хорошо, — если отсутствует, значит — хороший музыкант!). Я прочитал переводы сонета о «Простуженном коте» и надписи к «Ночи» в честь экскурсантов, вчера видевших Сикстинскую капеллу, а завтра имеющих увидеть «Ночь»: это чтение имело огромный успех, пришлось кстати, и меценатствующие наши Бубусы [Мейерхольды. — Ред.] были мною довольны[119]. Потом сам Бубус (сверхрежиссер), отказавшись прочесть что‑нибудь из своих старых ролей, произнес длинную речь о предстоящих постановках «Кармен», «Ревизора», «Гамлета», «Цыган», рассказывая подробно свои замыслы[120]. Я должен был служить переводчиком на итальянский язык, и мне пришлось изложить по — итальянски целую лекцию. /…/А скептический консул [имя неразб. — Ред.], оказавшийся экспромтистом, встал и продекламировал:
Прияла много перемен В стране Советской сцена, И Мейерхольд возвел Кармен На пост Наркомвоена.О политике за весь вечер ни слова. Разве только один итальянец, депутат и коммунист, сказал, в пустой речи, что «мы» любим реалистическое искусство как в театре, так и в политике. Интернационала не было.
В Москве Петр Семенович Коган надеется, что Вячеслав захочет стать членом Академии Художественных Наук. Вячеслав подумывает даже, не должен ли он один вернуться в Баку. Но позже, в начале 1927 г., весть от университетского друга вдруг снимает все сомнения, и самым неожиданным образом:
Сегодня из полученного от Зуммера письма я узнал, что связь моя с Бак[инским] Университетом], — связь «потенциальная», правда — окончательно разорвана, ибо, по предложению студенческих (!) коммунистических организаций, словесное отделение упразднено, о чем и объявление вывешено. У меня от сердца отлегло сомнение: чего‑де ты в Баку не едешь, для семьи «честным» (?) трудом не зарабатываешь? Nun bin ich vogelfrei, т. е. «волен как птица», как говорилось у немцев об опальных и изгнанниках.
(Письмо Вячеслава к нам из Павии от 7 января 1927 г.)
* * *
Чуть ли не самый первый человек, которого мы встретили в Риме, был наш милый, верный друг и талантливый писатель Павел Муратов. Он был маленького роста, но смелый, средневеково — рыцарский романтик. Друзья звали его Патя. Он жил около пьяцца дель Пополо с сыном и женой. Но это уже была не босоножка Евгения Владимировна с пятилетним мальчиком Никитой, с которым мы дружили в 14–м году в Петровском. Теперь это была другая жена, видная и веселая брюнетка Екатерина Сергеевна с девятилетним сыном Гавриком. Это был живчик, изрядно избалованный, с большими математическими способностями. Гаврик тоже был учеником французского лицея Шатобриан. (Потом он сделался инженером, занимал какое‑то очень ответственное место во Франции.) Семью дополнял всегда возбужденный пес Муцио.
К Муратовым каждую неделю заходили русские друзья, жившие тогда в Риме. Из них помню прежде всего художника Григория Шилтьяна с красавицей женой Лилей. Я любовалась Лилей и красивым цветом ее кожи. С ними у нас дружба продолжалась всю жизнь, даже и сегодня, 12 мая 1983 года, когда я пишу эти страницы, я думаю: какое платье мне надеть послезавтра на званый вечер у Шилтьянов? Они его дают накануне своего путешествия в Москву, где Пушкинский музей устраивает большую выставку Гришиных произведений. Тогда он был совсем молодой, безденежный и голодный, и поверхности его талантливых картин казались вылитыми из металла.
С тех пор его имя, в Италии и вне ее границ, стало все более и более греметь. Его картины — большие композиции, поразительные по технике и внутренней поэзии натюрморты и портреты — висят во многих музеях и в бесчисленных частных собраниях. В театре Ла Скала и в нью — йоркском Метрополитене хранятся его декорации. А на озере Гарда, где он долго жил, открывается музей, всецело посвященный его произведениям.
В первые годы нашего знакомства мы постоянно встречали Лилю и Гришу в римской молодой и веселой богеме. Бывали там и Джорджо де Кирико с Раисой и его брат Савинио, приезжавший из Парижа, и венецианец Де Пизис. Одним из главных центров художественного авангарда были знаменитые Театр — Кабарэ и Галерея, созданные братьями Антон Джулио и Карло Брагалья.
Ходил к Муратову и художник Бренсон, латыш. Он выгравировал портрет Вячеслава, сидящего почему‑то посреди площади дель Пополо, закутанного в большой черный плащ, а в небе — другой сюрприз — летит дирижабль. Бывал ли у Муратова художник и архитектор Андрей Белобородов, не помню. Мне кажется, что наша дружба началась позже.
Ходила к Муратовым Косовская с двумя молоденькими дочерьми Верой и Наташей. Вера, брюнетка с монашескими строгими чертами красивого лица, была ярой православной, читала Хомякова и пылко нападала на католиков. Впоследствии она работала в Париже в Лувре как историк искусства. Наташа была грациозная кошечка, очень кокетливая и неожиданная, с выразительными серыми глазами. Она оказалась позже предметом безнадежной, роковой и рыцарской страсти Павла Муратова.
Заходил к Муратовым и итальянский писатель Альберто Спаини. Он был журналистом «третьей» страницы, где в итальянских газетах печатались литературные фельетоны, беллетристические рассказы хороших авторов. Спаини с определенного дня стал писать рассказы исключительно про кошек, собак и других зверей. «Почему?» — спросили его. — «Единственно это охотно пропускает фашистская цензура».
В первые месяцы нашей римской жизни у меня произошла неожиданная встреча с моей подругой детства Таней Аничковой. Она только что приехала из Америки, вся всклокоченная, с драгоценной породистой черной кошкой в качестве багажа. В Америке сначала она перебивалась работой по исследованию крови в какой‑то лаборатории, затем организовала выставку своих высокоталантливых скульптур, имела большой успех, соскучилась и, бросив все, приехала в Рим, а через некоторое время отбыла в Югославию к отцу. Отец ее, Евгений Васильевич Аничков, был тогда профессором в университете в Скопье. Через много лет Таня появилась опять в Риме, и мы с ней тогда снова сблизились. Она оставила скульптуру, занималась живописью крайне авангардного направления. Ее высоко ценил Лионелло Вентури, знаменитый историк современного искусства, и помог ей сделать выставку. После этого Таня вдруг исчезла, а через много времени оказалось, что она живет в Поццуоли, в семье каких‑то примитивных неаполитанских рабочих и воспитывает их детей. Из Поццуоли она переселилась с этой семьей в Ачилия, под Римом, поселок итальянских беженцев из потерянных Италией после войны территорий на Адриатике. Она приехала к нам оттуда один раз. Ольга Александровна Шор тоже к ней ездила по литературным делам, связанным с ее отцом. Но она всех отстраняла и умерла одна, в одиночестве и нищете.
* * *
В августе 1925 г., совершенно неожиданно, Мейерхольд со своей молодой женой Зинаидой Райх, актрисой его театра, приехал в Рим, получив командировку в Европу[121]. Они были страшно влюблены друг в друга. Для нее он был муж, мэтр, учитель, создающий ее как актрису; для него она была его последняя радость, солнце его заката, еще яркого, еще сияющего во славе, но все же тускнеющего. Их влюбленность создавала много смешных анекдотов. Например, к нам явилась раз консьержка с протестом:
— Кто эти двое, которые к Вам приходят? У нас дом приличный, мы не можем позволить, чтобы у нас целовались на лестнице!
— Но это муж и жена.
— Нет, этого не может быть. Они слишком влюблены друг в друга.
Мейерхольд ревновал свою Зинаиду, как Отелло. Как‑то раз вечером мы пошли целой компанией друзей есть мороженое в парк виллы Боргезе. Все были веселы, и Зинаида, накинув на плечи новый, только что подаренный ей мужем венецианский платок, шла по тротуару, мурлыкая песенку и подплясывая. Ясно, что группа встречных итальянских матросов, увидев эту легкомысленную красотку, пустилась делать ей комплименты. Никто не обратил на это особенного внимания, но Мейерхольд замолк, лицо у него сделалось мертвым и серым.
— Что с ним?
— Ничего. Это Всеволод «зарезался», — отвечает Зинаида.
Но главное осложнение ожидало нас впереди. По приглашению Мейерхольда мы доходим до Виллы Боргезе и входим в самое шикарное кафе ночного Рима. Кафе переполнено «коммендаторами», фашистскими иерархами, генералами, сливками буржуазии. Мы протискиваемся сквозь них, занимаем два стола, заказываем напыщенному официанту chefs d’oeuvre’ы кондитерского искусства. Вдруг Мейерхольд спазматически вскакивает и удаляется. Вот он посреди столиков, вот он на освещенной площадке, вот он вошел в гущу парка и… исчез. Проходят минуты — его нет; лакей приносит, высоко держа над головами клиентов, два подноса и ставит перед нами. Ни у кого из нас нет денег. «Всеволод зарезался, нужно идти в отель», — уже беспокоится Зинаида, и нам приходится, оставив нетронутыми подносы, позорно встать и, под выстрелами саркастических взглядов общества, пробираться между столами, чтобы удалиться.
Мейерхольд очень забавно показывал, как платить по счету в ресторане, если вы не говорите по — итальянски. Хозяин подает счет; Мейерхольд, насупившись, долго смотрит в него и затем впивается глазами в хозяина. Тот быстро смущается, берет счет обратно, поправляет что‑то и возвращает его Мейерхольду. Опять то же самое: изучение счета, упорный взгляд на хозяина, смущение хозяина, исправление счета, возвращение его Мейерхольду. Мейерхольд проделывает в третий раз это мимическое упражнение и только после этого платит со спокойной душой.
* * *
В течение 1925 г. Вячеслав предпринимает целый ряд попыток практического устройства нашей жизни. Сначала он увлекается идеей основать в Риме, по примеру Франции, Испании, Германии, русский государственный институт наук и искусств. Он мне объясняет, что страна и правительство — вещи разные: правительство сегодня одно, завтра другое — страна остается. По своему достоинству Россия должна иметь в Риме «академию», которая бы ее представляла независимо от текущих политических событий. Ему казалось, что в этот момент самым подходящим президентом академии мог бы быть Максим Горький, который жил тогда в Сорренто. Но их точки зрения были слишком разные, и из проекта академии ничего не вышло.
В первой половине августа 1925 г. Мейерхольды провели несколько дней в Сорренто[122]. Вскоре после этого Вячеслав, раньше получивший от Горького предложение литературного сотрудничества, решил поехать к нему[123]. 28–29 августа, из Сорренто, он подробно описывает свое путешествие:
Сегодня Успеньев день и годовщина нашего выезда из Москвы, дорогие товарищи! «Ри — га, Рри — гга!»[124] Я проснулся в 9 ч[асов] и хотел опять заснуть, но матерая хриплая цикада сказала мне из садика: «Пора, пор — ра!» Пишу перед дверью на террасу, в довольно большой и уютно обставленной квадратной, сводчатой, белой комнате, в ней, кроме входной, две двери, закрываемые соломенными жалюзи. Одна дверь ведет в оливковый садик, увитый крупными темно — лиловыми глициниями; другая на террасу, откуда видна мутно — бирюзовая бухта (сегодня, 29–го, она уже сафирная), Сорренто, растянувшийся на уступе отвесных скал и глядящий из своих садов, как Нарцисс, в море, а за ним великолепные каменные громады в фиолетовой дымке, тогда как ближайшие высоты покрыты оливами. Среди этих громад примечателен гигантский кряж, напоминающий мумию; египетский профиль ее головы с крутым затылком глядит в небо, линия шеи глубоко вырезана от подбородка, женская грудь высоко поднята, ноги вытянуты. С мумией сравнил этот кряж Максим Горький. Кругом глубокая, полная нега и тишина роскошно покоющегося, ленивого юга; только цикада вдруг заскрежещет, да дико заревет с дороги осел. За дорогой налево, под террасой, вилла 18–го века, где живет Горький, с глубокой аркой лоджии и неуклюжими белыми украшениями рококо на желтых стенах; за ней огромный сад, спускающийся до моря. С террасы Горького видно не только то, что видно у меня с террасы, но еще и величавый Везувий за голубым заливом с белою линией городов, вытянувшихся у его подножия, от — Кастелламаре, Toppe дель Греко, Редине, Портичи, Неаполя, Поццоли, Бай, до Мизенского мыса. И все под голубою вуалью. Неописуемо хорошо!
Вчерашний день, конечно, был утомителен. Уснул я только в 4 ч., а в 71/2 разбудила меня S‑ra Maria. Заботливо и нежно она снарядила меня. Прибыв на извощике на Stazione, увидел я поодаль дефилирующую чету наших знаменитых и любознательных путешественников [Мейерхольды]1, с коими накануне вечером мы нежно распростились. Одновременно со мной чета выезжала с прямым поездом в Берлин. От четы отделилась собачка [Кроль][125] и прибежала меня приветствовать. Кстати, ради Бога не говори Кролям ничего о предстоящей беглецу участи в Москве: они делают из этого большой секрет.
Суббота, 29–го, перед обедом. Снабдив себя (за 8 лир) аппетитным cestino[126], где был и хлеб, и много вкусной колбаски, и кусок ростбифа, и сыр crême, и яблоко, и фиаскетто с белым Castelli[127], я удобно уселся в полупустом поезде и не хотел читать, но с большим удовольствием и любопытством стал глядеть на горы, через которые мы переваливали. Миновали священный для религии и для филологии (библиотека рукописей!) бенедиктинский монастырь Монте — Кассино. Тревожился я только густою мглой, через которую героически голубела кое‑как южная лазурь, при ярком солнце: боялся я, что мгла эта потушит волшебные краски Неаполитанского залива. Въехали в большой, неуютный, шумливый, грязный Неаполь. На трамвае доехал я в порт, но до пристани соррентского парохода пришлось мне очень долго — минут 20 — пробираться через рельсы с вагонами, ждущими разгрузки на громадные суда, между носильщиков, повозок, грузовиков, скота, — пока, наконец, не очутился я среди элегантнейшей публики на палубе большого парохода со стаканом café glacé в руках. Муратов хорошо присоветовал мне сесть на 4–х часовой пароход, идущий в Сорренто не прямо, а вдоль всего берега Соррентийского полуострова, ибо этих мест я раньше никогда не видал, а они изумительно красивы. Но сначала долго плыли мы мимо Везувия. Ce grand vieillard, sournois et méchant, mais si coquettement bleu, ce géant malicieux et charmeur[128], надвигается уже из‑за первых огромных и прокаженных домов города у вокзала: он медленно попыхивает белыми облачками; над срезанной вершиною конуса вырастает белый шар, или коринфская капитель и потихоньку расплывается, выпихиваемая новым белым клубком. Проплыв мимо Везувия, пароход прямо устремляется к отвесным скалам впереди, оставив налево бухту белеющего в далекой низине Кастелламаре, и движется вдоль почти сплошной высокой каменной стены с пещерами, заливаемыми волною. У четырех разнообразно и причудливо расположенных по берегу селений до Сорренто происходит высадка пассажиров: к пароходу подплывают большие лодки и, подхватив путников, скрываются в скалах. Над отвесными утесами громоздятся замки, церкви, виллы, по оливетам горных склонов. Мгла потушить краски не могла, море синело, хотя к закату солнце спряталось за медными тучами. Вошед в Сорренто из лодки, хотел я сесть в автобус на Капо, но подскочил человек, спросил, не в Минерву ли я еду, не к Максиму ли Горькому, и предложил отельный автомобиль, в который затем погружены были еще 3 англичанки. Мы полетели сырыми и дикими корридорами между скал, забираясь зигзагами в гору (Сорренто показалось вовсе не «сладким», как я воображал, а диким до неуютности) и, проскочив через городок, покатились по рампе над морем. Минерва оказалась милой: простой и комфортабельной одновременно. Тариф (или, как Лидия пишет: тариф) — 30 лир в день, кормят хорошо и очень сытно.
С террасы Горького нас завидели. Я сейчас же пошел к нему, встретил он меня очень сердечно и оставил у себя обедать. После виски был подан борщ. Сразу коснулись вопроса о журнале. Ему предложили из Советской России издавать на госуд[арственный] счет журнал, кот[орый] составляться будет им заграницей, а печататься в России. Он ответил согласием при условии, что ему будет предоставлена безусловная свобода, что цензуры над ним не будет. Ответ еще не получен. При этом Горький заявил мне, что, допустив своеволие, за которое извиняется, он поставил между прочим условие, что редактором отдела поэзии должен быть Вяч. Иванов. Я ответил, что прошу его на этом условии отнюдь не настаивать, тем более, что я еще не уверен, что могу принять на себя это трудное по тактическим причинам дело, и даже если бы принял, не хочу нести один эту ответственность, а непременно с ним вместе, так что я был бы скорее его советником и предоставил бы ему окончательные решения, — на что он ответил: «благодарю Вас». В тот же вечер мы уже успели поговорить кое о чем важном и принципиальном, в большом согласии, и кроме того, по моему настоянию, состоялось необычное в его доме дело: он читал свои вещи, а именно: повесть «Тараканы», которая потом обсуждалась. Это было в четверг; вчера, в пятницу, была прочтена «Безответная Любовь»; сегодня, ибо я кончаю письмо по возвращению от него, в 2 часа ночи, — «Голубая Жизнь».
Впрочем, за поздним часом, умолкаю. Мы гармонируем больше, чем я ожидал. Он, вопреки ожиданиям, совсем моложав, без седых волос, с рыжими усами, высокий, тонкий, чрезвычайно скромен, — уверяет, что учится писать, ибо еще не умеет, — ни следа старости или размяклости, сердечно вдумчив, часто глубок, похож по душевной проработке и просветленности на человека христианского подвига.
Но довольно! Упомяну только, что сегодня написал он, по моей просьбе, своей первой жене, Екатерине Павловне, работающей в Красном Кресте и, по его словам, пользующейся огромным влиянием на Дзержинского и его компанию, чтобы нашему Сержику выдали без затруднений заграничный паспорт[129]. Он надеется, что письмо (espresso‑Luftpost) еще застанет ее в Москве, откуда в первых числах сентября она выезжает в Сорренто в гости, как приезжала и прошлый год. «Я с нею в самых дружеских отношениях, — прибавил он, — как и с Марьей Фед[оровной] Андреевой, с которой я жил десять лет; мне удавалось избегнуть с близкими женщинами драм»… Сын его зовет его «Алексеем». Но здесь я решительно побил рекорд, ибо мой сын именует меня в репримандах «mon fils»[130] — мальчики, Павлик и Эрдман[131], хохотали от души, когда я сообщил им за обедом эту цитату из Димы (о социальном положении «опущенных» маркизов Квинтилиев)[132]. Завтра я подговаривал Макса (Максима Алекс. Пешкова, сына Горького от Ек. Павловны) свозить меня и милую Валентину Мих. Ходасевич, любительницу таких путешествий, на знаменитой мотоциклетке в Амальфи, где я никогда не был[133]; но в воскресенье нельзя: опасно, ибо автомобилисты устраивают по приморской дороге бешеные гонки, и решено ехать в понедельник. Из‑за этого отложу отъезд — должно быть до среды. Еще здесь Кауны (америк. проф., по признанию Горького, ему сильно надоел, он все его интервьюирует и записывает, составляя с его слов курс новейшей литературы для Калифорнии, — между тем как миссис Каун работает над бюстом знаменитого человека)[134]. — Очень рад Катилине и Цирцее, но этого мне мало; нужно делать много, много thèmes. Также помнить о действиях над простыми дробями, тройном правиле, процентах и пр., а равно и о Телемахе[135]. Дракончик едет 2 или 5 (не помню) сентября в Неаполь и Помпеи[136]. Спасибо за колпачок. Да! да! рррррр… Пуф».
Из проектированного Горьким журнала ничего не вышло[137]. Долгое время шли разговоры о проекте, крайне привлекавшем Вячеслава, о переводе всей «Божественной Комедии». Но из этого ничего не вышло[138].
Говорилось также и о возможном переезде в Египет. Филологический факультет университета в Каире хотел пригласить Вячеслава. Но этому воспрепятствовал его тогдашний советский паспорт[139]. Затем все было налажено, казалось, с ординарной профессурой в Кордове, в Аргентине. Уже говорили об отъезде, но, как это нередко бывает в этих странах, в Аргентине случился государственный переворот. Приглашение в Кордову было аннулировано.
Весь этот мучительный период кончился осенью 1926 года, когда совершенно неожиданно пришло Вячеславу приглашение от священника Леопольда Рибольди, ректора Collegio Borromeo, приехать в Павию, чтобы там жить и работать[140].
II. ПАВИЯ
Один из наших хороших друзей, к сожалению, не помню — именно кто (быть может, Николай Оттокар), заговорил с отцом Рибольди о Вячеславе, объяснив ему, кто это такой, советуясь, как бы ему помочь. Отец Рибольди сразу загорелся, заинтересовался, решил устроить его близко от себя. Он пригласил его в Колледжио с поручением помогать студентам в их научных работах. Кроме того, отец Рибольди сильно способствовал тому, что Павийский университет предложил Вячеславу читать лекции по русской литературе.
Это была помощь свыше. Хотя Вячеславу и жаль было покидать Рим на много месяцев в год, но с его сердца скатилось большое бремя.
Колледжио был создан князьями Борромео. Их цель была дать пятидесяти юношам бедных семей Ломбардии университетское образование. Выбор этих пятидесяти студентов происходил посредством специального конкурса. Победители становились гостями Колледжио и могли в нем жить до конца своего учения. Они посещали Павийский университет. Чтобы иметь право на пребывание в Колледжио Борромео, требовалось получать максимальные отметки на всех экзаменах.
Колледжио Борромео — настоящий дворец, перл архитектуры. Он выходит своими садами к берегу реки Тичино. Вячеславу было отведено в павийском палаццо целое отдельное помещение из 2–3 комнат. Стены дворца были такие монументальные, амбразура окна такая глубокая, что Вячеслав в него вставлял стул и столик, где он любил сидеть и работать. Как и во всем палаццо, у Вячеслава висели на стенах в тяжелых позолоченных рамах драгоценные картины, на полу были разостланы прекрасные ковры, а высокие потолки радовали взгляд своими расписными кессонами.
Отъезд в Павию был первой разлукой — правда, прерываемой длинными римскими каникулами — и Вячеслав посылал в Рим, где мы с Димой остались, подробные описания своей новой жизни. В одном из первых писем к нам от 3 ноября 1926 г. он рассказывает про свои «впечатления»: Impressions: — мы на окраине города, на краю кампаньи. Притом palazzo построен на возвышенности, образующей над садом высокую террасу, и его этажи так высоки, что мой primo piano[141] соответствует вероятно вашему quarto[142] на Bocca di Leone. Поэтому здание господствует над долиной реки Тичино, и природы не застят рассеянные там и сям среди зелени группы небольших домов с черепичными крышами. Вот что я люблю: поставить мягкий стул на вторую ступеньку глубокой оконной ниши в спальне, завеситься от комнаты прямо падающими складками больших белых гардин и в такой палатке сумерничать, греясь в теплом халате и глядя в окно, кажущееся скорее узким при его большой высоте. Тишина; мелодические многотонные перезвоны на близкой колокольне; или вой осеннего ветра; частенько гроза. Фонтан, устроенный каскадиком в нише задней стены сада, неумолчно шумит издали. С циклопической террасы, большие плиты которой поросли травой, ведут в сад монументальные лестницы. Их из моего окна не видно, но виден перпендикулярный к террасе тосканский портик, ограничивающий справа узорно разлинованный партер газонов. За портиком и партером с несколькими деревьями передний сад (есть еще боковой, полный деревьев, — его не видно) расширяется и образует огромную поляну, окаймленную дорожками, бегущими вдоль кустов роз, которых теперь нет, — а весной будет изобилие. Все это охвачено высокою каменною стеной и подо мной лежит как на ладони. За стеной длинная полоса чужого тенистого сада, а за этою полосой обсаженная деревьями прямая дорога, по которой редко — редко промчится автомобиль. За дорогой широкая водная полоса зеленовато — мутного Тичино, долго прямая, потом поворачивающая в сторону. За рекой сначала домики, отражающиеся в воде, потом boschi — леса. За ними в ясную пору обнаруживается возвышенная равнина, ограниченная на горизонте красиво вырезанною цепью холмов, чуть не гор. Но обычно за рекою туманы. Все это — правая сторона пейзажа, а левее — сады, домики, опять сады, колокольни, где‑то вдали две — три фабричных трубы. Славно! Ветер смахивает желтые листья с деревьев; они крутятся и хотят долететь до моего окна, но оно высоко. Если выглянуть из окна прямо вниз, увидишь хозяйственный дворик, существующий испокон веков, так что правый портик сада никогда не имел своего полного pendant[143] и его колоннам соответствуют плоские пилястры на обращенной в сад стене дворика. Но дворик тоже славный: большой черепичный навес, перед ним в углу платан; изгородь, и за нею семь куриц; собака — крупный cane‑lupo[144] — на длинной цепи; белый домик с цветами. Так сиживал в сумерки, в этом самом халате, женевский изгнанник, дедушка ваш, Дмитрий Васильевич, и смотрел в даль, на деревья и на Рону, и о России не вздыхал; в осенней сумеречной тишине следил, как течет река, как уплывает жизнь, — и был доволен покоем.
Входящий в палаццо вступал в очаровательный обширный двор, окруженный высокой колоннадой, прекрасный образец архитектуры Возрождения. В нижнем этаже была капелла, где ректор служил каждое утро для желающих обедню. Были разные залы для студентов, обширная библиотека. За трапезами соединялись все вместе: ректор и Вячеслав сидели тут же, но за отдельным столиком. Вячеслава забавляло, как студенты за обедом хором выкрикивали: «Er‑ba! Er‑ba!» (травы! травы!). Они требовали, чтобы им принесли овощи. Сам он этому совсем не сочувствовал, он любил мясо. В Колледжио Борромео женщинам запрещено было жить, и потому во время академического года мы с Вячеславом были разлучены.
В первый раз я лично посетила Колледжио Борромео на Пасху 1927 года. Дон Рибольди пригласил нас с Димой на два дня, чтобы мы могли проведать Вячеслава, — даже меня, в большом секрете, несмотря на запрет присутствия женщин в Колледжио. Были чудные весенние дни. У ворот нас строго и благосклонно приветствовал Гарласкелли, старый, усатый и маститый швейцар, служивший в Колледжио с незапамятных времен. Вячеслав был веселый, радостно водил нас по всему дворцу и потом познакомил нас с ректором. Дон Рибольди, как хозяин, был очарователен, гостеприимен, ласков и притом скромно отходил в сторону, чтобы не мешать интимности нашей встречи. Его благородный облик и властолюбивый нрав, соединенный с окружающей аристократической красотой Колледжио, навел меня на образ утонченного древнего тирана. Позже, когда мы с ним ближе сдружились, я его иногда в шутку называла: Тиран. На Пасхе Колледжио был пуст: студенты разъехались по домам; остались лишь двое или трое. Им на следующее утро после нашего приезда Дон Рибольди поручил нас покатать на гребной лодке по Тичино. Это была незабываемая прогулка по весенним, далеко разлившимся заводям. Лодка то скользила по широким, глубоким водам, то входила в узкие заросли кустарников. Пар, стоящий в воздухе, был пронзен обжигающими солнечными лучами, природа просыпалась. В этот же день у меня с Доном Рибольди состоялась очень глубокая духовная беседа, положившая начало нашей многолетней дружбе.
Вячеслава с Рибольди также связывала глубокая дружба, но как только дело доходило до вопросов философских и богословских, они начинали ссориться. Вот портрет Рибольди, набросанный Вячеславом в письме к нам от 3 ноября 1926 г.:
Дон Леопольдо, с едва — едва пробивающейся сединой в темных волосах, напоминает мне иногда живою мимикой лица, то озабоченного волевого, повелительного, то веселящегося подвижной, нетерпеливой, быстробегущей мыслью, — нашего Моисея Альтмана. Он умница и всезнайка, и любит остроту, парадоксы, радикализм мысли, любит полчасика после обеда поспорить, но не даром я зову его «миланцем, да еще побывавшим в Америке» — он не теряет ни минуты — Time is money[145] — деловито — строг и расторопен, холерик и неустанный работник, практический затейщик и выдумщик, — тогда как Альтман, как известно, лентяй, ветрогон, и вечный дилетант[146]. Вчера Рибольди ездил в старый семейный дом в окрестностях Милана, где их фамильные могилы и собственная церковь.
Вот исторический о Рибольди анекдот. Когда миланский кардинал Ратти уезжал в Рим на конклав, Дон Леопольдо пожелал ему не вернуться [т. е. быть выбранным папой]. Тот ответил: «pie sciocchezze!» [благочестивые глупости!] Ратти стал Пием XI. При свидании вспомнили сбывшееся напутственное пожелание. — «Sciocchezze», — сказал Дон Леопольдо, «я взял себе, a pie досталось вам»[147] — каламбур и любезность в духе Альтмана.
Сегодня вечером моего капитана Немо не было. Утром он устраивал в портике сада большую доску из черного мрамора в старинной из пестрого мрамора барочной оправе, с золотыми лучами и надписью, которую сам сочинил: «Alumnis morte pro patria functis 1914–1918. Non nomina adsint, numina» (т. е. «воспитанникам, умершим за отечество в годы войны. Пусть не имена их будут с нами, а души и сила»)[148]. Всего их было пятеро; имен вырезать на камне не пожелал: они де есть в архиве, куда попал и мой curriculum. Все он устраивает по своим рисункам, и часто удачно; мастер на лапидарные изречения. Разговаривать со мной до завтрака не захотел. За завтраком я спрашивал его, как, по какой программе и учебникам мы наладим немецкие уроки. «Это будет видно, они уже все учились по — немецки в гимназии. Не это важно. Tutto il vostro compito è: essere con noi, stare con noi, vivere con noi[149]. Никаких форм, разговаривайте с ними где и как хотите — после завтрака, после обеда, сидя, стоя, гуляя под портиками. Потом от 6 до 7, ежедневно кроме субботы и воскресенья, будут уроки с желающими учиться: какие — зависит от соглашения с ними». Пришел Peonio (или Beonio) — философ, трижды докторирующий[150]. Разговор о Ницше. «По — моему троих следовало повесить: Лютера, Руссо и Ницше. Но Иванов великолепно говорит в защиту Ницше. Как же, значит?» и т. д. Потом капитан Немо бесследно исчез, и обедал я опять один, а вчера один и завтракал и обедал — кормили меня курицей под разными видами. Сегодня дали рисовый суп, телятину со шпинатом, компот (но на этот раз без бисквитного пирога), фрукты, кофе, нашего хорошего вина — и всего, по обыкновению, à discrétion[151], до сытости. Посланы мною письма: отцу Фоксу[152] и Зелинскому.
* * *
Дон Рибольди оставался не много лет в Колледжио, а только с 1920 по 1927. После глубокого внутреннего кризиса он принял решение сделаться монахом (до этого он принадлежал к белому духовенству). Ему захотелось войти в орден Розминианцев. Он открыл это свое желание своему духовному руководителю, кардиналу Шустеру, архиепископу Миланскому. Но кардинал не одобрил его выбора и советовал сделаться доминиканцем, сказав, что Доминиканский орден в упадке и поэтому нуждается в притоке свежих сил. Отец Рибольди прожил еще долго, делал различные работы для ордена. Последние его труды были направлены на спасение от полной гибели фрески Тайной Вечери Леонардо да Винчи. Он участвовал в организации многолетних работ по реставрации ее и церкви Санта Мария делле Грацие, пострадавшей сильно от Второй мировой войны.
После Рибольди были другие ректоры, но благодаря ему, Вячеслав вошел органически в состав Колледжио и оставался там до семидесятилетнего возраста, когда по итальянским законам профессора уходят в отставку. До этого он жил в течение всего академического года в Павии и ездил в Рим лишь на долгие каникулы. Последний ректор, с которым Вячеслав дружил, был Монсиньор Нашимбене[153].
Колледжио с любовью и гордостью вспоминает пребывание у себя Вячеслава. Во время торжественного празднования столетия его рождения была открыта мраморная мемориальная доска в стене колоннады двора[154].
* * *
В уютном Колледжио, где Дон Рибольди умел создать оживленную, острую, духовную атмосферу и был постоянно быстро воспринимающим полемическим и провоцирующим собеседником, Вячеслав сразу начал много работать. Наладились уроки со студентами:
По пон[едельникам], средам и пятн[ицам] немецкий; по вторн[икам], четв[ергам] и субб[отам] английский, с 6 до 7. Всех сорока студентов еще не набралось, но все же их уже так много, что я далеко не всех умею назвать по фамилии. Целый выводок matricole, т. е. новичков, только что имматрикулировавшихся и имеющих сконфуженный вид. Идет запись на немецкий и английский язык; англичан на несколько человек больше. Стараются… После обеда хецный[155] и мною очень любимый, умный физико — математик Cremante делает ряд сообщений по — франц[узски] по древней истории астрономии; я, конечно, поправляю и подсказываю выражения, не позволяю толпящимся вокруг перебивать и болтать. Все охотно говорят на скверном франц[узском] языке, но стремятся к усовершествованию речи и произношения. Бабудер, которого я принял за романтич[еского] немчика, милый скромный юноша, сын итальянца и православной гречанки из Триеста, приносит мне свои переводы греч[еских] лириков на нем[ецкий] язык. Morando, сын профессора — розминьянца, посвящает меня в розминьянство[156]. Розмини (о кот[ором] Эрн писал свою магистерскую] диссертацию) не то запрещают в Ватикане, не то хотят беатифицировать. Есть орден монахов — розминьянцев.
(Письмо от 15 ноября 1926 г.)
Из университета пришло — еще до окончательного назначения на место профессора — приглашение прочесть цикл лекций о русском духе и о русской культуре. К этим лекциям Вячеслав усердно готовился. Читал много книг о русской истории, о истории русской церкви. Лекции прошли с большим, каждый раз возрастающим успехом, так что приходилось переходить в последнюю минуту из аудитории в больший зал, таков был наплыв слушателей. Лекции читались 24, 26, 28 и 31 января 1927 года в пять часов в Павийском университете. Общее заглавие цикла: «Религиозная мысль в современной России». Тема первой лекции: «Русская церковь и религиозная душа народа». Вторая лекция: «Теза и антитеза: славофилы и западники». Третья лекция: «Толстой и Достоевский». Четвертая лекция: «Владимир Соловьев и современники»[157]. Лекции прочитал Вячеслав на французском языке — хотя он свободно говорил по — итальянски. Ввиду успеха университет попросил добавить еще пятую лекцию, и эта была произнесена по — итальянски и продолжала и углубляла тему четвертой. В ней он говорил о Флоренском. Вспоминая о первой лекции цикла, Вячеслав пишет (29 января 1927 года):
Кстати, о первой лекции: Рибольди злился за длинное введение, для меня однако необходимое: 1) о том, что такое «религиозная мысль» (в отличие от теологии), сравнение с Паскалем, Бональдом, Розмини и т. д. 2) о важности моего предмета для вопроса о воссоединении церквей, восточной и западной (о том, что католичество должно многому научиться у Востока); 3) о попытке большевиков дехристианизировать Россию, и об атеистической русской школе.
Вскоре после этого цикла появляется в Павии Фаддей Францевич Зелинский, старый друг, также приглашенный на лекции университетом[158].
Выступал в университете и историк, профессор Флорентийского университета и бывший ректор Томского университета, Николай Оттокар. В письме от 9 мая 1927 г. Вячеслав рассказывает о его лекциях:
Оттокар хороший и смешной, ночевал в Collegio три ночи. Рибольди был с ним очень мил и открыт. Он [Рибольди] любит Россию за ее духовность, в Достоевском видит совмещение и Данте и Шекспира, уверен, что anima del popolo[159] не может измениться, и пророчит светлое. Были огромные споры о России со страстным участием итальянцев (и ректора, и подесты[160], и студентов), которые интересуются вопросом о «crollo dell’impero»[161] (которое утверждал Оттокар и отрицаю я), словно дело идет о чем‑то для них непосредственно важном. Я в душе очень было отошел от России, но когда Оттокар в своих двух лекциях о России стал говорить о «disfatta», о «catastrofe», о «crollo»[162], — ничего, кстати сказать, обидного для русских — небольшевиков, я почему‑то почувствовал себя патриотом современной России, вроде истинных советских граждан. Не поймешь, что за вздор, что за чепуха, что, можно сказать, за дрянь (выражаясь патетически в гоголевски — курлыковском стиле) в головах и душах сбитых с колеи русских людей, сынов «задавленной» в наши дни. «Odi et amo», как сказал Катулл[163]. И «coincidentia oppositorum», как изрек философ Николай Кузанский[164]. «Мерзавец, — присовокупил бы Кузьма Прутков, — еще Тютчев сказал: умом Россию не понять, — ты же паки тщишься объять необъятное».
* * *
В Колледжио приезжают все чаще и чаще друзья или новые знакомые. 24 марта 1927 г. Вячеслав встречается с Мартином Бубером, редактором журнала Die Kreatur, где впервые появилась в немецком переводе Переписка из двух углов [165]. Встреча с ним оставляет Вячеславу на всю жизнь большое впечатление, и дружба объединяет их обоих. 26 марта 1927 г. рассказывает нам об этом Вячеслав в своем письме:
Бубер оставляет сильное впечатление: это еврейский праведник с глазами, глубоко входящими в душу, — «истинный израильтянин, в котором нет лукавства»[166], как сказал И[исус] Христос про Нафанаила. Понимает он все душевно и умственно с двух слов. Он полон одной идеей, которая и составляет содержание умственного движения, им возглавляемого; эта идея — вера в живого Бога, Творца, и взгляд на мир и человека, как на творение Божие. На этом, прежде всего, должны объединиться, не делая в остальном никаких уступок друг другу, существующие в Европе исповедания. Человек много возмечтал о себе и забыл свое лучшее достоинство — быть творением Божиим по Его образу и подобию. Не нужно говорить о Божестве, как предмете веры, это разделяет и надмевает; нужно Европе оздоровиться сердечною верою в Создателя и сознанием своей тварности. Эти стародавние истины звучат в современности ново и свежо. Сила их провозглашения лежит, конечно, в личностях ими по — новому вдохновленных. Вся философия и наука делается учением о тварности. Пафос движения — пафос дистанции между Богом и человеком. Большая любовь, и особенно любовь к религиозности, как таковой, — и верности своему исповеданию и благочестию. Очень замечательна жена Бубера, католичка по рождению, а по убеждению, как она говорит, «то же, что ее муж». Говорит мало, но необыкновенно умно и содержательно, лучше чем он сам. У них в Геппенгейме, между Гейдельбергом и Дармштадтом, дом и сад. Раз в неделю он ездит на лекции во Франкфурт. Она все знает, что и муж, и ухаживает за садом: она называла, по форме листьев, все цветы, еще не распустившиеся, нашего сада. У них сын и дочь, но оба обзавелись собственной семьей и живут отдельно и имеют детей; а Буберу, дедушке, всего 49 лет. (Его сотрудник по переводу Библии, Розенцвейг, который, вследствие какой‑то формы склероза, не может ни писать, ни двигать предметов, ни говорить[167]. Он только показывает буквы на пишущей машинке, и его жена угадывает слова и записывает. И в таком виде он работает неустанно и очень производительно.) Интересные и чистые люди. «Модернизм» Рибольди Бубер сильно не одобрил.
В ту же эпоху приходят вести от русских друзей. Зуммер (бакинский приятель) передает в письме привет от Волошина: «Макс вспомнил меня и прислал через Зуммера милый, нежный привет и великолепные стихи» (27 февраля 1927 г.).
* * *
Стихи, написанные в Павии, Вячеслав аккуратно списывает и посылает нам, иногда комментируя их. Так мы получаем, например, «Notturno»[168] и «Пчелу»[169], написанные ночью 31 декабря 1926 г., и «Кота — Ворожея»[170] написанное 7 января 1927 г.
12 января 1927 г. Вячеслав каллиграфически переписывает на бумаге с гербом князей Борромео написанное как «приложение» к письму № 16, стихотворение «Собаки». (Письма на почте иногда терялись, поэтому Вячеслав их нумеровал.)
Visaeque canes ululare per umbram.
Vergil. Aen. vi. 257.
Ни вор во двор не лезет, ни гостя у ворот: Все спит, один играет огнями небосвод. А пес рычит и воет, и будит зимний сон; Тоскливые загадки загадывает он. Быть может, в недрах Ночи он видит прежде нас, Что́, став недвижно, очи в последний узрят час? Иль слыша вой зазывный родных подземных свор, С их станом заунывный заводит разговор? Резва в полях пустынных, где путь лежит теней, Их бешеная стая: «летать бы, лая, с ней»… Иль есть меж полчищ Ада и ратей Дня вражда, И псу, как волчье стадо, его родня чужда? И за кого б на травле вступился страж людской? За странницу ли Душу, зовущую покой? Иль гнал бы, ловчий сильный, ее чрез топь и гать? И пастию могильной рвался бы растерзать?.. Блажен, кто с провожатым сойдет в кромешный мрак: Махнув жезлом крылатым, вождь укротит собак. И скоро степью бледной на дальний огонек Придет он в скит к обедне и станет в уголок. И взора не подымет на лица вкруг себя: Узнает сердце милых, и тая, и любя. А вот и Сам выходит, пресветлый, на амвон И Хлеб им предлагает, и Чашу держит Он. И те за Хлебом Жизни идут чредой одной; И те, кто Чаши жаждут, другою стороной… Молчанье света! Сладость! Не Гость ли у ворот?.. Немеет ночь. Играет огнями небосвод[171].На оборотной стороне Вячеслав добавляет следующее объяснение:
Причащение в последней строфе описано так, как изображается Тайная Вечеря на ранних мозаиках… Христос посредине, половина присутствующих апостолов подходит к Нему с одной стороны за Хлебом, половина с другой за Чашей.
Два дня спустя почта приносит нам «Палинодию» (14 января 1927 г.), потом «Язык» (10 февраля 1927 г.).
ПАЛИНОДИЯ И твой гиметский мед ужель меня пресытил? Из рощи миртовой кто твой кумир похитил? Иль в вещем ужасе я сам его разбил? Ужели я тебя, Эллада, разлюбил? Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки, И жутки стали мне души недвижной маски, И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй. Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой В урочный час ожив, личины полой очи Мятежною тоской неукротимой Ночи, Как встарь, исполнились — я слышал с неба зов: «Покинь, служитель, храм украшенный бесов». И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды Молчанья дикий мед и жесткие акриды.«Палинодия» какими‑то путями дошла до одной из самых блестящих и близких бакинских учениц Вячеслава, Ксении Колобовой, и глубоко волновала и возмущала ее. 16 ноября 1927 г. она пишет Вячеславу из Ленинграда: «Вы сами понимаете, что Ваши стихи восприняла я не в поэтическом плане. Я увидела здесь какую‑то катастрофу, какой‑то срыв в неизвестное мне. Неужели для Вас Эллада стала ”храмом украшенным бесов“ и Вы покинули этот храм, как и Павел прозревший или ослепленный Эдип? И куда приведет Вас отшельничество и пустыня? И неужели пришел для Вас час ”моления о чаше“? (Жизни или смерти? Смерти — п[отому] ч[то] за ”Хлебом жизни“ идут по — другому?)
И пришло ли время, когда мне суждено расстаться с Вами навсегда?
Вячеслав Иванович, за мою большую, безмерную любовь к Вам и веру в Вас, Вы должны мне ответить, п. ч. вопрос стоит остро, п. ч. вопрос идет о моей жизни, о моей будущности /…/».
После первой вспышки гнева и обиды за то, что (напрасно) показалось ей изменой Элладе, пришли письма более умиротворенные. 23 марта 1928 г. она писала из Ленинграда: «Уважаемый и дорогой Вячеслав Иванович, я резко перешла (в предыдущем письме) в стан Ваших врагов и врагов к тому же близоруких и написала Вам нехорошо о Вас, так же как и о себе. ”От ненависти до любви один шаг“, как и обратно. И моя любовь к Вам перелилась в ненависть, чтобы в свою очередь перейти в любовь…»
* * *
В конце 1927 и начале 1928 года приезжают в Колледжио два гостя из Швейцарии — Мартин Бодмер и Герберт Штейнер. Встреча их с Вячеславом знаменательна и с нее начинаются долгие годы дружбы и сотрудничества. Мартин Бодмер — выходец из старой знатной цюрихской семьи, меценат, библиофил — собрание его инкунабул и драгоценных рукописей знаменито во всем мире. Его дом под Цюрихом был украшен прекрасными картинами, среди которых прелестная Мадонна Ботичелли. Сам он человек большой, изысканной культуры, пишет иногда короткие эссе и страстно любит литературу. Бодмер дружит с Гербертом Штейнером, который австрийского происхождения. Мальчиком он был поэтом — вундеркиндом, потом стал литературным критиком и редактором. Рано перебрался из Вены в Цюрих, где ему, вольнолюбивому либералу, было более по душе.
Бодмер, тонкий, худой, жил в своем замке Фрейденберг с милыми детьми и изящной, красивой женой. Штейнер, заядлый холостяк, снимал меблированные комнаты, набитые книгами и рукописями, у почтенной швейцарской вдовы в центре Цюриха. Он был, несмотря на свой уютный embonpoint[172], крайне активен и подвижен. Он постоянно путешествовал по всей Европе, посещая тех — немногих — поэтов, писателей, мыслителей, которых он считал достойными его редакторского внимания. Оба друга в эпоху их первого визита в Павию, готовили к изданию толстый двухмесячный журнал Корона. Он должен был выходить на немецком языке, но объединять на своих страницах — как в идеальном литературном салоне — лучших духовных деятелей века. Выбор приглашаемых в «салон» сотрудников был крайне строг и иногда своенравен. Среди авторов в первый год появления журнала числились, например, Томас Манн, Макс Мелл, Герман Гессе, Бенедетто Кроче, Торнтон Уайльдер, Поль Валери.
С первого года появления Короны Вячеслав стал одним из постоянных сотрудников журнала. Первая статья, появившаяся в Короне, «Vergile Historiosophie», была написана по — немецки[173]. Многие из следующих статей, появляющихся в Короне до закрытия этого журнала во время войны были переведены им самим и глубоко переделаны из уже раньше существующей его статьи: «Ты еси», напечатанная под новым заглавием «Anima», «Terror antiquus», «Письмо о ”Docta Pietas“», обращенное к Александру Пеллегрини, и др.[174] Сотрудничество с Короной было крайне ценно и плодотворно для Вячеслава. Оно дало ему повод снова глубоко передумать и часто по — другому сформулировать некоторые из самых существенных для него мыслей.
Он бывал у Бодмеров в Цюрихе, а Бодмер и Штейнер навещали его в Павии. Штейнер часто появлялся в Колледжио Борромео и в Риме и оставался надолго, чтобы вместе с Вячеславом работать над его текстами для журнала. Между Вячеславом и Штейнером, которые были прекрасными знатоками немецкого языка и тонкими стилистами, начинались нескончаемые дружеские споры. Штейнер любил посещать, а если нужно и торопить «своих» авторов, постоянно гостил для совместной работы у Валери или Томаса Манна, у Кроче, Клоделя, или Торнтона Уайлдера. После краткого новициата, он был принят как близкий друг в ивановскую семью и даже посвящен во все секреты и шуточные риты. Скоро на бесчисленных письмах и спешно набросанных почтовых открытках, которые он посылал со всех концов света, официальное обращение «Sehr geehrter Herr Professor» было заменено более «интимным»: «Dear Chief Cat»[175]. Так он сам англизировал эзотерический титул — в честь тотема семьи — данный Вячеславу. Письма эти касались необходимости — часто страстно оспариваемой автором — исправить одно слово в корректуре, заменить запятую точкой с запятой или убрать восклицательный знак.
* * *
В Павии и во время римских каникул Вячеслав много работал для немецкого издателя Моор (Зибек) по инициативе своего молодого друга и почитателя Евсея Давидовича Шора, двоюродного брата Фламинги, т. е. Ольги Александровны Шор. «Вчера я отослал ”Die Russische Idee“ во Фрайбург, которая стоила мне большого труда, ибо написана заново. Но вышла, кажется, хорошо»[176], — пишет он нам 29 августа 1929 года (во Фрайбурге жил тогда Евсей Шор). По инициативе того же Шора Вячеслав работает в Павии и Риме над немецкой книгой о Достоевском (которая позже выйдет и на английском языке). В основу ее входят — сильно расширенные — его статьи, появившиеся в дореволюционных сборниках Борозды и межи и Родное и вселенское и новые тексты. Книга готовилась в 1929 и 1930 году и вышла в свет в 1932 в Тюбингене[177]. В те же годы готовится и итальянское издание Переписки из двух углов[178].
* * *
Среди гостей, приезжающих из Франции, одним из самых задушевных стали Шарль Дю Бос и Габриель Марсель. Дю Бос, после двух дней, проведенных в Павии, послал Вячеславу пятую серию своих Approximations (он посылал все свои книги с дружескими длинными надписями): «A Venceslas Ivanov, qui n’est pas encore aussi persuadé que, cornélien, il devrait pourtant l’être, que je l’aime bien davantage encore depuis que je l’ai vu — en le remerciant du fond du coeur des deux inoubliables jours, son ami Charles Du Bos. Vendredi 3 juin 1932»[179].
В журнале «Vigile», издаваемом Дю Босом и Мориаком, появилась в 1930 г. во французском переводе Переписка из двух углов.
Позже Дю Бос и Марсель приготовили издание переписки отдельной книгой[180]. Также в Vigile была напечатана статья Вячеслава о лавре в поэзии Петрарки (1932 г.) — перевод на французский доклада, написанного Вячеславом для съезда, посвященного Петрарке, в 1931 году[181].
* * *
Гости приезжали из разных стран. Многие, конечно, и из Италии. О посещении Вячеслава итальянским философом Бенедетто Кроче, жившим в своем большом неаполитанском доме, который был центром оппозиции антифашистской элиты, писали многие мемуаристы[182]. Между главой современного идеалистического историцизма и Вячеславом не могло быть ничего общего по философской линии, но было, конечно, большое друг к другу уважение и живой личный интерес. Их разговор, крайне учтивый и свободный, сразу превратился в оживленный и острый диспут. Разошлись мирно, но каждый, как и следовало ожидать, остался и даже укрепился на своих позициях.
С соседним Миланом скоро установились близкие дружеские отношения, особенно с группой писателей вокруг либерала и католика герцога Галларати Скотти, который, после падения фашизма, играл большую дипломатическую и политическую роль. У него Вячеслав познакомился с Алессандро Пеллегрини. К нему обращена статья, написанная в виде письма и посвященная проблеме христианского гуманизма[183]. По инициативе Пеллегрини и его миланских друзей журнал Иль Конвеньо посвятил специальный номер Вячеславу[184].
В павийский период, но во время долгих римских каникул, Вячеслав душевно сблизился с Джованни Папини и познакомился с некоторыми из молодых поэтов и писателей, его окружавших во Флоренции. В журнале, который эта группа католиков издавала во Флоренции, Иль Фронтеспицио, появились статьи и несколько стихотворений Вячеслава, переведенных Папини по подстрочному переводу с русского, которого он не знал[185].
Среди миланских друзей был также Ринальдо Кюфферле, писатель, поэт, прекрасно знающий по — русски, переводчик многих русских оперных либретто на итальянский язык; это был живой интересный человек, ревностный антропософ. Кюфферле перевел в стихах поэму Вячеслава «Человек», которая появилась позже отдельной книжкой в издательстве «Бокка» (1946)[186]. При встречах в Павии и в Риме и в многочисленных записках и письмах, друг другу отправленных, Вячеслав и Кюфферле много спорили во время длительной работы над переводом. Часто «ссорились», ибо каждый предлагал свою версию итальянского текста.
В 1936 г. стихи Вячеслава в первый раз появились в эмигрантской прессе: в парижских Современных Записках. (Мы слышали, что это произвело «сенсацию» в эмигрантских кругах[187].) С тех пор он там регулярно печатается[188]. Для парижского издательства «Дом книги» Вячеслав приготовляет, пересматривая каждую строчку, свою «мелопею» «Человек». Наш друг, художник Сергей Иванов, рисует обложку, вдохновляясь скульптурой сотворения Адама на соборе в Шартре, где он часто посещал живущего там Диму. Книга выходит 28 августа 1939 г. — праздник блаженного Августина — за несколько дней до начала Второй мировой войны.
* * *
Когда Вячеслав поселился в Колледжио Борромео, мы с Димой переехали на via Bocca di Leone, № 50, на угол знаменитой via della Croce (виа делла Кроче). Это узкая и короткая улица: в конце ее очаровательный вид на площадь Испании, уводящий взгляд далеко, до крутых стен парка Пинчио. Виа делла Кроче прозвана чревом Рима из‑за избытка продовольствия, которое на ней скоплено. На перекрестках находится оживленный рынок, заваленный горами пестрых фруктов и овощей, соблазняющих гастрономов и художников — любителей натюрморта. Вдоль лотков тесно: мостовая покрыта скользкой кожурой тут же съеденных плодов. Солнцепек, гам, ссоры, хохот. Чтобы общаться, местные люди считают почему‑то нужным зычными, прекрасно от природы поставленными голосами кричать соседу в ухо так, как если бы слова должны были прозвучать в конце большой площади. На виа делла Кроче магазины самые разные. Вот роскошный фруктовый: плоды изысканные, местные и экзотические, свежие, сушеные, засахаренные. В витрине, среди тонкой декорации из ананасов и кокосов, монументально позирует роскошный ангорский кот: шкурка, как облачко, белоснежная, один глаз зеленый, другой голубой. Я часто стараюсь пройти мимо витрины, чтобы им полюбоваться. Внутрь магазина — не решаюсь: все там так дорого. На тротуаре, перед своей лавочкой, расположился сапожник. Он чинит на свежем воздухе башмаки. Рядом с ним роскошный магазин тонкой гастрономии, центр германского колбасного искусства.
На той же улице место встреч римской богемы — писателей, поэтов, художников, актеров. Это маленький ресторанчик, прозванный Чезаретто по имени лакея, Цезаря (Cesare), там работающего. Здесь можно увидеть всех друзей, все друг друга знают. Это две небольшие комнаты, соединенные узким коридорчиком, куда также втискивают столики. Так тесно, что иногда и не впускают, физического пространства не хватает. Уютно, весело. Чезаретто всех поименно знает и кое — кому верит в кредит.
На перекрестке с Виа Бокка ди Леоне, со стороны Виа делла Кроче, находится прославленная кондитерская, а за углом открыто на улицу помещение, где всегда пылает раскаленная печь и на жаровнях и вертелах весело шипят жаркие, куры, дичь, бараны. Густой чад развевается по улице и тонкими струйками поднимается вверх, вдоль стены противоположного дома № 50, до самых окон третьего этажа, где тревожит наш с Димой аппетит. Это наши окна, но мы не спускаемся купить соблазнительный кусочек. Он дорог.
Столовались мы у хозяев наших двух меблированных комнат; одна из них — моя — была побольше, имела два окна, в ней помещался и рояль; другая — Димина — с одним окном, узенькая и проходная. Синьор Катена, хозяин, имел магазин на Виа делла Кроче. Он продавал баранину, кроликов и всякую дичь. Нам давали к обеду всегда кроличье мясо, так как, к нашему огорчению, хозяевам баранина надоела до смерти. Сам Катена, увесистый брюнет, был похож на роскошного быка. При первой встрече, узнав, что Диму зовут Demetrio, он пришел в восторг.
— Ах, какой же это был конь! Какой скакун! Он на бегах безошибочно всегда выигрывал! Деметрио! Деметрио! Какой же это был конь! — восклицал он, вспоминая Диминого тезку — коня и крепко хлопая Диму по спине при каждой похвале.
Вечером мы его боялись: жена и пятеро детей рано удалялись в спальню, а он, совсем пьяный, до позднего часа, развалившись, сидел один за обеденным столом; нам приходилось пробираться мимо него через столовую, чтобы попасть в будку на балконе, служившую уборной.
Старшая дочка, Фауста, и ее мать его ненавидели. Из их слов я поняла, что он не то пытался, не то действительно свою дочку изнасиловал. Фаусте было лет семнадцать. Живая и пылкая, она обожала Муссолини и горела патриотической страстью к фашизму, тогда еще совсем молодому. В год перед нашим прибытием она узнала, что во время какого‑то торжества через толпу пройдет кортеж с самим Муссолини во главе. Она стащила потихоньку черную рубашку своего отца, кинулась на площадь, каким‑то чудом пробралась сквозь охрану и очутилась рядом с Муссолини. Она схватила его руку и поцеловала ее со словами: «Duce, io sono una fascista di prima ora»[189]. Дома ее все высмеивали, но она продолжала чтить, боготворить своего Дуче. Каждое утро она ходила на раннюю обедню в шесть часов и причащалась:
— Я это делаю за него. У него нет времени, так я за него.
Немного моложе Фаусты был подросток, казавшийся вылитым портретом отца. Потом шла Лола. Проходя днем через столовую хозяев, я часто заставала ее зубрящую с выражением безнадежности на лице: «И они питались их мясом, мясом, мясом, и одевались в их шкуры, в их шкуры, и питались их шкурами, и одевались мясом, мясом» и т. д.
Следующей сестричке было лет 9–10. Это была хрупкая, худенькая, белокурая девочка. Ее в том году в приходе готовили к Первому Причастию, которое у католиков торжественно празднуется после обучения Закону Божию, и она старалась быть кроткой, терпеть всех членов семьи. Она походила на ребенка — мученика или на нежный белый цветочек, потерянный в грубом кустарнике. Я узнала впоследствии, что она совсем рано умерла. Наконец, пятого и младшего из детей еще возили в колясочке.
Этого бебе я встретила позже, в 1935 году, когда, приобретши итальянское подданство, я получила свою первую работу: преподавание хорового пения в школе Русполи. Все шло там хорошо. Я начала преподавание с хора Верди «Va, pensiero, sull’ale dorate»[190]. Заведующая школой решила, что я выбрала это, как собственную слезу, которую я лью в тоске по родине. Она меня сразу полюбила, ласкала. Но был у меня и трудный день. Явился высокий чин; всех детей от шести до двенадцати лет выстроили шеренгами по сторонам большого плаца и приказали им петь патриотическую песнь эпохи Первой мировой войны: «Il Piave mormorava»[191]. Я не только не проходила с детьми этого гимна, но даже и сама его не знала. Но, к счастью, мелодия была столь известна всей публике, что, хотя дети молчали, с разных сторон плаца какие‑то одинокие голоса начали пищать и басить, и все в конце концов обошлось. Высокий чин не высказался. В шеренге мальчиков, одетых, как полагается, в синие передники с белыми галстуками, находился и Джульетто Катена: он уже был не в колясочке, как при нашем первом знакомстве, а в роли девятилетнего «студента», как величают итальянцы учащихся всех возрастов.
* * *
В 1927 году произошло событие, коренным образом изменившее нашу жизнь. Это был приезд в Рим Ольги Александровны Шор.
— Как они называются, такие длинноногие бело — розовые птицы? — говорила я, стараясь определить, какому зверю Ольга Александровна соответствует.
— Это фламинго, — сказал Вячеслав, — конечно, она и есть фламинго.
Так Ольга Александровна Шор была у нас окрещена Фламинго, розовой египетской птицей. Правда, она была явной брюнеткой — это неважно: по существу она розовая, и тоже любит возноситься высоко в небо, развертывает там крылья, раскрашенные цветом пламени[192]. Кроме того, когда Ольга Александровна крепко задумывалась над какой‑нибудь философской проблемой, она становилась на одну ногу, останавливалась в этой позе и могла так простоять совершенно безграничное количество времени. Кто видал этих птиц, знает, что их любимая и, по — видимому, самая отдохновительная поза — стоять на одной ноге. К тому же Фламинго с первой своей юности интересовалась Египтом и любила его; занималась и иероглифами. В Москве, в пылу своего чтения, она всех хотела ввести в свой мир и пыталась объяснять иероглифы даже своей горничной.
В начале революции ее, быть может, еще не окончившую университет, посылали читать на общекультурные темы лекции на больших собраниях рабочих или солдат. Она вспоминала вечер в казарме, огромное помещение, переполненное толпой только что привезенных с фронта солдат. Стоял гвалт, чувствовалось невероятное возбуждение и недовольство. Комендант взглянул с презрением на посланного ему лектора: девочка, лет пятнадцати на вид, с черными распущенными кудрями, повязанными бантом.
— Лекции не будет: вас не только не станут слушать, но их просто заставить замолчать никто не сможет.
Ольга Александровна, несмотря на запрет коменданта, вскочила на кафедру и насторожилась. Посреди гама голосов наступила случайно секунда затишья, и тут она своим необычайно звучным, от природы поставленным голосом, звонко крикнула:
— Товарищи!
Все обернулись. Наступил миг изумления. Она его не упустила и сразу начала лекцию о Древнем Египте. Какое дело было этим солдатам, которые, быть может, завтра должны были возвращаться на фронт, до Древнего Египта? Но они в полном молчании, как завороженные, и с захватывающим интересом прослушали длинную лекцию. Читать с кафедры была одна из страстей молодой Ольги. В последние годы в Риме она мне как‑то сказала:
— Теперь мне больше не хочется; а прежде, как увижу, что кто‑то с кафедры говорит, думаю: Господи, почему это не я?
Другой страстью, которая ее не покинула до конца жизни, был Микель — Анджело. Интерес, любовь к нему появились с ранних лет; и та же горничная выслушивала бесконечные и мало понятные рассказы об «Мишеньке». Как‑то удалось добыть очень хороший портрет Микель — Анджело. Не имея под рукой, с кем поделиться радостью, она позвала горничную.
— Иди сюда, я тебе покажу портрет моего Миши.
Горничная сразу прибежала посмотреть на любовь Олечки и окаменела от ужаса: старый, бородатый, со сломанным носом!
— Это он — Миша?..
Позже тема Микель — Анджело у Ольги Александровны вошла в общие философские размышления о проблемах творчества. Но помимо чисто философского подхода к этой теме, она все время изучала и жизнь и создания Микель — Анджело. Она, например, основательно изучила процесс построения Капитолийской площади и пришла к чрезвычайно интересным, совсем новым выводам. К сожалению, она не нашла времени записать и научно документировать свои открытия. Так же, как о других своих исследованиях, — о том же Микель — Анджело, или о Леон Баттиста Альберта, или о подземной орфической базилике в Риме, и еще о многом другом. Вячеслав очень настаивал на том, чтобы она фиксировала эти вещи, хотя бы в виде коротеньких заметок, «вкладов» в специальные журналы, но Ольга Александровна прошла слишком хорошую научную школу, чтобы представить свои мысли недостаточно обоснованными, а на обоснование у нее не было времени. Она считала своим долгом все время посвящать другим целям, а именно — творчеству Вячеслава Иванова.
Но просто человеческая нежность к своему «Мишеньке» у Ольги Александровны никогда не прекращалась. Время и исторические перемены для нее не существовали: она одинаково или любила людей или сердилась на людей как нашего века, так и тех, кто жил в эпоху Возрождения или Древней Греции. Как‑то ей посчастливилось получить комнату с видом на купол Святого Петра, строением которого она много занималась. Каждое утро, едва проснувшись, она вскакивала с постели и подходила к окну, нежно говоря: «Здравствуй, Мишенька». Но как бы ни были разнообразны предметы изучений и увлечений Ольги, все они медленно, в течение всей ее жизни органически входили в ткань ее философского мировоззрения. Она беспрерывно вырабатывала свою собственную философскую систему, которую она называла «мнемологией», т. е. учением о памяти.
Эта вера, верней этот внутренний онтологический опыт реальности и действия памяти в мире и в душе человека, стала звеном, которое духовно сблизило молодого ищущего философа с Вячеславом. Память — центральный мотив поэзии и всего мировоззрения Вячеслава. Знакомясь с его произведениями — много лет до личной встречи — Фламинго чувствовала, что он говорит своим языком о том, что и ей созвучно. Поэтому знаменательна та лекция Вячеслава в Обществе Свободной Эстетики, о которой я вспоминала раньше и которая так поразила молодую Фламинго в Москве[193]. 3 апреля 1910 г. Вячеслав пишет Блоку, горячо уговаривая его принять участие в заседании «Поэтической Академии» в Петербурге. Замечательно в этом письме то, как Вячеслав отвечает Блоку на его слова, что его никто не понимает:
Само собою разумеется, что меня мало понимают; ведь и Вас, вероятно, не вполне поймут. Но я не боюсь (и Вам бояться не советую) этого непонимания; поймут двое — трое, зато те, кому это жизнь. И кроме того, учесть все же нельзя, как отзовется наше слово. Во всяком случае, оно о жизни и вносит жизнь туда, где в ней нужда[194].
Это была петербургская лекция, которую он раньше читал в Москве. Не была ли Фламинго в тот вечер в Москве одной из таких «двух — трех»?
Когда впоследствии Фламинго приехала в Италию, она стала не только «мудрым экзегетом» поэта, но и «спутником» на той же духовной тропе, творчески угадывающим, куда путь ведет. Вячеслав так пишет об этом:
Тебе, хранительный мой гений,
Душевных ран и плоти врач,
Вождь в сумерках моих видений,
Земной судьбы моей толмач;
Тебе, кто, за чертой явлений,
Небесных помнишь мир селений
И слышишь ангелов полет,
Житейский правя обиход
Смиренномудро, безымянно, —
Затем что, кто ты, несказанно, —
Как звать тебя, сказал бы тот,
Кто слышал ангелов полет.
* * *
Эта духовная и умственная устремленность не мешали Ольге Александровне быть крайне практичной в жизни. Она была всегда направлена на заботы о ком‑нибудь: либо помогала кому‑то выпутаться из трудностей, либо лечила больного, либо прилагала все усилия, чтобы освободить арестованных (во время революции). В этом она часто действовала сообща со своим дядей, знаменитым пианистом Давидом Соломоновичем Шором. Она сопровождала его, когда его приглашали к влиятельным личностям в Кремль. Давид Соломонович там обыкновенно завораживал всех своей игрой на рояле, а затем, в минуту эйфории, заговаривал о каком‑нибудь заключенном приятеле и нередко добивался его освобождения.
Об одном из самых драматических спасений в те страшные годы, на этот раз не с помощью дяди, а с помощью поэта Балтрушайтиса, ставшего литовским послом в Москве, Ольга сама рассказала в комментариях к Собранию сочинений В. И.:
Весною 1919 г. ко мне неожиданно обратился близкий друг Юргиса Казимировича, который был и моим близким другом: «Прошу Вас о большой услуге». Я вопросительно на него посмотрела: он казался немного смущенным. — «Вы ведь знаете, что Юргис страдает запоем?» — «Ничего такого не знаю». Наш друг продолжал: «В нормальное время Юргис снимал на стороне маленькую квартирку, куда порою скрывался дня на три, чтобы беспрепятственно одному пить. Появлялся потом спокойным и трезвым. В революционную пору я стал предоставлять ему мою квартиру. Но мне теперь необходимо уехать, по крайней мере на полгода. Вот ключ от моей квартиры. Возьмите его; когда Юргис будет просить, ему выдавайте, но потом отбирайте сразу». Я попыталась отказаться: «Помилуйте, такое поручение, ответственное…» — «Если хотите помочь Балтрушайтису, не отказывайтесь. С такою просьбою я могу обратиться только к Вам». Он дал мне ключ и уехал. Через несколько дней телефонный звонок: голос Балтрушайтиса: «Можно прислать за ключом?» — «Вернете сразу?» — «Обещаю». И действительно: дня через четыре опять звонок: «Можно Вам вернуть ключ?» И ключ появился. Я поспешила на квартиру: никаких следов попойки; ни одной бутылки, ни одного стакана. В комнатах полный порядок. Такие посещения пустой квартиры повторялись приблизительно каждые пять недель. К зиме благополучно вернулся хозяин квартиры. Мы с Балтрушайтисом о ключе том никогда не говорили.
Осенью 1921 г., месяца через три после того, как Балтрушайтис стал полномочным послом, я отправилась к нему на прием по делу каких‑то знакомых. Было часов одиннадцать. Прием начинался в десять. Посол еще не пришел. Странно: Балтрушайтис отличался педантичной точностью в исполнении своих обязанностей. «Уж не пьет ли он где‑нибудь», — мелькнуло у меня в голове. Посольство помещалось в прелестном частном особнячке близ Знаменского переулка. Из палисадника нарядная входная дверь прямо вела в абсидальный зал. Против главного входа, в глубине, у стены — диван и несколько кресел. Над главным входом — большие, круглые, бросающиеся в глаза часы. Вдруг, в половине двенадцатого входные двери с шумом распахнулись, и ворвалось человек пятнадцать в ужасном возбуждении: «Посла! Скорее посла!» Их старались успокоить: «Его нет. Он сейчас придет». Пришедшие не успокаивались, требовали, кричали. Волнение их было вполне оправдано. Девять человек родом из Литвы были приговорены к расстрелу, назначенному на двенадцать часов этого самого дня. Оставалось минут тридцать. Принадлежность к литовской нации определялась местом рождения и удостоверялась свидетельством посла. Иностранцы смертной казни не подвергались. Документы все были готовы, не хватало лишь подписи Балтрушайтиса. Безумно волновавшиеся люди были отцами, матерями, женами, сыновьями приговоренных к смерти. Рыдания, мольбы, призывы…
Сидя против входной двери, я с ужасом следила за часами. «Он, наверное, где‑нибудь заперся и пьет. 3нает ли хоть кто‑нибудь — где? Или — Бог милостив — он кончил и вот — вот появится». Без десяти, без пяти минут двенадцать, без четырех… Входная дверь отворилась, и быстро вошел Балтрушайтис. Оставалось три минуты. Спешно принялись звонить соответственным комиссарам. В последнюю секунду казнь была отменена.
Когда всё успокоилось и все разошлись, я вошла к Балтрушайтису. Он сидел за своим письменным столом, низко опустив голову. Потом медленно ее поднял, глухо сказал: «Этого больше никогда не будет»… С того дня он совершенно перестал пить даже в обществе. Знакомые его удивлялись: на званых обедах литовскому послу, компанейскому участнику тостов, вместо вина и ликеров подавали стакан простой воды.
* * *
Фламинго в молодости, хотя этого не показывала, была гордая: она считала, что на свете есть люди — действительно люди, а остальные составляют массу «бипедов», как она их величала. С годами она стала менее категоричной. «Бипедам» отдавала все силы, когда могла им в чем‑нибудь помочь, но существенно общалась лишь с настоящими людьми, избранными современниками или историческими крупными личностями.
Она все‑таки была веселой и страстно любила танцевать. Как‑то в Риме, когда она была уже немолодая, она показала моей венгерской подруге, как танцуют «Русскую». Она сразу преобразилась, отдавшись на миг дионисическому восторгу.
— Ах, как я люблю теперь Фламингу, — заявила венгерка, — я сейчас только ее поняла; я ее уважала, но думала, что она абстрактная.
У Фламинги был редкий дар смеха. Она умела подлинно заливаться смехом, искренне, заразительно.
Здесь придется сделать маленькое отступление — почему «Фламингу», «Фламинги»? Как‑то раз Дима в присутствии Фаддея Францевича Зелинского сообщил:
— Я только что разговаривал с Фламингой.
Фаддей Францевич выпрямился и назидательно заявил:
— Это сказано неправильно. Фламинго — слово иностранное, а иностранные слова не склоняются.
— Ах, да? А папа всегда его склоняет.
— Если Вячеслав Иванов склоняет слово «фламинго», — торжественно заявил Зелинский, — значит оно должно склоняться.
С тех пор у нас в семье слово «Фламинго» стало склоняться легально.
С Фламингой постоянно происходили всевозможные анекдотические случаи. Например, еще в Москве, когда она оканчивала гимназию, среди членов экзаменационной комиссии находился один священник высокого духовного сана. Чтобы похвалиться блестящей ученицей, начальство школы представило ему Фламингу. Священник переспросил ее имя:
— Шор Ольга? Шор Ольга? Позвольте, да я же ее крестил! Да, да, это так… Это моя крестница.
— Его Преподобие сам Вас крестил, — подтвердила директриса, обратившись к Фламинге.
Та растерянно взглянула на высокопоставленного иерарха и смущенно заявила:
— Представьте себе, я этого совершенно не помню.
Однажды она в каком‑то городе средней Италии зашла в старинную церковь и остановилась в полном экстазе перед ее фресками. В 12 часов сторож проголодался и, видя, что туристка оцепенела, ушел из церкви, закрыв дверь на ключ. После отдыха он вернулся в церковь. Фламинго продолжала, как ни в чем не бывало, осмотр церкви. К закату солнца, наконец, сторож убедил Фламинго, что пора уходить; она с сожалением согласилась и не заметила, что весь день ничего не ела.
На Рождество, кажется 29–го года, мы с Фламингой поехали из Рима погостить в Павию. Ехали ночью, ранним утром приехали в Милан и, прежде чем пересесть на павийский поезд, зашли в работающую на вокзале гостиницу принять душ.
— Ты готова? — кричу я после душа через перегородку Фламинге.
— Да, готова, я только еще раз сполоснусь…
И вдруг слышу за перегородкой отчаянное восклицание: «Ай!» — Оказалось, что Фламинго, уже помывшись всласть (она обожала воду), решила еще раз окатиться душем, забыв, что уже оделась и стояла в шубке. Мне пришлось ехать в Павию со струящейся Фламингой. А зима была очень холодная.
Как все римские жители, Фламинго любила зайти в один из многочисленных баров и выпить чашечку кофе — экспрессо. Но, брезгая плохо вымытыми ложечками, она всегда вынимала собственную, семейную, серебряную. Раз, расплатившись, она завернула в салфетку свою ложечку и вышла на улицу. За ней бежит смущенный, но энергичный официант. Он думал, что синьора украла ложку из бара. Фламинго не обиделась, но доказала свою невиновность.
* * *
Медицина ее очень интересовала, она имела какой‑то дар диагноза. Сколько случаев было в нашей римской жизни, когда доктора говорили одно, а Фламинго другое; и всегда оказывалось, что права была она. Все знакомые обращались к ней за советами, и наш друг, милый доктор, который лечил (и часто даром) всех русских друзей, сильно ревновал Фламинго к своим пациентам.
Во время Первой мировой войны она прошла медицинский курс и стала сестрой милосердия Красного Креста. (Не знаю, написана ли она была в качестве таковой для регулярной работы, но знаю, что она постоянно кого‑то лечила и всегда с полной беззаветностью.) В первые годы после октябрьской революции началась страшная эпидемия сыпного тифа. Переболел и почти весь медицинский персонал. Фламинго постоянно ухаживала за больными, но сама не заразилась.
Заразился, однако, один из близких ей людей, Сураварди — впоследствии известный ориенталист и посол Пакистана при Ватикане. Он был другом молодого индуса, за которого Фламинго должна была выйти замуж. Любовь между ним и молодой Ольгой была чувством очень высоким, мистическим и соединяющим их какими‑то метафизическими, таинственными связями. Для посвящения в жизнь истинной любви, Фламинго должна была отказаться от своего старого мира — и внешнего и внутреннего — и окончательно уехать к жениху в Индию. Он ждал ответа; она колебалась и попросила отсрочку. Он вернулся на родину, а в назначенный ими день послал своего близкого друга, Сураварди, чтобы узнать ее решение. Фламинго за это время много передумала и убедилась, что это путь очень высокий, но не ее. Тем временем Сураварди заразился сыпным тифом, попал в больницу, был обречен докторами, но спасен от смерти Фламингой, которая от него не отходила ни на минуту. Она рассказывала особенно ярко про последнюю ночь — ночь кризиса, когда она его откачала какими‑то на свой страх выбранными вспрыскиваниями. Сураварди всю жизнь был благодарен Фламинге за свое спасение и глубоко ее чтил.
* * *
Религиозная жизнь у Фламинги с годами все более и более углублялась. У меня создалось впечатление, что она тайно дала обет бедности. Не было сил заставить ее купить для себя что‑нибудь, хотя бы и совсем нужное. Вспоминается, к каким ухищрениям нам с Димой пришлось прибегнуть, чтобы она согласилась принять новую скромную нейлоновую шубку, когда ее старая уже так продырявилась, что вызывала всеобщее удивление. Никогда ни одного такси — на трамвае или пешечком; никогда ни одного пирожного в баре (даже если в этот день она не обедала); если же у нее были деньги, то сразу покупала что‑нибудь, чтобы подарить нуждающемуся, а то просто побаловать кого‑нибудь любимого.
Рассказывает мне мой бесценный друг Ирочка Прен, что она как‑то говорила с Фламингой об одном праведнике и спросила: зачем молиться за его душу? Ведь она явно спасена. Фламинго ответила:
— Да, нужно непременно молиться о нем. Мы не знаем, сколько грехов других людей этот праведник взял на себя.
В последнюю неделю жизни Фламинги (она умерла 11–го мая 1978 года) она тяжко болела и сознание у нее подчас помрачалось. Эти моменты у нее как бы выключались из жизни, и она о них не помнила. Но замечательно то, что они относились все к материальной стороне жизни, а умственная и душевная жизнь возвращалась совсем живой и сознательной. Она интересовалась всем происходящим, внутренне участвовала в текущих событиях, духовно присоединялась к силе добра, борющейся со злом.
Как она была поражена известием об убийстве Альдо Моро за два — три дня до ее смерти!
— Боже мой! Зачем, зачем они это сделали![195]
По телевизору давали «Ревизора». Лежа в постели, уже крайне слабая, Фламинго просмотрела его с начала до конца — ее интересовала итальянская постановка пьесы. В воскресенье передавалась торжественная обедня. Фламинго, лежа, ревностно участвовала в ней и следила за ее ходом всей душой. Когда служба дошла до «Отче наш», она, зная (хотя была православной), что в католической церкви верующим полагается произносить молитву стоя, взглянула на меня жалко и беспомощно, как бы спрашивая: «Как мне быть? Я не могу встать!».
III. СИМВОЛ ВЕРЫ
В 1926 году Вячеслав решил сделаться католиком. Это решение его созрело после долгих размышлений о проблеме разделения церквей, проблеме, занимавшей его еще со времени его бесед с Владимиром Соловьевым. Вячеслав относился с крайней бережливостью к нашей с Димой внутренней жизни и старался, насколько только мог, не повредить ее органическому росту своим влиянием. (Влияние, которое поневоле исходило от силы его личности.) Поэтому решение сделаться католиком он мне сообщил, как своему взрослому другу, но скрыл его от 14–летнего Димы.
День перехода в католичество был назначен на 17–е марта, когда восточная Церковь празднует св. Вячеслава. Сначала Вячеслав прочел формулу присоединения к Католической Церкви в маленькой капелле, посвященной св. Вячеславу, в базилике святого Петра. Затем, по его желанию, в крипте той же базилики, на гробнице апостола Петра, отец Абрикосов отслужил обедню по восточному славянскому обряду[196]. В маленькой молельне над гробом св. Петра было лишь три или четыре человека. Вся церемония имела характер таинственный и одновременно очень торжественный.
Утром, до службы, не обошлось без некоторых затруднений. Погода была отвратительная: проливной дождь и страшный ветер. Мы ехали в Сан — Пьетро на извозчике с закрытым кузовом. Мы с Вячеславом рядом, а на добавочной скамеечке отец Абрикосов. Последний был нрава фанатического: он вдруг взглянул на меня, осознал мое присутствие и набросился:
— А Вы что? Все еще православная?
Вячеслав его резко перебил:
— Оставьте ее. У нее собственная духовная жизнь.
Отец Абрикосов смутился и как‑то осел. Когда Вячеслав что‑нибудь решительно запрещал, невозможно было ему противоречить.
Трудности нас ожидали в Ватикане. В те далекие времена от переходящего в католичество требовалась «abjura» — отречение от покидаемой им церкви. Формула была одинаковая для всех — протестантов, англикан, православных. По этой формуле требовалось осуждение веры, из которой человек переходит. Такого рода осуждение было для Вячеслава неприемлемо: он верил в Церковь Единую и Святую, трагически расколовшуюся на Запад и Восток. Своим присоединением к Церкви Католической он — хотя лишь своим индивидуальным актом, — восстанавливал Единство. Вместо стереотипной формулы, предлагаемой ватиканскими монсиньорами, он желал произнести заявление, составленное Владимиром Соловьевым — имя которого, увы! ничего не говорило местным церковным чиновникам. В наши дни его поняли бы и приветствовали бы, но в то время Ватикан не был к этому подготовлен[197].
Как бы то ни было, прелаты заявили, что формула Соловьева не годится, если не получится особого разрешения от Sant’ Ufficio — высшей ватиканской инстанции по вопросам доктрины, бывшей Инквизиции. Вячеслав и отец Абрикосов побежали что есть мочи через всю площадь в приемную Sant’ Ufficio. Я за ними с трудом поспевала. Отчаянный ветер раздирал сутану отца Абрикосова и плащ Вячеслава. Сверху ливень. Нужно было спешить, чтобы не пропустить часа, назначенного для обедни. В Уффиции Вячеслав был встречен равнодушными и пугливыми бюрократами. Дело становилось драматичным. Площадь перебегалась не раз. Каким‑то образом все в последнюю минуту уладилось, служба состоялась, и Вячеслав стал католиком, чему очень радовался.
Произнося /…/ Символ Веры, за которым следовала формула присоединения… — пишет он позже Шарлю Дю Босу, — я впервые почувствовал себя православным в полном смысле этого слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения, но обладание которым до тех пор, в течение уже многих лет, омрачалось наличием чувства какой‑то неудовлетворенности, становящейся всё мучительней и мучительней от сознания, что я лишен другой половины живого того клада святости и благодати, что я дышу наподобие чахоточных одним только легким. Я испытывал великую радость покоя и свободы действий, неведомую ранее той поры, счастье общения с бесчисленными святыми, от помощи и молитвы которых я долго противовольно отказывался, сознание, что выполнил свой личный долг, и в своем лице долг моего народа, уверенность, что поступил согласно его воле, которую я тогда ясно увидел созревшей для Единения, что остался верен его последнему завету: требованию забыть его и принести в жертву вселенскому делу Соборности. И — удивительно — я мгновенно почувствовал его, в духе возвращенным мне рукою Христа: вчера я присутствовал на его похоронах, сегодня я вновь был соединен с ним, воскресшим и оправданным…
* * *
Как только я освоилась с мыслью, что я приехала за границу не как туристка, а для того, чтобы здесь обосноваться, я начала мечтать о Франции: жить и работать в Париже, быть француженкой. Последнее было совсем легко — я родилась в Париже и могла, по французскому закону, получить гражданство этой страны. Уже в 1925 году я собиралась прервать занятия в консерватории и провести год в Париже, но Респиги решительно отсоветовал мне покидать Санта Чечилия до получения диплома (и был, конечно, прав). Диплом по композиции я получила в 1926 году, а в 1927 году — по органу.
В июне 1927 года было решено отправить меня на разведку в музыкальный мир Парижа. Патя Муратов закрепил номер в «Hôtel de la Présidence» на rue Penthièvre. Фламинго раздобыла мне визу с помощью своего дяди Фейна (того, кто создал первый трамвай в Ростове — на — Дону); Вячеслав снабдил меня рекомендательными письмами к Сергею Прокофьеву, Кусевицкому и Шлёцеру (музыковеду, брату Татьяны Федоровны Скрябиной). Осложнение было в том, что душа моя была настолько переполнена религиозными вопросами, что все остальное, включая даже музыку, меня не интересовало, и я поехала по чувству долга.
По дороге в Париж, рано утром, я решила прервать путь в Дижоне, чтобы осмотреть город. Был чудный день поздней весны, но я ошиблась дорогой и вместо того, чтобы попасть в город, очутилась среди каких‑то душистых цветущих полей. Высокая трава, местами уже золотящаяся, кипела жизнью, летали стаи птиц. Душа переливалась от счастья: вот она «la douce France»[198]; мне казалось, что я слышу, как дышит земля. За несколько километров виднелось село с большой церковью. Волны колокольного звона зазывали. Я попала на торжественную службу, церковь была переполнена. Пели «Приди, Дух Святой» («Venez, Saint Esprit»), праздновали Духов День.
Приехав в Париж, я занялась своими музыкальными делами. Сезон кончался. Мне удалось получить билет на последний спектакль балетов Дягилева и на последний симфонический концерт Кусевицкого. Из балетов меня больше всего заинтересовал «Le Pas d’Acier» Прокофьева[199]. Постановка была блестящая, очень красивая, но мне пришло в голову, что эта прекрасная музыка необязательно связана с содержанием данного балета. Как хорошо быть музыкантом! Пишешь свободно свою музыкальную криптограмму, а ярлыки можно наклеивать постфактум, по свободному выбору или по необходимости. Позже я узнала, что Прокофьев отдал музыку, еще совершенно не зная содержания либретто.
— Вы — композитор?
— Вы — последовательница Стравинского или Прокофьева?..
Так меня хотели определить при первой же встрече в Париже. Я была тогда ни то и ни другое. Технически принадлежала к школе Респиги. А по своим вкусам склонялась к Стравинскому, хотя его музыку мало знала, а Прокофьева еще меньше. «Le Pas d’Acier» был для меня новостью. Меня осведомляли: к Стравинскому попасть нельзя — он никого не принимает. У него две жены, одна языческая, с которой он отдается вихрю жизни и пишет тогда языческие вещи. Другая жена религиознейшая — он периодически к ней возвращается, кается, предается аскетизму и пишет исключительно религиозную музыку[200]. В противоположность Стравинскому, Прокофьев не прервал сношений с Советской Россией, он жил в то время полгода в Париже и полгода в России (случай исключительный, который, однако, недолго длился. Вскоре ему перестали давать разрешение жить за границей). С письмом Вячеслава я отправилась к Прокофьеву, была им принята сердечно, просто и очень внимательно. Он выслушал все вещи, которые я ему принесла, вникая в их замысел не свысока, а почти дружески, почти с товарищеским уважением. Такое отношение ко мне еще более тронуло меня позже, года через три. Это было в Риме, когда Прокофьев приезжал на гастроли. Он давал симфонический концерт. Я присутствовала на репетиции. Он был тесно окружен представителями советского посольства. Увидевши меня, он сразу подошел и спросил о моей музыкальной работе. Он сказал, что придет поздно вечером ко мне домой, чтобы прослушать фортепианный концерт, который я тогда писала. Я жила одна в меблированной комнате на пятом этаже, на виа Аврора. Мы провели много времени за роялем.
— Как жаль, что этот Ваш концерт никогда не будет исполнен, — заметил он.
Это была критика оркестровки этой вещи: он мне указал, что масса оркестра у меня заглушает рояль.
В Париже я была принята, благодаря письму Вячеслава, Кусевицким. Он жил в роскошной обстановке. Визит был не очень удачный. По наивности и молодости, я надеялась, что, увидев мои вещи, он захочет что‑нибудь мое исполнить. Но какие тогда у меня были вещи? Кроме пьес для фортепиано и романсов, у меня была поэма для большого оркестра «Облако», навеянная стихотворением Шелли (партитуры у меня с собой не было, так как она принадлежала консерватории, которая ее исполнила как мою дипломную работу); была еще поэметта «Рыбак» (гетевский «Der Fischer») для камерного оркестра и, наконец, эскиз неоконченной оратории «Огненосцы» для большого оркестра, хора и двух солистов на слова Вячеслава Иванова. Эта последняя вещь, когда я ее сыграла Кусевицкому, вызвала в нем энергичный протест.
— Это романтизм, так больше не пишут, теперь не та тенденция, теперь нужно быть формалистом. Посмотрите на музыку Баха, вот что теперь нужно; изучайте Баха.
Я почувствовала ненависть к Кусевицкому и обиделась главным образом за Баха. Бах, которого, кстати, я воспринимаю совсем не формально, с 14–летнего возраста был моим божеством. Как смеет он мне рекомендовать Баха, что он в нем понимает!
Я написала письмо Vincent d’Indy, к направлению которого питала симпатию. Хотела его повидать и показать ему свои вещи, но ответа от него не получила. Что же до Шлёцера, он меня принял чрезвычайно сердечно, выслушал пьесы, наговорил тысячу комплиментов (отчасти преувеличенных — в пику Кусевицкому).
Все эти музыкальные разведки показали мне, что устроиться в Париже как музыканту мне более чем трудно. Сразу после выезда из России я могла бы в Париже еще учиться и быть принятой как своя. Но в этот период, когда я уже стремилась к самостоятельной работе, но еще не имела силы себя показать, мне следовало оставаться в Италии, где меня поддерживали и мне помогали.
Но главным препятствием к устройству моих музыкальных дел (кроме обычного моего бича — застенчивости) было то, что в этот период они у меня перешли на второй план. Религиозный кризис, начавшийся в 1917 году и постепенно все нараставший, к 1927 году дошел до крайней остроты. Есть Бог или нет, нужно знать сразу, без этого нельзя больше жить: это же все меняет! Как можно жить в неизвестности? Я стала расспрашивать самых разных людей, которые мне попадались. Как‑то раз заехал в Рим Фаддей Францевич Зелинский. Мы оказались двоем. Я к нему:
— Есть Бог или нет? Верите ли Вы в Него?
Не помню ответа. Должно быть, он был не простым, как мне было нужно, а отстраняющим, уклончивым. Мои сомнения начались с Октябрьской революции. Голод, болезни, смерти, окружающие ужасы, зверь, проявляющийся в человеке. Идеалы, выработанные интеллигенцией, разбивались, как фарфоровые игрушки и оказывались искусственными построениями сытых людей. Окружающая меня жизнь все страшнее, все вокруг гибнет, умирает… А дальше? — гниет. Да, вся жизнь есть постепенное гниение. Мы живем в кошмаре. Есть ли хоть какая‑нибудь реальность в мире? Эту реальность я видела в правде. Все вокруг гибнет, но есть простая правда, хотя ее и трудно видеть. Она даже только простое тожество: а = а. Но мне это трудно здесь объяснить.
Марья Прокофьевна, коммунистка, идеалистка старого поколения, увещевает меня:
— Вам нужно оставить семью, поселиться одной и записаться в партию. Вы оживете.
— В партию? Нет, перейти на антирелигиозную сторону — это нет.
В Баку жизнь меняется: стало светлее. Но вопросы все еще оставались неразрешимыми. Группа студентов, сделавшихся моими близкими друзьями, меня попросила в качестве пианистки участвовать в праздновании памяти Блаватской. Я им играла Скрябина. Но теософы меня не удовлетворяли. Среди такого рода движений я выросла, они для меня были не новы. Мне нужен Бог, находящийся вне меня, Которому можно сказать «Ты»; или хотя бы, пока что, потусторонний, вне нашей материальности, мир. Попробовала спиритизм. Сеанс меня крайне утомил. Я почувствовала, что тут возможны какие‑то проявления невидимой силы. Но у меня осталось ощущение, что эта сила исходит от меня же, или от других присутствующих на сеансе. Отчего и получается утомление. Человек сложнее, чем кажется на поверхности, у него есть области глубокие, затаенные, подсознательные, — но я не этого ищу. Мне нужно убедиться в существовании мира, находящегося вне замкнутого круга моей личности, будь то осознанного или подсознательного.
Бывали в Баку и собрания, где пробовали феномены магии. Но в них я нашла лишь слабые упражнения в коллективном самовнушении. Во всех этих опытах я проявлялась как скептик, и потому ни я, ни мои ближайшие друзья — за несерьезное отношение к делу — не были допущены группой из пяти — шести человек, которые собирались несколько раз ночью для вызова мертвого. Но я не сетовала на это. Я слишком люблю моих реальных мертвых, чтобы рисковать принять свою собственную иллюзию за них. Это было бы ложью и перед собой, и перед ними.
Все эти внутренние переживания я держала при себе. С Вячеславом о них никогда не говорила. Сам Вячеслав был, без сомнения, миром мудрости. Люди, которые меня окружали с первых дней, были верхом сложности, умственных ухищрений. Мне не хотелось идти за ними в эти леса. Мне нужна была элементарная, насущная правда.
В Риме я встретилась с католическим миром. Он мне не был нов — я уже переживала в 1912 году (во время прений между Вячеславом и Эрном) все различия и все существенное тожество между православием и католичеством. Помню, что еще тогда мне приходила мысль: как хорошо, что можно обо всех этих высоких вещах спорить. Эти споры занимают ум и заглушают все основные религиозные сомнения.
В начале нашей римской жизни мы посещали православную русскую церковь. Русская колония, состоявшая преимущественно из старых аристократов — монархистов, кроме редких исключений невысокой культуры, — встретила нас сурово. Когда мы втроем в первый раз старались пробраться через маленькую толпу прихожан, мы слышали шепот — явно достаточно громкий, однако, чтобы донестись до наших ушей: «Сколько теперь советской сволочи понабралось!»
Настоятель римского прихода архимандрит Симеон был, однако, человеком высокой культуры и духовности. Товарищ по Духовной Академии будущего патриарха Алексия (Симанского), о. Симеон прожил почти что всю жизнь в Риме. Он охотно общался с Вячеславом, с которым имел много общих друзей. Но дух общины был нам столь тягостен, что мы вскоре решили больше в православную церковь регулярно не ходить.
Мы с Димой — каждый, конечно, по — разному — занимались проблемами религиозными, главным образом отношением между православной церковью и католической. Вячеслав из Колледжио Борромео следил за нашими исканиями, но никак не хотел влиять на нас. В моих письмах я ему рассказывала о наших встречах, разговорах, о друзьях — католиках вокруг нас, которые старались нас привести к католичеству (правда, иногда с противоположным результатом, ибо психология их была далека от нашей). Как‑то раз я написала шуточные стишки. В письме от 28 марта 1927 года Вячеслав на них реагирует:
/…/ образовавшаяся в ваших головах и сердцах путаница и суматоха, которая, вообще говоря, нежелательна и возникновение которой (как это ни больно для моей скромности) я отчасти должен приписать своему отсутствию, ибо при мне все шло бы спокойнее и ритмичнее и была бы избегнута та мобилизация всех небесных сил на нашей грешной земле, которую Кошка [Лидия. — Ред.] изображает в выразительных стихах:
Катешизируют котов —
Монашка — реверенд О’Коннор,
Архиепископ Леписей,
Collegio Beda, pater Майкель
Мулла, спец — ориенталист
И музыкальный монсиньор
А в голове дезордр и вздор.
…Где ж Абрикосов? Путь готов.
Я же думаю: не готов, а загроможден. И вся эта мобилизация тем особенно неприятна, что стесняет уже свободу решения и действия, как бывает с молодым человеком, имевшим неосторожность сделать, немного поспешно, предложение руки и сердца… Так вот, ввиду уже этих довольно осложнившихся обстоятельств повидаться немедленно было бы вполне уместно. Так мне по крайней мере представляется дело. Но, может быть, вы чувствуете себя совсем иначе? /…/
Стихи описывают тех доброжелательных наших друзей, которые — каждый по — своему — старались привлечь нас (здесь названных «котами») к католической Церкви:
Монашка, о. О’Коннор, ирландский настоятель церкви Сан Сильвестро (San Silvestro), друг нашего старого друга Майкель Мюэра (Muir) (здесь прозванного «патером»); архиепископ Леписье (Alexis Marie Lépicier), старый приятель Вячеслава — ставший позднее кардиналом; Beda College — английский католический семинарий, где жили знакомые английские священники; монсиньор Мулла, прелат турецкого происхождения, преподававший закон Божий в лицее Шатобриан; музыкальный монсиньор — «Révérend Père Schaefer, священник церкви, где я тогда была органисткой. Отца Абрикосова, ревностно «катехизирующего» православных, мы уже встречали. «В голове дезордр» — галлицизм: беспорядок, путаница.
Большой сдвиг в моей религиозной жизни произошел во время нашего с Димой пасхального посещения Вячеслава в Колледжио Борромео. Я решила попробовать поговорить там с ректором, отцом Рибольди, о своих вопросах и сомнениях. Из беседы, которую я с ним имела, а также из добавочных сведений от Вячеслава я поняла, что отец Рибольди находится еще под влиянием предыдущего поколения, — т. е. модернистов, — и сам полон мучительных и неразрешенных проблем. Мне показалось, что он должен от этого очень страдать: быть священником и сомневаться в корне своей жизни, сомневаться и в истине ежедневной своей деятельности! Мне стало остро его жалко — но как ему помочь? Он человек высококультурный. В этой области много думал, читал. Я не в силах с ним рассуждать (да и кто я — сама сомневающаяся). Тогда я решила: я должна сделать окончательное (изо всей мочи) усилие, чтобы найти веру. Во все свои усилия я буду посвящать и его. Быть может, это поможет ему, а также и мне самой. И да поможет нам Бог! Ему я, конечно, ничего о моем решении не сказала, но установила с ним регулярную переписку, осведомляя его о своих духовных переживаниях. Он сразу проявил к ним живой интерес.
Таково было мое душевное состояние, когда я поехала в Париж. Там мне вспомнилась беседа, которую я имела в последние дни пребывания в Москве с Лидией Юдифовной Бердяевой. Она тогда пришла в ужас от моего душевного состояния, но ей не удалось меня переубедить. Я, однако, ей обещала, что, если наши пути еще встретятся, мы возобновим разговор. И тут, в Париже, много лет спустя, меня потянуло к ней, и я поехала в Кламар, где она жила с Николаем Александровичем и сестрой Евгенией
Юдифовной в маленьком домике, вроде дачи, который был предоставлен Бердяеву его единомышленниками[201]. В какой час ни зайдешь в этот домик, в нем всегда были гости. Вокруг большого стола без конца пили чай, закусывали, обедали и говорили, говорили… Споры и рассуждения не кончались, проблемы не разрешались.
— Как Вы можете работать в таких условиях, — спросила я Николая Александровича.
Он ответил, что это ему необходимо для работы, что это та атмосфера, в которой у него рождаются мысли. При таком образе жизни работа по хозяйству была адская, и ее брала на себя кроткая и всегда ласковая Евгения Юдифовна. Сестры напоминали Марфу и Марию. Лидия Юдифовна жила аскетично, вся преданная молитве и медитации. Здоровье у нее было очень хрупкое. После приезда Бердяевых в Париж она заболела, казалось, безнадежно. Она мне рассказала, что ее жизнь была спасена Маритенами, с которыми Бердяевы тесно дружили[202]. Раиса Маритен ухаживала за ней и поручила ее своему доктору — какому‑то блестящему медику. За годы московских лишений, рассказывала мне Лидия Юдифовна, у нее была отравлена кровь и весь организм окончательно отказывался работать. Пользуясь последними открытиями медицины, доктор подвергал состав крови подробным анализам. Постепенно ему удалось ее поставить на ноги, и она жила осторожно, но нормально. Она, правда, тяготилась своей диетой, а именно полным запретом употреблять соль.
С Лидией мы сразу сблизились и стали как сестры. Она мне много помогла в эти дни и направила меня к своему духовному отцу, Августину Якубисиаку, польскому священнику и философу. Отец Августин исходил из Блаженного Августина и не был томистом, как тогда полагалось. По этой причине ему были закрыты двери официальных католических издательств. Его книгу о марксизме приютила еврейская фирма. Он был священником церкви Сен — Медар в Париже и духовником в тюрьмах, где ему случалось подготовлять к последнему часу приговоренных к смерти. Это был человек высоко духовный, и я доверилась его руководству. При первом нашем знакомстве он попробовал дать мне несколько книг из апологетической литературы. Но они меня резко оттолкнули. Тогда он мне дал Библейскую книгу «Премудрости», которая наполнила мне душу радостью, и мне стало легко дышать.
Я бросила искать доказательств веры. Мне лично служил немалым доказательством факт, что без Бога я была совершенно несчастна и, казалось, не могла жить. Еще до Парижа моя самая горячая, самая отчаянная молитва к Богу выражалась в одном слове «будь». А настоящие доказательства? Сколько мудрых людей до меня и теперь вокруг меня ищут? Возможны ли доказательства? Религиозный мир иной, чем материальный. Можно ли мерить один мир мерками другого? Меня смущало, что Церковь в то время осуждала тех, кто утверждали недоказуемость существования Бога.
И вот раз, когда я была измучена своими духовными исканиями, мне как бы привиделось, что я стою на крутом обрыве горы и передо мною бесконечная, страшная пустота, что‑то жуткое, темно — серое и бездонное. Поверить? И я бросаюсь вниз, покидая твердую землю.
Сильные религиозные впечатления были у меня раз на вечерне в парижском храме Блаженного Августина — во время процессии внутри церкви. А также не раз в церкви Sainte Marie des Victoire, куда я любила ездить. Но эти вещи трудно объяснимы.
Если стараться жить в Боге, естественно не оставаться в стороне, индивидуалистом, а войти в общину к своим братьям и сестрам, в Церковь. В какую? Православную или католическую? Они обе святы и существенно тожественны, но мне лично стала ближе католическая. Мне казалось, что в ней душе моей будет легче расти.
Перед тем как перейти в католичество, мне захотелось зайти в свою православную церковь и заявить там открыто о своем намерении. Я выбрала для этого отца Сергия Булгакова и попросила его принять меня. Отца Сергия я знала в Москве в свои юные годы, когда он еще не был священником, и он меня хорошо помнил. Мы с ним довольно долго и бурно беседовали. На доводы о первенстве Церкви Святого Петра он не стал отвечать, но пустился обличать «гордыню католической Церкви». Он мне рассказал, что незадолго до этого был организован в Лозанне съезд христианских Церквей. Православные приняли участие, а гордые католики, вместо того чтобы приехать, послали в Лозанну экземпляр своего катехизиса — «Какая гордыня!». Булгаков говорил мне, что католичество для меня будет гибелью. Что он видит ясно, как все будет: я пойду в монастырь (это он ясно видит). В монастыре моя свободная душа будет искалечена католической системой «подпорок», искусственно формирующих человека. В конце свидания он добавил:
— Вас заставят при переходе в католичество проклинать православие. Я Вас помню в Москве, как Вы стояли на одной службе, Вы жили тогда в Духе Святом. Теперь, при уходе из православия, Вы совершите грех против Духа Святого!
Я вышла от него потрясенная этими последними словами. Не могу описать, как мне было тяжко те два — три дня, которые предшествовали церемонии моего перехода в католичество.
Она была назначена на 12 июля. Еще в то утро я проснулась на заре, полная колебаний, но сделала усилие над собой и зашла в церковь бл. Августина. Там я обрела силу и решимость и отправилась в Сен — Медар, где меня ожидали отец Августин и моя дорогая Лидия. В формуле, которую мне дали прочесть перед обедней, никаких проклятий не было. После службы, так как я была вне себя от волнения, Лидия взяла меня с собой в Кламар, где Евгения Юдифовна меня встретила с лаской и любовью, хотя она сама была ярой православной. За столом, на завтраке, Евгения Юдифовна заявила: «Сегодня особый, торжественный день. Одна сегодня причастилась, другая перешла в католичество, а третья…» — к сожалению, тут мне память изменяет — шла речь о чем‑то тоже важном и духовном.
Уже вечером я вернулась в Париж и зашла поесть в какое‑то бистро на площади перед той же церковью бл. Августина. За соседним столиком сидел англичанин, который начал болтать со мной.
— Вы не находите, — сказал он мне, — что люди все похожи на зверей? Вот, смотрите, этот направо — это хорек, а рядом сидит утка.
Мне очень хотелось спросить, кого он видит во мне, но я решила, что в такой важный день я не должна шутить над своей внешностью, и запретила себе его спрашивать об этом.
После этого мы еще несколько раз встречались с отцом Августином. Раз это было у Крестовской, близкой подруги Лидии, у которой был рояль. Отец Августин и Лидия хотели познакомиться с моей музыкой.
Наступило время, когда из Парижа все разъезжаются, и отец Августин посоветовал мне поехать отдохнуть в бенедиктинском монастыре Солем (Solesmes). Этот совет был очень мудрый: действительно, Солем мне дал новые силы, как духовные, так и музыкальные. Я поселилась там в скромном пансиончике близко от монастыря, где бывала на всех службах. Там я постепенно входила в дух грегорианской музыки, до тех пор мне совсем неизвестной; она открывала свой лик и глубоко вселялась в меня. Монахи Солема поддерживали связь с обширными кругами культурного мира. Много писателей, художников, музыкантов Европы и Америки приезжали в Солем, кто — чтобы присутствовать на службах в аббатстве и послушать несравненное исполнение грегорианских мелодий, а кто — чтобы войти в сношения с монахами и стать членом общества «друзей Солема» («Amis de Solesmes»). Некоторых друзей часто принимали гостить в монастыре на несколько дней. Один из них рассказывал, как он был удивлен, войдя в келью одного инока. Он увидел на его письменном столе среди груды ученых фолиантов и рукописей иллюстрированный том: «Les Ballets Russes».
— Вы читаете такие светские вещи?
— Мы знакомимся со всем ценным, что дает культура. В этой книге находятся драгоценные идеи, которые можно применить для большего благолепия служения Господу нашему.
Совершенство исполнения грегорианского пения в Солеме добывалось тяжелым и упорным трудом. Ежедневные спевки иной раз длились по 5–6 часов. Я спросила, согласны ли монахи дать мне уроки грегорианской музыки. Они меня направили в женский монастырь св. Цецилии, находящийся рядом с главным мужским св. Петра. Туда я ходила несколько раз к старенькой монашке Mère Hildegarde. Педагогических дарований у нее не было, и солемская замечательная, оригинальная теория ритма осталась для меня тайной до той поры, когда через много лет судьба поставила меня перед необходимостью преподавать другим то, чего я еще сама не знала.
Mère Hildegarde была очаровательным веселым существом с прозрачной детской душой. Она была сестрой одного из очень именитых исследователей грегорианской музыки, автора многих трудов, Dom Mocquereau. Ее брат, виолончелист, по примеру своей сестры Hildegarde, покинул мир в 25 лет и поступил в бенедиктинский орден. Брат и сестра прожили всю жизнь в соседних монастырях. Им было за семьдесят лет, когда я с ними познакомилась. Я попросила аудиенции у Dom Mocquereau. Он принял меня в саду, одетый в синий передник с очень широкополой соломенной шляпой на голове. Может быть, он занимался какими‑нибудь работами по садоводству. Мы сели и заговорили о музыке.
— Я в музыке ничего против модернистов не имею, — заявил он. — До того, как я постригся, играл охотно и Баха и Бетховена.
Услышав слово «модернист», я было вообразила Стравинского или других его современников, но он имел в виду Баха и Бетховена. Я поняла, что его музыкальный мир начинался и кончался в Средневековье, так что Бах и Бетховен ему казались новшеством. История нашей классической музыки так коротка!
Dom Mocquereau начал говорить мне о мелодии и вообще о музыкальной мысли. Она сейчас коротка, отрывиста: зарождается и сразу обрывается. В грегорианской музыке мелодия подчас так длинна, что одним человеческим дыханием ее нельзя пропеть. Поют хором в унисон, и поющие меняют дыхание посреди мелодии в разных местах так, что слушающие не замечают перерыва, и линия мелодии кажется очерченной сверхчеловеческим дыханием.
— Старайтесь и Вы, когда будете писать музыку, писать широким дыханием, избегать этой разорванности современной души.
Таковы приблизительно были слова дорогого Dom Mocquereau, и они мне очень запомнились. На Успение, 15 августа, приехала ко мне на 2–3 дня Лидия. Она предложила накануне праздника поститься: в течение дня есть только хлеб. Я согласилась с радостью, решив, что это мне подарок свыше, так как до этого сама, по собственному обету, запретила себе за все пребывание в Солеме есть хлеб (за исключением утра) и была все время голодной.
После Солема я провела еще несколько дней в Париже, а затем поехала обратно в Рим, по совету отца Августина — через Лурд, Каркассонн, Ним и Арль. Выехала из Парижа для экономии ночью. В Лурде была днем на службах и процессиях, которые произвели на меня огромное впечатление, — особенно молитва и песнопения толпы (быть может, это было 8 сентября). Это — человеческий унисон, достигающий такой силы, что кажется, может дойти до диалога с Богом! Ночь провела перед пещерой, отчасти из благочестия и отчасти по безденежью. На следующий день поехала, не торопясь, по южным французским городам и ночевала (на этот раз в гостинице) в Ниме.
Вернулась в Рим голодная (последние дни могла покупать только хлеб), но полная проектов. Я мечтала переселиться с Димой в Париж. Его, как я тогда осведомлялась, можно было отдать учиться в лицей к эдистам в Версале, где климат более здоровый, чем в Париже. А сама я мечтала найти место органиста и намечала на это город Лe Ман (Le Mans).
После пребывания в Солеме я опять всей душой сделалась музыкантом. В самом Солеме я нашла рояль и написала две прелюдии, которые называла тогда «Hymnes» (Гимны). Замысел был написать длинную серию таких прелюдий. К сожалению, написала только две. Много лет спустя я их обработала и превратила в пьесы для органа: «Le chemin de la porte étroite» и «Fête»[203].
* * *
Что же происходило с Вячеславом и Димой, пока я была во Франции? После первого академического года в Павии, Вячеслав приехал в Рим и поселился с Димой в наших комнатах на via Bocca di Leone. Фламинго жила в гостинице Санта — Кьяра, у Пантеона. По совету Ольги Ивановны Синьорелли, в середине лета Вячеслав отправил Диму на дачу, в Олевано Романо, городок в холмах между Тиволи и Субиако. Там находилась небольшая деревенская гостиница, с хозяевами которой семья Синьорелли дружила с незапамятных времен. (В этой маленькой гостинице мы с Димой провели летние каникулы в предыдущем 1926 году. Мы там крепко подружились с шотландцем Muir’ом и его ирландской женой Patsy.)
Дима вернулся из Олевано 20–го сентября и тут через несколько дней случилась беда. 8 октября Дима сидел в кафе с Вячеславом и кем‑то еще третьим. Ему дали пить стакан мяты. Он помнит яркий зеленый цвет мяты. И тут совершенно внезапно у него пошла горлом кровь. Кафе было близко от дома, куда Диму сразу привели, и я его уложила в постель. Температура 40°, вызов доктора Синьорелли, анализы: острый процесс туберкулеза правого легкого. До 12 ноября Дима был дома. «Помогала ухаживать Ольга Александровна Шор (из семьи московских музыкантов Шоров). Она необычайная женщина, и не знаю, что было бы без нее», — писала я в письме к Евгении Давыдовне Эрн 15 апреля 1928 года.
Дима не терял своего внутреннего мира, душевной легкости и оставался веселым. Ему запретили говорить и смеяться. Он держал рядом палочку, которой стучал по постели, когда ему было смешно, — в знак того, что он смеется.
Из того же письма: «12 ноября Диме сделалось настолько лучше, что появилась надежда на его излечение, и его согласились принять в санаторий, где он и сейчас находится. Очень хороший, ”Красного Креста“». Это был санаторий «Чезаре Баттисти» с очень опытным и дружески настроенным директором — д — ром Мендес.
Болезнь Димы была для нас тяжелым испытанием. В том же письме я писала: «Папа вторую зиму проводит в Павии. Приезжал к нам на Рождество и на Пасху. Совсем разбит душевно болезнью Димы».
Вячеслав говорил мне:
— Какое счастье, что с тобой случилось именно теперь то, что было в Париже.
Он хотел сказать, что у меня после Парижа появилось больше душевных сил, чтобы перенести это испытание. А то застает меня за роялем и спрашивает, какую музыку хорошо было бы сейчас поиграть. И мы оба соглашаемся (мы, которые оба обожаем Бетховена): Бетховена не нужно сейчас. Он не успокоит, от него еще мучительнее станет.
За свое недолгое пребывание в России Дима не успел получить православного воспитания. В младенчестве и раннем детстве его водили в церковь, но во время нашего пребывания в Баку мы в нее очень редко ходили; он получал христианское, но довольно нецерковное образование. С приездом в Рим все изменилось. Он попал в чисто католическую среду: чудные церкви с замечательными службами, дружба с убежденными католиками и священниками — все вызывало желание войти в Церковь; католическая Церковь ему рано стала своей. Религиозность Димы очень обострилась, когда он заболел. Он много читал Евангелие, много молился, и чувствовалось, что его собственное заболевание и окружавший мир санатория неустанно возбуждали в нем проблемы жизни и смерти. Для души его было благотворно, что Церковь вокруг него внедряла ежедневно, в каждый момент жизни, свою благодатную силу. Он чувствовал потребность в частом, иногда и ежедневном причастии — обычном у католиков, но не принятом в православной среде.
С самого начала его пребывания в санатории он заявил, что хочет немедля перейти в католичество. Кто решился бы ему в этот период в чем‑нибудь отказать? Да мы с Вячеславом и сами уже были католиками. Незадолго до этих событий Вячеслава представили французскому архиепископу Алексис — Мари Леписие́ — очень пожилому и высокопоставленному прелату, человеку очаровательному, кристальной ясности и деликатности. Он казался живым воплощением идеальной гравюры XVIII века. Он захотел познакомиться с семьей Вячеслава и был с нами так ласков, что даже однажды сам пришел к нам в гости на Bocca di Leone, в отсутствие Вячеслава. Он беседовал с нами, а потом сел за рояль и сыграл старинную пьесу «La prière d’une vierge», которую он учил в своей молодости. Он ко мне относился ласково, но никак не мог запомнить моего имени и упорно звал меня Mademoiselle Sophie. Но особенная дружба и любовь установилась у него с Димой, и Диме страшно хотелось, чтобы его принял в католичество не кто иной, как Монсиньор Леписие́. Тот согласился приехать к нему в часовню санатория. Это было особенно любезно, потому что через несколько дней его должны были произвести в кардиналы, и он торопился, так как кардиналу в ту эпоху протокол этого бы не позволил. Д — р Мендес, убежденный антиклерикал, сделал уступку своим принципам и очень любезно принял архиепископа. Он, конечно, не встал на колено и не поцеловал его кольца, как полагалось в те времена, а только крепко стиснул в своей фашистской руке хрупкую, фарфоровую старческую ручку монсиньора. (Мендес был верующим евреем, ярым фашистом и деятельным сионистом. Этому движению Муссолини в то время сочувствовал.)
До перехода в католичество Диме хотелось сообщить о своем решении отцу Симеону, архимандриту Русской православной церкви. Думается, желание, похожее на мое, когда я пошла к отцу Булгакову: уходить из родного дома нужно не тайком, а попрощавшись и, если возможно, с родительским благословением. Дима попросил меня пойти к отцу Симеону, что я и сделала. Архимандрит был очень ласков и сначала принял сообщение о Димином переходе в католичество полусерьезно.
— Уж эти русские люди! Чего только не накрутят.
Но под конец разговора, когда он понял, как опасно болен Дима, он вдруг искренно испугался за душу своего маленького прихожанина и воскликнул:
— А если он умрет? То как же?
Переход состоялся в часовне санатория. Служба была одновременно торжественная, интимная и очень трогательная. Присутствовали некоторые из больных, служащие и два — три друга. Дима был счастлив. Этим актом закончился переход в католичество всей нашей семьи.
* * *
Чтобы разделить расходы на свое жилище, я пригласила жить вместе мою милую венгерскую подругу, студентку Римского университета Гиту Радич. Она занимала Димину комнату в периоды, когда приезжала из Будапешта в Рим. У меня было несколько уроков с певцами — иностранцами, приезжающими в Италию для постановки голоса и изучения репертуара оперы в надежде (увы! почти всегда напрасной) на карьеру в опере. Благодаря хлопотам Синьорелли Диму удалось записать в санаторий в горах Вальтеллины, на севере от Милана, в селе Сондало. Я его провожаю и поселяюсь там, сначала в гостинице, а потом на пансионе у сельского священника, которому служу органистом в его церквушке. Санаторий хороший, воздух горный, опьяняющий. Единственно, что мне не нравится, это душевное настроение больных: они не надеются на выздоровление, на все махнули рукой, ни во что не верят и ничем не интересуются. Такое уныние вредно и для здоровья, и я счастлива, когда нам удается перевести Диму в Давос. Организацию переезда в Швейцарию взяла на себя Фламинго, наш верный ангел — хранитель.
С помощью своей московской подруги Наташи Тальберг, жены известного цюрихского адвоката, Фламинго лично объехала несколько знаменитых курортов для туберкулезных больных. (Один из них был прекрасный, но больных можно было видеть летом, зимой же до них добирались только на лыжах.) В конце концов Фламинго решилась на классический Давос, где выбрала маленькую частную лечебницу некоего доктора Вольфера. На обратном пути вагон, в котором сидела Фламинго, отцепился от поезда, получилось сильное сотрясение и внезапная резкая остановка. Рука Фламинги, которой она опиралась на окно, попала под какую‑то железину и ее защемило. Как только поезд достиг Комо, Фламингу высадили и проводили в госпиталь, откуда она нам тотчас же позвонила по телефону: было‑де маленькое осложнение с поездом, пришлось слезть в Комо, нахожусь в госпитале, пустяки, не беспокойтесь. Тут телефонная связь вдруг прервалась… Мы испугались, я кинулась в Комо разыскивать Фламинго по больницам и отелям — нигде нет. На следующее утро звонок из Рима: почему волновались? Какие глупости! Я и забыла об этом… Однако забыть об этом бедная Фламинго всю жизнь не смогла, так как у нее сделалось воспаление нерва руки; то и дело появлялись боли и спазмы в пальцах, так что она не могла держать пера. Ей приходилось все свои произведения и даже письма писать на машинке, невероятно медленно выстукивая букву за буквой.
После трехмесячного пребывания его в Сондало летом 1928 г., я проводила Диму в Давос. Путешествие прошло легко и весело. Сначала на нас произвел впечатление переезд через ледник Бернина: мрачные серые глыбы взбудораженного мокрого льда, загрязненного по краям землей, образующей хитрые арабески по белому. На перевале наше хрупкое санаторное настроение было нарушено взрывом почти наглого здоровья: в вагон ворвалась группа туристок — молодых валькирий, мощных, совсем не грациозных, с мешками, палками и звякающими котелками. На станции Filisur подсел к нам тонкий, бледный молодой человек и всю дорогу почтительно выспрашивал у нас всевозможные сведения, которые с той же почтительностью повторял про себя и записывал в записную книжку. С тех пор у нас в семье почтительных и любознательных молодых людей прозвали филизурами.
Не без волнения въехали мы поздно вечером в Давос, от которого зависело Димино будущее и сама его жизнь. Пребывание у доктора Вольфера было коротким и не очень удачным. Он любил крутые способы лечения и производил впечатление человека безответственного, любящего эффекты. К счастью, благодаря рекомендации кардинала Леписие́ удалось получить место для Димы в католическом санатории «Альбула», куда его приняли за исключительно низкую, доступную нам плату. «Альбула» была не коммерческим учреждением. Она обслуживалась бенедиктинскими монашками, была прекрасно оборудована; во главе ее стоял доктор Грюннигер, человек добросовестный, опытный и осторожный. Как только Дима приехал, его положили в постель, где продержали очень долго. Одна больная, веселая пухленькая дамочка, сразу возымела к новому больному симпатию и неотвязно сидела около него с твердым решением научить его немецкому языку, что ей удалось сделать в течение одного месяца. Правда, как я пишу в одном своем письме, «Дима гений в языках», но все же замечательно, что через год швейцарцы считали его немцем, а через три года ему удалось даже немного объясняться с местным населением на их диалекте. В 1930 году он мог поступить в немецкую гимназию в Энгельберге — городок немецкой Швейцарии — и благополучно окончил там курс.
Настроение у больных в «Альбула» было хорошее. Многие из них были из рабочего класса, всеми силами старались выздороветь, чтобы опять приняться за работу. Особенно привязался Дима к молодому голландцу Доминику Пайенс. Бедный Пайенс, несмотря на свой внешний цветущий вид, был безнадежно болен и умер во время пребывания Димы в санатории. Так как санаторий был католический, в него посылалось много больных священников и молодых семинаристов; там у Димы с некоторыми из них завязалась дружба. Лечение заключалось главным образом в пневматораксе и лежании часами и часами на открытом воздухе при любой погоде. Лежали больные на террасе, зимой закутанные в меховые спальные мешки. Милые сестры во время пребывания Вячеслава в Давосе устроили нас на отдельной террасе с Димой и дали нам шезлонги с покрышками, чтобы мы могли проводить с ним много времени.
Пребывание Димы в Швейцарии разделило мою жизнь: с одной стороны, я часто ездила в Швейцарию и долго жила либо рядом с санаторием, либо — позже — вместе с Димой, когда он выздоровел и учился в Энгельберге. С другой стороны, я не порывала надолго с Римом, где работала над своей музыкой и участвовала в курсах совершенствования у Респиги. Вячеслав жил в Павии все месяцы академического года, а на лето и часто на Рождество уезжал в Рим или, пока Диме было плохо, в Швейцарию; позже он проводил каникулы на море или в горах. К Диме в Давос Вячеслав ездил несколько раз. В 1929 году мы провели там все лето и возвратились в Рим вдвоем только в октябре. Ехали мы в Швейцарию очень весело. Я выбрала необыкновенную дорогу. План был такой: нормальный поезд до Лекко, затем маленькая добавочная линия до пограничного городка Кьявенны; там через перевал Малойя; автобус до Санкт — Морица, и оттуда, наконец, нормальной железной дорогой до Давоса. Из Лекко мы в поздние сумерки сквозь лохматые леса и неуклюжие формами горы подъехали к границе Италии, точно с черного хода. Поездок долго барахтался, а я увеселяла Вячеслава пением романса Шуберта:
Горный поток, чаща лесов,
Дикие скалы, вот мой приют…
И выдумывала всякий вздор насчет шубертовского романтика: почему‑де и как он живет там (между прочим, он питался лисьим маслом). Вячеслав всегда страшно любил мои фантазии и вживался в них. Мы переночевали в Кьявенне, а на следующее утро нам посчастливилось найти двух попутчиков, и мы совместно наняли автомобиль до Санкт — Морица. Вячеслав не был избалован, и поездка через любимые им швейцарские горы, да еще в частном автомобиле, воспринималась как кутеж. А пейзаж был действительно хорош: высокий альпийский перевал, затем долина Малойя, родина художника Сегантини, и озера Зильс — Мария, интересные для Вячеслава, так как они связаны с Ницше. В Санкт — Морице наши спутники слезли. Мы остались вдвоем и попросили шофера отвезти нас в скромное место, чтобы закусить. Он круто повернул в боковую аллею; перед нами оказался изящный круглый сквер с пышной клумбой посередине; автомобиль, тихо хрустя по гравию, стал медленно огибать площадку перед входом в роскошный отель. Двери его растворились приветливо, на пороге встречал почтительный швейцар, за ним два лакея. Это видение привело Вячеслава в ужас, и он быстро шепнул шоферу: «Не останавливайтесь». Наш автомобиль замедленным ходом прохрустел по гравию мимо изумленного персонала, и исчез столь же необъяснимо, как и появился. Во время закуски в действительно «скромном месте» Вячеслав сторговался (а он был мастер торговаться) с одним таксистом, чтобы тот нас повез дальше до самого Давоса. Мы переехали через перевал Альбула и попали в санаторий (названный по имени перевала) уже вечером. Дима был поражен: он не ожидал нашего прибытия в такой поздний час, да еще на частном автомобиле!
Монашки встретили Вячеслава крайне любезно, поселились мы в соседнем шале, где сдавались комнаты. Наши две комнатки были крошечные, мансардные, со скрипучими дощатыми полами, со стенами, еще пахнущими смолой, с оконцами, приотворяющимися на крутые скалы и лесистые хребты высоких гор. Монашки пригласили нас питаться у них и даже отвели нам отдельную маленькую столовую, где мы сидели с Димой совсем по — семейному. Однако Вячеслав скоро затосковал от чуждого ему стола: он был «карнивор», и все супы, овощи и сладкие блюда наводили на него уныние. Он отказался ходить по вечерам в санаторий и потребовал, чтобы я ему в комнате жарила на спиртовке простой бифштекс. Мясо в Швейцарии прекрасное, но я ворчала — мне лень было спускаться в долину к мяснику и возиться со спиртовкой в комнате. Однако, если Вячеслав чего хотел, то спорить было бесполезно. Мы проводили вдвоем уютные вечера, и в стену нам не раз стучали рассерженные соседи, утверждавшие, что мы им не даем спать. По всей вероятности, они были правы, так как Вячеслав беседовал с художником Курлыковым, с журналистом Фиоресценским, с теософкой Седмисферовой и многими персонажами из «Пули Времен», живописными и подчас крикливыми, мною изображаемыми.
Если не ошибаюсь, именно в это лето у нас была дорогая и интересная встреча: Эмилий Карлович Метнер.
С Метнером, после дореволюционных литературных и личных связей, дружба возобновилась письменно в 1925 г. Когда Метнер, живущий в Цюрихе, узнал о присутствии Вячеслава в Швейцарии, он приехал в Давос. День прошел в бесконечных, оживленных разговорах. Главной темой их был философ и психоаналист Юнг. Э. К. был его близким другом и подчас ассистентом. А до этого его пациентом. Метнер рассказал нам про свою тяжелую, психосоматическую болезнь, которая с годами ухудшалась. Одним из ее симптомов были припадки — мучительный шум в ушах и дикие головные боли — которые наступали как только Э. К. слышал какие‑то музыкальные звуки. А до появления болезни он только музыкой и жил. Близкие считали, что такого рода заболевание, явно на психической почве, произошло из‑за сложных отношений между Э. К. и его братом, горячо им любимым, — композитором Николаем Метнером. Во имя любви к брату и желания всецело служить его музыкальному призванию, Э. К. отказался от им самим страстно любимой музыки. Брату, после сложной и великодушной борьбы, он уступил любимую женщину, ставшую женой Николая. Вот те душевные переживания, которые породили его тяжелый недуг.
В Цюрихе, уже в зрелых годах и совсем обессиленный, он пошел к доктору Юнгу и был им вылечен. Все болезненные признаки прошли, он стал нормальным человеком и даже с благословения самого Юнга начал принимать больных и сам их лечить психоанализом. Чтобы спокойно посидеть в кафе, мы с Эмилием Карловичем и Вячеславом поднялись часов в пять в знаменитый отель, стоящий очень высоко над Давосом. Диме было тогда настолько лучше, что доктор позволил ему поехать с нами. В зале играл маленький инструментальный ансамбль. Мы испугались за Эмилия Карловича, но он заверил нас, что музыка на него больше абсолютно никак не действует:
— Результат лечения Юнга, — сказал он.
Беседа велась нормальная и оживленная, и Эмилий Карлович уехал обратно в Цюрих, сильно усилив у Вячеслава интерес к Юнгу. Он следил за его трудами, но личного знакомства между ними не произошло, несмотря на то, что Вячеслава многократно, но тщетно приглашали на собрания «Eranos» в Асконе, где царил Юнг. Добавлю, что на меня лично образ Метнера произвел крайне угнетающее впечатление; он мне представился как бы человеком, отчасти уже мертвым, который еще ходит и действует нормально. В результате лечения что‑то в его душе (музыка?) было убито. Что‑то очень существенное. Душа уже не вполне живая, искалечена, ампутирована. Этого добился Юнг своим психоанализом?.. Но какая же плата!
Многочисленные — и крайне интересные — письма Метнера к Вячеславу подтверждают много позже мое тогдашнее впечатление. «Душа у меня окончательно перетерлась», — пишет Метнер (в письме без даты, вероятно 30–х годов). В письме от 28 февраля 1936 г., поздравляя Вячеслава с семидесятилетием, Э. К. пишет: «Хочу /…/ просто сказать Вам, что встреча с Вами на этой мною не особенно любимой планете принадлежит к немногим счастливым моментам моей жизни /…/ Мое здоровье пошатнулось, а главное, я изнеможен в конец». (Римский архив В. И.).
* * *
Последняя поездка Вячеслава в Давос была, кажется, в 1930 году. Доктор выписал Диму из санатория и разрешил ему продолжать его школьное образование. Однако рекомендовал ему выбрать школу в высоких горах. Выбор пал на Энгельберг, где при достославном бенедиктинском монастыре находился один из лучших швейцарских лицеев, диплом которого давал права на поступление в университеты Швейцарии, Италии и Франции. Трудности были огромные — учение шло по — немецки, и программы не соответствовали программам Диминого французского лицея Шатобриан (например, требовалось изучение греческого языка). Доктор был против того, чтобы Дима жил в суровых условиях общежития, и было решено, что я поселюсь с ним в частном доме и постараюсь создать условия семейной жизни.
Прежде чем решиться на этот шаг, Вячеслав захотел лично познакомиться с Энгельбергом, его монастырем и школой. Поэтому мы с ним выехали из Давоса вдвоем до отъезда Димы. Как всегда, нам вдвоем было весело, и поездка приняла характер романтической авантюры. Этому способствовало еще то, что после очаровательного плавания по Фирвальдштетскому озеру мы попали очень поздно вечером в невероятно бурную грозу. Поездок — полуфуникулер — взбирался все выше и выше, с трудом протискиваясь через дикие узкие ущелья; нас оглушал гром, ослепляли молнии. На конечной станции уже все было потушено — мы приехали ночью последним поездом; дождь лил, как из ведра. Вдали тусклый фонарик обозначал скромный отельчик. Мы в него нырнули сквозь ливень и предстали струящимися перед гостеприимной хозяйкой, которую мы с Димой после прозвали (хотя ничто на это не подавало повода) «Легкомысленной цаплей». На следующее утро проснулись — идиллия. Инфернальных стихий как не бывало, ласковое солнышко, овальная долина, такая тесная, что кажется огромным зеленым залом, окружена высочайшими лесистыми и зубчатыми стенами; в зимние месяцы лучи солнца не могут проникнуть во все части долины, вдоль нее течет речка и проложена дорога, которая останавливается в конце овала; это конечное место называется «Концом света» (Ende der Welt). Посреди долины монастырь Энгельберг стоит вроде кремля, огороженный длинной белой стеной. Внутри собор, здания для монахов, школа, общежитие для гимназистов и всевозможные службы. Помню, как я ходила туда за молоком и сыром, который там же выделывался.
Вокруг монастыря небольшое селение — несколько уличек, деревянные шале, несколько магазинов и, как везде в Швейцарии, целая группа отелей, от скромных до роскошных. Жизнь патриархальная. По воскресеньям все население Энгельберга и поселков вокруг него за много километров сходилось к главной обедне, где раздавалась ученейшая полифоническая музыка для большого органа и хора из учеников и монахов. Большая часть народа одевалась по случаю воскресенья в национальные старинные костюмы: мужчины носили богато расшитые серебром или золотом блузы; девушки вкладывали в волосы длинную стрелу из серебра, а замужние женщины закрепляли шиньоны высокими чеканными гребешками. Вечером народ собирался в шинках, где лились потоки пива. Всех этих подробностей Вячеслав не успел узнать: мы пробыли с ним в Энгельберге лишь часть одного дня. Утром он пошел в монастырь один (женщинам нельзя было входить в дом, где жили бенедиктинцы). Его принял молодой директор, отец Карл, веселый и любезный, показал ему всю обитель, познакомил с двумя другими монахами — преподавателями. Занятия еще не начались, и почти все монахи находились в местечке Графенорт, где был старый дом, служивший им дачей. На обратном пути, по приглашению отца Карла, мы остановились в Графенорте, где гостеприимные монахи пригласили нас обедать (большие, домашнего производства колбасы с тушеной капустой и пиво). Я доехала с Вячеславом до Люцерна, где он сел на поезд в Рим, а сама переночевала в отеле, чтобы на следующее утро встретить на вокзале Диму.
В Энгельберге мы с Димой наняли квартирку в домике красного цвета, принадлежащем лавочнице фрау Кюстнер. Мы прозвали домик «Красным сапожком», стоял он довольно глубоко в долине, и солнце до него месяца полтора зимой не достигало. Наша квартирка состояла из одной просторной, полуразделенной на две, комнаты и кухни. Отапливалась она огромной голландской печью, которая находилась частью на площадке входной деревянной лестницы и частью, с красивыми изразцами, в квартире. Ее нужно было топить большими поленьями. Часть печи, находившуюся на площадке, я употребляла как духовку: топила в ней молоко, готовила варенец, жарила мясо, [пекла] пироги (я знала, что Диме нужно было усиленное питание). Чад от яств поднимался струйками по лестнице до верхнего этажа, где жила веселая вдова, у которой столовались несколько парней — садовников. Садовники поставляли мне зелень с грядок, а за молочными продуктами я ходила в монастырь. Масло в монастыре давали большим блоком, завернутым в толстую специальную бумагу. Холодильника не было: я клала масло на подоконник и неизбежно находила в замерзшем пакете глубокую узкую дыру, проделанную клювами местных зеленогрудых воробьев — зеленушек. В комнате стоял взятый напрокат рояль, за которым я работала. Дима с раннего утра уходил в школу, где до общих занятий брал еще частные уроки греческого языка у старенького патера Одило, которого он очень любил.
В конце декабря 1930 г. я уехала в Рим, оставив Диму одного обновлять свою самостоятельную жизнь. «Красный сапожок» был покинут, и он поселился в небольшом отеле «Энгельберг», где его очень полюбили хозяева, супруги Хесс. Он сдружился с ними и с их многочисленными родными и прожил в этом отеле не только четыре года своего ученья в Швейцарии, но еще и после туда наезжал один или со мной[204]. Особенно мы подружились с молодой, крайне культурной Гретель Хесс, которая приезжала также к нам и в Рим.
* * *
Связь с Швейцарией продолжалась. Вячеслав бывал в прекрасном старинном доме Мартина Бодмера, создателя журнала Корона, близ Цюриха. Он раз поблагодарил гостеприимных хозяев немецкой элегией в Веймарском стиле.
В октябре и ноябре 1934 г. Вячеслав выступал по — немецки в Цюрихе и Люцерне; он говорил (как и в Сан Ремо) об «установках современного духа»[205]. «Союз швейцарских студенческих обществ» выбрал его почетным членом, в Neue Zürcher Zeitung и в швейцарских журналах появились статьи его и о нем[206].
С января 1929 г. я стала посещать курсы усовершенствования по композиции, которые Респиги вел при Академии Санта Чечилия. Душа моя была насыщена переживаниями Парижа и Солема, и я принялась за пьесу для большого оркестра «Тема и девять вариаций Torate Coeli desuper». Слова я взяла из псалма, читаемого на Рождественский пост. Содержание текста имеет характер космический; я сочинила для него мелодию, которая не исполнима для человеческого голоса не только по длине дыхания (как любил Dom Mocquereau), но и по объему диапазона. На следующий год, когда композиция была готова, Респиги посоветовал мне ее подать в комиссию по рассмотрению пьес, предложенных для исполнения на концертах главного римского симфонического зала Августео (Augusteo). О, радость и волнение! Вещь принята, будет исполнена в апреле 1930 года и дирижировать будет сам Бернардино Молинари, постоянный директор Августео.
Вариации действительно были исполнены в апреле (на том же концерте играл скрипач Мильштейн) и имели большой успех. Бедный Дима в Швейцарии очень горевал, что не мог присутствовать. Вячеслав приехал из Павии. Помню, как на концерте я гуляла по залу во время антракта, ожидая следующего номера — моего. Я почти не сознавала себя от волнения. Один музыкант подошел ко мне и говорит:
— Ну, как вы? Видите, я считаю, что это несправедливо. Ведь это самая счастливая минута в вашей жизни? А в этих случаях мы, артисты, находимся в таком состоянии, что не можем ее осознать и радоваться ей.
На эти счастливые дни (дни концерта и репетиций) упала, однако, резко очерченная тень. Мы приехали с Фламинго заблаговременно в Рим из Павии и по непредвиденным обстоятельствам сняли комнату в чужом нам пансионе на виа Кондотти. В первый же день по приезде Фламинго была потрясена вестью из Москвы: умерла ее мать. Из окна нашей спальни не видно было ничего, кроме раскаленных ступеней бесконечной лестницы, поднимающейся от Пьяцца ди Спанья к Тринита деи Монти. Смерть, омрачение Фламинги, эти безжалостные ступени трагически врезались в мое счастье.
Мы прожили недолго, около месяца, на виа Кондотти. Казалось, что там должно было быть хорошо: на маленькой терраске среди цветов жили три черепахи, красавец маститый белый кот, типа тургеневских светлых личностей. Я была изумлена, открыв, что он любит виноград и соглашается принять из рук моих прозрачную солнечную ягоду. Белый кот глотает изумруд. Но Фламинго и хозяйка испытывали друг к другу острую взаимную антипатию. И было от чего. Хозяйка была большой лицемеркой. В конце месяца она нам предъявила такой нелепый счет, что мы, когда его уплатили, еле — еле собрали денег на извозчика, который нас перевез в более дешевую комнату на виа Джулия. Там, поднявшись по остро вонючей лестнице, человек попадал в райскую комнату окнами на Тибр (около Понте Систо). Жары не чувствовалось: с реки дуло легкой свежестью. Денег у нас не оставалось почти совсем, и мы питались хлебом и божественным чаем. Его божественность происходила от того, что вода в старинной кухне кипятилась на деревянных углях.
Второе выступление мое в Августео было менее удачным. Это было в 1933 году, и вещь, принятая комиссией, была «Sinfonia breve», состоящая из трех частей: Passacaglia, Aria, Divertimento. Исполнению этой вещи не посчастливилось. Санта Чечилия поручила ее дирижеру Добровейну, который принял дело в штыки и открыл присланную ему партитуру впервые в поезде, когда ехал в Рим. Видя, что дело сложное, он заявил, что исполнит не всю симфонию, а только вторую и третью ее части. Он сам рассказывал, что, сыграв вторую часть, ждал со страхом реакции публики и изумился, что та аплодировала. После третьей части тоже были аплодисменты, но скорее вялые, и в общем вещь успеха не имела. Да и не могла, так как самой «вещи» Добровейн не дал, а только фрагменты новой, т. е. никому еще не известной пьесы. Дима был в это время в Энгельберге, и ему в гимназии не позволили приехать на несколько дней в Рим. Вячеслав присутствовал. Он уже кончил тогда свое пребывание в Павии и поселился окончательно в Риме, где мы жили втроем с ним и Фламингой на виа Грегориана. Это была последняя наша резиденция в меблированных комнатах.
Другие мои композиции для большого оркестра исполнялись главным образом не в Италии, и Вячеслав, к сожалению, их не слышал. А моя опера «La Suocera Rapita» («Похищение тещи»), написанная в стиле итальянской «опера — буф», была поставлена в оперном театре Бергамо уже после его смерти (в 1956 г.).
* * *
В эти годы я получила музыкальный заказ. У Дона Рибольди был друг, францисканский священник, Дон Галлоне, директор общества «Pro Oriente», занимающийся итальянской культурной пропагандой на Балканах. Правительство поручило ему организовать по всей Италии «Праздник хлеба» для поощрения земледелия. Сам Муссолини сочинил лозунги: «Любите хлеб! Сердце семьи!» и т. д. По всем школам велено было разослать театральную пьесу, которая была бы разыграна детьми. Для составления пьесы Дон Галлоне обратился за помощью к Дону Рибольди, а последний поручил текст поэту Аполлонио и музыку — мне. Я поселилась на время в Павии, чтобы свободно ездить к Дону Рибольди, который уже тогда не был ректором Борромео, а жил в Милане. Там мы дружно совещались с поэтом Аполлонио, и я написала девять песен для детской пьесы «Pane nostro». Пьеса была красиво издана и разослана по школам. Я присутствовала в Риме на очень недурной постановке. Пели хорошо, хотя везде, где было напечатано allegro пели adagio, и обратно, все adagio сделались
allegro. Ho мне пришлось убедиться впоследствии, что это есть органическая тенденция у многих исполнителей. Я получила гонорар и была горда.
На следующий год «Праздник хлеба» повторяется, мне присылают стихи какого‑то другого автора с поручением писать музыку. Текст — кантата в трех частях: Посев, Жатва, Молотьба, стиль казенный. Стараюсь, пишу и еду проводить зимние месяцы в Павии, ожидая распоряжения, куда и когда послать работу.
* * *
Павия… в Павии зимой, если не льет дождь, как из ведра, то стоит такой туман, что хоть ножом режь. Когда Фламинго в первый раз приехала в Павию, Вячеслав с гордостью повел ее смотреть одно из многих сокровищ архитектуры — церковь Сан — Микеле. Они стали за шесть метров перед грандиозным романским зданием.
— Ну, говорите! Что Вы скажете об этом фасаде? — сказал Вячеслав, ценивший глубокие и проникновенные знания Фламинго в искусстве.
Фламинго растерянно крутилась вокруг себя.
— Какой фасад? Где? Я ничего не вижу.
Итак, я в 1929 году оказалась в Павии. В этот год 1 января было воскресенье, и я пошла на обедню в церковь. Снаружи промозглая погода, но нет слов описать холод внутри церкви — просто склеп. (Я пошла одна, так как в Колледжио Борромео частная капелла, которую Вячеслав обыкновенно посещал каждое утро.) На кафедру всходит проповедник и говорит, говорит без конца:
— Сегодня Церковь установила праздник Святого Имени Господня, но что можно об этом сказать? Я лучше буду говорить о Святом Севастьяне. У нас в церкви стоит его маленькая статуя, и вы ее не чтите. Прежние поколения чтили, были процессии, а вы не чтите, не верите, потому что она маленькая. Вы все стали материалистами, вам нужна статуя большая.
Я зябну, ноют пальцы, ноги коченеют, а он все продолжает:
— Я вижу, что вы все про себя думаете: когда же он наконец кончит говорить!
Среди скрюченных, закутанных фигур паствы засвечиваются в глазах искры надежды.
— Да, вы так надеетесь? А я не кончу, буду еще и еще говорить…
В тот вечер я залегла в постель с высокой температурой, а через несколько дней получаю неожиданное сообщение:
«Организация ”Праздника хлеба“ стала бюрократической, Дон Галлоне больше этим не занимается, назначен граф Делла Toppe. Его бюро около Виченцы; интриги. Музыка заказана кому‑то другому, все лопнуло». Однако в начале весны происходит событие, о котором я узнала после по рассказам друзей. Муссолини попался под руку экземпляр «Pane nostro». Он его начал перелистывать, заинтересовался, взял свою скрипку, наиграл несколько мелодий и заявил:
— Ma questa è roba molto fine[207].
Об этом сразу узнают в Организации Праздника хлеба. Климат меняется, и Дон Рибольди мне пишет: «Дело поправляется, поезжай спешно к графу Делла Toppe и покажи ему твои ноты». Вячеслав волнуется. Фламинго говорит: «Ты должна пленить графа». И, несмотря на отчаянный насморк, меня отправляют в Casa di Fogazzaro около Виченцы. Еду в Виченцу, пересаживаюсь там два раза на местные поезда. Слезаю на маленькой станции и иду пешком по длинной горной дороге. Вокруг меня леса с распускающейся молодой листвой, дождь льет сплошной массой, и мне кажется, что я пробираюсь по высокой хризолитной заросли подводного царства. Прихожу пленять графа мокрая насквозь: течет одежда, течет нос. Ласковая секретарша меня обогрела, обсушила, пригласила ночевать, и вечером мы с графом за роялем рассматриваем мою музыку. Графу нравится. Дело налаживается. Но вдруг предприятие повисает на ниточке: во время разговора я говорю:
— Я старалась писать в стиле Россини.
Что я сказала! Как ужаленный, граф вскакивает, полный гнева:
— Что? Что Вы сказали? Синьорина, прошу Вас не произносить этого имени. Это был ужасный человек. Вы, конечно, это по неведению. Но знайте, что эта была личность а — мо — раль — на — я!
Мы примирились. Музыку напечатали, но граф не решился отказать двум другим музыкантам, успевшим забежать к нему до меня, и кантата была напечатана в одной книжечке с тремя музыкальными версиями. Меня бы это не огорчило, если бы тощий гонорар не был тоже разделен на три.
* * *
Когда в 1935 году мы с Вячеславом принимали итальянское подданство, среди формальностей я должна была дать список адресов всех домов, где я проживала в Риме в течение десяти лет.
Адресов было около шестнадцати! Сколько пансионов и меблированных комнат! Самый дорогой для памяти адрес был на Бокка ди Леоне у синьоры Сантарелли. Она была замечательно добрая женщина, сестра милосердия по профессии, и сдавала меблированные комнаты на крыше пятиэтажного дома. Комнаты представляли собой легкую надстройку (зимой — мороз, летом — жара) и выходили на обширнейшую террасу, господствовавшую над всем кварталом. Вокруг лес черепичных крыш. Эта квартира памятна тем, что в ней Вячеслав начал писать повесть о Светомире царевиче. В своей биографии Вячеслава О. Дешарт прекрасно рассказывает, как это произошло:
В центре Рима зачастую над старыми домами строился целый этаж на прежней плоской крыше. Но в том доме, в котором мы поселились, надстройка была крохотной квартиркой, а вся остальная часть ей принадлежавшей крыши образовывала огромную террасу. Ходишь по террасе — квартирка в глубине представляется отдельным игрушечным домиком, и кажется, что терраса и домик висят в воздухе: над головою бесконечное небо — и больше ничего. А заглянешь за низкую железную ограду, заросшую ползучими растениями — перед глазами Рим, не столько монументальные памятники, сколько милые черепичные крыши.
Гуляя по террасе, мы много молчали, много говорили. В. И. все пытался сообщить что‑то точное о мучившей его, не могущей родиться «поэме». Он знал уже: золотая стрела; она носит и кормит; имеет всякую власть; она в руках Светомира; готова служить; он не умеет, не смеет ей приказывать; уходит в монастырь; стрелу свою прячет в расселину дуба. О дубе этом еще раньше были написаны стихи — добавочные, строки к песне царевича на «острой горе». Мастер, «кудесник» языка не умел найти словесной плоти для своих видений. Чего он только ни испробовал — даже силлабический стих: не то, не то. Время летело. Лето кончилось.
Двадцать восьмого сентября утром В. И. сказал мне весело и смущенно: «Я начал писать». И прибавил после короткого молчания: «Это — проза». — «Проза?» (До тех пор он не стихами писал только статьи и научные книги).
— «Да, проза особая, а все же проза; в этом‑то и разгадка. Повесть о Светомире царевиче рассказывает келейник… Сказанье старца — инока…» — «Того самого старца?» — «О, нет. Тот вершит судьбами царства. А этот просто записывает что видит и слышит». — «Летописец?» — «Пожалуй». В. И. задумался: — «Может быть он и не один… Но, что ж так говорить. Не лучше ли прочесть?» — Он прочел написанное за ночь: две главки. Прочитанное меня поразило своей необычностью, показалось значительным, убедительным; язык с налетом старины, по особому ритмичный, ни на чей язык не похожий. — «Как хорошо!» В. И. улыбнулся: — «Что Бог даст!»…
Утренний завтрак наш в тот день длился без конца. В. И. рассказывал, рассказывал. Упала завеса. Открылась «даль романа». Вдруг стук в дверь: хозяйка предупреждала, что пришел гость. Так рано? Кто бы это мог быть? (Было уже вовсе не рано). Появился монах близкого бенедиктинского монастыря. Человек замечательный по глубине и подлинности своего религиозного опыта. В. И. радовался его посещениям: они всегда бывали духовно плодотворны. Он подошел к В. И.: «Monsieur, je vous félicite». В. И. был так поглощен образами и жизненными перипетиями своих героев, что даже не очень удивился: — «Как же Вы о том знаете?» Зато вопросу такому весьма удивился аббат. — «Помилуйте, день св. Вячеслава большой праздник. Как же можно забыть? А Вы забыли?» Выяснилось: В. И. с детства чтил день своего ангела. Но в России и в Чехии св. Вячеслав празднуется 4–ого марта, а на западе — 28–ого сентября. В. И. чувствовал себя совершенно счастливым, чего давно уже не было: в совпадении дня рождения первых слов «Повести о Светомире» с днем св. Вячеслава он видел доброе предзнаменование. «Святому Вячеславу» он написал «Моление» еще в 1917 г. именно 4–ого марта. Оно кончалось поминанием его жития:
Как некогда ты сам у вышнеградских башен
Сок гроздий выжимал для литургийных брашен,
Так сопричастникам божественную Кровь
Для общей вечери воскресной уготовь.
Образ Светомира, топчущего «красно зѐленье», был навеян образом юного царя — виноградаря. Но в остальном жизнь царевича шла по другому пути.
В течение последнего месяца в Риме В. И. писал легко, в непрестанном радостном подъеме. К концу каникул оказалась готовой вся первая книга. В. И. продолжал писать роман и в Павии, и после 1934 года в Риме. Писал медленно; не торопил, не вызывал видений грядущих событий в жизни Светомира; записывал, когда представали. К началу войны были окончены три книги. Война прервала писание романа: ведь весь он был сказанием о «грешнице святой», имя которой не упомянуто — о России. В конце 1944 г. исход войны был уж ясно виден. И Муза призывает поэта обратиться от стихов к роману, который он называет «баснословием»
(I, 221–222).
* * *
Когда склонялся раскаленный от летнего зноя день и с моря начинал дуть прохладный ветерок «понентино», на террасе собирались друзья пить чай, закусывать колбасой, сыром, и начинались оживленные дискуссии. Приходила и кузина Фламинги, Леля, прозванная у нас Сеттером, которая тогда жила в Риме. Мы с ней старались незаметно подложить Фламинге гоголь — моголь, который она в пылу разговоров, не осознавая этого, понемножку съедала. Обычно на все предложения Фламинге чего‑нибудь съестного следовал ответ: — «Нет, спасибо». Сама же Фламинго была худенькая, как голодающий индус. Беспокоилась Леля за нее и по более существенным причинам. Она решила, что Вячеслав губит жизнь Фламинги и что их непременно нужно разлучить. Поэтому она старалась, как могла, их поссорить. Они оба на нее за это сердились и старались ее отвадить. Только много лет спустя, как‑то в Париже, Леля мне сказала, что, если Фламинго определила всю свою жизнь именно так, спорить уже с этим бесполезно, и в конце концов дружба с Вячеславом, быть может, была для нее не гибелью, а счастьем.
Приезжал из Скопье Голенищев — Кутузов, часто приходил на террасу и читал Вячеславу стихи. Они очень подружились. Приезжал также, к радости Вячеслава, и старый друг Аничков. Оба они, Голенищев — Кутузов и Аничков, стремились повстречаться со священником Буонаюти. Буонаюти, большой эрудит, одно время популярный профессор Римского университета, был представителем движения модернизма, за что его отлучили от Церкви. Он часть года жил в деревне недалеко от Рима, где вокруг него образовалось нечто вроде общины. Вячеслав с интересом расспрашивал друзей об их свидании с Буонаюти. Сам он тогда с ним не видался. Под влиянием политики Конкордата Буонаюти был изгнан из университета, лишен кафедры и жил в бедности со своей матерью в домике на виа Номентана. Там Вячеслав был у него в гостях. Дима на всю жизнь запомнил это свидание: Вячеслав взял его тогда с собой.
* * *
Как‑то раз приезжаю в Рим из Швейцарии, Вячеслав и Фламинго меня встречают радостно и сообщают:
— Мы нашли замечательный пансион на Корсо, пятый этаж, вид на Рим, Сан — Пьетро, атмосфера очень изысканная, щепетильная, его клиенты почти все «подеста» («городничие») разных южных городов. Там особенно соблюдают тонкие, немного церемонные манеры, и при этом пансион стоит очень дешево.
Мы там поселились. Выяснилась очень быстро вся наивность Вячеслава и Фламинги. Клиенты изысканного пансиона были действительно подеста из провинции, но они только наезжали на известный срок в Рим, а комнаты были заняты их подружками.
Люди пансиона были, однако, очень милые и легкие, и нам было там хорошо, хотя адрес наш у римлян считался скорее предосудительным. Мы были довольно шумными жильцами. По вечерам допоздна Вячеслав и Фламинго обсуждали предисловие к Переписке из двух углов, которое тогда писала Фламинго для итальянского издания, и много спорили. Во время полемики Вячеслав разгорался и подчас приходил в гнев. Из комнаты Вячеслава раздавался резкий шум, как будто падали тяжелые предметы или каталась мебель. Я спросила Вячеслава в шутку:
— Что это был за шум? Ты, может быть, кидался шкафами?
С тех пор у нас в семье при проявлении бурного возмущения Вячеслава говорили:
— Это Вячеслав кидается шкафами.
Я убеждена, что соседи в пансионе «Клеа», если бы их спросить о причине таких семейных бурь, приписали бы их разговорам о наследстве или денежным тратам. Они не смогли бы понять, что дело шло всегда о каких‑то «измах», т. е. — с их точки зрения — абстракции.
Впрочем, в мире часто — чем абстрактнее причина, тем шумнее следствие.
Предисловие к Переписке из двух углов в итальянском издательстве «Карабба», имело длинную историю. Она началась раньше нашего пребывания в «Клеа». В один из приездов в Рим узнаю от Фламинги, что издательство хочет выпустить «Переписку» по — итальянски. Переводом занимается Ольга Ивановна Синьорелли, а Фламингу попросили написать маленькое предисловие, чтобы объяснить в двух словах итальянскому читателю, кто авторы книги. Фламинго договорилась с издательством, что это будет выполнено за две недели. Фламинго с увлечением объясняет мне, что надеется сделать из этого элегантную статейку: сначала очерк
Вячеслава, потом Гершензона и в третьей части объединение обоих. Это ей представлялось как бы в форме древних египетских ворот с двумя входами с одной стороны и одним — с другой. Но, чем дальше в лес… Вячеслава в двух словах как определить? О Гершензоне мало писали: трудно и ответственно. Что же до объединения столь разных авторов, то как к этому приступиться? Две недели пролетают мигом. Издатель торопит, неопытный автор пугается и, чтобы принудить себя быстро осуществить задание, прибегает к крайним средствам: дает зарок не мыть волос, пока не кончит предисловие. А мыла Фламинго волосы каждый день.
Нужно добавить, что волосы у Фламинго были очень красивые: совсем черные, вьющиеся, но притом шелковистые, мягкие. К парикмахеру она не ходила и стригла их сама. (Еще в Москве ее тетя — мало опытная в зоологии — говорила: «Олечка совершенно как пудель — она сама себя стрижет»). Чтобы причесываться, Фламинго делила волосы на пряди, наматывала их себе на палец, и они покорно образовывали букли, как на париках восемнадцатого века. Бедной Фламинге пришлось не мыть волос, кажется, больше года. Мы ее сравнивали с испанской королевой, не сменявшей своей рубашки до победы войск над врагом. Время шло. Мысли у Фламинги все богатели. Предисловие стало статьей, превышающей все нормы. Наконец, кончилось тем, что были сделаны две отдельные вещи: маленькая статья для предисловия (articoletto) и большой очерк о Вячеславе, уже независимый от Гершензона, который был напечатан в специальном номере, посвященном Вячеславу Иванову миланским журналом Конвеньо [208].
При сдаче статьи возникла проблема с подписью автора. Фламинго не хотела давать своего имени — ее семья находилась в России. Она долго совещалась о выборе псевдонима с Вячеславом, и решили они прибегнуть к египетским иероглифам, столь ею любимым. Слово «фламинго» по — египетски давало четыре согласных ДШРТ. Из них, с прибавкой гласных, было составлено имя Дешарт, и псевдоним был установлен. Фламинго стала подписываться О. Дешарт.
По этому поводу мне вспоминаются шуточные стихи Вячеслава:
Бедный автор чуть не плачет, Псевдонимом имя прячет, А издатель (мочи нет!) Тащит автора на свет.* * *
Одно время мы поселились в пансионе на самой площади Колонна, в Палаццо Мариньоли. Нас пленил блеск этого адреса. Чтобы слышать голос или, вернее, крик собеседника, там нужно было летом наглухо закрывать окна; а в Риме летом закрытые окна — ад. Хозяева пансиона были тихие, кроткие старенькие супруги, типа старосветских помещиков. Ранним вечером они в опрятных ночных туалетах ложились рядышком в свою постель и спали с открытой настежь дверью, освещенные мягкими лучами ночной лампочки. Их видели, но зато они были спокойны, что наблюдали за движениями клиентов в доме.
* * *
Иногда мы проводили каникулы Вячеслава на даче. Одно лето в Альбано мы сняли квартиру отставного карабинера. Вячеслав мог спокойно гулять рядом с домом в парке князей Киджи, и из окон спальни у него был чудный вид на широко расстилающийся до моря ковер Кампаньи, переливающийся всеми возможными оттенками зеленого, серебряного, золотого и розового цвета. Широкая равнина полей прерывалась небольшими холмами, увенчанными городками, как на фресках итальянских мастеров. Вячеслав очень любил это место. Его также забавляла обстановка квартиры, где мы жили. В передней на стене висел длинный, узкий ковер, на котором красовались две базилики Сан — Пьетро. (Очевидно это была дешевая ткань, продающаяся по метрам, и одного Сан — Пьетро недостало, чтобы охватить все переднюю). В комнате Вячеслав спал под очень большим ковром, на котором изображалась монументальная лестница; по ней сверху спускается Лаура с огромной белой собакой, а внизу ее встречает Петрарка, почтительно обметая ступени перьями своей шляпы. Вячеслав мысленно перевоплощался в Петрарку, переживал волнения из‑за Лауры, но еще сильнее из‑за собаки над своей головой. В данном случае страх в его воображении был физический. Он был человек городской и боялся собак, коров и всяких неудобств деревенской жизни. Кроме страха физического, рационального, некоторые животные наводили на него боязнь необъяснимую, таинственную. Он чувствовал их принадлежность к миру хтоническому. К их числу принадлежали и собаки. Но и мыши, также хтонические, его приводили в ужас. Зато он очень любил котов, которые были тотемом нашей семьи; везде, где только нам было возможно, у нас жил их представитель: Пострел и Медея — в Женеве, Флёкин — на башне, Тараска и Квадик — в Баку, Пеллероссо и Белкис — в Риме. Вячеслав им радовался; главное, что его в них пленяло, это скрытый в них образ тигра. Наблюдая кошку, он любовался тигром. А тигра часто воспевал в стихах (он же зверь Диониса).
* * *
Последние меблированные комнаты на виа Грегориана были неудачными. Мы напали на хозяйку, психически ненормальную, и прожили у нее с августа 1933 до весны 1934 года. За это время ее болезнь все усиливалась, и мы были счастливы, когда, наконец, выехали благополучно из ее дома. Перед нашим отъездом был забавный эпизод. Хозяйка, имея острую нужду в деньгах, надумала способ добыть их: она подала нам счет со следующей надписью: «Список вещей, поврежденных профессором Ивановым» (список у нас еще есть). Первый пункт списка: 10 хрустальных подвесков, снятых с люстры круглого зала проф. Ивановым.
— Да, — утверждала она, — профессор ночью подкатил длинную двойную лестницу, вскарабкался по ней к люстре круглого зала и отцепил и украл 10 хрустальных подвесков.
Единственным благом этого нашего последнего жилья было то, что оно привело нас к окончательному решению нанять отдельную меблированную квартиру (меблированную, ибо мы тогда еще не смели думать о покупке собственной обстановки). Уже с 1934 года Вячеслав должен был покинуть Павию (по итальянским законам предельного возраста). Он окончательно переехал в Рим[209]. Наконец, в 1936 г. мы с Фламингой пустились в розыски новой квартиры.
IV. ОПЯТЬ РИМ
Иностранцы, поселяясь в Риме, обычно проходят три стадии. Первая — они с упоением поселяются в старом районе. У них нет отопления, окна не закрываются, ванна занята стирающимся бельем, все сломано и грязно — неважно, они в старом Риме, они в восторге. Проходит время и наступает вторая стадия. Они выбирают банальный дом нового квартала, ходят любоваться старым Римом, но живут со всеми удобствами. Незаметно со временем они соскальзывают в третью стадию: живут хорошо, как буржуа, романтизм позади, в старый Рим они заглядывают, только когда его нужно показывать приезжим, причем им приходится для этого дома заглянуть в путеводитель: «Что, бишь, там полагается смотреть?» Теперь, в годы, когда я пишу эти воспоминания, появился новый тип иностранцев: это люди богатые, они покупают себе живописные старинные дома в старых кварталах Рима. Они их совершенно перестраивают, оставляют исторические фасады, а внутри обеспечиваются всем комфортом современности.
Наш дорогой романтический друг Павел Павлович Муратов может служить примером иностранца первой стадии. Как‑то раз он искал квартиру. Нашел восхитительную, говорит он. Дешево. Это надстройка на крыше одного дома на виа дель Бабуино. Какой воздух! Какая панорама! Буквально весь Рим! Вечером Павел Павлович ложится спать. Стены в щелях, продувные. Он накидывает на постель одеяло, одежду, все, что может, долго мучается и, наконец, засыпает. Вдруг его будит острый свет, падающий прямо в глаза. Он долго не понимает, что это такое, присматривается и видит: прямо над его кроватью звезда сияет сквозь дырки в потолке.
Когда мы искали квартиру, мы еще полностью находились в первой стадии.
* * *
Во время поиска квартиры, очутившись как‑то на вершине Капитолийского холма, мы увидели с Фламингой на улице Монте Тарпео открытый настежь подъезд четырехэтажного старого, очень неказистого дома. За подъездом, через очень длинный и узкий проход, издали напоминающий подзорную трубу, виднелся прорыв в изумительную панораму древнего Рима, как бы обрамленный дальней распахнутой дверью. Мы поспешили подойти к подъезду.
— Можно войти посмотреть на вид?
— Пожалуйста, входите. Там сейчас рабочие делают ремонт. Сдается квартира.
Из подъезда тесный внутренний проход провел нас к открытой входной двери квартиры. Мы прошли в главную комнату, мимо кухни (налево), крошечной комнатки с решетчатым окном, увитым хмелем (направо). В главной комнате направо и налево двери двух боковых комнат, а прямо перед нами распахнутая оконная дверь. Вид из нее: прямо и справа — Палатин, слева — Форум, открытый до самого Колизея. Причем, так как дом Монте Тарпео находится на возвышении Капитолийского холма, между ним и древним Римом не виднеется ни одной новой постройки. Оконная дверь выходит на длинную железную лестницу; она спускается в садик. Волшебный садик! Маленький бассейн с красными рыбками, деревья с золотыми шарами (каки), всевозможные фрукты. Под лесенкой в стене огромный бюст Моисея, частичный гипсовый слепок со знаменитой статуи Микель — Анджело. Сбоку восьмидесятилетняя глициния, с годами превратившаяся в целое дерево; ее душистые цветущие ветви обвивают доверху всю стену четырехэтажного дома. Садик обрывается высокой городской стеной, обрамляющей Капитолий.
СТАРОСЕЛЬЕ I Журчливый садик, и за ним Твои нагие мощи, Рим! В нем лавр, смоковница, и розы, И в гроздиях тяжелых лозы. Над ним, меж книг, единый сон Двух сливших за рекой времен Две памяти молитв созвучных, — Двух спутников, двух неразлучных… Сквозь сон эфирный лицезрим Твои нагие мощи, Рим! А струйки, в зарослях играя, Поют свой сон земного рая.11/24 июля 1937[210]
Излишне говорить, что мы с Фламингой сразу в квартиру влюбились. Начались переговоры с ее любезными хозяевами — маркизами Гульельми. Старый маркиз был глуховатый, выходил мало. Его энергичная ровесница — маркиза — вершила всеми делами, говорила очень низким голосом, сильно сурьмилась, обвешивалась ожерельями и, по навету злых языков, была в нежных отношениях со своим молодых шофером.
Мы легко сторговались с маркизой; дом был старый, квартира очень скромная, цена доступная. Маркиза нашла у себя лишнюю мебель, чтобы создать необходимую нам обстановку. Тут нас ждал сюрприз: оказалось, что несколько лет тому назад в этом доме жила недолго Элеонора Дузе. От нее осталась мебель, из которой маркиза дала нам кое‑что. Любопытен был маленький прозрачный стеклянный столик. Дузе самой пришла в голову идея столика, она специально его заказала до того, как такого рода комбинации дерева и кристалла вошли в моду. У нас до сих пор он стоит в комнате Вячеслава.
Итак, в марте 1936 г., мы впервые за десять лет пребывания в Италии въехали в отдельную квартиру. Были в ней, конечно, недостатки, но при такой радости, кто на них обращает внимание? Мы находились в полной «первой стадии» поселяющихся в Риме иностранцев и легко примирялись с тем, что приходилось вести упорную войну с тараканами и клопами — жителями старых стен, с тем, что в саду мы рисковали получить на голову что‑нибудь выброшенное из верхних этажей, с тем, что соседний квартал имел дурную славу как «по линии морали», так и по степени «культурности»: когда пропал наш кот Пеллероссо, соседи нам шептали на ухо, что он кончил жизнь свою на жаровне местного трактира.
Передние боковые комнаты были заняты: налево — с видом на Форум — Вячеславом, направо — с видом на густую глицинию — мной. Фламинго скромно поместилась в маленькой комнате с решетчатым окном; а главная, центральная комната сделалась столовой — она же служила гостиной. У стены в нее вмещался диван, в углу — чугунная печка для отопления; остальное пространство занималось обеденным столом. В хорошую погоду стеклянная дверь на балкон была открыта, и прямо перед глазами возвышался Палатин.
На маленькой площадке железной лесенки ставилась глубокая тарелка, полная спагетти. Вокруг нее с великим аппетитом обедали тигристая старая кошка (прозванная нами Мадам Серваль) с неопределенным числом своих потомков. Это были дикие кошки с Форума, взятые под нашу протекцию. В комнаты входить они не имели права. Когда Мадам Серваль должна была рожать (это случалось часто), она взбиралась по растениям высоко, до самого бюста Моисея. Там, внутри, она чувствовала себя в безопасности и поселялась с котятами до поры, пока они не научались свободно ходить. Затем она их брала за шиворот, спускала в сад и учила их подниматься во время обеда по железной лесенке, где она их усаживала чинно перед дверью. Произошел, однако, исключительный случай. Один из котят Мадам Серваль как‑то полез вверх по глицинии до самого уровня моего окна, и, как всегда случается с неопытными котами, не умел слезть. Он стал призывать на помощь во всю кошачью глотку, я ему протянула из окна метлу, и он при ее помощи вошел ко мне в комнату. Этот тигровый котик был нами усыновлен, сделался домашним и получил имя Пеллероссо, что по — итальянски значит «рыжая шкурка». В произношении художника Сергея Иванова, который с него сделал очаровательный портрет, — «Пылерос». Пеллероссо был котик светский — любил сидеть за обеденным столом во время длинных дискуссий. Он задними лапками усаживался у меня на коленях, а передними держался за край стола, так что собеседники видели только его мордочку. Боюсь, что он иногда не досиживал до конца нити философских рассуждений, зажмуривался, как бы медленно оседал и тихо засыпал.
* * *
Что делал Дима в это время? Он выздоровел и уже в 1932 году приезжал к нам на каникулы в Альбано. В 1934 году он кончил лицей в Энгельберге и отправился в свою родную Францию, где поступил в университет города Экс — ан — Прованса. Он хотел сначала специализироваться по античным наукам, но затем по совету профессоров перешел на германистику. У него была прекрасная подготовка энгельбергского лицея и он вполне владел немецким языком. В Эксе он жил самостоятельной жизнью. У него были интересные друзья. Он с ними стал издавать еженедельник Midi le Juste и печатал там также свои вещи. Midi le Juste — цитата из Поля Валери («Cimetière marin»), которым Дима очень увлекался[211].
Стихи он писал уже давно; сначала, подростком, по — русски; потом по — французски. В Давосе, случайно, он начал их печатать. В швейцарском курорте издавался маленький, но хорошо редактированный журнал, Davoser Hefte. Издавал его старый русский эмигрант. Узнав о присутствии в Давосе Вячеслава (который навещал Диму в санатории), редактор пришел к нему с просьбой дать какие‑нибудь стихи для журнала.
— У меня ничего нового нет, — ответил Вячеслав, — но вот мой сын только что написал несколько стихотворений. Возьмите их вместо моих.
— Ну что ж, пожалуй… — согласился редактор.
Таков был неожиданный дебют Димы[212].
Во время его пребывания в Эксе он ездил в городок Йер (Нуères), там сблизился со знаменитым писателем Берноносом, в семье которого он некоторое время жил. После двух лет занятий в университете он выдержал конкурс и получил блестящее для начинающего педагога место преподавателем в гимназии в Ницце. Однако через три месяца его пребывания там было получено извещение, что он назначен стипендиатом для подготовки к государственному конкурсу Agrégation по германистике.
Кандидаты готовились к экзаменам в Страсбургском университете, куда Дима и отправился, бросив свое преподавание в Ницце. Подготовка к экзаменам заняла два года, после которых он выдержал конкурс, получил титул «agrégé de l’Université» и был назначен профессором в гимназию Шартра. В 1938 г. он с радостью поехал в этот чудный город, где поселился на крохотной средневековой уличке, rue au Lait, почти под сенью знаменитого собора.
* * *
Вячеслав, как всегда, привлекал к себе людей. К нам на Монте Тарпео, или, как у нас говорили, на «Тарпееву скалу», приходило много друзей. Некоторые из них были постоянные римские жители, а другие приезжие. Из постоянных (кроме верного старого друга Ольги Ивановны Синьорелли и ее семьи) можно назвать художника — архитектора Андрея Яковлевича Белобородова.
Бело́, как его звали друзья, был родом из Тулы. Он был высокий, темный и красивый брюнет, гордился своей цыганской кровью и говорил, что она у него от бабушки — цыганки. Убежденный холостяк, он — что классично — регулярно обворовывался своей прислугой, истеричкой, уверявшей, что она «баронесса». Его квартира и маленькое ателье находились на Джаниколо; там жила важная, избалованная кошка и стоял хороший рояль, на котором Бело́ каждый день играл Баха и Гайдна. Его страстная поклонница, платонически в него влюбленная, Валентина Павловна Преображенская, ему много помогала в практических делах, особенно в сложнейшей организации его выставок[213].
Друзья Бело́ были преимущественно из международных дипломатических и аристократических кругов. Среди них были верные ценители и коллекционеры его картин.
Бело в 1915 г. блестяще кончил, как архитектор, Императорскую Академию Художеств[214]. В Петербурге он сблизился с князем Феликсом Юсуповым и делал для него, в апартаментах молодого князя и его супруги Ирины, много архитектурных работ, о которых очень живописно рассказывал. В том же дворце он перестроил, по приказу Юсупова, несколько подземных комнат — сам не подозревая, что он устраивает гостиную и столовую, где, несколько часов после его ухода, будет убит Распутин[215].
В самые первые годы революции Бело́ с другом эмигрировал. Я слушала, затаив дыхание, рассказы о том, как они, закутанные в белые простыни, проходили через замерзший Финский залив.
За границей Бело путешествует, потом обосновывается в Париже, где встречается со старыми и новыми друзьями: Александр Бенуа, Серебряковы, Добужинский, Де Кирико, Дягилев, Анна Павлова (с которой его связывает старая дружба). В Париже, с 1920 до 1932 г., Белобородов входит в блестящую жизнь искусства и литературы. Большие поэты, выдающиеся критики посвящают статьи его картинам. Поль Валери пишет прекрасный текст, сопровождающий его книгу гравюр «Салернский Залив». Анри де Ренье — автор предисловия другой его книги: «Рим»[216].
Но Италия остается его любимой страной. С 1934 г. он окончательно поселяется в Риме, где много работает и успешно выставляется. Кроме работы как художник, он возвращается к архитектуре. Для своего (и нашего) друга, швейцарского мецената Мориса Сандоза (Maurice Sandoz) он строит прекрасную, палладиевскую виллу, на улице Пеполи. Она находится на Авентине, совсем близко от нас, и прямо прилегает к античной римской стене.
В Русском музее в Ленинграде находится фонд А. Я. Белобородова с картинами, переданными туда после его смерти, в 1965 г.
* * *
Другим постоянным и сделавшимся семейным другом был тоже художник — Сергей Петрович Иванов. Блестящий, виртуозный портретист, он, как Бело́, был тесно связан с русским художественным Парижем и с театральной, особенно оперной и балетной жизнью Парижа. В быстрых живых croquis (набросках) для журнала Illustration — где Иванов был постоянным сотрудником — и на больших, написанных в классической манере, с классической техникой холстах проходит вся литературная и театральная жизнь блестящего Парижа между двадцатыми и сороковыми годами. Петербуржец родом (из семьи знаменитых кондитеров Ивановых) «Серж» рано покинул Россию и поселился в Париже.
Знакомство с ним состоялось так: папа Пий XI был болен и лежал при смерти. Как всегда, во всем мире обсуждалось, кто будет ему наследовать. Журнал Illustration послал Сергея Петровича сделать портреты главных возможных кандидатов (так называемых papabili). Приехав в Рим, Сергей Петрович, однако, возгорелся желанием сделать портрет Вячеслава, и в один прекрасный день явился к нам на виа Монте Тарпео. Вячеслав охотно согласился ему позировать, но хотел отложить это на следующий день:
— У меня сейчас гость, сосед. Хотел со мною поговорить по научным темам.
— Ничего, я в уголку примощусь, чтобы работать, а вы там беседуйте между собой.
Так началось знакомство, и так Иванов начал писать портрет Вячеслава. Он его закончил всего в два или три сеанса. Он работал необычайно быстро. Портрет сделан мастерски, но нам в семье он казался немного официальным и чопорным. Дело в том, что Вячеслав, который всегда внутренне приспособлялся к обстоятельствам и людям, с которыми имел дело, сделал из себя, беседуя с немного педантичным немецким ученым, торжественного Herr Professor’a[217].
Сергей Петрович был быстро перекрещен у нас в «Козлокота», имя выдуманного им самим небывалого мифического существа: кот — потому что кот был эмблемой нашей семьи, козел — из‑за его бороды и его тщетного желания казаться демоническим. Иванов приходил к нам почти ежедневно. Он написал за время своего римского пребывания несколько хороших портретов с кардиналов, которых ему указали; но, как часто бывает, предсказания знатоков не оправдались, и ни один из ожидаемых кардиналов не был выбран в Папы. Знакомый нам прелат допустил Козлокота до салона соседнего с тем, где дремал в кресле тяжко больной Пий XI, и он несколькими штрихами быстро сделал блестящий эскиз с него. Пия XI Вячеслав очень любил и имел у него личную аудиенцию. На него произвела большое впечатление его духовная сила. Они много говорили о России и об объединении Церквей[218]. В разговоре Вячеслав выразил сомнение в скорой осуществимости этого объединения. Пий XI вспыхнул и с жаром начал говорить, что в это нужно верить, необходимо, нужно. Когда Вячеслав, уходя, был уже на пороге, Папа еще раз ему повторил:
— Это будет, это будет! Мы должны в это верить!
* * *
Приезжали к нам на виа Монте Тарпео летом 1936 и 1937 гг. Мережковский с Зинаидой Гиппиус. Мережковский, старый, но очень живой и даже боевой, полный идей и замыслов. Зинаида Николаевна — уже совсем съежившаяся, маленькая, хрупкая старушка, придерживающаяся всех ухищрений парижских модниц, живая, задорная, кокетливая. Вячеслав ввел Мережковского в свою комнату и с гордостью показал ему свой книжный шкаф. Мы шкаф приобрели за грошевую цену на рынке Кампо ди Фиори. Он был большой радостью для Вячеслава: первая его собственная мебель в его личной квартире; а кстати, и книги наконец установлены по своим местам. Мережковский остановился, впился взглядом в шкаф и, указывая на него обличительно пальцем, торжественным голосом начал как бы взывать:
— Шкаф, Вячеслав, шкаф! Так вот это что! Значит это теперь все не то? Теперь у тебя завелся шкаф! Шка — а-а — ф!
Мережковские ходили к нам ежедневно; сидели часами, разговорам конца не было[219]. Летом 1936 г. они приехали по приглашению правительства, и жизнь их в Италии была хорошо обеспечена на шесть месяцев, так как Мережковскому был предложен контракт для книги о Данте. Муссолини принял Мережковского в Палаццо Венеция и имел с ним длинный разговор[220]. Мережковский вернулся в энтузиазме и рассказывал Вячеславу своим мелодекламаторским голосом, почти вопил:
— Вячеслав, Муссолини — это ма — а-ать! Да, он — ма — а-ать! Вячеслав, он — ма — а-ать! После разговора Муссолини проводил меня до порога, и тут я остановился, обернулся и, прямо ему глядя в глаза, торжественно возгласил: Duce, io sono un crede‑e — ente[221]. A он на меня пялит свои глазища и молчит. Он на меня, а я на него. Так и расстались!
В эти годы Мережковские страстно увлеклись житием святой Терезы из Лизье (Thérèse de Lisieux), умершей совсем молоденькой (ей было 25 лет) в конце прошлого века. Ее называют «маленькой» Терезой, в отличие от «великой» испанской святой XVI века, Терезы из Авилы. «Маленькую» Терезу канонизировали в 1924 году. Ее культ чрезвычайно распространен. И Мережковский и Зинаида Николаевна ее нежно любили, и восхищались ею, и чтили ее. Он готовил о ней книгу[222]. Во время поисков материала им удалось найти у подножья холма Gianicolo мало кому известный маленький домик, где жили две — три монашки и в котором святая Тереза провела несколько дней, — очевидно, когда ездила в Рим, чтобы просить папу разрешить ей постричься в монахини. Монастырь Кармелиток, куда она стремилась попасть, отказывался ее принять, так как ей было тогда только 14 или 15 лет. По настоянию Мережковских мы все трое (Дима был тогда во Франции) отправились с ними посетить домик. Поездка эта имела характер паломничества.
Стояла летняя погода, жара все увеличивалась, было решено отправить Мережковских на дачу. Мы нашли им очаровательную маленькую виллу, спрятанную в горах недалеко от Рима. Место это называется Рокка ди Папа. Мережковские переехали на виллу[223]. Там была кем‑то найдена для них прислуга. Двое служащих: женщина — прислуга, мужчина — сторож и садовник.
В годы 1931 и 1932 я жила в Риме в меблированных комнатах на виа Аврора, 39. К хозяйке дома приходила уборщица, молоденькая Джузеппина: на голове как бы огромная шапка из мелко вьющихся волос. Приехала прямо из маленькой деревушки в Сицилии; понятия, реакции, восприятие жизни совсем первобытные. Как‑то раз она обращается ко мне:
— Я хотела Вас спросить: это верно, что рассказывают мне люди, будто в море живут женщины — развратницы, которые завораживают моряков так, что те бросаются к ним в море и гибнут?
В другой раз, когда до нас через открытое окно доносились звуки женского голоса, голосящего по радио (радио было тогда совсем новинкой), Джузеппина говорит:
— Как, разве это не мужчина говорит? — И после минутного размышления: — Если это женщина, то это конечно любовница Маркони. Он ее у себя и устроил в своем кабинете.
Она знала, что радио изобрел Маркони.
Жила Джузеппина с двумя своими братьями, один из которых был ненормальный. Она много о них хлопотала, и ей удалось им обоим найти места. Я всегда жалела, что не записала с ее слов рассказы о быте в Сицилии. Жизнь нас разлучила на время. И вдруг, через несколько лет, на виа Монте Тарпео кто‑то звонит. Я открываю дверь: стоит, смиренно и жалостно улыбаясь, Джузеппина в стареньком розовом ситцевом платьице, а на руках у нее крошечный младенец. Выяснилось, что произошла трагедия: Джузеппину обманул почтовый служащий, она забеременела, братья, в свое время ею облагодетельствованные, выгнали ее, спустили ее с лестницы. В родильном доме она с безумной смелостью отказалась отдать ребенка и вышла на улицу с ним на руках. Что было делать? Как спасти Джузеппину? Тут не совсем рациональная, но гениальная мысль пришла в голову Фламинго. Отдать Джузеппину как третью прислугу Мережковским. Пускай едет к ним с ребенком в Рокка ди Папа. Фламинго поговорила с Зинаидой Николаевной и, ко всеобщему удивлению, та с восторгом приняла к себе третью прислугу с ребенком.
В Рокко ди Папа через несколько очень бурных дней установилась полная идиллия. Джузеппина, как ревнивая сицилианка, за несколько дней так отравила жизнь двум служащим, что они ушли, и она, счастливая, одна царила над всем домом и садом. Работала днем и ночью, вела хозяйство, все катилось, как по маслу. И что самое увидительное: за Франкой, ее ребенком, ухаживала сама Зинаида Николаевна, сидела на полянке и качала колясочку[224]. Когда Мережковские уехали, переписка между нами не установилась (мы все очень туги на писание писем). Но забавно было то, что корреспонденция завелась между Зинаидой Николаевной и Джузеппиной, которая с большим трудом ей писала по — итальянски и получала ответы по — французски. Письма Гиппиус приносились Джузеппиной для перевода к нам. К сожалению, эта милая и трогательная переписка не сохранилась[225].
Джузеппина к нам привязалась на всю жизнь и постоянно к нам приходила. Вячеслав ее любил и охотно с ней беседовал. Жизнь у нее бывала порою мучительна, но она побеждала невероятные трудности, будучи проникнута одной целью, одной мечтой: сохранить свою Франку, вырастить, воспитать, обеспечить ее будущее. Главной заботой Джузеппины было снять с Франки клеймо незаконнорожденной. Для этого она начала с того, что всякими улещеваниями добилась возобновления отношений со своим почтовым служащим. Она надеялась его принудить на ней жениться и заставить его удочерить Франку. Но вышло совсем иначе: за время их разлуки он заболел опасной болезнью и перед тем, как окончательно сбежать от Джузеппины, заразил ее и родившегося от их недолгого союза ребенка. Узнав, что она больна, Фламинго поехала навестить Джузеппину и вошла к ней в комнату во время ее отсутствия. В кровати лежала двухлетняя Франка рядом с трупом только что умершего грудного ребенка. Взгляд дикого, невыразимого ужаса в глазах девочки потряс Ольгу Александровну. Долго после этого она заботилась о лечении Джузеппины, и ей удалось добиться ее полного выздоровления. Но это были годы, когда Джузеппина пробивала себе и Франке дорогу сквозь голод, холод и крайнюю нищету — с ребенком хорошей работы ей не удавалось найти. Когда Франке было шесть лет, монашки приняли ее в школу. Она была умница и училась прекрасно. В эти годы Джузеппина встретила тщедушного, одинокого, сорокалетнего меланхолика — неудачника, тоскующего по семье. Он увлекся без взаимности Джузеппиной, которую нельзя было назвать красивой в буквальном смысле, но которая была интересной и с изюминкой. Он настойчиво ее убеждал выйти за него замуж, обещал, что удочерит Франку. Джузеппина жертвенно, несмотря на свое отвращение к нему, согласилась. Франка сделалась законным ребенком, но жизнь нового семейства стала адом. Не вынося мужа и подозревая его в эротической склонности к Франке, Джузеппина сбежала с дочкой, ее учебниками и узелком домашнего скарба прямо в «гроты». «Гроты», где поселилась Джузеппина, были открытые пещеры, находящиеся на скалистых склонах холмов, окаймляющих улицу Фламиниа. В них ютилось великое множество бездомных, бродяг всякого рода, так называемого отребья общества. Такие же поселения можно было встретить вдоль древних римских стен или в античных развалинах в полях под Римом. Несмотря на наши протесты, Джузеппина с Франкой прожили в «гротах» около года, мерзли, страдали, болели. Франка героически ходила более или менее регулярно в школу (уже «среднюю» школу, с латынью). У нее выработалась от жизненных трудностей крепкая воля. Целью Джузеппины было получить от правительства квартиру. Она считала, что это ей легче удастся, если она будет жить в «гротах». И действительно, она добилась своего. После бесчисленных хлопот ей выдали квартирку в «популярных» (народных) домах, только что выстроенных близ Рима, около Ачилиа. Новое поселение было названо «Деревня Святого Франциска»; в нем было множество маленьких домиков с садиками дачного типа, несколько улиц, церквушка и начальная школа. Квартиры в так называемых «народных домах» выдавались в собственность бедным рабочим. Муссолини построил множество таких поселений по всей Италии. Даже в самом Риме, на Авентине, прямо против нашей квартиры на виа Леон — Батиста Альберти, где мы поселились после Монте Тарпео, находится целый маленький квартал, застроенный «народными домами». Они выглядят очень мило, стены кирпичные, цвета охры, многие дома маленькие, в два этажа, другие побольше; при всех садики. Однако злоключения Джузеппины еще не кончились этим. В свой домик в Ачилиа она не перебралась, боясь мести озлобленного мужа. (Франке, чтобы ходить в школу, нужно было бы идти пешком через длинные, малозаселенные местности.) Дом перешел к мужу, а мать и дочь где‑то ютились и перебивались, пока наконец Франка не окончила свою школу и не была принята по конкурсу машинисткой на одном частном кораблестроительном предприятии. Тут наступает счастливый конец всей сказки. Франка встретила своего принца, Вальтера, — высокий, красивый, белокурый, умный, добрый, прекрасный специалист — рабочий на фабрике, где для него открывалась хорошая карьера. Мгновенная любовь, свадьба, двое детей. Теперь, когда я это пишу, их младший сын учится в последнем классе средней школы, старшая дочь окончила экономический факультет университета и уже работает. Что же касается бабушки, нашей милой Джузеппины, она уже несколько лет как скончалась на руках любящей семьи.
* * *
Улица Монте Тарпео стояла немного в стороне от площади Капитолия. Она была короткая, узкая и тихая, тихая, во время жары как бы сонная. Редкий экипаж поднимался по ней, объезжая Капитолийский холм. Там находились спрятанные в парке два — три красивых городских служебных здания, а над обрывом стоял монументальный немецкий Археологический институт. Во время войны Институт был реквизирован, теперь там находятся канцелярии Городского Совета. В конце прошлого века в Институте работал среди так называемых «ragazzi capitolini» (капитолийских ребят) молодой Вячеслав и написал свою латинскую диссертацию: «De societatibus vectigalium publicorum populi Romani»[226]. Одну сторону Монте Тарпео окаймляли стены капиталийских построек, с другой стороны было четыре или пять частных домов.
В первом доме, на углу, близко к Форуму, жил Анджело Фортунато Формиджини, издатель прекрасных литературных и художественных книг. Его легко можно было узнать благодаря длинной бороде и берету а ля баск, который он носил. Он был всегда веселый и большой шутник. Самые первые известия о преследованиях евреев на него так подействовали, что он уехал к себе в деревню около Моданы и там покончил жизнь самоубийством (утопился). В другом доме на той же улице жил скульптор. У него в большом вестибюле стояли среди разных его работ гипсовые слепки больших статуй — двух святых, находящихся в Риме на Скала Санта. Это нас с Димой наводит на мысль, что, может быть, слепок головы микельанджеловского Моисея в нашем саду был тоже сделан им. Другой наш сосед на виа Монте Тарпео был очень известный художник Кальи. Во время нашего пребывания на виа Монте Тарпео он писал портрет тогда еще совсем молодого Антонелло Тромбадори, будущего журналиста, депутата и поэта. Тромбадори запомнилась фигура Вячеслава, которого он видал издали. Ему объяснили: «Русский поэт». Запомнились ему и звуки музыки, доносящиеся из нашего дома, пока он позировал для портрета. На днях (в октябре 1983 года) он встретился с моим братом, разговорился об этих воспоминаниях и, к нашему радостному удивлению, написал сонет, напечатанный в газете Messaggero [227]. Сонет написан, по обычаю Тромбадори, на живописном римском диалекте, том самом, на котором писал свои едкие сонеты о ватиканской жизни — лет сто пятьдесят тому назад — Джоакино Белли; том самом, на котором и по сей день говорят между собой римские обыватели и старые аристократы.
С нашими соседями мы лично не были знакомы. Вячеслав прилежно работал дома, хотя иногда и выходил. По воскресеньям мы с ним (если был Дима в Риме, то и с Димой) ходили регулярно к обедне: одно время в соседнюю дивную церковь Арачели на Капитолии, а попозже в Капеллу Распятия, куда мы спускались к подножию Капитолийского холма со стороны Форума. (Капелла построена над тюрьмой, в которой — по преданию — были заключены св. Петр и св. Павел). В церкви Арачели я часто играла во время службы на их прекрасном органе. Фламинго же оставалась православной и ходила в русскую церковь. Выходил Вячеслав на площадь Капитолия и когда мы провожали особенно дорогих гостей: спускались по виа Монте Тарпео, заворачивали наверх на Капитолий и доходили до самого памятника Марку Аврелию. Друзья в шутку называли Капитолий нашим «cour d’honneur».
Как только Вячеслав переехал в Рим, его пригласили преподавать молодым священникам и семинаристам в «Руссикум». «Руссикум» — католическое учреждение, имеющее целью подготавливать священников — католиков славянского обряда, а также объединять верующих русских католиков. Там же изредка устраивались конференции для русских католиков в Риме. Это был симпатичный и очень тесный кружок. (Русских католиков в Риме было очень мало, и не все из них приходили, хотя лекции бывали интересные.) Вячеслав сам вел там беседы два или три раза. Он читал также курсы и в «Восточном Институте» (Istituto Orientale) — университете, занимающемся христианством в восточных странах[228]. Поэтому раз или два в неделю Вячеслав отправлялся читать лекции на площадь Санта Мария Маджоре, где находились оба института. Для этого нанимался извозчик, и Вячеслав ехал туда, захватив свой старенький портфель, в сопровождении верной Фламинги. Путешествие по тряским мостовым казалось очень длинным и кончалось подъемом на холм Санта Мариа Маджоре, так как базилика стоит на Эсквилине. (Эсквилин так же, как и Капитолий, один из семи холмов Рима). При подъеме Вячеслав часто полусознательно весь напрягался и с усилием толкал перед собой стенку пролетки: ему хотелось помочь бедной лошадке вскарабкаться на холм. Фламинго доводила Вячеслава до дверей
Института, а сама отправлялась в ближайшее кафе, где сидела, ожидая конца лекций. Фламинго никогда не скучала, когда ей приходилось ждать в кафе. Она выбирала себе тихий уголок, заказывала чашечку черного кофе, вынимала очень маленький блокнот и карандашик и погружалась в свою работу. Так могло пройти десять минут или два часа — она не замечала. После лекций Вячеслав за ней заходил. Иногда, вместо того чтобы сразу уезжать, он подсаживался к ней за столик и они кутили. Он ее угощал «Zuppa inglese» («Английский суп» — изысканное, но теперь редко изготовляемое пирожное), которое Фламинго очень любила, и сам брал стаканчик чего‑нибудь крепкого. Обратный путь кончался еще более крутым подъемом. Они поднимались на Капитолий со стороны Форума, сначала по античной «Via Sacra», мощеной римской кладкой, потом по новопроложенному пути до Капитолия.
Лекции в Восточном Институте давали повод читать священные тексты, возвращаться к любимому церковно — славянскому языку — что было и плодотворно для никогда не забываемого «Светомира». К тому же, уже в 1936 году, ректор Руссикума поручил Вячеславу написать вступление и примечания к новому изданию Деяний апостолов и Иоаннова Откровения[229]. В 1948 году он добавил еще предисловие и примечания к Псалтири[230]. Вячеслав с радостью предавался этой благочестивой работе и, кроме того, помогал своему другу и духовнику, отцу Иосифу Швейгелю, править корректуры. К Вячеславу обращались также, когда требовались на славянском языке составление или переводы ответственных текстов — молитв, монашеских обетов, официальных церковных документов.
* * *
Дома было уютно. Стряпала я, но по утрам приходила для чистки дома Катерина, женщина лет сорока, костлявая, темная, типичная южанка. Ее внешностью увлекся Сергей Иванов и сделал ее портрет. Он изобразил ее, работающей в винограднике, и выделил ее характерные черты. Бедная Катерина, убежденная, что она красавица, чуть не лишилась голоса, когда увидела себя на полотне.
При наступлении первой зимы крупным домашним событием стало приобретение небольшой чугунной печки. Ее поставили в столовой, и она излучала тепло на всю квартиру. Стоила она дорого, но, как выразился печник, печь была особая, «una signora stufa» («барыня — печь»). Затапливалась она поленьями, а потом подкладывался уголь. Тяга была превосходная, и, когда печка раскалялась, ее металлические стенки становились красными. Мы ее очень любили. Образ пылающей печи всегда завораживал Вячеслава: вспоминается павийское стихотворение «Кот — ворожей», посланное нам из Борромео в 1927 году:
Два суженных зрачка — два темных обелиска, Рассекших золото пылающего диска, — В меня вперив, мой кот, как на заре Мемнон, Из недр рокочущих изводит сладкий стон. И сон, что семени в нем память сохранила, Мне снится — отмели медлительного Нила. И в солнечном костре слепых от блеска дней Священная чреда идущих в шаг теней С повернутым ко мне и станом и оплечьем, — И с профилем зверей на теле человечьем. Подобье ястребов, шакалов, львиц, коров, Какими в дол глядит полдневный мрак богов… Очнись! Не Нил плескал, не сонный кот мурлыкал: Размерно бормоча, ты чары сам накликал. Ни пальм ленивых нет, ни друга мирных нег, — А печи жаркий глаз, да за окошком снег.Вячеслав готовил для издательства Бенно Швабе свою книгу о Дионисе на немецком языке. По контракту рукопись уже должна была быть сдана, но Вячеслав все медлил. Он желал дополнить библиографию книги, а отчасти был занят и другими работами.
Сердящийся и горюющий издатель тщетно взывал к нему[231]. Чтобы произвести на него давление, он послал к нему молодого блестящего немецкого ученого — Кутнера. Кутнер несколько раз приходил к нам. Книга не сдвинулась, но образовалась дружба. Кутнер подготавливал, а потом и осуществил свой разрыв с Германией (он был еврейского происхождения) и переезд в Америку вместе с семьей. Он предвидел опасность и вовремя спасся.
Один раз под вечер неожиданно явился к нам Бунин. Мы сидели за столом, пили чай. Были еще какие‑то друзья. Бунина все встретили с радостью, посадили за стол, начали расспрашивать. Он был совсем несчастный и имел вид затравленного зверя. После получения Нобелевской премии все с него требовали денег, люди угрожали кончить самоубийством, если он сразу их не выручит. Его забрасывали письмами, по улице прохода не было, премия быстро таяла. Мы старались его успокоить, но не тут‑то было. На беду, среди друзей, сидящих за столом, оказалась Валентина Павловна Преображенская, устроительница выставок Белобородова. Ей страстно захотелось украсить предстоящий вернисаж присутствием знаменитого писателя и Нобелевского лауреата:
— Ах, дорогой Иван Алексеевич, Вы должны непременно пойти завтра на открытие выставки Белобородова. Не для покупки картин, но чтобы посмотреть. Эта выставка — событие! Я за Вами зайду в отель. Я совсем бескорыстно это говорю.
Как Бунин ни отнекивался, Валентина Павловна настояла на своем: завтра в десять утра она придет к нему в отель; она действительно это сделала, но ей там заявили, что Бунин уехал рано утром и не сказал, куда. Этим, к сожалению, закончился краткий его визит на Монте Тарпео[232].
К концу нашего пребывания на Капитолии темные тучи все более и более сгущались над миром. Со времени так называемой «Оси» — германо — итальянского союза 1936 г. — политика Муссолини начала фатально и слепо следовать Гитлеру. До этого фашистская диктатура была во многом отлична от обуявшего дух и плоть Германии нацистского дурмана. Италия не знала массовых лагерей, задуманных с научной Gründlichkeit (доскональностью) для истребления жертв. Слово «еврей» воспринималось средним итальянцем просто как иновер, как например, протестант или православный; а о расах слышали итальянцы лишь в применении к породам животных. Когда Муссолини, боясь остаться без части добычи после победы Гитлера (в которую он слепо верил) объявил войну Союзникам, страна реагировала — несмотря на взрывы пропаганды — с почти трагической пассивностью. Но чем хуже становилось общее положение вещей, тем более усиливалось личное влияние Фюрера на Дуче. Зависимость эта, правда, начала уже выявляться в многочисленных событиях ежедневной жизни и до таких роковых решений, как бессмысленное вступление Италии в войну в 1940 г. Муссолини, например, славился «латинской» лаконичностью и четкостью своих речей: они легко — помимо воли — запоминались и возбуждали толпу. Теперь он стал подражать многословному Гитлеру; обращения его к скучающим слушателям стали нескончаемы и бессильны.
В конце двадцатых и в тридцатые годы были проведены удачные новшества в городской архитектуре Рима. Например, была создана новая via dei Fori Imperiali, соединяющая площадь Венеции с Колизеем, — действительно царская аллея, открывшая зрителю все сердце Древнего Рима; или неповторимая via del Mare, окаймляющая низ Капитолия. В последние же годы были открыты уродливый и кривой Corso del Rinascimento и сильно повредившая красоте площади св. Петра — via della Concilliazione. В самый разгар итало — германской дружбы было назначено торжественное посещение Рима Гитлером. Он приезжал на несколько дней навестить своего друга Муссолини. Чтобы подготовить ему встречу достойную времен и вкусов римских императоров, на пути его был инсценирован колоссальный искусственный пожар — весь Колизей был объят пламенем (в память Нерона?). Окна нашей квартиры были ослеплены отблесками зловещего огня. Весь город был полон немецкими жандармами. В особенности они стерегли Капитолий, где Гитлер должен был присутствовать на всех торжествах и приемах города. Очень меня оскорбило, когда немецкий полицейский в штатском подскочил ко мне на Капитолийской площади, встал почти вплотную и сфотографировал меня. Было ощущение, что город более не наш, что мы завоеваны дерзким неприятелем.
Вечером произошел волнительный эпизод. В далекой части города, на Монте Марио, лежала при смерти молодая женщина, сербка, очень отдаленная знакомая. Гита, моя подруга, прислала ее ко мне за несколько недель до этого с просьбой помочь ей найти хорошего преподавателя пения. Она была беременна на седьмом — восьмом месяце. Роды оказались трагическими: ребенок погиб, она умирала. Конечно, Фламинго решила, что именно ее долг лечить роженицу, и по очереди с другой, тоже бесконечно доброй русской дамой, маркизой Кампанари, они дежурили в больнице днем и ночью. Тем временем из Сербии приехал к умирающей ее муж, молодой врач. Он обругал всех итальянских докторов, заявил, что он отвезет жену в Белград, где лечат новыми средствами, а пока что стал заворачивать ее в мокрые ледяные простыни (у нее была в это время температура 41°); она вскакивала, как бешеная, с постели и с визгом и криками бегала по коридору больницы к ужасу больных, сестер и врачей.
В вечер, который я описываю, у самой Фламинги был сильный грипп с глубоким кашлем и температурой. Но она крепилась, надела свое пальтецо и направилась к выходу, чтобы ехать в больницу. На дворе ливень и свирепый ветер. Вячеслав страшно рассердился. Бурные диалоги:
— Не пойдешь!
— Пойду!
— Это теперь уже не нужно, у нее муж.
— Пойду!
— Не пойдешь!..
В ответ Фламинго выскакивает во мрак, захлопнув за собою дверь. Проходит около двадцати минут. Дверь робко открывается, входит Фламинго, сконфуженная, пристыженная и насквозь мокрая. Немцы не пустили. Наша улица оказалась заколочена с обеих сторон высокой деревянной стеной. В каждой стене маленькая дверь и вооруженная стража. Как Фламинго ни умоляла и по — итальянски, и по — немекцки, ее с виа Монте Тарпео не выпустили. Фламинге дали крепкого чая с аспирином, а я решила, что в этот вечер Гитлер совершил свое единственное доброе дело. Что же до молодого сербского доктора, то он раздобыл вагон Красного Креста, перевез жену в Белград, где ее действительно спасли. Мы это узнали, получив от нее письмо через несколько лет.
* * *
К концу 1939 года пришло известие, для нас грустное. Капитолию решили возвратить его старинный — времен Микель — Анджело — облик. Для этого было решено убрать частные дома, выросшие за это время. Дома и правда некрасивые, но большую часть года покрытые цветущими глициниями. Среди них оказалась и вся улица Монте Тарпео. Напрасно наши хозяева прибили к фасаду мраморную мемориальную доску, напоминающую, что в доме жила Элеонора Дузе. Не помогло.
В один прекрасный день явился сам Муссолини, забрался на крышу одного из соседних с нами домов и киркой собственноручно повалил с крыши несколько черепиц. Это означало, что приказано снести всю нашу улицу. Когда это было сделано, оказалось, что на виа Монте Тарпео под домом, в котором мы прожили пять лет, находился фрагмент древней виа Сакра, по которой проезжали римские триумфаторы. Археологи долго искали этот фрагмент виа Сакра. Она начинала свой подъем у арки Септимия Сивера и вдруг исчезала. Куда? Пряталась под жилищем Вячеслава! Подумать только, сколько яичниц я состряпала на виа Сакра!
В «Староселье» I, Вячеслав вспоминал как «…струйки, в зарослях играя / Поют свой сон земного рая». А в Староселье II, несколько лет спустя:
И вдруг умолкли… Рушит лом До скал капитолийский дом; Топор с мотыгой спотыкливой Опустошают сад журчливый. И разверзаются под ним Твои нагие мощи, Рим! Здесь колесница миродержца На холм влеклася Громовержца. Священный путь неравных плит Авгур светил и стлал Квирит… Сойди в бессмертное кладбище, Залетной Музы пепелище!Нам дали срок около месяца, чтобы найти новую квартиру. Мы с Фламингой пустились искать ее, но дело казалось безнадежным. Ходили мы порознь. Как только что‑то сносное находилось, пока одна из нас телефонировала другой, квартиру перехватывали. Мы совсем уже отчаивались. Но пришла неожиданная помощь от дочери Льва Толстого. Фламинго нередко заходила к Татьяне Львовне на Авентину. Она жила одна, скромно, недалеко от своей дочери Тани Альбертини. Во время беседы с ней Фламинго рассказала о наших трудных поисках:
— Ах, Оленька, Вам нужна квартира? Я проходила тут рядом на via Leon Battista Alberti и заметила, что там вывеска «Сдается квартира». Пойдите, посмотрите.
Мы тотчас бросились туда. В квартиру влюбились, цены испугались, с швейцарихой подружились. Вечером Татьяна Львовна осведомилась по телефону:
— Понравилась? Так я сейчас же пошлю Перину (ее верная прислуга), чтобы велела снять вывеску с двери.
На следующий день мы с Фламингой пошли к хозяину дома и были очень ласково приняты им.
— Мне звонила тут одна графиня. Я, по правде сказать, ее не знаю, но она Вас очень горячо рекомендовала.
V. ДОМ НА АВЕНТИНЕ. ВОЙНА
Через десять дней после этого мы поселились на via Leon Battista Alberti, 5 (теперь номер стал 25). С ценою Бог поможет. Обстановку с Монте Тарпео маркиза Гульельми нам подарила, — мебель была очень скромная, но необходимая, а маркизе некуда было ее девать: сама должна была переезжать. На Авентине Вячеслав прожил последние очень плодотворные десять лет своей жизни; здесь он скончался в 1949 году. Здесь, до смерти в 1978 г., жила Ольга Александровна, здесь мы продолжаем жить с Димой, и я пишу эти воспоминания[233].
Фламинго считала блестящего гуманиста и архитектора Леона Баттиста Альберти нашим невидимым добрым гением, давшим нам это жилище. Поэтому она считала себя перед ним обязанной написать научное исследование о его архитектурных трудах. У нее были по этому поводу интересные и оригинальные мысли, но жизнь не дала ей возможности их научно разработать.
Улица наша находится в районе так называемого Малого Авентина. Его называют также районом Святого Саввы, по имени базилики Сан Саба — его приходской церкви. Снаружи квартал огорожен высокой древнеримской, Аврелиановских времен, стеной. Окраска стены багряно — розовая. На другую сторону можно проникнуть через монументальные, а в средние века и укрепленные ворота. Эти стены были границей древнего города. Теперь за ними бесконечные новые построения. Малый Авентин, когда мы въехали в него, только начинал заселяться. Почти все новые строения вырастали вокруг древней базилики. Наш дом выходил передним фасадом на улицу Альберти, а задним — на пустыри. Оттуда невероятный по красоте и широте обзора вид: на первом плане виноградники, за ними кипарисы, пинии и древняя церковь, также по форме базилика, — Санта Бальбина, направо грандиозные развалины Терм Каракаллы; далее, через парк виллы Челимонтана, кружевной мрамор базилики Сан Джиованни с взлетающим вверх египетским обелиском (Вячеслав его называет Иглой Тутмеса). Все это кончается широкой полосой римской Кампаньи, окаймленной далекими голубыми горами. Там возвышается Сан Дженнаро, по облику которого люди стараются предугадывать перемены погоды. На пустыре перед домом растут подсолнухи и тростник, посередине — колодец. Где‑то ютится человек, работающий не очень ясно над чем; у него жена и сын Сальваторе, лет пяти, обыкновенно играющий у колодца и совсем голый. Отец переговаривается, вернее перекликается зычным голосом с каким‑то отдаленным приятелем. Ответы до нас не доходят. Помню, как он раз кричал:
— Ormai, la mia vita è una parabola» («Моя жизнь теперь уже парабола»).
Он хотел этим сказать, что начинает стареть. (Меня всегда удивляли у итальянского простонародья обиходно произносимые слова, которые у нас считаются очень учеными).
Балкончик комнаты Вячеслава был обращен на запад. Взгляд с него падал вдоль улицы Леона Баттиста Альберти на ряд новых невысоких домов, где итальянские хозяйки развешивали для сушки свое пестрое белье. Через крыши этих домов виднелся купол собора Святого Петра.
Каникула… Голубизной Гора Блаженного Дженнара Не ворожит: сухого жара Замглилась тусклой пеленой, Сквозит из рощ Челимонтана. За Каракалловой стеной Ковчег белеет Латерана С иглой Тутмеса выписной. Вблизи — Бальбины остов древний. И кипарисы, как цари, — Подсолнечники, пустыри: Глядит окраина деревней. Кольцом соседского жилья Пусть на закат простор застроен, — Все ж из‑за кровель и белья Я видеть Купол удостоен.После войны, еще при жизни Вячеслава, в руинах Терм Каракаллы летом начали ставить оперы: огромная сцена была построена перед, казалось, неизмеримыми развалинами. Через пустырь до нашей кухни доносились звуки гонга, оркестра, последние вздохи умирающей Аиды. В час ночи толпа зрителей расходилась, и над сценой, наконец, могли свободно летать стаи летучих мышей и филинов.
Квартира наша первоначально имела четыре комнаты: три с окнами на юг, из которых последняя — комната Вячеслава — имела, кроме того, балкончик на запад; четвертая комната, на запад, где помещалась столовая. Там же принимали и гостей. Когда Дима приезжал в Рим надолго, мы нанимали для него комнату в соседней квартире. Соседи были итальянцы, патриоты старого покроя, и поэтому над головой Димы вместо Мадонны висел портрет бородатого Мадзини. У Мадзини были такие страшные черные глаза, что мы, скрывая это от соседей, завешивали его портрет шарфом. С годами эта комната была присоединена окончательно к нашей квартире и сделалась нашей гостиной, а столовая превратилась в Димину комнату. Сама же столовая переселилась на кухню. Перед кухней теперь уже не видно ни пустыря, ни подсолнухов, ни тростников, ни колодца. На первом плане широкий, красиво мощеный двор, справа роскошный, четырехэтажный частный дом, а впереди — большое строение монастыря, полностью маскирующее от взора прежний вид. По вечерам высокие окна домашней церкви монастыря освещаются изнутри тихим светом, — там правят вечерню.
Каждое воскресенье из передней раздается звонкий голос Вячеслава:
— Шляпу, палку и четыре сольди! (мелкая монета, чтобы положить на церковный поднос).
Вячеслав собирается всегда спозаранку и стоит перед распахнутой дверью. Получив требуемые предметы, он с невероятной скоростью сходит по ступеням трехэтажной лестницы (лифт был построен много позже) и напряженно — быстрым шагом пересекает площадь Бернини, направляясь к боковому входу Сан Саба. Фламинго, как всегда запоздавшая, кидается за ним бегом и догоняет его у церковного порога. Я уже там поджидаю начала двенадцатичасовой обедни, во время которой я (тогда и в течение многих лет) играю на органе. Базилика Сан Саба — наш приход. Мы ее любим. Она очень красива суровой красотой. Она одна из немногих римских церквей пре — романского стиля. С VII века, когда она была заложена, к ней кое‑что пристроили, кое‑что изменили, но барокко ее не коснулось. Она венчает холм Малого Авентина. К ее главному входу ведет крутая каменная лестница, очень маленький дворик с газоном, две крытые галереи, опирающиеся на ряд небольших колонн и образующие передний фасад. Эта входная часть базилики — более поздняя, эпохи Ренессанса — имеет характер мягкий, почти ласковый. Сама же базилика торжественно величавая. Четыре корабля на грандиозных колоннах из мрамора и гранита, огромная апсида, пол из старинной мозаики. Когда мы поселились на Авентине, базилика имела еще свою старинную восточную монастырскую форму: вся передняя часть центрального корабля была отгорожена довольно высокой мраморной оградой с амвонами, за которой первоначально должен был помешаться хор монахов, а прихожане — миряне оставались вдали. Сама ограда в Сан Саба была белая мраморная с художественными инкрустациями разного цвета камней и придавала церкви радостный вид.
В стенах, ограде римской славы, На Авентине, мой приход — Базилика игумна Саввы, Что Освященным Русь зовет. Пришел с пустынных плоскогорий Сонм Саваитов, Сириян, С причастной Чашей для мирян; Им церковь дал святой Григорий. Сень подпирают кораблей Из капищ взятые колонны; Узорочьем цветных камней По мрамору пестрят амвоны; В апсиде — агнцы… Мил убор Твоих, о Рим, святилищ дряхлых! Как бы меж кипарисов чахлых Он чрез века уводит взор Тропой прямой, тропою тесной, Пройденной родом христиан, — И всё в дали тропы чудесной Идут Петр, Яков, ИоаннБазилика Св. Саввы была римским приходом, к которому принадлежали верующие, живущие на виа Альберти. Формально — поскольку Вячеслав был католиком восточного православного обряда (и таким желал быть), он считался также прихожанином Русской католической церкви в Риме, св. Антония Абата, при семинарии Руссикум[234]. В этой церкви были 19 июля 1949 г. его похороны.
Фактически, особенно в поздние годы, ему было трудно предпринимать каждое воскресенье сложное путешествие от Авентина до Русской церкви на Эсквилине и выстаивать торжественную восточную литургию. Да и «латинская» обедня была люба его сердцу. Он чувствовал, что принадлежит к Восточной Церкви и Западной — Церкви Единой.
Приходский настоятель Перуффо, — очень добрый, заботливый, но его словоохотливые проповеди не блещут интеллектом. Помню, как раз, когда он нес что‑то уже совсем неподобное, я при выходе из церкви встретила на рынке одну женщину.
— Слышали проповедь? — спрашивает она меня.
Я насилу успела удержать насмешливые слова, так как взглянула на ее лицо. В глазах ее стояли слезы.
— Я никогда такой проповеди не слыхала. Как он говорит! Я совсем потрясена!
Да, подумала я, отец Перуффо хороший священник: его народ любит, а что два — три захожих интеллигента смеются, — это совсем уже неважно.
Так как я была органисткой церкви, я с ним часто видалась. Разузнавши, что я ищу работу, он старался мне помочь, и, как ни странно, благодаря ему, который не имел никакого отношения к музыкальным кругам, устроилась вся моя музыкальная академическая карьера. Он мне посоветовал участвовать в конкурсе на кафедры четырех новооснованных государственных консерваторий. Я об этом ничего не знала и без него не записалась бы на них вовремя. И именно благодаря тому, что я выиграла этот конкурс, я получила штатное место профессора в итальянских государственных консерваториях. Тогда — место, а теперь и пенсию.
Отец Перуффо как‑то раз сделал нам честь — зашел к нам с визитом. Сели пить чай вокруг круглого стола. Он расспрашивал Вячеслава и Диму и заинтересовался Фламингой.
— Как, Вы не католичка? Как же это так? Как это можно?
Он кинулся учить Фламингу о католичестве и православии (о котором он, как и почти все западное духовенство, абсолютно ничего не знал). Он хотел тут же, за столом, ее убедить, но Фламинго не соглашалась. Увидев, что дело безнадежное, отец Перуффо отвернулся, махнул рукой и заявил:
— Ostinata (намеренно упрямая).
— Скажите, — спросил он меня раз, — как это объяснить? Русские такие славные, такие хорошие люди, а в России столько зла творится? Вот вернулся солдат один, наш прихожанин, был в плену в России; его спасали крестьяне, такие добрые. Они его полюбили. Говорили о нем: «каросий итальяска».
Я поправляю:
— Итальянец.
— Нет, именно «итальяска».
В отношении Вячеслава к отцу Перуффо произошел крутой перелом. Он его, можно сказать, прямо возненавидел. Дело в том, что отец Перуффо решил сделать преобразования в базилике. Он снял все мраморные ограды с инкрустациями, которые в старину разгораживали церковь на область для мирян и область для монахов. Ограды он приставил к стенам базилики. Там они потеряли всякий смысл и, может быть, именно потому потеряли и свою красоту. В церкви стало от этого, конечно, просторнее, но старинный облик базилики поблек. Вячеслав этого не мог простить отцу Перуффо. Он говорил:
— Это он все сделал, чтобы его виднее было, когда он проповедует.
Вячеславу стал теперь неприятен даже выговор отца Перуффо.
— Выговор у него не римский, а венецианский!
Молодой священник прихода, отец Куаджьотти, боготворил отца Перуффо, который, говорил он, его вылечил от тяжелого нервного заболевания. Отец Куаджьотти сделался совсем нормальным и жизнерадостным. Даже его сильное заикание исчезло настолько, что он стал свободно проповедовать.
Отец Перуффо — злые языки утверждали, что из всех приходских настоятелей Рима он самый невежественный. А я вспоминаю о нем как об одном из моих благодетелей и одном из любимых священников нашего прихода.
* * *
Мы приехали на Авентин в 1939 году; год был мрачный — война уже началась. Италия вступила в нее позже, в 1940 году. Постоянной тревогой того времени было волнение за Диму, от которого мы были отрезаны, так как он жил во Франции. К этой личной тревоге присоединялись горестные переживания, связанные с трагедией самой Франции. Помню, как поздними вечерами мы забирались в комнату Вячеслава, садились в уголке на полу близко от радио и слушали тихонько — тихонько запрещенные в Италии передачи. Вячеслав уже лежал в постели, где имел привычку работать допоздна. Работал он много. Он сильно и болезненно переживал политические новости, следил за ними по газетам и радио, по слухам и разговорам с людьми; но, как всегда, у него внешние большие события непосредственных литературных откликов не вызывали; впечатления от них у него откладывались глубоко во внутреннем мире и только со временем проявлялись в творчестве. Исключением был 1944 год, когда неожиданно у него воскресла лирическая волна, и он в течение одного года написал свой «Римский Дневник». В нем много упоминаний о войне и переживаний, с нею связанных.
Итак, с апреля 1940 года Италия вступила в войну. Первые годы военные действия непосредственно города Рима не касались. Чужие аэропланы показались над ним лишь в день объявления войны, когда отважные французы неожиданно пролетели ночью через площадь Венеции, засыпав ее прокламациями: это было обращение к итальянским женщинам с призывом отвратить войну. Женщины прочитали, некоторые умилились, а потом через день все было забыто. С балкона дворца на площади Венеции Муссолини чеканил свои речи перед площадью, тесно набитой толпой. Выкрикивались лозунги и повторялись в толпе: «Credere e ubbedire!» или «Credere e combattere!» («Верить и повиноваться!» или «Верить и сражаться!»). Но несмотря на это, у меня было впечатление, что настоящего энтузиазма в толпе не было, как бывало при Абиссинской кампании, когда женщины приносили золото и снимали со своих пальцев обручальные кольца, отдавая их в дар
Отечеству. Войны не хотели. Звезда Муссолини начинала свой путь к закату.
По конкурсу Министерства народного просвещения я получила кафедру преподавания гармонии и была назначена с 1 января 1941 года профессором Государственной консерватории города Кальяри, в Сардинии. Это было большой радостью. Вячеслав не разделял ее: он очень тревожился и огорчался необходимостью разлуки со мной. Сардиния находилась на военном фронте. В нее проехать можно было только с особым разрешением военных властей. Гидроаэропланы летали нерегулярно, и только если не ожидалось встречи с англичанами. Пароходы ходили только ночью и тоже нерегулярно. Во время моего пребывания в Кальяри было два сильных обстрела Эльмас (кальяританский аэродром в нескольких километрах от города).
Я спускалась вместе с другими жителями дома в убежище. В первый раз я удивлялась на офицера, который оказался с нами. Он был бледный и волновался, а мне было весело, и я считала это захватывающей дух авантюрой, very exciting! Позже я поняла, что офицер был не трус, а опытный военный; я же по глупости была храбрым зайцем. Второй раз я спустилась в другое убежище. Это был узкий подвал, похожий на тесную пещеру. Над головой шесть этажей нашего дома. Тут я пережила ужас от мысли, что если бомба попадет в наш дом… лучше не думать! С тех пор я ни в Кальяри, ни позже в Риме в подвалы не спускалась. В общем, во время пребывания в Кальяри я не подвергалась никакой опасности: обстреливали только аэропорт, отстоящий далеко от города. Но при чтении газет, дело представлялось очень неприятным, и это мучило Вячеслава. Впрочем, моя жизнь в Кальяри была коротка: с 1 января 1941 года до конца учебного года и с октября того же 1941 года до Рождественских каникул. К счастью, благодаря хлопотам нашего друга и моего постоянного покровителя в Министерстве просвещения профессора Луиджи Вольпичелли, мужа Марии Синьорелли, меня с 1 января 1942 года вызвали в Римскую консерваторию.
* * *
Продовольственный вопрос постепенно начал обостряться даже в самом Риме. В провинции же дело обстояло плохо уже со второго года войны. Когда я была в Кальяри, хлеб выдавали по карточкам и в абсолютно недостаточном количестве; на рынках обычно ничего не продавалось. Пансионы принимали клиентов, только если они имели связи с привилегированными, с точки зрения провианта, учреждениями, как например, казармы аэронавтики или военного флота. Самыми желанными клиентами становились служащие, имеющие отношение к провианту, а лучше всего — повара. За овощами хозяйка ездила к знакомым в деревню.
Однако и в Риме все стало пропадать, и нужно было обзаводиться знакомыми в местах, где бы вам доверяли и продавали по ценам «черного рынка» муку, рис, сахар. Фламинго научилась добывать масло. Но конечно она не соглашалась пользоваться добычей только со своей семьей, а закупала масло для целого ряда близких и дальних друзей, которым потом либо сама, либо с моей помощью тайно его разносила: могли обнаружить и арестовать. Помню, как я снабжала маслом писателя Коррадо Альваро и как мы с Фламингой носили его к вдове Джованни Амендола, Еве Кюн. Муж ее, один из главных демократических противников диктатуры, был избит фашистами в июле 1925 г. и умер несколько месяцев спустя от последствий покушения. (Он был отцом коммунистического лидера Джорджио Амендола.) Но и сам Вячеслав в конце войны получил трогательный дар от Анжелики Балабановой, социалистической деятельницы еще Ленинских времен, ставшей после Освобождения «почетной бабушкой» итальянской социал — демократической партии: некоторое количество скромных съестных припасов. Если не ошибаюсь, они даже не были знакомы. Да и сама Балабанова скрывалась и жила в большой нужде.
Из купленной у спекулянтов муки я делала хлеб. Я пекла его или в соседней пекарне, или, когда она была закрыта, дома на керосиновой печурке. Я любила это, тесто меня слушалось, и вся семья с радостью смотрела, как вырастал на печке каравай, который мы почему‑то прозвали «Господином». Но неразрешимой была проблема: как добыть немного мяса. Вячеславу была органически нужна мясная пища — без мяса он увядал, от одного крошечного кусочка сейчас же оправлялся[235]. Он его называл в шутку «живительный кусочек». Здесь спасительницей оказалась наша Елена. Ей было 20 лет, она была красавица. Приехала она из села близ Венеции в Рим как прислуга. Сначала служила поденщицей, а потом захотела непременно жить у нас и спала на кухне. Веселая, с темпераментом как шампанское, она сразу стала популярна в нашем квартале и вскружила голову всем молодым людям, с которыми имела дело. Чтобы придать себе важность, она говорила, что живет у родственников: Вячеслав — ее дядя, а сама она портниха. Столяр — один из кавалеров, тщетно за ней ухаживающих сделал для нас много необходимых домашних работ. Вячеслав спрашивает, сколько ему должны.
— Ни копейки не возьму. Вы мне только дайте Елену. Без нее я не могу жить.
А Елена, узнав об этом, хохочет:
— Чтобы я вышла замуж за сицилийца? К тому же некрасивого? Нашли дурака! (Сицилийцы известны своей дикой ревнивостью.)
Другой отчаянно влюбленный в Елену, был Массимо, пожарный, исполнявший в команде роль повара. Массимо был уже женат, но Елена поощряла его из‑за своего нежного отношения к Вячеславу.
— Профессору необходимо мясо, пускай Массимо отделит кусочек от пожарных.
Массимо и делал это каждый день, потом заходил в пустырь перед нашей кухней и оттуда высвистывал Елену. Этот флирт длился довольно долго. Массимо был человек очень благородный: Елену обожал, но считал своим долгом относиться к ней бережно, по — отечески. Через некоторое время его перевели на фронт, в тосканский город Пистойя, откуда он был родом. Сначала он писал Елене, потом умолк. Скорее всего был убит во время суровых сражений в этих областях.
Между тем, война развивается все страшнее. На итальянском фронте разруха. В Африке целый корпус германо — итальянской армии окружен союзниками и взят в плен 13 мая 1943 года, а 10 июня того же года союзники делают высадку в Сицилии. В стране нарастает недовольство и, что еще важнее, намечается раскол в самой фашистской партии, ходят слухи о заговоре против Муссолини.
Однако жизнь в самом Риме течет нормально. Обстрелы, бомбардировки — все это где‑то далеко, и нас не может касаться. Рима никто не тронет. И вдруг… в один безоблачный, солнечный день, 19 июля 1943 года, на Рим совершается сильнейший налет. Американские бомбы падают на бедный и густо населенный район Сан Лоренцо, разворачивают соседнее кладбище, тяжело повреждают древнюю базилику. Самолеты улетают, оставляя сотни убитых и тысячи раненых. Папа Пий XII, едва услышал гром бомбардировки и увидел из окна, что обстреливают Рим, не предупредив никого в Ватикане, собирает сколько у него было личных денег и бросается на своем автомобиле в район Сан Лоренцо. Когда он доезжает, рейд уже кончен. Папу тесно окружает толпа растерянных и рыдающих людей, дымятся развалины разрушенных домов, из них выносят мертвых и раненых. Папа проводит несколько часов среди пострадавших, старается их утешить, ободрить. Раздает им деньги, которые принес, молится с народом на развалинах базилики Сан Лоренцо. Когда он возвращается в Ватикан, у него слезы на глазах, на его белой рясе пятна крови.
Союзники объясняли впоследствии этот налет тем, что метили в соседний железнодорожный узел (куда, кстати, не попали). Что же до базилики, то ее бомбили, так как под ее прикрытием стояли немецкие войсковые части. То же самое случилось позже, при высадке союзников в Салерно (9 сентября 1943 года). В феврале 1944 г. был разрушен до основания древний бенедиктинский монастырь Монте Кассино: около его стен тоже стояли немецкие войска. Немцы сознательно прикрывались святынями и незаменимыми сокровищами древнего мира — в надежде, что враги эти места не посмеют обстреливать. По окончании войны базилику Сан Лоренцо удалось, после долгой и терпеливой работы, восстановить. Колонны ее перистиля состоят в буквальном смысле из приложенных друг к другу осколков.
В утро 19 июля я играла на свадьбе в маленькой церкви около пьяцца ди Спанья, где работала органисткой около 40 лет. Было часов 10 или 11, свадьба кончилась, я спускалась со ступеней церкви, когда завыли сирены и зазвучали удары бомбардировки далекого квартала Сан Лоренцо. Автомобили на улице куда‑то ринулись и исчезли. Люди сначала побежали, потом попрятались. Городское сообщение прекратилось. Мне пришлось где‑то пережидать события. Через час, а может быть и два, я отправилась домой. На улице Бабуино мне пересек путь большой грузовик с открытой платформой. На ней тесно были навалены человеческие тела: везли раненых из Сан Лоренцо. Вернувшись домой, я рассказала обо всем этом Вячеславу, и, думается, это событие как‑то странно перекликнулось с его стихотворением, где говорится о «телеге Красного Креста»:
За ветром, в первый день Апреля, Ты слышишь арфу Ариеля? Откуда звон? Оттоль? Отсель? Ау, воздушный Ариель! Весны, еще сердитой, нега В чертогах воздуха звучит… А Красного Креста телега Груз окровавленный влачит. Эльф нежный, страшный, многоликий! Дохни на стан их бурей дикой, Завей их в шалые огни, И распугай, и прогони! 1 апреляОбстрел Рима 19 июля был психологическим толчком, ускорившим назревший политический переворот. Вот короткий перечень событий лета 1943 г.:
— 25 июля Верховный совет фашистской партии голосует против Муссолини. Король, Виктор Эммануил III, лишает Муссолини его должностей и дает приказ его арестовать тут же, в королевской вилле.
— 26 июля король назначает генерала Бадольо главою правительства и главнокомандующим итальянскими войсками. Ко всеобщему удивлению, ген. Бадольо не порывает с немцами, а провозглашает по радио: «Война продолжается». Муссолини заключен в тюрьму в горах Гран Сассо.
— 3 августа в Лиссабоне начинаются, однако, секретные переговоры о сепаратном мире с союзниками.
— 3 сентября итальянское правительство заключает с союзниками перемирие.
Период Бадольо длится в Риме недолго.
— 8 сентября 1943 года военные власти союзников и итальянское правительство официально провозглашают заключение перемирия. Бешеная реакция бывших немецких союзников Италии. Правительство Бадольо и королевская семья, никого не оповестив, спешно уезжают в Бриндизи, покинув Рим, который начинают оккупировать нацисты. Хаос в немногих оставшихся в Риме частях, верных королю. Они героически пытаются сопротивляться наступающим немцам, но скоро большая часть военных сдается в плен и увозится гитлеровскими войсками в Германию. Немцы занимают все стратегические пункты страны от Рима до севера.
— 9 сентября союзники высаживаются в Салерно. Немцы отступают на линию «Густав».
— 23 сентября Муссолини, выкраденный немецкими парашютистами из своей тюрьмы, повидавшись с Гитлером, создает марионеточную «Итальянскую социальную республику» («республику Сало» в просторечии). «Республика Сало» просуществует до апреля 1945 г.
Как отразились все эти события на нашей частной жизни? Когда в Италии случился государственный переворот 25 июля, была распущена фашистская партия и Бадольо восстановил в принципе демократическое правительство, Дима находился в Шартре, который был в занятой немцами части Франции. Сразу после начала войны он старался попасть добровольцем во французскую армию. Но из‑за его ампутированной руки его не приняли. После падения фашизма он решил пробраться в Рим. Перейти границу было нелегко, но ему удалось это сделать, и, к нашей несказанной радости, он неожиданно появился перед нами. Мы оказались вместе в это трудное время.
8 сентября все казалось мирно и спокойно. К концу дня мы с Димой отправились на виа Порта Пинчана к Тане Альбертини (дочке Татьяны Львовны). Мы должны были к ней зайти на минутку, только чтобы занести ей какие‑то продукты. Насколько помню, мы ее не застали дома и тут же спустились на улицу. Нам бросилось в глаза, что в минуты, пока мы поднимались в квартиру Альбертини, что‑то произошло. Виа Порта Пинчана на ходится в центре города, и вокруг нее большое количество отелей, полных иностранцами — в ту пору немцами. Едва мы ступили на тротуар, как нас чуть не сбили с ног люди, бегущие с чемоданами. Они казались в панике. Слышались обрывки немецких фраз. О том, чтобы остановить кого‑нибудь и спросить, что случилось, не могло быть речи. Темнело. Мы прошли несколько улиц и сели в автобус, чтобы ехать домой. В автобусе, наконец, узнали, что произошло. Только что объявили о подписании перемирия. Немецкие семьи спешно покидают город. Перепуганные итальянцы, сидящие в автобусе, говорят приглушенными голосами.
— Что же теперь будет? Что теперь сделает с нами немецкая армия? Каких бед еще придется натерпеться?
Очень скоро после этого начала доноситься отдаленная пальба пушек.
— Что это такое?
Знатоки в ответ:
— Не беспокойтесь. Теперь война уже кончена. Это наши войска взрывают мины, которые были заложены вокруг города.
9 сентября мины все еще взрываются, но почему‑то пальба приближается. Больше минам уже не верят. Позже кто‑то сообщает:
— Немцы наступают на Рим.
Итальянские военные силы, лишенные командования, беспорядочно рассеиваются. Много дезертиров, но много защищающихся.
10 сентября рано утром немцы у ворот Святого Павла, за 7 минут ходьбы от нашего дома. Стрельба больше не артиллерийская — в город не стреляют, слышны главным образом пулеметы. Мы смотрим в окно кухни: за пустырем происходит что‑то непонятное. Бегут какие‑то военные, едут маленькие «джипы». Вот итальянский солдат забежал на пустырь, скидывает мундир и быстро прячет его в заросли тростников; вот едут немецкие офицеры, бросив на автомобиль большую белую простыню; это значит: не стреляйте, мир заключен. Но это не верно: там, перед нашим взором, пулемет убивает двух молоденьких итальянских офицеров, куда‑то стремящихся в своих бронемашинах. (После этих смутных дней их похоронили тут же, на краю улицы Джотто, где я теперь каждый день гуляю.)
— Смотрите, — говорит кто‑то из нас, — как это похоже на описание Ватерлоо у Стендаля. Вблизи все кажется бессмысленным, беспорядочным, а на самом деле тут развертывается стратегический план.
Фламинго прерывает разговор и оттаскивает всех от окна:
— Неровен час! Шальная пуля!.
К сожалению, то, что разворачивалось перед нами, был бессмысленный беспорядок: и бедные итальянские военные части были лишены какого бы то ни было стратегического плана.
К полудню Рим был окончательно занят немцами. Пальба затихла. Улицы пусты. Все спрятались по домам.
Часа в четыре Дима мне предлагает:
— Хочешь выйти со мной на минутку: посмотреть, что делается вокруг?
Мы выходим. Ни души. Лавки крепко заколочены. В одном месте из подворотни осторожно выходит немец, солдат, смотрит на нас испуганно, шарахается и быстро исчезает, запрятавшись куда‑то. Он в зеленой форме с раскрашенными лесными узорами на ней и походит на лешего; видно, что он смертельно нас боится (немцы ожидали повсюду засад), глаза его страшны (глаза сильно испуганного человека всегда страшны). К тому же, он, кажется, пьян: дали алкоголь перед атакой. Мы возвращаемся домой. После узнаем, что в соседней вилле немцы убили сторожа, который вышел к ним навстречу, — убили со страха, думая, что он собирается в них стрелять. Гулять в тот день было, конечно, излишне, но в Диме проснулся будущий журналист.
К концу, быть может, второго или третьего дня мы опять выходим с Димой полюбопытствовать, что делается. Почти все жители города еще сидят дома. На углу Виале Авентино видим даму, с трудом несущую тяжелый круглый сыр. У нас глаза загорелись.
— Где Вы это нашли?
Дама объясняет по — итальянски, но с сильным немецким акцентом:
— Там, в конце улицы военные власти раздают народу. Идите, но нужно держать себя очень дисциплинированно.
Мы соглашаемся держать себя вполне дисциплинированно, но увы! — когда мы добегаем до конца улицы, уже никто ничего не раздает. На площади ходят вооруженные немецкие патрули, вид их ничего доброго не предвещает, хотя солдаты уже не имеют того страшного облика, как те, которых мы встретили в первый день оккупации. Темнело. Мы вернулись, «неся» домой лишь мираж округленной формы огромного пармезана.
Приблизительно через пять дней: приключение. Мы, то есть Дима, Елена и я, отправились грабить военный товарный поезд, стоящий на запасных рельсах близкого вокзала Остии. Поезд был нагружен продовольствием, предназначенным для итальянских войск, стоящих в Риме, но опоздал, и при приезде в Рим был встречен немцами. С раннего утра обыватели нашего района нашептали об этом друг другу на ухо, и все, забрав мешки, корзины, у кого были — тележки, отправились через пустое поле к обрыву, спускающемуся к полотну железной дороги. Внизу виднелись несколько поездов, товарный стоял посредине. На близком от него расстоянии разгуливали вооруженные часовые, которые, по — видимому, получили приказ не трогать подходящих, однако для острастки они время от времени стреляли в воздух. Людей было много. Нужно было проползти под двумя пустыми поездами. И вот перед нами стоит целый ряд вагонов, открытых и нагруженных мешками, ящиками, бутылками. Мы все трое начали искать, что нам казалось самым необходимым. Дима вынес наружу два мешка муки, я — мешок риса, а Елена — кроме муки, еще какой‑то небольшой мешок с консервами; к тому же она прихватила еще, как ни странно, пару женских деревянных сандалий. Затем началось самое трудное: тащить домой под враждебными взглядами часовых все эти тяжести на плечах. Сначала ползти под пустыми поездами, потом идти через полотно и, что было самым мучительным, вверх по тропинке, поднимающейся по крутому обрыву. Мешок невыносимо оттягивал плечи. Мне казалось, что я падаю, но люди, тесно идущие гуськом за мной, понукали меня, подпихивали, поддерживали таким образом теряющееся равновесие. Поле после этого уже было нетрудно перейти, мы ликовали и победоносно принесли драгоценную добычу домой. Я считала, что мы поступили правильно: продовольстие было предназначено для итальянцев, и отдавать его врагам не следовало. Фламинго не знала ничего об этой экскурсии и решила, что где‑то недалеко какой‑нибудь кооператив что‑то раздает обывателям.
— Что это за консервы вы принесли?
— Не знаем, взяли, что попало.
— Это, конечно, помидоры! Почему вы не взяли мясных консервов? Сразу бегите обратно, Вячеславу нужно мясо.
Мы отправились обратно, но, дойдя до края обрыва, взглянули с него вниз и увидели разбегающихся людей: началась стрельба, и на этот раз уже по толпе. Пришлось отказаться от дальнейшего предприятия. Дома мы стали рассматривать коробки консервов, и — о, ликование! — это были не помидоры, а мясо. Вячеславу на ближайшее время праздник. Когда Фламинго поняла, откуда и как явилась продовольственная помощь, она пришла в ужас.
— Куда это я вас посылала!
* * *
Во время оккупации резко усилилось гонение на евреев. Оно началось с самого объявления политики «Оси». Но при итальянском правительстве оно не принимало тех чудовищных форм, как после вторжения немцев. Евреев ловили на улицах, врывались в дома, устраивали на них целые облавы, хватали их и увозили из Италии в пресловутые Campi di sterminio — лагеря уничтожения. На виа Tacco заработал центр Гестапо. О допросах и пытках в этом доме рассказывалось много ужасов. Время от времени делались также облавы на молодых итальянцев, первых попавшихся, которых увозили в Германию. Иногда хватали и женщин, чтобы заставить их работать на армию. Весь город был полон прячущимися людьми.
Ватикан и лично Папа Пий XII делали все, что только могли, для помощи евреям и их спасения. Евреев прятали по монастырям, распределяли по всевозможным католическим организациям. Папа и его дипломатические представители способствовали тысячам евреев эмигрировать в Америку и в другие свободные страны. Все это делалось секретно, так как всякое открытое выступление за евреев вызвало бы со стороны Гитлера свирепые репрессии (как это уже случилось в августе 1942 года, когда после публикации протеста голландских епископов против преследования евреев тысячи людей были посланы в газовые камеры).
Ватикан стал также убежищем и для дипломатов враждебных Германии стран. Вся крошечная территория его была полна скрывающимися иностранцами, лишенными возможности выходить за его пределы. Один из них, американский chargé d’affaires, Харольд Титтман, пригласил Диму давать уроки своему сыну. Это было, конечно, неосторожно, тем более, что сам Дима был французским подданным. Какая‑то неопределенная работа в Ватикане (сознаваться, где он там работал, конечно, нельзя было) придавала некоторый официальный характер его пребыванию в Риме, но это заставляло его каждый день проходить в Ватикан через весь город, где постоянно были немецкие патрули.
Жизнь потекла мерно и мрачно. Рано утром мы ходили по очереди — Дима, Фламинго и я — стоять в хвосте за папиросами
(в эту зиму Вячеслав почти не выходил): Вячеслав был отчаянный курильщик. Продовольствия в городе не было. Спасали мешочники, которые пересекали поля римской Кампаньи и добывали в маленьких городках и селах вокруг Рима то, что еще можно было найти: обычно муку и деревенский пресный сыр «качотта». Нередко эти предприимчивые люди попадали под обстрел. В городе все было спокойно. Школы и университет открыты. Я регулярно ходила преподавать в консерваторию. Были открыты театры, давались великолепные концерты, в Опере шло целиком «Кольцо» Вагнера. Все спектакли и концерты во время оккупации начинались в точно назначенный час. Точно! Ни одной минуты запоздания не допускалось и двери зала закрывались.
— Это возмутительно! Какая дерзость! Они считают себя хозяевами Рима? — негодовала публика, привыкшая к пятнадцати, а то и к тридцати минутам опоздания.
Тем временем война шла своим чередом, и союзники медленно, но неуклонно продвигались на север. Уже в январе 1944 года они сделали вылазку в Анцио — совсем близко от Рима, но должны были приостановиться, так как встретили отчаянное сопротивление в горах вокруг аббатства Монте Кассино, которое пало лишь под конец мая того же года. Уже с начала 1944 года до нас доносятся звуки отдаленной канонады.
* * *
В том же году с Вячеславом происходит необычайное явление: после долгого молчания в нем пробуждается лирическая волна, в которой отражаются все римские происшествия этой эпохи, а они, в свою очередь, вызывают забытое прошлое. День за днем рождаются стихи, создается «Римский Дневник» 1944 года. 1 февраля я прихожу к Вячеславу, приношу только что сорванную мною ветку мимозы и описываю ему, как на дворе уже чувствуется приближение весны. Вячеслав любит, чтобы ему рассказывали про все: сам он сидит почти безвыходно дома. Ночью 1 февраля появляются стихи:
Опушилися мимозы, Вспухли почки миндалей, Провожая Водолей. А свирепых жерл угрозы Громогласней и наглей. За градой олив грохочет Дальнобойная пальба. Вся земля воскреснуть хочет; Силе жизни гробы прочит Мертвой силы похвальба. 1 февраля.Война все ближе подходит к Риму. Союзники начинают систематически бомбить его окрестности, фабрики, железнодорожные узлы. Один из таких узлов рядом с нами, у вокзала Остии. Он и, по ошибке, районы вокруг него долго подвергались ежедневной бомбардировке. Иногда налеты происходили ночью. Сначала звуки сирен, потом почти сразу густое гудение самолетов, с неба спускаются огни, часто как колоссальные гроздья винограда — фейерверк дьявольской красоты. Гроздья ярко освещают под собою город. Воздух почти сразу сотрясается канонадой. В другие разы налеты происходили днем, обыкновенно поздним утром. Помню, как под страшное завывание сирен я бросала консерваторию и бежала пешком через полгорода в наш район Сан Саба. Издали видно было, что бомбы метят в него. Квартал был окутан белым дымом. Издали все кажется гораздо страшнее. В голове мысли: «Вдруг попадет в наш дом? А если так должно быть, то хочу и я там находиться, чтобы всем вместе умереть». Совершенно одинаковая реакция была и у Димы: как только завывали сирены, отец его ученика, американский представитель при Святейшем Престоле, сам ученик и Дима подымались на террасу здания (одного из самых высоких на маленькой территории Ватикана). Оттуда, как на ладони, был виден весь город и на далеком Авентине улица близ Сан Саба, над которой грозно повисли белые облачка смертоносных бомб. Дима спешил домой. Путь был далекий.
И вдруг — гора с сердца спадала. Он заворачивал за угол улицы и видел, что дом на виа Альбертини стоит цел и невредим. Пронесло! И так день за днем.
В городское убежище мы не ходили: оно было слишком далеко от нас — Вячеслав не мог бы осилить расстояния. Как только загудят сирены, — когда все были дома, — мы собирались обыкновенно в нашей передней, которая имела над собой этаж. Остальная часть квартиры находилась под открытой террасой. Защита, состоящая из лишнего легкого этажа, была, конечно, чисто символической. Когда бомбы падали близко, наш дом начинал качаться. Нас уверяли, что это признак крепкой постройки. К этим событиям относится стихотворение «Налет, подобный трусу».
Налет подобный трусу, — Дом ходит ходуном, Воздушных Гарпий гром Ужасен и не трусу. Мы к смертному искусу Приблизились и ждем; Пречистой, Иисусу Живот наш предаем.3 марта.
Такие налеты происходили ежедневно в течение довольно долгого периода. Во время одного из них бомба разрушила часть древней римской стены у нашего дома.
Мрачное настроение этого времени сказывается в стихах, посвященных Риму:
Тебя, кого всю жизнь я славил, Кто стал отечеством моим, Со днем рожденья не поздравил Я в срочную годину, Рим! Но так друзей Иова фраза На седины твои лгала, Когда лихих гостей проказа По телу скорбному ползла, Что двадцать первый день апреля Мне днем поминок был скорей, Чем поэтического хмеля В округе древних алтарей.24 апреля.
Вячеслав сознается, что запамятовал день «Рождения Рима». По древней легенде, Рим был основан 21 апреля 753 года до Р. Х. Этот день издавно принято торжественно праздновать на Капитолии. Но лучше и точнее всего описана эта эпоха Вячеславом в более позднем стихотворении, 27 сентября 1944 г. Военные события, непосредственно пережитые на Авентине, нельзя, конечно, ни в какой мере сравнить с кровавыми трагедиями Хиросимы, Ленинграда, Лондона, Берлина. Но взор поэта устремлен за Аврелианову стену, где проходят смены «уготованных гробов», и он слышит день за днем со всей земли каноны «безыменных похорон»:
Рассказать — так не поверишь, Коль войны не пережил, Коль обычной мерой меришь Моготу душевных сил. — Все, чего мы натерпелись, Как под тонкий перезвон, Что ни день, каноны пелись Безыменных похорон. А волчицей взрыв, сирена Гонит в сумрак погребов. Голосит: приспела смена Уготованных гробов. —В день когда Вячеслав пишет эти стихи, Рим уже освобожден, немцы на севере, но война еще не кончена..
VI. ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Как произошло Освобождение? Оно произошло в полной тишине, особенно разительной после привычного уже воя сирен и грохота бомб. Союзные войска подошли к Риму 4 июня, не обстреливали его и дали время врагу на отступление. Улицы города наполнились немецкими частями. Все куда‑то растерянно спешили, почти бежали, а на лицах явно виднелось выражение испуга. Смелые и героические при наступлении, — правда, такими они не были в сентябре 43 г. — они совершенно теряют силу от поражения. В течение дня Рим был покинут всеми германскими войсками. Я узнала впоследствии одну подробность, которая мне как музыканту особенно врезалась в память. Несмотря на катастрофическое отступление, почти бегство, немецкие солдаты нашли время и желание украсть, разложив его на составные части, большой орган из зала в Форо Италико и вывезти его с собой. Такая страсть к музыке и в такую минуту!
Несутся Чаянья, как птицы, Нетерпеливые, вперед. Событий обгоняя ход, Пока тяжелой колесницы Крутой, внезапный поворот Тебя, щебечущая стая, По зеленям не распугнет. Вот какова была простая Развязка мрачной кутерьмы. Глядим оторопело мы. Сам астролог, кем предозначен Единый был исход всего, Негаданною озадачен Гаданья правдой своего.5 июня.
(«Астролог» — это Фламинго, которая, с самого начала войны, упрямо повторяла: «Гитлер войну потеряет и будет разбит в пух и прах».)
С раннего утра 5 июня город огласился веселым шумом въезжающей союзной армии. Мы с Димой побежали на via dei Fori Imperiali — улицу императорских форумов (тогда она называлась via dell’Impero — улица Империи), в самое сердце Древнего Рима. По обеим сторонам широкой аллеи собралась густая толпа разнородного люда. Перед нами часами разворачивалась нескончаемая процессия всевозможного рода войск. Проезжали солдаты всех рас, ошеломленные от усталости, радости, раскрасневшиеся от палящего солнца. Они приветливо кивали головой направо и налево аплодирующей толпе, дивились на Форум и на Колизей. Говорят, что один из них, увидев Колизей, воскликнул:
— Ах, какой же он должен был быть красивый! И это мы его нашими бомбами так обрушили! Как жалко!
В эти первые дни возникали недоразумения. Американцы въезжали с искренним намерением освободить, помочь и накормить голодающее население. При их въезде, однако, действительно голодное и достойное население сидело по домам, а армию окружали проститутки и так называемое отребье общества. Они все жалобными голосами взывали:
— Дайте папирос, дайте шоколада! Ах, я уже четыре года, как не видала шоколада!
Солдаты бросали в толпу папиросы и шоколад, но многие были шокированы.
Проезжали огромные грузовики на высоких колесах, снабженные неправдоподобной толщины шинами. Эти шины поражали:
— Смотрите, какие у них шины! А фашисты нам говорили, что у них такой недохват, что женщины жертвуют подвязки для отечества…
С первых же дней появления союзников город совершенно переменил свой облик. Улицы зазвенели разноязычной речью, шумом и гамом. На тротуарах толкались солдаты — белые, черные, желтые:
Вечный город! Снова танки, Хоть и дружеские ныне, У дверей твоей святыни, И на стогнах древних янки Пьянствуют, и полнит рынки Клёкт гортанный мусульмана, И шотландские волынки Под столпом дудят Траяна. Волей неба сокровенной Так, на клич мирской тревоги, Все ведут в тебя дороги, Средоточие вселенной!28 июня.
Еще было голодно, но рынки оживились спекулянтами, которые более не скрывались по задворкам, а открыто предлагали свой подозрительного происхождения товар. Перевозочных средств не было, но зато появилась целая сеть доморощенных моторизованных вагончиков или просто грузовиков с установленными на них скамейками, занавесками для защиты от дождя и солнца, с приставными маленькими лесенками, чтобы публике было легче на них вскарабкаться. Эти импровизированные вагончики ездили иной раз на четырех, а иной раз только на трех колесах и часто опрокидывались, так что путешествовать на них было опасно. Вспоминается случай с бедным Шаровым, очень известным, как в Италии, так и в Голландии, режиссером. Он спешил на репетицию, взял трехколеску, был опрокинут и отвезен в больницу с плохими переломами костей. Я в то время писала музыку для «Зимней сказки» Шекспира, которую он ставил в театре Арджентина. Шаров с нами дружил, то и дело к нам заходил. Я потчевала его испеченным на керосинке пирогом с капустой и наслаждалась его чудной русской речью: родом он был сибиряк. В это лето был необыкновенный урожай абрикосов. На всех улицах встречались лотки, переполненные золотящимися душистыми плодами. Друзья встречались и сразу:
— Ну, как у Вас с питанием?
— Да, известно как: печем лепешки и едим с абрикосами. А Вы как?
— То же самое. Так тяжело, я очень плохо себя чувствую.
В первые же дни прихода союзников мы с Димой отправились в центр города (пешком, вначале еще не было любительского транспорта). Хотели исследовать, что и как, и можно ли надеяться получить работу у союзников, — например, переводчиком. Нам говорят:
— На пьяцца Венеция вывешено объявление: ищут переводчиков.
Идем. Видим очередь через всю площадь, которая заворачивает далеко — далеко в сторону виа Национале. Каждый итальянец, научившийся говорить на иностранных языках «спасибо» и «здравствуйте», считает себя прекрасным переводчиком. Пришлось махнуть рукой на предприятие. Нужно действовать иначе. Но вдруг, из французского посольства, только что снова открытого, где Диму знают, предложение: газета La Patrie (Родина) предлагает ему стать редактором и — если нужно — военным корреспондентом. Он же будет выпускать воскресное литературное приложение под названием Présence (Присутствие). Дима согласился (думаю, не без робости, он никогда до этого журнализмом не занимался). Мы шли по улице Корсо, и я, затаив дыхание, слушала его рассказ об этом.
— Итак, теперь, если меня кто спросит: Ваш брат чем занимается? — я должна сказать: он журналист?
— Да, можешь сказать, что журналист.
Этот день переменил все течение жизни Димы. Вся его энергия, весь интерес были поглощены газетой. Это была настоящая страсть. Ночью он постоянно забегал в типографию, и часто брал меня с собою, показывал с горящими глазами, как работают машины, как делается верстка.
Это событие преобразило и материальную сторону нашей жизни. Будучи часто в отъездах или на ночной работе, Дима получил комнату в соседнем с редакцией реквизированном отеле «Плаца». Меня он устроил переводчицей в La Patrie: я должна была переводить приходящие каждый час депеши с фронта. Переводить с английского на французский. Боже мой! Как это было трудно! Не только Диму, но и меня записали в армию: я была зачислена в 48–й Марокканский батальон в чине солдата. Дима был в другой части в чине офицера. Мы имели талоны на даровые обеды: Дима — в отеле «Плаца» с офицерами, я — в реквизированном ресторанчике на Пьяцца Сан Эустакио. Я сидела на скамье рядом со штатскими служащими и смуглыми арабскими воинами из Северной Африки. Мне давали вина в картонном стаканчике, а им, как мусульманам, не полагалось. Еда была повсюду более или менее одинаковая: американские консервы «corned beef», французами неблагодарно прозванные «singe» — обезьянье мясо. Со временем Диме удалось меня перевести в ресторан «Плаца». Вячеслав и Фламинго сидели дома и в столовую доступа не имели.
Но мы получали жалованье и могли покупать для них, что имелось на рынке. Сначала те же американские консервы, нелегально продающиеся на лотках; со временем доставка продуктов постепенно стала нормализоваться. Изменилась и моя деятельность в Présence. Я очень плохо справлялась с переводами военных английских телеграмм, и как только культурная сторона газеты развернулась, меня перевели из Patrie в Présence и назначили музыкальным критиком.
Présence выходил после войны в течение трех лет в Риме, каждую неделю. Журнал получал ценные тексты из Парижа, которые были бы иначе недоступны из‑за хаотического состояния связи и сообщений. В Présence, с другой стороны, с радостью печатались тогда молодые, а теперь маститые итальянские писатели, поэты, художники, с трудом выходящие из глубокого духовного кризиса, связанного с проигранной войной, падением диктатуры, открытием нового, неизвестного культурного мира.
Американцы основали в Риме дом отдыха для военных, приезжающих с фронта в двухнедельный отпуск; меня пригласили как органистку играть на воскресных церковных службах, которые там справлялись. За мной приезжал молоденький сержант, который в мирное время готовился к богословским экзаменам, чтобы стать пастором. Мы ехали с ним через весь город на платформе огромного «доджа». На Рождество мы ездили также и за город по различным казармам и брали с собой военный маленький гармониум, издающий носовые, пронзительные звуки в диапазоне двух с половиной октав. На нем я разыгрывала солдатам их красивые традиционные рождественские песни и аккомпанировала импровизированному хору. В самый день Рождества американская Епископальная Церковь Святого Павла на виа Национале оказалась без органиста, и епископ попросил военных уступить меня для торжественного богослужения. Как только я вошла в церковь, я ее полюбила и мне страстно захотелось остаться там на постоянную работу. Церковь была очень красивая — копия собора San Zenone в Вероне с мозаикой — Burne‑Jones’a, и обладала большим концертным органом. Я оставила свой адрес и действительно была вызвана церковью через два — три месяца с предложением сделаться постоянным капельмейстером и органистом Национальной американской Епископальной Церкви Святого Павла в Риме. Там я работала с увлечением в течение девяти лет. Кроме того, у меня был вечерний хоровой класс в итало — американской школе «Магу Mount». Выходить вечером было тогда очень опасно. На одиноких путников набрасывались грабители, стягивали шубы и другую одежду. Рассказывали про многих почтенных людей, как они прибегали к себе домой, облаченные только в минимальное нижнее белье. Школа, где я работала, высылала за мной автомобиль, иногда помогал и Дима. В его распоряжение был выдан для журнала автомобиль с симпатичным итальянским шофером Джованни. Грабеж был так распространен в те дни, что Джованни, который был собственником этой старенькой машины, не решался ее покидать ни на минуту, а ночью в ней спал, держа при себе заряженное ружье.
Как‑то, уже осенью, Диме удалось получить автомобиль на много часов, и он организовал для Вячеслава прогулку по виа Аппиа. Для Вячеслава, который так долго никуда не выходил и был неизбалован, — иметь в своем распоряжении на полдня автомобиль, да еще кататься в нем по любимой Аппиевой дороге — было несказанной радостью. Мы медленно подъехали к одной из древних римских гробниц, стоящих вдоль античной дороги. В ней был похоронен какой‑то сановник. С его статуи со временем отлетела голова. По краям памятника обломанные мраморные ступени. Мы остановились, разложили скатерть на ступенях, поместили на ней закуски, бутылку красного вина, и все сели вокруг за импровизированную трапезу: Вячеслав, Фламинго, Дима, Джованни и я. Стояла осень, было уже прохладно, но еще солнечно. День склонялся к закату. Вокруг нас тихо — тихо. Невидимая ограда отделяет нас от суеты.
VIA APPIA
Не прадеды ли внукам убирают Стол пиршественный скатертию браной? У Аппиевой памятной дороги, Бегущей на восклон, где замирают Мелодией лазурной гор отроги И тает кряж в равнинности туманной, Муж Римлянин, безглавый, безымянный, Завернут в складки сановитой тоги, Всех нас, равно пришельцев и потомков (Не общие ль у всей вселенной боги?), Звал вечерять на мраморах обломков Его гробницы меж гробов забвенных И лил нам в кубки гроздий сок червонный, В дыханьи пиний смольных, круглосенных И кипарисов дважды благовонный, Как на трапезе мистов иль блаженных.21 ноября.
Однако и эта Аппиева дорога, как светлый луч, блеснувший из прошлого, окрашена у Вячеслава грустью; это видно из следующих стихотворений — того, например, где «путь льется», где «день, медля, вечереет», где перед взором поэта алеет вспаханное поле, где «нас не будет боле», где «бродит наша тень, покинута, на воле» («Бегут навстречу дни…», III, 639).
Та же печаль и в стихотворении «Аллеи сфинксов созидал…», где описаны исчезнувшие аллеи Египта, и Рима, и России:
И вот аллеями развалин
Идут в безвестность племена.
Война передвинулась на север, оставив за собой следы разрушения: осквернены катакомбы, срублены оливы, в нивах зарыты мины…
Лютый век! Убийством Каин Осквернил и катакомбы. Плуг ведя, дрожит хозяин, Не задеть бы ралом бомбы. Век железный! Колесницы Взборонили сад и нивы. Поклевали злые птицы Города. Лежат оливы. Оскудели дар елея И вино, людей отрада. Было время: веселее Сбор справляли винограда.20 сентября.
О том, до какой остроты доходило у Вячеслава ощущение трагедии войны и событий нашего века, можно судить по Рождественским стихам 1944 года:
И снова ты пред взором видящим, О Вифлеемская Звезда, Встаешь над станом ненавидящим И мир пророчишь, как тогда. А мы рукою окровавленной Земле куем железный мир: Стоит окуренный, восславленный, На месте скинии кумир. Но твой маяк с высот не сдвинется, Не досягнет их океан, Когда на приступ неба вскинется Из бездн морских Левиафан. Равниной мертвых вод уляжется Изнеможенный Легион, И человечеству покажется, Что все былое — смутный сон. И бесноватый успокоится От судорог небытия, Когда навек очам откроется Одна действительность — твоя.При бегстве на север немцы проходят через город Терни, где они разрушают систему бассейнов, снабжающих Рим водой. В связи с этим Рим остается также на некоторое время без электричества, и бедный Вячеслав чувствует себя живым, замкнутым в темный гроб.
Разрушил в бегстве Гот злорадный Нам акведуки, выпил свет, Что, как маяк, в ночи прохладной Звал Муз под кров мой на совет: Я с небом слепну, света жадный. Живым я замкнут в темный гроб, Как в чрево китово Иона Иль как за дар хмельной Марона Отдавший глаз во лбу Циклоп. Лежи, сплетая в арабески Волокна тьмы, отзвучья слов, Пока не выйдет в новом блеске Июльский Лев на жаркий лов.15 июля.
На севере немцы укрепляются в Апеннинах и создают «Готическую линию». Италия разделена пополам, и между ее двумя половинами всякий проход воспрещен. Сообщение редкое только «оказиями». Однако наш молодой друг, поэт Джованни Кавикиоли, который жил в апеннинском городке Мирандола, послал Вячеславу подарок. Его доставила какая‑то «странница», перешедшая, несмотря на большую опасность, «Готическую линию». Доставка потребовала десяти дней.
Поэту Джованни Кавикиоли Аль и впрямь вернулись лета Аларика, Гензерика, Коль подарок от поэта Из Мира́ндолы (прославлен Тихий город славой Пика) В день десятый нам доставлен Пешей странницею, мимо Проскользнувшей невредимо Через готский стан, чья сила Силой ангельской гонима (Так от Льва бежал Аттила) Прочь от стен священных Рима.22 июня.
Но печаль у него никогда не приводит к отчаянию. Он постоянно меняется и сам описывает метаморфозы своих обликов в прощальном разговоре с Музой:
Прощай, лирический мой Год! Ор поднебесный хоровод Ты струн келейною игрою Сопровождал и приводил, Послушен поступи светил, Мысль к ясности и чувства к строю, Со мной молился и грустил, Порой причудами забавил, Роптал порой, но чаще славил Что́ в грудь мою вселяло дрожь Восторга сладкого… «К Афине Вернись!» — мне шепчет Муза: «ныне Она зовет. И в дар богине Сов на Акрополе не множь. Довольно ей стихов слагали, И на нее софисты лгали: Претит ей краснобаев ложь. О чем задумалася Дева, Главой склонившись на копье, Пойдем гадать. Её запева Ждет баснословие твое».31 декабря.
Линия фронта отдаляется. Рим находится в тылу. Положение с продовольствием улучшается. Восстанавливается городской транспорт. Довольно ли население? Счастливы интеллигенты, политические деятели, все пострадавшие от фашизма. Жизнь у них закипает. Отель «Плаца» теряет свой чисто военный харакрет. Это — интернациональный центр, полный интересных людей. Там живут или туда постоянно заходят артисты, журналисты, представители только что родившихся партий. Дискуссиям конца не бывает. Там можно всегда встретить писателя Игнацио Силоне с красавицей, ирландкой, Дариной. В баре сидит, окруженный почитателями в военных формах освободителей, прекрасный поэт Умберто Саба. В громадной столовой кормятся за столом коллег — писателей, превращенных войной в капитанов или полковников, — Альберто Моравиа или Карло Леви. С пропуском от военных властей заходят Де Кирико, Гуттузо, Петрасси.
Как‑то раз туда попадают три советских молоденьких офицера, приехавших с фронта. Мы их угощаем. Я разговорилась с одним из них. Он загорелся, взволновался и, страстно растроганный, обращается к товарищу, указывая на меня:
— Она здесь двадцать лет живет и говорит по — русски, и знаешь? — она прекрасно знает русскую историю.
Очевидно, для него эта была первая встреча с зарубежным русским человеком. Вот диковина! Совсем, как если бы своя!
Но когда я иду на свою работу в консерваторию, я оказываюсь в совсем иной атмосфере. Я окружена только итальянцами, артистами, скорее даже ремесленниками. Все, что делается вокруг, вся эта кутерьма, иностранцы, распоряжающиеся в городе, чужие войска, чужие наречия — для них просто бич Божий! Рим видал виды, — но как же это тяжело переживать! Конечно, эти лучше немцев, но все же, мы больше не у себя дома. Итальянцы, меня окружающие, мрачны, их национальная гордость глубоко ранена. Страна разорена. Да, мы проиграли войну. Впрочем, если «они» нас оккупировали, то пусть и платят. «Они» — американцы, миллионеры, «они» обязаны кормить, вывести разоренную ими же страну из всех трудностей. Мои коллеги — музыканты страдают, чувствуют себя униженными. Настроение подавленное. Но такое настроение не может длиться долго под южным солнцем. Жизнь улучшается, взгляды постепенно меняются. В конце концов, кто проиграл войну? Фашисты. Одни фашисты. (Кто когда‑то был в «национальной партии», позабыл об этом). Вся Италия состоит из партизан, при Муссолини тюрьмы и места ссылок были переполнены антифашистами, героическими деятелями. Это не союзники освободили Италию — она сама себя освободила. Она совсем не побежденная страна. Она победительница и союзница американцев. Стало быть, они обязаны платить и помочь Италии стать на ноги (что, впрочем, американцы и сделали).
* * *
Заключительные стихи Римского Дневника вводят нас в последний период жизни Вячеслава, период, посвященный роману «Светомир».
О чем задумалася Дева, Главой склонившись на копье, Пойдем гадать. Ее запева Ждет баснословие твое.Все мысли, вся работа до самого последнего дня жизни были направлены на «Повесть о Светомире царевиче». Наряду с Вячеславом, им была всецело поглощена и жила им также и Ольга Александровна. Вячеслав охотно разговаривал о своем романе также с близкими и даже с далекими друзьями. Он читал отрывки его, делился своими творческими трудностями. По правде сказать, у него в Риме было очень мало русских друзей, проявляющих искренний интерес к его литературной деятельности и способных следовать за ее ходом; однако, он ценил и уважал тех, кого ему посылала судьба. Таким образом, часто устраивались интимные чтения, где два или три слушателя посвящались в последние приключения героев романа. Мы глубоко сожалеем о том, что эти чтения не были записаны на пленку. Ничто не может их описать: язык романа, который в чтении Вячеслава воспринимался как естественный, красивый, очень простой и ясный, как современная речь, в наши дни еще мало кем до конца понят. Как‑то раз я слышала попытку чтения повести, сделанную талантливейшим чтецом Романом Якобсоном, и со страхом услышала, что все выходит фальшиво. Дело в том, что Вячеслав, когда писал и читал Светомира, не стилизовал, а просто погружался в свой коренной, душевный, еще с младенчества сохраненный русский язык. Он искренно так думал, так любил, говорил и писал. Неплохо выходило чтение романа у Ольги Александровны. И здесь тоже непростительно, что мы все откладывали и так и не сделали ни одной записи на пленку.
Последний эпизод романа, написанный самим Вячеславом, — это письмо Иоанна Пресвитера. Здесь, однако, дело шло не о простом, естественном языке, а о форме языка совершенно своеобразной, над которой Вячеслав долго, упорно работал. Это был труд его самых последних дней.
Кто знает? Быть может, это произведение, такое прозрачное, бесхитростное, окажется самым трудным для понимания современников?
В последние годы Вячеслав становился все светлее, гармоничнее, проще. Он радовался всякому проявлению жизни: солнцу, Риму, ласковому движению, веселью и юмору. Его очень забавляло, когда я ему читала вслух английские романы, выпущенные издательством Таушниц; причем я передавала их по — русски, импровизируя перевод дословный и нарочито неуклюжий. Излишне говорить, что Вячеслав в переводе не нуждался, так как прекрасно владел английским языком, но такая игра его забавляла. Мы с ним читали таким образом и детективные романы[236]. Как всегда, он интересовался и требовал подробнейших отчетов о деятельности и моей и Диминой. Дима иногда приводил к нему какого‑нибудь друга. Вспоминается профессор лицея Шатобриана Дюмазе: милый и мрачный. По его поводу Вячеслав дивился:
— Французы были всегда веселыми. Я их такими помню. Переменились они, что ли?
Вячеслав очень любил разнообразных посетителей и горячо всеми интересовался. Часто по этому поводу случались маленькие стычки между ним и Фламинго. Ей хотелось тихо жить со своими проблемами, со своей работой, и никого не видеть. Главное — ей хотелось не расточать драгоценные часы, когда Вячеслав мог работать. А Вячеслав настаивал:
— Он просит, чтобы его приняли. Пускай приходит сегодня или завтра.
Фламинго противоречила, норовила хотя бы отложить визит до греческих календ. Оба были чрезвычайно упрямы. Но в этом деле выигрывал всегда Вячеслав: друг приходил и гостеприимная Фламинго готовила чай и искренно увлекалась дискуссиями.
В начале нашего пребывания на Авентине у Вячеслава неожиданно зародилась самая задушевная дружба с Татьяной Львовной Толстой, живущей рядом с нами. Она любила длинные прогулки и то и дело заходила по соседству к нам. Всегда одна, без сопровождения, бодрая, с палочкой в руке, она быстро всходила к нам на третий этаж и часто заставала нас сидящими за обедом вокруг нашего круглого стола.
— Трупы едите? — вопрошала она, завидев на тарелках мясо, и сразу начиналась шутливая полемика между дочерью Толстого — вегетарианкой, и Вячеславом — органическим приверженцем мясной пищи, ее «sweet heart’a». Они любили долго беседовать друг с другом. Татьяна Львовна, которая была художницей, сделала портрет Вячеслава[237]. Он посвятил ей стихи:
Татьяне Львовне Сухотиной — гр. Толстой
Гляжу с любовию на Вас, Дочь льва пустынного, с которым, Всю жизнь мою наполнив спором, Заспорю и в последний час. Завет подвижника высокий В душе свободной сохраня, Не провождаете Вы дня Без думы строгой и глубокой. Чист Ваш рисунок, свят рассказ, Прям неподкупный ум суждений; Но мне всего дороже гений, Разлитый в жизни Ваших глаз: Как будто Вам отец оставил Луч тех магических зерцал, В каких поэт все то восславил, Что́ столпник духа отрицал.27 апреля.
* * *
Вячеслав неизменно любил Рим и наслаждался им. Ничто его не пугало. Летом, когда жители только и мечтают выехать из раскаленного города, он предпочитал морю крошечную терраску свою, откуда в начале нашего пребывания виделся купол Святого Петра и куда можно было с трудом вдвинуть два стула.
Каникула, иль песья бесь… Стадами скучились народы: Не до приволья, не до моды. А встарь изнеженную спесь Она гнала в Эдем природы. Лишь ящерице любо здесь, В камнях растреснутых и зное. Да мне. О ласковом прибое Волны к отлогому песку Я не мечтаю в уголку Моей террасы отененной, На град взирая воспаленный.29 июля.
Той же летней порой постоянно случается еще худшая напасть: дует ветер «Сирокко». Он заволакивает все небо ровной серой пеленой, воздух делается раскаленным, сырым и одновременно пронзенным песком. Люди, мокрые от пота, изнывают от жажды. Вячеслав и это принимает: это тоже Рим, это тоже ему дорого. Он принимает все тягости своего любимого города: даже малярию, которой теперь больше нет здесь, но прежде она представляла серьезную опасность римского климата, в особенности в Кампанье, окружающей город, где Вячеслав ее и схватил во время своих романтических прогулок в молодости.
Все никнут — ропщут на широкко: Он давит грудь и воздух мглит. А мой пристрастный суд велит Его хвалить, хвалить барокко, Трастеверинцев соль и спесь, Их р раскатистое, твердо Меняющее сольдо в сордо[238], Цвет Тибра, Рима облик весь, — Чуть не малярию, с которой, Бредя «вне стен» из веси в весь, Я встарь спознался и доднесь Не развяжусь, полвека хворый.9 августа.
Рим и даже жара возбуждают в нем творчество. Как‑то раз к нему заскочил в комнату сверчок и долго жил у него, забравшись на край книжной полки у окна. Вячеслав был счастлив поселением этого стрекочущего обитателя знойных стран.
Укромной кельи домосед, За книжным поставцом отшельник, Будь песен общник и бесед, Сверчок, невидимый присельник! Соперник мой! Твой гимн, звеня Как степь, мое надменье малит. «Сверчок распелся — Бога хвалит» Не всуе молвится. Родня Домашним духам, стрекот мирный С моей сливая ленью лирной, Живи в почете близь меня.4 июля.
Несмотря на свою почти затворническую жизнь, Вячеслав принимал живое участие в окружающем его мире и, когда нужно было, выезжал из дома, например, по случаю выставок художника Белобородова, которого он ценил и любил. В другой раз он поехал на исключительно интересную «Выставку картин старых мастеров». Картины эти нашли убежище в «открытом городе» Риме, и должны были — по окончанию войны — вернуться в отдаленные музеи. Выставке посвящены в «Римском Дневнике 1944 г.» два стихотворения. Одно относится к «Снятию со креста» Мемлинга, другое к «Грозе» любимого Вячеславом Джорджоне (III, 641–642).
Был еще один особый случай. Наши дорогие друзья Мария Синьорелли и Луиджи Вольпичелли просили Вячеслава быть крестным отцом их новорожденной дочки Летиции. Церемония крестин была очень интимная и происходила в древней далекой церкви Сант — Аньезе. Помнится, это происходило на открытом воздухе или, быть может, в часовне. Дул ветерок. Вячеслав не только бодро выстоял всю службу, но всех удивил своим активным участием в обряде. Он поправлял священника, привыкшего проглатывать и свои молитвы и те, которым полагается быть произнесенными крестным отцом. Не обращая внимания ни на кого, Вячеслав прочел на безукоризненном латинском языке внятно и медленно все предписанное. Несколько позже он посетил дом Вольпичелли, где увидел свою крестницу и ее старшую сестру
Джузеппину, спящих в колыбелях. Им он посвятил стихи «В детский альбом»:
Alle sorelle Guiseppina e Letizia Volpicelli.
Ha языке иноплеменном Благославляю жизнь твою. Во сне младенчества блаженном Не знай, о чем тебе пою, Склоненный старец над постелью Твоей и маленькой сестры: Спешите, пробудясь, к веселью, Ловите райский луч игры! Весну гласят и свет и влага Глухим под глыбой семенам: Мы вестников не слышим блага, Уготовляемого нам. На языке, земле безвестном, Кто пел тебе в рожденья час? В круженье ангелов небесном Который молится за вас?* * *
Другие знаменательные выходы Вячеслава были вызваны итальянскими политическими событиями, за которыми он всегда с интересом следил. Каждый день, как только подходил час передачи новостей, слышался по всей квартире его громкий призыв:
— Радио! Радио!
Он требовал, чтобы все приходили и включали ему аппарат. Самому это сделать ему в голову не приходило, он этих новшеств сильно побаивался. Он ценил, что его, как итальянского гражданина, приглашают принимать участие в выборах. Ему пришлось голосовать дважды. 2 июня 1946 года был организован референдум. Дело шло о выборе между республикой и монархией. В тот же день происходили и выборы в учредительное собрание, на которых партия христианских демократов оказалась самой сильной. Другое голосование, в котором Вячеслав принимал участие, было 18 апреля 1948 года. Дело шло о выборах первого итальянского парламента новорожденной республики. На них партия христианских демократов оказалась победительницей и получила абсолютное большинство. Во время первых выборов в Италии были очень страстные споры, драки и даже убийства. Жители Сан Саба голосовали в школе на близкой от нас площади Ремуриа. Вячеслав, забрав палочку, мягкую соломенную шляпу и документы, отправлялся туда в сопровождении верной Фламинги. Фламинго не могла сама голосовать — она не захотела принять никакого чужого подданства, что создавало ей иной раз немало затруднений во время путешествий.
Появлялись новые посетители. Жак Маритен, которого генерал де Голль назначил послом в Ватикане, навестил Вячеслава со своей женой Раисой. Вячеслав был с ними много лет внутренне связан, но никогда с ним не встречался. Он был рад свиданию, которое подтвердило и углубило душевную дружбу его с философом и его женой — тонким поэтом. Жак Маритен был одним из тех французских мыслителей, под эгидой которых еще в тридцатые годы издавались и обсуждались произведения Вячеслава.
Неожиданно вскоре после войны появились на Авентине два оксфордских друга, Sir Maurice Bowra и Isaiah Berlin. Им давно хотелось познакомиться с Вячеславом. Баура, большой классический филолог, хорошо знал русский язык и писал о символистах. Вскоре было решено издать новый сборник стихов Вячеслава в знаменитом оксфордском издательстве Clarendon‑Press. Туда должны были войти все стихотворения, не появившиеся в предыдущих сборниках. Вячеслав сам с радостью занялся выбором стихов, распределением их по разным отделам, проверкой, правкой и переделкой некоторых пьес. Книга вышла уже после его смерти под им самим выбранным названием «Свет Вечерний»[239].
В 1947 г. неутомимый Ло Гатто попросил Вячеслава написать две статьи для проектируемых сборников. И этот «заказ», эта счастливая «Gelegenheit» в Гетевском смысле, побуждает Вячеслава обратиться в последний раз к центральным для него темам духовной жизни. Первая статья посвящена Лермонтову; вторая — ивановскому понятию «зиждительной формы» — forma formans[240]. Обе статьи касаются осторожно, как бы намеками, темы Софии, которая и центральная тема Светомира. «Стихотворение ”Ангел“ — вздох тоскующей души, помнящей песнь Ангела, несущего ее в мир, — свидетельствует, что семнадцатилетний автор был практически уже посвящен в учение о предсуществовании и анамнезисе. Мир ”Демона“, как мы пытались это показать, основан на внутреннем созерцании архетипа Небесной Девы, рожденной ”прежде всех век“ — ab aeterno. Таким образом, и Лермонтов, причастный к общему национальному наследию, косвенно входит в род верных Софии. Для всякого типично русского философа она, говоря словами Владимира Соловьева, является теандрической актуализацией всеединства; для всякого мистика земли русской она есть совершившееся единение твари со Словом Божиим и, как таковое, она не покидает этот мир и чистому глазу видна непосредственно»[241].
Вячеславу было радостно писать о любимом им Лермонтове. Это не отрывало его от работы над «Светомиром», а прямо вело к главному, пронизывающему всю его жизнь мотиву повести — благодатному действию для простого глаза невидимого Рая на земле:
…Говорит Адамовым чадам
Посхимненный Рай, затворенный:
— «Вы не плачьтесь, Адамовы чада:
Я не взят от земли на небо,
Не восхищен к престолу Господню
И родимой земли не покинул.
А цвету я от вас недалече,
За лазоревой тонкой завесой…[242]
* * *
В эти годы я продолжала работать в Американской Национальной Церкви как органист и капельмейстер. У меня, таким образом, был под моим управлением маленький хор (восемь человек), который я составила из молодых певцов последних курсов консерватории. Мы с ними устраивали концерты в Кастель Сант Анджело и на радио, и я имела возможность исполнять, таким образом, также и свою музыку. Вячеслав ею всегда интересовался и любил ее. Между прочим, он очень любил мой гимн для баса и органа, написанный на его слова «Breve aevum separatum» (Cor Ardens, II, 395)[243].
Я старалась несколько раз устраивать репетиции у себя дома, чтобы Вячеслав мог слышать пенье. Вспоминается милая чешка Даниэла Сикрова, которая всей душой пела своим чудным контральто мою молитву Богородице «Memorare» в коридоре перед комнатой Вячеслава, лежавшего у себя в постели. Вячеслав был счастлив. Быть может, он лежал от того, что ему нездоровилось, а может быть, просто работал, лежа в своем алькове, как он любил это делать, обложен подушками и закутан шерстью и шкурами; вокруг него груды рукописей и книг. Ему полезно было много лежать также из‑за хронического легкого флебита, который у него был в течение многих лет. Он работал иной раз за письменным столом (если нужно было что‑нибудь писать начисто — чернилами), а то — сидя в синем кресле под портретом мамы, сделанным Маргаритой Сабашниковой. За ним возвышался узкий шкапик, на котором часто умещалась наша кошка Белкис, внимательно следящая за писателем. Белкис двигалась с виртуозностью цирковой эквилибристки. На маленькой площадке стояли, кроме лампы, ряд глиняных колокольчиков; мы их покупали на ярмарке в ночь Ивана Купала, которая соответствует в Риме празднику Святого Иоанна, перед базиликой Сан Джованни.
Меня в эти последние годы не раз поражало внутреннее зрение Вячеслава. Войду к нему в комнату, иной раз полутемно, сам он близорук, — он взглянет с любовью и сразу замечает, какое у меня сейчас душевное настроение, какие у меня желания, намерения и даже как я одета.
Как‑то раз, еще до войны, когда мы вместе проводили лето в Альбано, близ Рима, я почувствовала себя очень грустной; я к нему зашла, ничего ему не сказала, он только взглянул на меня и говорит: «Поедем гулять куда‑нибудь, хочешь? Мне хочется поехать куда‑нибудь». По его предложению мы сели в загородный трамвай и поехали в соседний город Веллетри, где погуляли по главной площади и вернулись в наш Альбано. По дороге говорили всякие глупости и смеялись. Такая поездка была, конечно, против всех вкусов Вячеслава — убежденного домоседа, он это явно сделал в нужный момент для меня. Вспоминается, как однажды, по поводу каких‑то дискуссий (может быть, о Достоевском или о чем другом), он мне вдруг говорит:
— Слушай, что бы у тебя в жизни ни случилось, смотри! не допусти, чтобы у тебя зародилось подполье. Лучше сделай какую угодно глупость, но только не иди никогда в подполье!
За два — три месяца до смерти, когда Вячеслав чувствовал себя еще совсем хорошо, он меня позвал к себе, снял с пальца свое золотое кольцо. Это было кольцо, которым он обручился с мамой, сделанное по заказу в Париже. Кольцо дионисийское с чеканным золотым узором из виноградных гроздьев и листьев.
— Возьми его себе и никогда не снимай. Это единственный способ не потерять его. Другое с опалом принадлежало Лидии (моей маме). Я не хочу его тебе передавать, так как говорят, что опал приносит несчастье.
Тут у нас произошло маленькое недоразумение. Мне стало остро больно и страшно, что он говорит о своей смерти, и очевидно у меня сделалось почти враждебное выражение лица. Он его не понял и говорит Фламинго:
— Я ей дал кольцо, а оно ей не нравится. Это — самое дорогое, что у меня есть.
Вячеслав болел не долго. Восемь или десять последних дней у него появился кашель, немного повысилась температура, потом объявился бронхит и, может быть, плеврит. Но главное было в том, что организм быстро ослабевал, не реагировал больше на лекарства. Вячеслав лежал в постели, тихий, гармоничный, всем интересовался, на все радовался, с полной ясностью, даже, может быть, с повышенной деятельностью ума, и работал до последнего дня над своим Светомиром. По его желанию, за несколько дней до конца пришел к нему священник для исповеди и причастия. Это был его любимый, совсем простой и, казалось, наивный — но глубоко духовный отец Швейгель из Руссикума, который его регулярно посещал и до этого. Лечил его наш добрый и верный друг, профессор Анджело Синьорелли. Уходя от него за день до конца, он обратился к нам с Димой и сказал:
— Но paura che perderete il Babbo. (Боюсь, что вы потеряете вашего папу).
* * *
16 июля 1949 года был жаркий, ослепительный, летний римский день. Вячеслав впадал в забытье, как бы тихо засыпая. За час до смерти, когда я подошла к нему, он, не открывая глаз, ощутил, что я около него, и слабым, но еще покорным ему движением начал легко, легко гладить мне руку. Он умел любить. Любить до конца.
Он умер как бы сознательно, почти сознательно, уснул в три часа дня. Мы были все трое при нем: Дима, Фламинго и я. Он был уложен, как полагается, среди свечей и цветов в той же своей комнате — кабинете. Мы поочередно вслух читали псалтырь, который он так любил. В комнате была отслужена панихида. Приходили близкие друзья. На третий день были похороны. Гроб везли не на автомобиле, как теперь это делают, а на лошадях. Сначала заехали на короткую службу в приход Сан Саба, а затем мимо Палатина, Колизея, Целия к базилике Santa Maria Maggiore в храм Святого Антония, русскую католическую церковь. Там была отправлена длинная и очень торжественная служба с участием хора. И наконец направились на кладбище Верано, где совершилось отпевание.
Греческий Колледжио Святого Афанасия дал ему место в своем общем склепе. Он находится в центральной передней части кладбища, рядом со статуей Христа и совсем близко от стен базилики Сан Лоренцо. Около него растут кусты роз, а сверху большая мраморная плита с вырезанными на ней именами усопших, под ней похороненных. Перед именем Вячеслава стоит имя отца Ефрема де Брюнье, его большого друга, который был его духовником в первые годы нашей римской жизни[244].
В мае 1983 года, во время второго международного симпозиума, посвященного Вячеславу Иванову, была торжественно вставлена в стену нашего дома на улице Леона Баттиста Альберти, 25 мраморная доска с надписью по — русски и по — итальянски:
Русский поэт
Вячеслав Иванов
1866–1949
жил в этом доме последние годы своей жизни.
24 мая 1983 года
Римский городской Совет.
Итальянский текст читается:
Il poeta russo
VJACESLAV IVANOV
MDCCCLXVI — MCMXLIX
Trascorse in questa casa
gli ultimi anni della sua vita.
Roma 24 maggio 1983
Il commune pose.
Приложения
Автобиографическое письмо В. Иванова С. А. Венгерову
Русская литература XX века. 1890–1910. Под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III, кн. VIII, изд — во т — ва «Мир», М., [1916], с. 81–96.
Вот Вам, наконец, когда Вы уже изверились в силу моего обещания, досточтимый и долготерпеливый Семен Афанасьевич, не простая отписка, а добросовестная, — и, быть может, даже слишком пространная, — в прозе, которой Вы разрешили болтливость, и в стихах, законодателем не предусмотренных, — автобиографическая запись о том, как жизнь меня слагала; о том же, что мне удалось сложить из жизни, пусть судят другие, если им видна неконченная стройка из‑за неснятых лесов.
Отец мой был из нелюдимых,
Из одиноких — и невер.
Стеля по мхам болот родимых
Стальные цепи, землемер
(Ту груду звучную, чьи звенья
Досель из сумерек забвенья
Мерцают мне, чей странный вид
Все память смутную дивит), —
Схватил он семя злой чахотки,
Что в гроб его потом свела.
Мать разрешения ждала, —
И вышла из туманной лодки
На брег земного бытия
Изгнанница — душа моя.
Но я унаследовал черты душевного склада матери. Она оказала на меня всецело определяющее влияние. Я страстно ее любил и так тесно с нею сдружился, что ее жизнь, не раз пересказанная мне во всех подробностях, стала казаться мне, ребенку, пережитою мною самим.
Ей сельский иерей был дедом,
Отец же в Кремль ходил — в сенат.
Мне на Москве был в детстве ведом
Один, другой священник — брат
Ее двоюродный. По женской
Я линии — Преображенский,
И благолепие люблю,
И православную кутью.
Но сироту за дочь лелеять
Взялась немецкая чета:
К ним чтицей в дом вступила та.
Отрадно было старым сеять
Изящных чувств и мыслей сев
В мечты одной из русских дев.
А девой русскою по праву
Назваться мать моя могла:
Похожа поступью на паву —
Кровь с молоком — она цвела
Так женственно — благоуханно,
Как сердцу русскому желанно;
И косы темные до пят
Ей достигали. Говорят
Пустое все про «долгий волос»:
Разумницей была она
И Несмеяной прозвана.
К тому ж имела дивный голос:
«В театре ждали б вас венки», —
Так сетовали знатоки.
Немало лет прожила моя мать в благочестиво — чопорном, пиетистически — библейском доме престарелой и бездетной четы фон — Кеппенов; хозяин дома, брат известного академика, дерптский теолог, знаток еврейского языка и член Библейского общества, был в то же время главноуправляющим имений светлейшего князя Воронцова. По — немецки моя мать не научилась, — как не одолела никогда и отечественного правописания, — но стала любить и Библию, и Гете, и Бетховена и взлелеяла в душе идеал умственного трудолюбия и высокой образованности, который желала видеть непременно осуществленным в своем сыне. Хотелось ей также, чтобы ее будущий сын был поэт. Не даром в свои долгие девические годы наполняла она вороха тетрадей списанными стихами; кстати сказать, переписывала она что‑то и для молодого Островского и восхищалась «разборами» Белинского, с сестрой которого, по ее словам, водила знакомство. Она была пламенно религиозна; ежедневно, в течение всей жизни, читала Псалтирь, обливаясь слезами; видывала в знаменательные эпохи вещие сны и даже наяву имела видения; в жизнь вглядывалась с мистическим проникновением, но, при живой фантазии, мечтательствовать себе не позволяла и отличалась, по единогласному свидетельству всех, ее знавших, чрезвычайно трезвым, сильным и проницательным умом. Она боготворила царя — освободителя, была счастлива тем, что родилась в девятнадцатый день месяца февраля (1824), ненавидела нигилизм и отчасти славянофильствовала с оттенком либеральным, каковая приверженность идее славянства сказалась и в выборе моего имени. Помню, что в детстве заезжал к нам раз толстый барин, в голубой шелковой русской рубахе (по фамилии, кажется, Нащокин), и мы ездили с ним куда‑то в его карете, а потом мать объясняла мне, что это — «славянофил».
По смерти своих стариков мать моя уже не собиралась замуж, — ей было почти сорок лет, — а жила уединенно с нашею Татьянушкой:
Моей старушка стала няней,
И в памяти рассветно — ранней
Мерцает облик восковой.
Кивает няня головой, —
«А возле речки, возле моста —
Там шелкова растет трава…»
Седая никнет голова.
Очки поблескивают просто…
Но с детства я в простом ищу
Разгадки тайной — и грущу…
С Украйны девушкой дворовой
В немецкий дом привезена,
Дни довлачив до воли новой,
Пошла за матерью она.
Считала мать ее святою;
Ее Украйна золотою
Мне снилась: вечереет даль,
Колдует по степи печаль…
Тогда пришел к моей матери с обоими своими малолетними сыновьями отец мой, оставшийся вдовцом по смерти первой жены, незадолго до того покинувшей его и детей. Мать ее давно знала, пользовалась ее доверием, корила ее за легкомыслие и выслушивала ее жалобы на гордость, замкнутость, деспотизм отца, на его неуменье обеспечить семье достаток. Мальчики стали перед матерью на колени и просили ее «быть им мамой». Предложение было неожиданным, но она согласилась. Через год — 16 февраля 1866 года — я родился в собственном домике моих родителей, почти на окраине тогдашней Москвы, в Грузинах, на углу Волкова и Георгиевского переулков, насупротив ограды Зоологического сада.
Я с любовью отмечаю эти места, потому что с ними связаны первые впечатления моей жизни, сохраненные памятью в каком‑то волшебном озарении, — как будто тот слон, которого я завидел из наших окон в саду, ведомого по зеленой траве важными людьми в парчевых халатах, и тот носорог, на которого я подолгу глазел сквозь щели ветхого забора, волки, что выли в ближайшем нашем соседстве, и олени у канавы с черною водой, высокая береза нашего садика, окрестные пустыри и наш бело — пушистый дворик,
… седой, как лунь, Как одуванчик — только дунь, —остались навсегда в душе видениями утраченного рая. Бывал я по летам и в деревне, у сестер отца, живших в имениях своих мужей; но и сельские картины не могли затмить в моей душе красот однажды виденного Эдема.
Простудившись в пору моего появления на свет, отец мой бросил свое ремесло землемера и, лишь спустя значительный промежуток времени, поступил на службу в Контрольную Палату. Он был счастлив досугом, затворился в своей комнате —
И груду вольнодумных книг
Меж Богом и собой воздвиг…
И все в дому пошло неладно:
Мать говорлива и жива,
Отец угрюм, рассеян, жадно
Впивает мертвые слова —
И сердце женское их ложью
Умыслил совратить к безбожью.
Напрасно! Бредит Чарльз Дарвин;
И где ж причина всех причин,
Коль не Всевышний создал атом?
Апофеоза «протоплазм»
Внушает матери сарказм:
Назвать орангутанга братом —
Вот вздор! Мрачней осенних туч,
Он запирается на ключ.
Заветный ключ! Он с бранью тычет
Его в замок, когда седой
Стучится батюшка и причет —
Дом окропить святой водой.
Вы — Бюхнер, Молешотт и Штраус,
Товарищи недельных пауз
Пифагорейской тишины,
Одни затворнику верны, —
Пока безмолвия твердыня,
Веселостью осаждена,
Улыбкам женским не сдана.
Так благость Божья и гордыня
Боролись в ищущем уме:
Отец мой был не sieur Homais, —
Но века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип,
«Интеллигент», сиречь проклятых
Вопросов жертва — иль Эдип;
Быть может, искренней, народней
Других и про себя свободней:
Он всенощной от юных лет
Любил вечерний, тихий свет…
Но ненавидел суеверье
И всяческий клерикализм;
Здоровый чтил он эмпиризм:
Питай лишь мать к нему доверье,
Закон огня открылся б мне,
Когда б я пальцы сжег в огне…
Победа в этой борьбе осталась все же за матерью. Перед самою смертью, под влиянием особенных внутренних событий, отец мой обратился к вере с полною сознательностью и пламенностью чрезвычайной.
Мне было пять лет, когда он умер; я остался с матерью и няней; мои единокровные братья воспитывались в Межевом Институте; мы жили в маленькой квартирке на Патриарших Прудах. Мать воспитывала во мне поэта, показывала портреты Пушкина, гадала обо мне по Псалтырю и толковала мне слова о том, что псалмопевец был юнейшим среди братьев, и что руки его настроили псалтирь. Но еще при жизни отца я познал магию лермонтовских стихов («Спор», «Воздушный корабль»): они казались тем волшебнее, чем менее были понятны. На седьмом году глубоко потрясло и восхитило меня Уландово «Проклятие певца», стихотворный перевод которого я открыл в старинном журнале с картинками. Позднее над моею постелью оказался случайно приклеенным к обоям, верхом вниз, лоскуток печатной бумаги, на котором я разобрал пушкинскую оду «Пока не требует поэта»: постоянно перечитывать ее и не понимать было мне сладостно. О своем раннем развитии заключаю из отчетливых воспоминаний о взволнованных разговорах по поводу франко — прусской войны, из влюбленности в Пизанскую башню с ее окружением, из галлюцинаций, связанных с виденным, также на картинке, «Моисеем» Микельанджело. С семи лет меня начали обучать иностранным языкам и российской словесности. Учительницею моей была хорошенькая барышня, дочь нашего домовладельца; меня как‑то опьяняли ее свеженькое личико, ее голос, запах, от нее исходивший, и я мучительно ревновал к морскому офицеру, ее жениху.
Это была уже вторая моя влюбленность; предметом первой, носившей своеобразно — чувственный характер, была, годом раньше, маленькая подруга, с которою мы укрывались по темным комнатам от больших. От моей прекрасной наставницы узнал я не только о Ломоносове, но даже о Кантемире и на уроках прочитывал наизусть и с восторгом, вместе с отрывками из «Кавказского пленника» и с некрасовским «Власом», всю державинскую оду «Бог». По девятому году я посещал частную школу, устроенную не без притязаний на изысканность семьею нашего известного экономиста М. И. Туган — Барановского; братья Туганы, их двоюродный брат и я составляли высший класс и соревновали в писании романов. Туда принес я и свое стихотворение «Взятие Иерихона»; законоучитель прочел его всем детям; я познал одновременно и гордость литературного успеха, и обиду критических инсинуаций: глупенькая учительница заявила, что видела где‑то нечто подобное.
Мне было семь лет, когда мать велела мне читать по утрам акафисты; ежедневно прочитывали мы вместе по главе из Евангелия. Толковать евангельские слова мать считала безвкусным, но подчас мы спорили о том, какое место красивее. Так, мать особенно любила 12–ую главу от Матфея с приведенным в ней пророчеством Исаии («трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит»), а меня еще властительнее пленял конец 11–ой главы, где говорится о «легком иге». С той поры я полюбил Христа на всю жизнь. Эстетическое наивно переплеталось с религиозным и в наших маленьких паломничествах по обету пешком, летними вечерами, к Иверской или в Кремль, где мы с полным единодушием настроения предавались сладкому и жуткому очарованию полутемных старинных соборов с их таинственными гробницами. Чистому же художеству, о котором мать моя думала немало, часто вздыхая о том, что я, за недостатком средств, не обучаюсь необходимейшему на ее взгляд искусству — музыке, посвящали мы долгие часы совместных вечерних чтений. Так, медленно и с упоением — мне было тогда семь лет — прочитан был нами полный «Дон — Кихот». Рано познакомила меня мать и со своим любимцем — Диккенсом.
Детскими книгами она учила меня пренебрегать: Андерсен был в ее глазах книгою не детской; Робинзон был мною усвоен, одновременно с «Дон — Кихотом», в подлинной редакции; Жюль — Вернова поэма о капитане Немо была с восторгом мною изучена; десяти лет я увлекался «Разбойниками» Шиллера. Прибавлю, что мать ревниво ограждала меня от частых сношений с детьми соседей, находя их дурно воспитанными, и приучала стыдиться детских игр. Она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот «индивидуализм», с которым я должен был долго бороться в себе в гимназические годы, и тайные яды которого остались во мне действенными и в зрелую пору моей жизни.
Девяти лет я поступил приходящим учеником в приготовительный класс (где мне нечего было делать) московской Первой гимназии; выбор гимназии был также обусловлен соображениями эстетическими: она помещалась в красивом старом здании подле тогда еще не открытого храма Христа Спасителя. Поступление мое совпало с приездом в гимназию императора Александра II. Этот приезд отпечатлелся в моей памяти с такою точностью, что я до сих пор вижу в воображении тень от сабли идущего царя на залитой солнцем коридорной стене, возвестившую за миг его появление; он прошел через классную комнату, сказав: «здравствуйте, дети», — и так поглотил собою все окружающее, что я не видел никого из провожавшей его свиты. Первый учебный год я провел, по болезни, почти весь дома, а в следующем неожиданно был провозглашен «первым учеником», каковым и оставался до окончания курса. Тогда же круто изменился и мой нрав: из мальчика заносчивого и деспотического я сделался сдержанным и образцовым по корректности воспитанником, а также обособившимся и вначале даже нелюдимым товарищем.
Когда я был во втором классе, шла русско — турецкая война; мы с матерью были охвачены славянским энтузиазмом. К тому же оба мои брата, артиллерийские офицеры, были на войне, и один из них, ординарец при самом Скобелеве, приезжал на короткое время, по военному поручению, в Москву. Я посылал братьям в окопы письма, полные воинственно — патриотических стихов, которые признал через год детским лепетом. На открытии памятника Пушкину я стоял, с замиранием сердца, перед закутанною статуей в рядах гимназистов и был взят на торжественное заседание в университет. Эта пора была апогеем моей религиозности: я простаивал долгие часы по ночам перед иконою и засыпал от усталости на коленях. Мать была недовольна этими крайностями, но деятельно мне не препятствовала. Со страстью занимался я греческим языком за год до начала его преподавания. Перейдя в четвертый класс, уже давал уроки; а в пятом, внезапно и безболезненно, сознал себя крайним атеистом и революционером.
Этот переворот во мне произошел перед самою катастрофою первого марта. Все проклинали цареубийц; среди гимназистов устраивались, по слухам, добровольные союзы для наблюдения за политическою благонадежностью товарищей. Я терзался в душе, а порою и открыто гневался, слыша поносимые имена людей, которые уже были в моих глазах героями и мучениками. Во внешней жизни эта эпоха определилась для меня, как начало долгого и сурового труженичества. Я давал так много платных уроков, что имел свободу читать и думать только ночью. Учебными занятиями я мог пренебрегать: учителя тревожили меня единственно для разбора новых текстов à livre ouvert или для общих культурно — исторических характеристик, предоставляли мне погружаться за уроками в исправление товарищеских тетрадок, прощали погрешности в моих латинских и греческих работах за их общий прекрасный стиль и чувство языка и признавали мои русские «сочинения», всегда прочитываемые вслух матери, весьма чуткой к чистоте и красоте речи, образцовыми. Те же ученические сочинения, порой на скользкие для меня темы, возбуждали удивление друзей, посвященных в тайну моего миросозерцания, дипломатическою ловкостью, с которою я умел в них одновременно не выдавать и не предавать себя. Были среди товарищей и такие, которые упрекали меня в лицемерии, а в добрые минуты выражали уверенность, что в будущем я, в качестве политического борца, благородно оправдаю возлагаемые на меня надежды. Мать же была омрачена происшедшею во мне переменою, которой я от нее не таил, и в нашей тесной дружбе стала обоими мучительно ощущаться глубокая трещина. В ночные часы поглощал я груды подпольной литературы, где были и старый «Колокол», и трактаты Лассаля, и многие новейшие издания революционных партий.
Главный вопрос, меня мучивший, был вопрос об оправдании терроризма, как средства социальной революции; мое решение созрело лишь к концу гимназического курса и было определенно отрицательным. Что же до «чистого афеизма», «уроки» которого преподавал я устно и письменно одному любимому и замечательному товарищу, потом немало пострадавшему за свои политические убеждения, то мое вольнодумство обошлось мне самому не дешево: его последствиями были тяготевшее надо мною в течение нескольких лет пессимистическое уныние, страстное вожделение смерти, воспеваемой мною и в тогдашних стихах, и, наконец, детская попытка отравления доставшимися мне от отца ядовитыми красками в семнадцатилетнем возрасте. Примечательно, что моя любовь ко Христу и мечты о Нем не угасли, а даже разгорелись в пору моего безбожия. Он был и главным героем моих первых поэм («Иисус» — искушаемый в пустыне; «Легенда» — о еврейском мальчике в испанском готическом соборе). Страсть к Достоевскому питала это мистическое влечение, которое я искал примирить с философским отрицанием религии. Благотворным было для меня в эти годы сближение с одним товарищем — поэтом, по имени Калабин, который чистым ясновидением угадал во мне таящегося от мира поэта: читая мне без устали и нараспев стихи Пушкина и Лермонтова и указывая на «жесткие» строки в моих собственных произведениях, он разбудил и развил во мне мои первоначальные, детские лирические восторги.
Два года моего московского студенчества были временем смелого до чрезмерной самонадеянности подъема душевных сил. Жизнь аудиторий показалась мне на первых порах каким‑то священным пиршеством. Университет приветливо улыбнулся мне присуждением премии за работу по древним языкам. Я был историк: последовать добрым советам директора гимназии и поехать стипендиатом в лейпцигский филологический семинарий казалось мне предосудительною уступкою реакции; через историю мечтал я самостоятельно овладеть проблемами общественности и найти путь к общественному действию. Ключевский меня пленил; П. Г. Виноградов давал мне из своей библиотеки, для подготовки к задуманному сочинению, немецкие книги. Я посещал только избранные лекции и много времени проводил у своего друга, А. М. Дмитриевского, полного тех же стремлений, что я сам. В последнем классе гимназии мы с ним сообща перевели русскими триметрами отрывок из «Эдипа — царя», теперь же вместе прилежно читали французские томы В. И. Герье. Он собирался посвятить себя истории русского крестьянства и все знал и усваивал себе основательнее меня. При взгляде на него мне вспоминались строки:
Горел получночной лампадой
Перед святынею добра.
В промежутки между нашими занятиями его мать играла нам Бетховена, сестра — консерваторка также исполняла на рояле какую‑нибудь классическую вещь или пела песни Шуберта и Шумана. Мы усердно посещали с нею концерты. Я страстно в нее влюбился, и через год было между нами решено, что я женюсь на ней, и мы уедем учиться в Германию. На родине мне не сиделось: было душно и жутко. Дальнейшее политическое бездействие — в случае, если бы я остался в России — представлялось мне нравственною невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность; но ей я уже не верил. Я писал тогда:
О, мой народ! Чем жертвовать тебе?
Чего молить? Не новых приношений
В отчаяньи возросших поколений!..
Напрасны «жертвы», зло одними нашими усилиями неодолимо:
Не сокрушить его слепой борьбе,
Пока молчат твои святые грозы…
Свое последнее лето в России я проводил в подмосковном имении братьев Головиных, где приготовлял к шестому классу лицея младшего брата Павла, рано умершего юношу — поэта, и немного занимался по — гречески с другим братом, лицеистом старшего класса, Федором Александровичем (впоследствии председателем второй Государственной Думы), с которым по сей день связан взаимною сердечною приязнью. Я сгорал в то лето какою‑то лихорадкою дерзновения и счастия, писал с каждою почтой своей будущей жене и ее брату и получал от них письма, бродил ночами по лесу и вырезал на деревянной стене своей комнаты строки из «Фауста»:
Vernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu blühn;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach des Lebens Quelle hin.
Этими «источниками жизни» представлялись мне, в нераздельном слиянии, любовь и «страна святых чудес» — Запад. Головины похитили мои рукописи, и во мне был разоблачен не только поэт, но и поэт — символист, хотя слова «символизм», в смысле литературного направления, никто из нас не знал. А именно один молодой человек из нашей компании (дело было лунною ночью, мы лежали на стогу сена), разбирая мои стихи, сделал открытие, что я изображаю природу не так, как другие, и не так, как ему лично нравится, но влагаю в изображаемое какой‑то особенный, тайный смысл.
Мои профессора расстались со мною, по окончании второго курса, весьма благожелательно: В. И. Герье нашел мое решение учиться в Германии разумным; проф. Зубков (покойный) дал мне в Бонн к Бюхелеру и Узенеру рекомендательные письма (увы, я ими не воспользовался, далеко обегая свою суженую и избранницу сердца — античную филологию), П. Г. Виноградов выработал для меня программу последовательных занятий у Гизебрехта, Зома и Моммзена. С родиною я простился следующим Farewell, показывающим, до какой степени еще и тогда я был ребенком:
Куда идти? Кругом лежал туман;
Во мгле стопа неверная скользила.
И вот — бойцы; вот — кровь их свежих ран;
Вот — свежая насыпана могила…
И ты ль пойдешь на темный вражий стан?
В тебе ль живет божественная сила?
Ты ль — сумрачный грядущий великан,
Чье на небе заблещет вдруг светило?..
И я был слаб и беден в этот миг:
Я головой смущенною поник,
Но с верою покинул край родимый.
Я верою пошел руководимый,
Дабы найти в пыли священных книг
Волшебный щит и меч неодолимый.
Германия встретила нас еще на море доносившимся с берега благоуханием цветущих лип. Вскоре я увидел и прирейнские замки, и готические соборы, и Сикстинскую Мадонну, и трирскую Porta Nigra. Потом мы поселились в берлинской мансарде. Первый семестр (с осени 1886 г.) ушел на усвоение языка. В конце второго я представил Моммзену исследованьице о податном устройстве римского Египта и был им ласково ободрен. Он позвал участников семинария ужинать в свою «тесненькую» виллу и там спросил меня, остаюсь ли я на более долгое время в Берлине; я сказал, что желал бы, но боюсь, что вспыхнет война; «мы не так злы (wir sind nicht so böse)», был ответ. Я восхищался каждым, всегда внезапным и нетерпеливым, движением этого тщедушного и огненного старика, в котором мысль и воля сливались в одну горящую энергию, каждою вспышкою его гениального и холерического ума. Вот несколько строк о нем из моего стихотворного дневника:
В сей день счастливый Моммзен едкий
Меня с улыбкой похвалил.
Он Ювенала очертил
Характеристикою меткой,
Тревожил искры старых глаз
И кудрями седыми тряс.
Нередко и на лекциях (по эпиграфике и государственному праву), и в беседе с участниками семинария обращался он к своей постоянной мысли о том, что вскоре должен наступить период варварства, что надлежит спешить с завершением огромных работ, предпринятых гуманизмом девятнадцатого века; о причинах же предстоящего одичания Европы ничего не говорил. Начались мои блуждания в области исторических проблем, удалявшие меня от того, к чему лежало мое сердце, — от изучения эллинской души. Так, я занимался равенским экзархатом и представил проф. Бреслау первую часть большого исследования о византийских учреждениях в южной Италии. Правда, я не пренебрегал вовсе и филологией (критические анализы Фалена меня увлекали, тогда как Кирхгоф был скучен; дискуссии у Гюбнера велись по — латыни), а равно слушал философию и разбирал Метафизику Аристотеля у Целлера, посещал музеи с Курциусом, работал по латинской и греческой палеографии с Ваттенбахом, проходил политическую экономию у Шмоллера. Наконец, П. Г. Виноградов, со мною переписывавшийся, приехав однажды в Берлин, разрешил меня от послушания исторической науке и определенно посоветовал отдаться филологии, продолжая, однако, работать у Моммзена: он надеялся, что я буду совмещать в Москве филологическую доцентуру с преподаванием римской истории[245]. Через год О. Гиршфельд признал «солидною работой» первый набросок моей будущей диссертации (De societatibus vectigaluim). Тот же вопрос о государственных откупах, но уже не в римской республике, а за время империи (эта часть, бо́льшая первой по объему, не была мною позднее переработана и не вошла в мою латинскую диссертацию) я разрабатывал далее в семинарии Моммзена, который заводил серьезнейшие и опаснейшие диспуты с более зрелыми учениками, среди которых вспоминаю Мюнцера (ныне профессора в Базеле), П. Мейера (проф. в Берлине), знаменитого впоследствии бельгийца Ф. Кюмона, выступавшего у нас с своими первыми опытами о распространении религии Митры в римском мире. Рядом с научными занятиями шли у меня занятия для заработка: сначала — литературная обработка доставляемого мне материала по международной политике для одного корреспонденческого бюро, потом — частное секретарство у агента нашего министерства финансов, камергера Куманина, ныне покойного доброго друга моей юности. Немало было у меня и знакомств среди молодых русских ученых, работавших в Берлине. Помню празднование Татьянина дня в отдельном кабинете ресторана с П. Г. Виноградовым, кн. С. Н. Трубецким, А. И. Гучковым, В. В. Татариновым (учеником Виноградова) и проф. Гатцуком.
Как только я очутился за рубежом, забродили во мне искания мистические, и пробудилась потребность сознать Россию в ее идее. Я принялся изучать Вл. Соловьева и Хомякова. По отношению же к германству сразу и навсегда определились мои притяжения и отталкивания, грани любви и ненависти. Я упивался многотомным Гете, с любовью углублялся в Шопенгауера, ничего не знал на свете усладительнее и духовно — содержательнее немецкой классической музыки и отчетливо видел общую форсировку, надутое безвкусие и обезличивающую силу новейшей немецкой культуры, мещанство духа, в которое выродилась протестантская мысль, стоявшая передо мною в лице тюбингенца и Штраусова друга — Целлера, — наконец, протестантски — националистическую фальсификацию истории.
С недоумением наблюдал я, что государственность может служить источником высочайшего пафоса даже для столь свободного и свободолюбивого человека, как Моммзен; но истинным талантам старого поколения я многое прощал, как и самому Трейчке я прощал его крайний шовинизм за подлинный жар его благородного красноречия. Зато самодовольный и все же ненасыщенный национализм последнего чекана, который кишел и шипел вокруг клубами крупных и мелких змей, был мне отвратителен. По случаю отставки Бисмарка, ознаменовавшей собою «новый курс», я написал сонет, где уподоблял молодого императора Фаэтону, самонадеянная дерзость которого должна повлечь за собою мировой пожар и гибель его виновника. Несколько стихотворений из поры моего берлинского студенчества вошли переработанными в мой первый сборник.
Отмечу для характеристики внутреннего перелома, которым сопровождалось мое переселение за границу, что в 1889 г., в год парижской всемирной выставки, которую я клеймил, как «юбилей секиры», написал я длинное послание к брату жены о теургической задаче искусства с характеристиками и Гесиода, и древнего синкретизма, и искусства катакомб, и романских церквей, и готического стиля, и Рафаэля, и современного притязательного ничтожества; главная мысль содержалась в следующих стихах:
В те дни, как племена, готовя смерть и брани,
Стоят, ополчены, в необозримом стане,
И точат нищие на богача топор,
И всяк — соперник всем, и делит всех раздор,
Когда, как торгаши, тому хотим лишь верить,
Что можем мерою ходячею измерить, —
Христово царствие теперь ли призывать?
Но волен жрец искусств: ему дано воззвать, —
Да прозвучит в ушах и родственно и ново —
Вселенской Общины спасительное слово.
В 1891 г., отбыв в Берлине девять семестров и напутствуемый наставлениями Гиршфельда тщательно передумать и изложить по латыни свою диссертацию, а также хорошо изучить Лувр, я отправился в Париж с томиками Ницше, о котором начинали говорить. Мы поселились вблизи Национальной Библиотеки у одного chef d’institution и officier d’Académie, под руководством которого я в течение почти года ежедневно упражнялся во французской стилистике. Тогда же в первый раз побывал я на короткое время в Англии. В парижской Национальной библиотеке, правильно мною посещаемой, познакомился я с И. М. Гревсом; за сближением на почве общих занятий римскою историей последовала и душевная дружба. Он властно указал мне ехать в Рим, к которому я считал себя не довольно подготовленным; я по сей день благодарен ему за то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекавшее от избытка благоговейных чувств к Вечному городу, со всем тем, что должно было там открыться. Ни с чем не сравнимы были впечатления этой весенней поездки в Италию через долину разлившейся Роны, через Арль, Ним, Оранж с их древними развалинами, через Марсель, Ментону и Геную. После краткого предварительного пребывания в Риме мы пустились в путь дальше, на Неаполь, и объездили Сицилию, после чего надолго сели в Риме, деля всецело жизнь одной простой итальянской семьи, так что на третий год этой жизни могли считать себя до некоторой степени римлянами. Я посещал германский Археологический институт, участвовал вместе с его питомцами («ragazzi Capitolini») в обходах древностей, думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессиливал вследствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашенинникова, М. Н. Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбахера, славного Дж. Б. де — Росси) и с художниками (братья Сведомские, Риццони, Нестеров, подвижник катакомб — Рейман).
Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне — жестоко и ответственно, но, по совести правильно — решить представший мне в 1895 г. выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившей меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью. Я прямо сказал обо всем жене, и между нами был решен развод. Прежде чем были устранены многие препятствия, стоявшие на пути к нашему браку, я и Л. Д. Зиновьева — Аннибал должны были несколько лет скрывать свою связь и скитаться по Италии, Швейцарии и Франции. Друг через друга нашли мы — каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога. Встреча с нею была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней: всю нашу совместную жизнь, полную глубоких внутренних событий, можно без преувеличений назвать для нас обоих порою почти непрерывного вдохновения и напряженного духовного горения.
Между тем моя первая жена, без моего ведома, принесла Вл. Соловьеву на суд мои стихи. Он нашел в них «главное», как он говорил, — «безусловную самобытность», а о моем «ницшеанстве» предрек, что на нем я не остановлюсь. Я был обрадован телеграммой о его сочувствии и желании, с моего разрешения, отдать мои стихи в журналы. С тех пор, в течение нескольких лет, я имел с ним важные для меня свидания, всякий раз как приезжал в Россию. Он был и покровителем моей музы, и исповедником моего сердца. В последний раз я виделся с ним месяца за два до его кончины и принял его благословение дать своей первой книге заглавие: «Кормчие Звезды»[246]. Мать моя умерла в 1896 г.; разрыв мой с первою женой от нее старательно скрывали, но она все угадывала и страдала, хотя ранний брак мой с самого начала был ей не по сердцу.
Что до моей диссертации, она была представлена в Берлине, и вскоре Гиршфельд обрадовал меня новогодним приветом (1896 г.), присланным в Париж, с припиской, что Моммзен высказался о ней очень благоприятно («sehr günstig beurtheilt»), и что сам он к его оценке в факультете присоединился. Каково же было мое разочарование, когда, явившись через несколько месяцев к Моммзену, вышедшему ко мне в халатике, я услышал от него: «Вашею работою я собственно недоволен; через несколько лет вы напишете нечто лучшее». После чего он дал мне свою визитную карточку с просьбой к декану факультета показать мне его отчет. Новое удивление испытал я, найдя в отчете щедрые похвалы, кончавшиеся заявлением — «um nicht Superlative zu gebrauchen», — что диссертация далеко выходит за обычный уровень и написана «diligenter et subtiliter»; следовала детальная полемика с моею теорией (о societas publicanorum), имевшей ту особенность, что она противоречила его собственной. Мне оставалось явиться на экзамен, который, по уверениям Гиршфельда и намеку самого Моммзена, был бы простою формальностью; Гиршфельд убеждал меня также по получении докторской степени «габилитироваться» в Германии приват — доцентом. Но на испытание мне никогда не суждено было предстать: ревностное изучение специальных исследований и толстых книг, вроде «Государственного Права» Моммзена, не обеспечивало меня от возможности промахов в ответе на какие‑нибудь вопросы порядка элементарного, а мое самолюбие с этою возможностью не мирилось. Да и не тем уже в то время сердце полно было.
Рима, однако, я не оставлял для эллинства и за почти годичное пребывание в Англии усердно собирал, в лондонской Reading Room при Британском музее, материалы для исследования религиозно — исторических корней римской веры во вселенскую миссию Рима. Зато в Афинах, где я пробыл год, я уже всецело предаюсь изучению религии Диониса. Это изучение было подсказано настойчивою внутреннею потребностью: преодолеть Ницше в сфере вопросов религиозного сознания я мог только этим путем. Из Афин мы ездили с Л. Д. Зиновьевой — Аннибал на пасху в Палестину и посетили по пути Александрию и Каир. После этой поездки я заболел в Афинах тифом в столь длительной и опасной форме, что врачи почти уже отчаивались в моем выздоровлении.
Думая о возможной смерти, которая сама по себе всегда была мне желанна, я радовался, что оставляю по себе «Кормчие Звезды»: книга печаталась в России. В 1903 г. я читал курс лекций о Дионисе в парижской Высшей школе общественных наук, устроенной М. М. Ковалевским для русских. Инициатором этого приглашения был покойный И. И. Щукин; с покойным М. М. Ковалевским связала меня с тех пор глубокая приязнь. Там я познакомился с пришедшим на мою лекцию Валерием Брюсовым, уже рецензировавшим мою книгу стихов. Мережковский писал мне, прося дать лекции о Дионисе в «Новый Путь». В следующем году мы с женою познакомились с московскими поэтами, — Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис признали меня торжественно «настоящим», и торжественно же мы побратались, — а вслед затем и с петербургским кружком «Нового Пути». В 1905 г. мы, покинув Женеву, где я продолжал работать над Дионисом и учился санскриту у де — Соссюра, поселились в Петербурге. Осенью 1907 г. умерла после семидневной болезни (скарлатины) в деревне Загорье Могилевской губернии Л. Д. Зиновьева — Аннибал. Что это значило для меня, знает тот, для кого моя лирика не мертвые иероглифы; он знает, почему я жив и чем жив.
Я посвящал в последующие годы много усилий делу петербургского Религиозно — философского общества, а также делу Общества ревнителей художественного слова, основанного покойным Иннокентием Анненским, С. К. Маковским и мною, и в течение двух лет был преемником Анненского в качестве преподавателя греческой и римской литературы на Высших женских курсах Раева. В 1912 г. я закончил в Риме исследования об отдельных проблемах религии Диониса, которые медленно печатаются и выйдут в свет вместе с общим очерком, каковой представляют собою статьи в «Новом Пути» и в «Вопросах Жизни». Так же исподволь печатаются и «Лира Новалиса» в моем переложении, и монография «Эпос и начало трагедии», и лирическая трилогия «Человек», и статьи о Скрябине, дружба с которым в два последние года его жизни была глубоко значительным и светлым событием на путях моего духа, и, наконец, книга статей «Родное и Вселенское», выражающая мое религиозно — общественное самоопределение, каким я обрел его в себе в эти трагические годы. В настоящее время я занят преимущественно переводами трагедий Эсхила и «Новой Жизни» Данта. В заключение прибавлю, что я не упоминаю некоторых важнейших для меня и дорогих имен, или потому, что они связаны с внутренними событиями, говорить о которых здесь не место, или же по той общей причине, что жизнь моя со времени переселения в Россию вовсе не рассказана в этом очерке.
Сочи, январь — февраль 1917 г.
Николай Бердяев «Ивановские среды»
Впервые: Русская литература XX века. 1890–1910, под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III, кн. VIII, изд — во т — ва «Мир», М., [1917], с. 97–100. В статье «Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал ”Путь“ (К десятилетию ”Пути“)», «Путь», [Париж], № 49, октябрь — декабрь 1935, Бердяев назвал Иванова «самым утонченным и универсальным по духу представителем не только русской культуры начала XX в., но может быть вообще русской культуры» (с. 9). Об Иванове и «башне» см. также воспоминания Бердяева Самопознание, Париж, 1983, с. 176–179.
Осенью 1905 года Вячеслав Иванович Иванов и покойная жена его Лидия Дмитриевна Зиновьева — Аннибал устроили у себя на «башне», — так называлась квартира их на Таврической на шестом этаже, — журфиксы по средам. Вначале это были скромные собрания друзей и близких знакомых из литературного мира. Ивановы недавно переехали в Петроград из‑за границы и завязывали литературные связи. Но как‑то сразу сумели они создать вокруг себя особенную атмосферу и привлечь людей самых различных душевных складов и направлений. Это была атмосфера особенной интимности, сгущенная, но совершенно лишенная духа сектантства и исключительности. Поистине В. И. Иванов и Л. Д. Зиновьева — Аннибал обладали даром общения с людьми, даром притяжения людей и их взаимного соединения. Много талантливой энергии тратили они на людей, много внимания уделяли каждому человеку, заинтересовывались каждым в отдельности и заинтересовывали каждого собой, вводили в свою атмосферу, в круг своих исканий. Сразу же выяснилось, что В. И. Иванов не только поэт, но и ученый, мыслитель мистически настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов. Всегда поражала меня в Вяч. Иванове эта необыкновенная способность с каждым говорить на те темы, которые его более всего интересуют — с ученым о его науке, с художником о живописи, с музыкантом о музыке, с актером о театре, с общественным деятелем об общественных вопросах. Но это было не только приспособление к людям, не только гибкость и пластичность, не только светскость, которая в В. Иванове поистине изумительна, — это был также дар незаметно вводить каждого в атмосферу своих интересов, своих тем, своих поэтических или мистических переживаний, через путь, которым каждый идет в жизни. В. Иванов никогда не обострял никаких разногласий, не вел резких споров, он всегда искал сближений и соединений разных людей и разных направлений, любил вырабатывать общие платформы. Он мастерски ставил вопросы, провоцировал у разных людей идейные и интимные признания. Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозион, всегда призывал он Эрос. «Соборность» — излюбленный его лозунг. Все эти свойства очень благоприятны для образования центра, духовной лаборатории, в которой сталкивались и формировались разные идейные и литературные течения. И скоро журфиксы по средам превратились в известные всему Петрограду, и даже не одному Петрограду, «Ивановские среды», о которых слагались целые легенды. Все увеличивалось число лиц, посещавших среды, и беседы становились планомерными, с председателем, с определенными темами. Душой, психеей «Ивановских сред» была Л. Д. Зиновьева — Аннибал. Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало все наше общение, все наши разговоры. Л. Д. Зиновьева — Аннибал была совсем иной натурой, чем Вяч. Иванов, более дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной, вечно толкающей вперед и ввысь. Такая женская стихия в соединении с утонченным академизмом Вяч. Иванова, слишком многое принимающего и совмещающего в себе, с трудом уловимого в своей единственной и последней вере, образовывала талантливую, поэтически претворенную атмосферу общения, никого и ничего из себя не извергавшую и не отталкивающую. Три года продолжались эти «среды», отвечавшие назревшей культурной потребности, все расширялись и претерпевали разные изменения. Я, кажется, не пропустил ни одной «среды» и был несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях.
На «Ивановских средах» встречались люди очень разных даров, положений и направлений. Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора — академики, неохристиане и социал — демократы, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные деятели, — все мирно сходились на Ивановской башне и мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные, о литературной злобе дня и о последних, конечных проблемах бытия. Но преобладал тон и стиль мистический. Сразу же создалась атмосфера, в которой очень легко говорилось. В постановке тем и в характере, который приняло их обсуждение, быть может, не хватало жизненной остроты, и никто не думал, что речь идет о самых жизненных его интересах. Но образовалась утонченная культурная лаборатория, место встречи разных идейных течений, и это был факт, имевший значение в нашей идейной и литературной истории. Многое зарождалось и выявлялось в атмосфере этих собеседований. Мистический анархизм, мистический реализм, символизм, оккультизм, неохристианство, — все эти течения обозначались на средах, имели своих представителей. Темы, связанные с этими течениями, всегда ставились на обсуждение. Но ошибочно было бы смотреть на среды, как на религиозно — философские собрания. Это не было местом религиозных исканий.
Это была сфера культуры, литературы, но с уклоном к предельному. Мистические и религиозные темы ставились скорее, как темы культурные, литературные, чем жизненные. Многие подходили к религиозным темам со стороны историко — культурной, эстетической, археологической. Мистика была новью для русских культурных людей, и в подходе к ней чувствовался недостаток опыта и знания, слишком литературное к ней отношение. То было время духовного кризиса и идейного перелома в русском обществе, в наиболее культурном его слое. На «среды» ходили люди, которые группировались вокруг журналов нового направления — «Мира искусства», «Нового пути», «Вопросов жизни», «Весов». Повышался уровень нашей эстетической культуры, загоралось сознание огромного значения искусства для русского возрождения. И как‑то сразу же русское литературно — художественное движение соприкоснулось с движением религиозно — философским.
В лице Вяч. Иванова оба течения были слиты в одном образе, и это соприкосновение разных сторон русской духовной жизни все время чувствовалось «на средах». Но ничего не было узко кружкового, сектантского. В беседах находили себе место и люди другого духа, позитивисты, любившие поэзию, марксисты со вкусами к литературе. Вспоминаю беседу об Эросе, одну из центральных тем «сред». Образовался настоящий симпозион, и речи о любви произносили столь различные люди, как сам хозяин Вячеслав Иванов, приехавший из Москвы Андрей Белый и изящный проф. Ф. Ф. Зелинский, и А. Луначарский, видевший в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса, и один материалист, который ничего не признавал, кроме физиологических процессов. Но господствовали символисты и философы религиозного направления. Частыми посетителями и участниками собеседований по средам были Е. Аничков, М. Волошин, Л. Габрилович, проф. Ф. Зелинский, Вяч. Г. Каратыгин, проф. Н. Котляревский, В. Мейерхольд, В. Нувель, проф. М. Ростовцев, Ф. Сологуб, Г. Чулков, К. Сюнненберг. Часто бывали, но сравнительно редко говорили А. Блок, Бакст, Добужинский, С. Городецкий, М. Кузмин, К. Сомов, А. Ремизов, П. Соловьев. Реже можно было встретить Д. Мережковского, З. Гиппиус, Д. Философова, А. Карташева, а также В. Розанова. Нередко среды были посвящены поэзии, и многие молодые поэты впервые читали там свои стихи.
Собрания по средам постепенно начали расширяться, появлялись все новые и новые люди. В Петрограде много говорили об «Ивановских средах», они вызывали к себе интерес в разных кругах, иногда очень далеких. На одной из сред, когда собралось человек 60 поэтов, художников, артистов, мыслителей, ученых, мирно беседовавших на утонченные культурные темы, вошел чиновник охранного отделения в сопровождении целого наряда солдат, которые с ружьями и штыками разместились около всех дверей. Почти целую ночь продолжался обыск, в результате которого нежданным гостям пришлось признать свою ошибку. В эту ночь из передней пропала шапка Мережковского, который написал на эту тему статью в газете. Политики на «средах» не было, несмотря на бушевавшую вокруг революцию. Но дионисическая общественная атмосфера отражалась на «средах». В другую эпоху «среды» были бы невозможны. На третий год своего существования собрания по средам начали вырождаться, они потеряли свой интимный характер и стали слишком многолюдными. В последнюю зиму начало бывать много артистов нового театра Комиссаржевской, много молодежи, бывали люди, совсем неизвестные хозяевам, и собеседования потеряли свой прежний характер. Л. Д. Зиновьева — Аннибал заболела в эту зиму воспалением легких и лежала в лечебнице. «Среды» не могли продолжаться в ее отсутствии. Но весной, когда Л. Д. вернулась на башню и совсем еще слабая лежала в кресле, еще несколько раз собирались по средам. Но чувствовался конец. «Среды» умирали. Скоро умерла и душа их.
«Среды» продолжались три года. За это время много было событий. Мы собирались и беседовали в исторический 1905 год. Но и в этой исключительно напряженной революционно — политической атмосфере, когда большинство было исключительно поглощено политикой, на «средах» утверждались и отстаивались ценности духовной творческой жизни, поэзии, искусства, философии, мистики, религии. В этих собеседованиях мы себя не чувствовали оторванными от жизни. В них чувствовалась стихия расковывающая и освобождающая. Потом начался другой период русской жизни. Многое было углублено. Все дифференцировалось по разным направлениям и сферам творчества. Сознание очень выросло с того времени. Новая поэзия, новое искусство были признаны и вошли в общую культуру. Религиозно — философские течения углубились. Но в атмосфере, в которой происходили собеседования по средам, было что‑то молодое, зачинающее, возбуждающее. И «среды» навсегда останутся ярким эпизодом нашего культурного развития.
М. Чарный Неожиданная встреча (Вячеслав Иванов в Риме)
В 1937 году я приехал из Италии в Москву в очередной отпуск. Прогуливаясь по улице Горького, где‑то на подъеме около Моссовета, я увидел высокого и худого человека. Это был поэт Сергей Городецкий.
Впервые — «Вопросы Литературы», № 3, 1966, с. 194–199. Маркус Борисович Чарный (р. 1901) — журналист, критик, член КПСС с 1920, окончил Московский Ин — т журналистики (1922).
С Городецким мы были знакомы чуть ли не с 1921 г., когда он вернулся в Москву откуда‑то с востока, кажется, из Персии. Он дружески относился к моим первым литературным опытам; я бывал у него на квартире напротив Исторического музея, в старинном доме, где жил когда‑то, если не ошибаюсь, Борис Годунов.
— Что‑то давно я вас не видел, — сказал Сергей Митрофанович.
— Не удивительно… — ответил я. — Ведь я работаю сейчас за границей.
— Где же это?
— В Риме.
— В Риме? — переспросил Сергей Митрофанович и тотчас же добавил: — Так вы, вероятно, видели Вячеслава Иванова, как он там?
— Какого Вячеслава Иванова?
— Того самого… поэта… Он давно уже в Риме, да говорят, он в Ватикане чуть ли не кардинал…
Вячеслав Иванов… Хотя в начале 20–х годов я видел и слышал в Москве Валерия Брюсова и передо мной стоял Сергей Городецкий, один из виднейших поэтов дореволюционной России, но Вячеслав Иванов… этот поэт и теоретик символизма, жрец эстетизма… Имя его звучало почти так же далеко, недоступно, как в те годы, когда я был пензенским гимназистом. Оно как бы вернулось ко мне из истории литературы…
Я ответил, что за два с лишним года пребывания в Риме о Вячеславе Иванове не слышал.
— Как же так… — удивился Городецкий, — мне совершенно точно говорили, что он там… Неужели умер?
Еще в середине 20–х годов Вячеслав Иванов был в Советском Союзе, потом с советским паспортом выехал за границу. Время от времени о нем доходили вести в Москву, и старые литераторы считали, что он живет в Риме и в своем мистическом рвении дошел до того, что даже, как говорят, стал кардиналом…
Версию о кардинале я сразу же поставил под сомнение. За годы жизни в Риме я успел уже кое‑что узнать о жизни Ватикана и его нравах, и путь русского поэта, пусть и мистика, к мантии кардинала представлялся мне невероятным даже в наше время всяческих чудес и превращений.
— А вы все‑таки проверьте, — убеждал меня Сергей Митрофанович.
Вернувшись в Рим, я рассказал об этом разговоре нашему полномочному представителю, как тогда назывались советские послы за границей.
Нет, и полпред ничего не слышал о пребывании в Риме Вячеслава Иванова. «Все‑таки надо проверить…» — сказал он и направил меня к консулу. Консул тоже ничего как будто не знал о Вячеславе Иванове, но стал рыться в ящике, содержавшем картотеку советских граждан. Дело в том, что, помимо небольшой группы работников разных советских учреждений, в Италии находилось некоторое количество людей самой разнообразной биографии, имевших советское гражданство. Тут были эмигранты еще дореволюционных времен, почему‑либо застрявшие в стране, католические монахини русского происхождения, желающие сохранять паспорт своей родины, учащиеся художественных академий и другие.
— Да… — не без изумления сказал консул и вытащил карточку, на которой отчетливым канцелярским почерком было написано: «Иванов Вячеслав Иванович». Кажется, он сам недоумевал, как это известный поэт может находиться у него в картотеке рядом с какими‑то монахинями, ничем не выделяясь и никак не заявляя о себе.
На карточке было отмечено, что Вячеслав Иванов не раз продлевал срок действительности своего советского паспорта, за что уплачивал соответствующую пошлину. Правда, последний раз это было… когда? Уже есть небольшая просрочка… Но вот карточка дочери Вячеслава Иванова, она приходила совсем недавно, чтоб продлить свой паспорт.
Я пытался шутить и поздравил посла с наличием в его «епархии» собственного советского кардинала. Но шутками тут отделаться было невозможно. Нам надо было точно знать: числящийся в консульстве Вячеслав Иванов является ли действительно поэтом Вячеславом Ивановым? И если да, то как он живет, почему просрочен паспорт и вообще…
«Вообще» заключалось в следующем довольно важном обстоятельстве. Отмечалось 100–летие со дня смерти Пушкина — и не только в Советском Союзе, но и во многих странах за рубежом. Муссолини, раздраженный неудачами своих авантюр в Абиссинии и Испании, политикой, которая проводилась Советским Союзом, запретил публично отмечать дату. Глупость фашистских властей могла сравниваться только с их ожесточением. Они объявляли «большевизанскими» даже произведения Льва Толстого и Чайковского.
Тем важнее был вечер памяти Пушкина, который мы намеревались устроить в советском посольстве. На этот вечер мы собирались пригласить многих иностранцев, в том числе итальянцев, которые под сенью дипломатического этикета могли бы укрыться от гнева римских властей. И как хорошо было бы позвать старого русского поэта, превосходного знатока античной, а также новой итальянской литературы!
Но где же он, Вячеслав Иванов? И он ли это? А если он, то какова его общественная позиция и что значат эти странные слухи о «кардинале»?
И вдруг приходит приглашение от Института восточной культуры посетить закрытый вечер, посвященный Пушкину. Во главе этого института стоял крупный славист, профессор Этторе Ло Гатто. Я знал, что Ло Гатто — известный русофил, любитель русской литературы, что он перевел на итальянский «Евгения Онегина», что он женат на русской…
/…/
В присланном им приглашении было сказано, что на закрытом вечере будут прочитаны главы из «Евгения Онегина» на итальянском языке и выступит Venceslao Ivanov (Вячеслав Иванов)[247]. Сомнений уже не было, — это тот самый Вячеслав Иванов. И какой удобный случай встретиться с ним!
Подумав, посол решил, что, протестуя против запрета публичного открытого чествования Пушкина, он не должен идти на этот закрытый вечер. Что касается меня, представителя ничем не связанной советской печати, то мне пойти можно и даже должно.
В указанное время я разыскал Институт восточной культуры. Мы привыкли к тому, что в Москве, Ленинграде, Киеве научным институтам предоставляются дворцы, лучшие в городе особняки. В итальянском Институте восточной культуры в Риме, городе отличных старых замков и дворцов, я оказался в небольших, более чем скромных комнатах, обставленных, как какая‑нибудь траттория средней руки. Комнату, которая служила залом заседаний, заполнили несколько десятков человек. На возвышении стояла кафедра.
Ло Гатто начал читать «Онегина». Потом я слышал от вполне компетентных людей, что перевед сделан на весьма высоком уровне.
(Я слушал Ло Гатто с интересом, с благодарностью, потом купил отлично изданный том «Евгения Онегина» с прекрасными акварельными рисунками художника А. Кузьмина, которые Ло Гатто раздобыл в Москве[248]. Читал он его только с холодным интересом исследователя. Жить пушкинской строкой можно только в ее изначальной русской первозданности.)
Потом на кафедре появился высокий, сутулый человек с красновато — склеротическим лицом. Он был одет в строгий, черный, уже заметно блестевший от выслуги лет костюм. Это и был Вячеслав Иванов. В то время ему шел семьдесят второй год.
Ни слова не сказав по — русски, он начал и закончил речь по — итальянски. Говорил свободно, без запинки, несколько суховатым, монотонно — профессорским голосом.
Хоть я и представлял себе направление мыслей Иванова, речь его удивила меня до крайности. О, конечно, я и не ожидал, что она будет похожа на выступления в московских литературных собраниях. Но трактовать сон Татьяны с точки зрения общения с потусторонними силами… Мистические прозрения Пушкина… Высшие силы, определяющие судьбу пушкинских героев. И все в таком же духе.
Это было настолько непривычно, что мне трудно было уследить за развитием мысли оратора. А может быть, и не было логического развития мысли, а только всплески какого‑то наития… Ведь писал же когда‑то еще до революции Вячеслав Иванович: «… символ только тогда истинный символ, когда он… многолик, многомыслен и всегда темен в последней глубине».
Чего, чего, а уж темноты хватало…
Оратора проводили почтительными, но скромными аплодисментами. Он строго поклонился и сошел с кафедры.
Программа небольшого вечера подходила к концу. Я быстро набросал записку Вячеславу Иванову. Писал, что я корреспондент советской печати, недавно был в Москве и хотел бы поговорить с ним. Записку отдал служителю. Не прошло и трех минут, как служитель вернулся и повел меня в другую комнату.
Вячеслав Иванов поднялся мне навстречу с вполне реальной улыбкой, в которой не было ничего мистического.
— Из самой Москвы? Неужели?
С нескрываемым интересом он слушал мой рассказ о том, что я совсем недавно провел в Москве несколько недель. Рассказал я, конечно, и о том, как встретил Городецкого, который спросил меня о нем, Вячеславе Иванове.
— Это какой же Городецкий? — спросил Вячеслав Иванович, все еще удивляясь свежим московским впечатлениям.
— Сергей Митрофанович…
— Ах, безбожник! — воскликнул Иванов, улыбаясь, видимо, своим воспоминаниям. — Ну, какой он?
Я сказал о Городецком, что он бодр, пишет стихи и прозу, работает для Большого театра.
Воспользовавшись удобной минутой, я спросил Иванова, как он себя чувствует, а затем задал сакраментальный вопрос о «кардинале»…
— Ну, какой же я кардинал… — продолжал улыбаться Вячеслав Иванович. — Я работаю в Ватикане, это верно. Мне разрешили работать в ватиканской библиотеке, вот и все…
А литературные дела? Я вспомнил, что в 1934 году встречал иногда стихи Вячеслава Иванова в парижских «Последних Новостях», а в последние годы и этого нет как будто[249].
— Да, плохо… — сказал Иванов, — печататься мне негде.
— А о Москве вы не думаете? Ведь вас там помнят и многие знают.
— Нет, в Москву мне нет возврата… пока там рушат церкви…
Разговор принимал другой оборот. Я осторожно заметил, что, может быть, Вячеслав Иванович располагает не совсем точной информацией.
— Нет, нет… — продолжал твердить Иванов, и мне показалось, что его лицо приобрело то же выражение постности и отрешенности, какое было, когда он говорил о потусторонних силах, вмешавшихся в сон Татьяны.
— Но вы, кажется, советский гражданин… — поставил я вопрос ребром.
— Да, — тихо отозвался Иванов, — я все время был советским гражданином, а недавно подал заявление властям о переходе в итальянское гражданство…
Мне оставалось как‑то закруглить разговор и подняться. Я уходил, тревожимый этой наступившей ясностью и размышлениями о сложности человеческих судеб и характеров, о том, как разошлись в разные стороны люди, которых вся читающая Россия привыкла когда‑то видеть вместе во главе столь популярного в начале XX века литературного течения.
Александр Блок, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый. Сколько интересов, восторгов, надежд было связано с этими именами. И вот великая проверка — революция. Валерий Брюсов стал коммунистом. Александр Блок написал «Двенадцать» и призывал интеллигенцию всем сердцем слушать музыку революции. Андрей Белый остался верен родной Москве и, влача за собой немалый груз старых идеалистических и эстетических представлений, стал все же ревностным учителем молодых поэтов «Пролеткульта». А вот Вячеслава Иванова его приверженность к мистическим туманностям погнала с родной земли и привела к средневековым переулкам Рима, где он и застрял.
Впрочем, все это тоже не так просто и прямолинейно. И будущему историку литературы придется потратить немало труда, чтобы стала ясной извилистая линия развития такого сложного человека, как Вячеслав Иванов. В груди его кипели, по — видимому, противоречия.
Самые бурные и тяжелые годы революции он провел на родине. В 1921 году, будучи в Баку, защищал диссертацию на тему… «Дионис и прадионисийство». Уже один тот факт может создать представление об ученом чудаке, способном витать бог знает где, когда кругом него кипит океан страстей и самых жгучих проблем, волнующих весь народ.
Но это не совсем так. В том же Баку Вячеслав Иванович работал не только профессором, но одно время ректором университета, что обязательно предполагает общественную деятельность, и даже заместителем Народного комиссара просвещения Азербайджанской республики.
Есть любопытное свидетельство о встрече Иванова с Маяковским в 1924 году (Воспоминания В. Мануйлова), когда два поэта оживленно говорили о литературных и театральных новостях, о Пушкине… Мало того, В. Мануйлов свидетельствует, что через несколько дней Вячеслав Иванов очень тепло и с удивлением говорил об этой нечаянной встрече. Значит, были у этого мистика какие‑то струнки души, которые могли радостно зазвенеть при встрече с поэтом революции.
Другой факт. 1929 год. Иванов уже находится в Италии и, по — видимому, поддерживает связь с находящимся в Сорренто Горьким, потому что 7 марта Алексей Максимович пишет письмо в Москву Петру Семеновичу Когану, президенту Академии художественных наук:
«Дорогой Петр Семенович — разрешите напомнить вам о Вячеславе Ивановиче Иванове. Он очутился в положении весьма драматическом: у него заболел сын острой формой туберкулеза. Сын — в санатории, это стоит недешево, а заработок В[ячеслава] И[вановича] — ничтожен. Нельзя ли ускорить разрешение вопроса о пенсии ему? И — не издаст ли Академия перевод ”Ада“?
В[ячеслава] И[вановича] особенно следовало бы поддержать здесь, он ведь в исключительной позиции: ”русский, советский профессор с красным (!) паспортом читает итальянским профессорам лекции по литературе“. Анекдот ”исторический“. Кстати: у него есть большая работа об Эсхиле, — Академия не могла бы издать?. »
Об исключительной образованности Вячеслава Ивановича говорил мне и Ло Гатто. Ни один итальянский профессор, сказал он, не знает так античную и нашу итальянскую литературу, как знает ее signor Иванов.
И я снова вспомнил слова Добролюбова о том, что одного таланта еще недостаточно, — важно направление таланта…
Борис Зайцев Вячеслав Иванов
Впервые, под названием «Далекое (О Вяч. Иванове)» — в газ. «Русская мысль», № 2049, 19 сентября 1963 г., с. 2–3. Перепечатано по тексту в кн. Далекое, Washington, 1965, с. 48–57.
Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо — Песковском на Арбате.
Вечер. Сижу за самоваром один, жена куда‑то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко — кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление: мягкости, влажности и какой‑то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева — Аннибал.
Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске… Учишься в Университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что‑нибудь или не выйдет, все еще впереди: 1905–й год!
Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где‑то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).
Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по — теперешнему «авангардным» в искусстве. Я угощаю чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно — пиршественное в его беседе, он говорить любил, сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда свое, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древне — греческие религии, разные Дионисы, философия того времени, вот где он как дома. Если уж говорить о родственности, то этот уроженец подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) — вот он‑то и оказался пра — правнуком платоновских диалогов.
У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему, более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец — утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи… Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Кронида, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика. Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.
Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой — Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и начав с моего Кронида, он прочел нам целую лекцию — да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.
* * *
Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе и сама литература кипела. По — разному можно относиться к ней, но дух мачтетов и Баранцевичей, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.
Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слыхал. А жили мы тогда литературою вовсю.
Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».
Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них маловато, но родитель их стоял высоко, на скале. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.
Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой‑то выступ наружу, вроде фонаря, но конечно, по тогдашней моде на «особенное», считалось, что он живет в «башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведывал отделом кухни в Литер. Кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования, говорил мне один приятель литературный в Москве.
Сло́ва «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц — Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов и религии тех лет, и поэзию, литературу — да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.
Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм) и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот и не зря смотрели: от него действительно можно было чему‑то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.
Раз, в 1908 г., был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань. Из‑за нее он и позвал меня, через Чулкова.
Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею, действительно, живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что‑то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспомнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, не обидного, сочувственного и не дифирамбического, видящего и свет и тени, так и осталось в душе.
Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.
* * *
На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.
«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.
Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком‑то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева.
Как будто начинали сбываться давнишние его месты — учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда‑нибудь «утечь».
На Зубовский бульвар жена моя носила молоко его грудному тогда сыну Диме (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на соборность.
Здравый же смысл все‑таки взял у «мэтра» верх: в 1921 г. Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 г. «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.
В Риме он выступил с публичной лекцией по — итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского Университета.
Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в Архиве Колумбийского университета в Нью — Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)
* * *
В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конквистадор и по жизни своей «Казанова» — нежданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.
— У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.
Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ницце — Анита из Мадрида, мы из Парижа, Казанова в Ницце уже заседал. Нас смущало, при неблестящем складе быта нашего, соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой. Началось наше blitz‑tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. Казанова то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.
Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал Казанове:
— Поезжайте с Анитой, а мы вернемся.
Он даже рассердился.
— Я вам сказал, что довезу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но увы, можно будет остаться всего день.
Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у берниниевской колоннады, поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.
Авентин моей молодости был еще таинственно — поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.
Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полном апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.
Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным.
Теперь известный поэт, столп русского символизма, доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.
Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.
Мы обнялись не без волнения, расцеловались.
— Да, сил мало. Прежде в Университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два — три шага сделать могу… Теперь уже не читаю.
Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора…» — «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior’e ждет импрессарио». — «Ну, так я вкратце расскажу вам…»
Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо — символическое, как будто связанное с древней Сербией — какой‑то король… — но не настаиваю, боюсь ошибиться.
Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие‑то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».
Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.
Автобус мчал нас через Рим. Знакомые места, «там где был счастлив», видениями промелькнули, и вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас Казанова с Анитой.
На другой день, рано утром, поезд уносил нас обратно, на север.
Месяца через два, летом, в римской жаре, Вячеслав Иванович скончался.
Владимир Лидин Вячеслав Иванов
Далекой холодной зимой я привел к себе в комнату, райски теплую от раскалившейся железной печурки, поэта. На поэте под шубой с вытертым бобровым воротником было еще некое подобие женской тальмы, а сам он был изнурен от холода, тонкая красноватая кожа его лица лоснилась и была в болезненных трещинках, а на руках у него, наподобие митенок, были перчатки с обрезанными пальцами.
Поэт этот — лингвист, ученый, блестящий версификатор — был Вячеслав Иванов. Я знал это имя только по рассказам о какой‑то «башне» в Петрограде, в которой собирались писатели и артисты, были у меня и книги стихов Иванова «Эрос» и «Младенчество» с их звонкими рифмами и изощренными аллитерациями[250]; кроме того, он писал по — латыни и знал ее, как древний римлянин.
Некий мифический издатель затеял в ту голодную и холодную пору столь же мифическое, с эстетским уклоном, издательство, выпустившее в свет лишь проспект, и то напечатанный на пишущей машинке: ни одной книги издательство так и не издало. Однако в его планах значились и том повестей забытой писательницы прошлого века Е. Ган, писавшей под псевдонимом Зенеида Р — ва, редактором этого тома взялся быть М. Гершензон, и ряд книг поэтов пушкинской поры под редакцией В. Ходасевича, а Вячеслав Иванов по этому проекту должен был редактировать Веневитинова.
У издателя, красивого молодого человека с лицом викинга, было все, кроме денег, бумаги и издательского опыта, но переговоры с редакторами будущих книг велись, и я помогал издателю. Именно по поводу томика Веневитинова я и привел к себе из одного переулка на Пречистенке Вячеслава Иванова.
— У вас тепло, — сказал Вячеслав Иванович, сразу расположившись к издательству и уверовав в его возможности.
Он сел к печке, протянул к ней ноги, розовый отсвет заплясал на нем, и Иванов сразу, зябкий и слабый, уснул. Я вспомнил, каким златокудрым и эллинским изобразил его Сомов, но в этом озябшем человеке не было сейчас ничего эллинского, да и стихи в эту пору Иванов писал уже редко, но он знал латынь, знал классическую литературу древнего Рима, а в наших издательствах той поры уже рождались великие планы мирового звучания, и, конечно, Гораций или Овидий были в этих планах не забыты: перед Вячеславом Ивановым с его знаниями возникал поистине беспредельный простор.
Подремав у печурки, он сказал мне:
— Знаете, я был убежден, что поэзия уже никому не нужна. Но на днях меня пригласили на одно совещание, и там говорили между прочим, об издании серии книг римских и греческих писателей. Собираются издать и Петрарку, сонеты которого я уже переводил для Сабашникова[251]. Мне бы только немножко тепла, и я, засучив рукава, принялся бы за дело.
А когда моя мать испекла на печурке оладьи и угостила его ими, Вячеслав Иванович уже совсем настроился на поэтический лад.
— Я прочту вам несколько строф из моей новой поэмы, — сказал он, и я запомнил только первые две строчки из его «Святой Елисаветы», часть рукописи которой и поныне хранится у меня[252].
Было тепло, его напоили чаем, накормили оладьями, и он читал стихи, только уже не в своей «башне», а в скромной комнате дотоле совсем неизвестного ему начинающего литератора, которого он, однако, считал причастным к волнующему любого писателя издательскому делу.
— А теперь поговорим об условиях, — сказал он. — Передайте вашему издателю, что я согласен на оплату моей работы дровами, ну и мукой, разумеется.
У издателя, конечно, не было ни муки, ни дров, у него было только желание издавать и заказанный бланк «Издательство З. М. Мировича»; один такой бланк сохранился у меня. Ничего для этого издательства Вячеслав Иванов не редактировал и не получил от него ни полена дров, ни фунта муки: издательство просто не существовало.
Шесть лет спустя, в 1925 году, я посетил Вячеслава Иванова в Риме. Он жил на Via della Quattro Fontane с женой и сыном. Он уехал в Италию советским гражданином, жил тихо и уединенно в мире созвучных ему латыни и итальянской литературы, которую знал назубок, владея итальянским языком в совершенстве.
В Италии, разительно по своему несоответствию, уживаются рядом высшая классика и изящество жизни с самым нехитрым интерьером мещанского быта, впрочем, это свойственно и Франции. Жилище вдовы, у которой Вячеслав Иванов снимал одну или две комнаты, было заставлено дешевой мебелью и какими‑то безделушками, вроде пресловутых слоников или искусственных цветов в стеклянных шарах с водой. Он жил в ту пору еще с советским паспортом, слишком много нитей связывало его с родной страной, и моему посещению он обрадовался.
Мы вышли с Вячеславом Ивановичем из его тесной квартирки на римскую шумную улицу. Он шел без шляпы, златокудрый, хотя кудри были уже только по бокам лысеющей головы, ни на кого не похожий, торжественный, как сама латынь, и прохожие оглядывались на него: итальянцы необыкновенно чувствуют артистизм.
У меня была еще одна цель повидать Вячеслава Ивановича: привлечь его к переводам книг современных итальянских писателей, которых охотно выпускали наши издательства; кое‑что в этом смысле удалось тогда сделать: так, в издательстве «Федерация» вышел роман Марио Собреро «Знамена и люди», а в библиотечке «Огонька» — книжка «Молодая Италия».
— Как вы отнеслись бы к тому, Вячеслав Иванович, если бы одно из наших издательств заказало бы вам перевод какого‑нибудь из современных итальянских писателей? — спросил я.
Он сразу стал необычайно серьезен.
— Ах, это было бы прекрасно, а я уж постарался бы.
У меня сохранилось письмо Вячеслава Иванова, полученное мной уже в Москве: «Покупаю книжку Собреро и сажусь за перевод, который к 1 октября будет готов… О каких ”Рыбаках“ вы пишете? Verga — ”La mala Voglia“? Это художественная вещь, которую я перевел бы с большею охотой, чем ”Pietro e Paolo“. He выслать ли ее вам? Спасибо за ваши дружеские старания. Надеюсь на дальнейшие заказы, на пьесы… Мои вам кланяются. Без вас я в ”Библиотеку“ ни ногой».
Но перевод этого романа Собреро так и не осуществился почему‑то.
— Знаете, — сказал Вячеслав Иванович в тот день, — это такая необыкновенная наша с вами встреча в Риме. Я хорошо помню вашу комнату где‑то на Арбате, и оладьи, которые я у вас ел… подумайте, прошло всего шесть лет с тех пор, тогда мне казалось, что ничего уже не возродится, а вот мы с вами встречаемся в Риме, и московские издательства издают итальянских писателей.
Я рассказал ему, как за шесть лет многое не только возродилось в нашей стране, но и возникло заново, и это совсем новый мир, который только будет развиваться. Не знаю, о чем думал он, слушая меня: может быть, он сомневался в действительном развитии этого мира, он был писателем другой поры и других оценок. Но то, что его вчерашние соратники, как Валерий Брюсов или Андрей Белый, работают в Советской России и их книги издают, и буквально сотни книг поэтов вышли в самые трудные годы, все это надо было принять или не принять совсем, и Вячеслав Иванович сказал только:
— Ладно, примем суть за истину. Истина все‑таки всегда в сути. Кроме того, истина заключена и в вине. In vino veritas. Пойдемте в «Библиотеку» и отметим нашу встречу.
Знаменитая винарня в Риме, существующая и поныне, носит название «Библиотека»: бутылки стоят там наподобие книг в книжных шкафах, а названия вин перекликаются с именами писателей.
В «Библиотеке», выпив вина, что‑то вроде «Petrarca spumanti», он стал размягчен и лиричен.
— Все проходит, мой друг, — сказал он возвышенно. — Остается поэзия. Гекзаметры римлян и поныне звучат на Аппиевой дороге. Жалко, вы мало пробудете в Риме, я бы непременно повез вас на Аппиеву дорогу. Плиты на ней укладывали рабы Юлия Цезаря, а в катакомбах вы вдохнули бы терпкий воздух раннего христианства. «Все же по диким скалам, по вершинам тоска меня гонит, — произнес он вдруг, — всюду, где взорам моим берег широкий открыт. Солнце ли землю палит, иль холодные ночи светила тихо сияют, смотрю, с юга ли ветер подул. Парус увижу ль вдали, ко фракийским брегам устремленный, сердце горит: не мое ль счастье везет он с собой?» Это Овидий, это латинская медь, это литавры, неужели вы не слышите?
И целый вечер, пока мы сидели в «Библиотеке», Вячеслав Иванов читал стихи, свои и римских поэтов, и весь опустошился, когда мы вышли, наконец, на улицу.
— Vetturino! — крикнул он проезжавшему извозчику с высокой пролеткой под тентом и лошадью с лакированными наглазниками, похожей на мула, — a casa. — Лошадь медленно зацокала подковами по камням мостовой. — Это было бы прекрасно все‑таки, если бы что‑нибудь получилось с переводами, я буду выискивать самых интересных авторов.
Но мне казалось, что он думает не о практических делах, а о том, что именно в переводе Вячеслава Иванова появятся книги в Советской России… а что значит для писателя не заглохнуть, не перестать звучать, об этом можно было бы написать не одну, полную глубокого и трагического психологизма книгу!
День спустя я рассказал нашему консулу Владимиру Николаевичу Рембелинскому, что в Риме живет Вячеслав Иванов, рассказал и о том, что он в совершенстве знает итальянский язык. Владимир Николаевич Рембелинский был одним из самых фантастических людей, которых когда‑либо я встречал: он был спартанцем и эпикурейцем в одно время, мог спать на полу в солдатской шинели, подостлав для тепла газеты, мог читать наизусть Тютчева и определять звезды, как астроном.
— Вячеслав Иванов? — спросил он. — Разве он живет в Риме?
Что‑то произошло вдруг с Рембелинским, глаза его устремились в одну точку за раскрытым в сад посольства на Via Gaeta окном, мне показалось, что я насмерть испугал его именем Вячеслава Иванова. В ту же минуту Рембелинский ринулся к двери и исчез. Мгновение спустя я увидел его в саду: он прогнал кошку, приготовившуюся схватить птенца.
— Вячеслав Иванов? — спросил он вернувшись. — Разве он живет в Риме? Скажите об этом Платону Михайловичу.
Нашим послом был тогда широко просвещенный литератор Платон Михайлович Керженцев.
— Что ж, — сказал он, — надо будет пригласить на какой‑нибудь прием Вячеслава Иванова.
Я не был на приеме, на который пригласили в советское посольство Вячеслава Иванова, но мне рассказали впоследствии, что он пришел торжественный, во фраке, и сразу пленил приглашенных итальянцев своим безупречным итальянским языком и знанием итальянской литературы; кроме того, он особенно пленил их тем, что прочитал одно или два стихотворения по — латыни.
* * *
У русского символизма своя судьба и своя история. Не уцелеет в этой истории много имен и много книг, и вряд ли когда‑нибудь вернутся к ним; разве только историки литературы, которые изучают по литературе и социальную жизнь общества, вспомянут их для своих социологических выводов. Но если говорить об эрудите, знатоке поэзии, поэте умелом и ученом, то имя Вячеслава Иванова не будет забыто. Даже в ту пору, когда поэзия звучала глухо, он был во всеоружии своего мастерства, неразлучный с любезными ему эллинами, плененный медью стихов Овидия или Горация, влюбленный в Петрарку, сонеты которого перевел на русский язык, но он переводил и Алкея, и Сафо, и Пиндара, и Д’Аннунцио, этот его труд тоже не канет в истории русской культуры[253].
Виктор Мануйлов О Вячеславе Иванове
Воспоминания о В. И. Иванове имеют не только личное значение. Вокруг его имени возникают стойкие легенды, настолько искажающие его облик, настолько не соответствующие реальному прошлому, что наш долг сделать все, чтобы восстановить и сохранить для будущего истинные сведения об этом удивительном человеке. Воспоминания печатаются впервые по тексту, посланному семье Ивановых в Рим и теперь хранящемуся в Римском архиве В. Иванова.
Трудно представить себе, что Вячеславу Ивановичу Иванову, нашему учителю, которого мы знали в молодости и память о котором пронесли через всю жизнь, теперь исполнилось бы 115 лет. А ведь это так, ведь он родился в Москве 16/28 апреля 1866 года. Какое счастье, что он продолжает жить в нашей памяти через 115 лет после своего рождения!
Так, в четвертом томе «Литературной энциклопедии» (1930) в статье об Иванове, написанной В. Михайловским, сказано: «С 1921 — в Баку, где был профессором, некоторое время ректором университета и замнаркомпроса Азербайджанской ССР» (стр. 405). Эти же сведения повторяются в статье Л. П. Печко в Краткой литературной энциклопедии (М., 1960, т. 3, стр. 38). На самом деле В. И. Иванову с семьей, состоящей из дочери Лидии и сына Дмитрия, осенью 1920 года удалось получить разрешение выехать на Кавказ, где он поселился в Кисловодске. Но через месяц на Северном Кавказе начались ожесточенные бои завершительного этапа гражданской войны, и Ивановы вынуждены были переехать в Баку. Как раз в это время в столице Азербайджана собралась группа крупных ученых, в частности гуманитариев, которые объединились вокруг только что созданного университета. Вячеслава Ивановича приняли с радостью и предложили заведование кафедрой классической филологии. Ректор, профессор Давиденков, предоставил ему помещение в здании университета, и В. И. Иванов с головой ушел в университетскую жизнь. Он был профессором кафедры классической филологии с конца 1920 по май 1924 года[254]. Наркомом Просвещения Азербайджанской ССР в эти годы был старый коммунист, талантливый азербайджанец Буниат — Задэ, а его заместителем — известный лингвист, профессор В. Б. Томашевский, впоследствии ректор Ленинградского университета. Ни заместителем наркома Просвещения, ни ректором В. И. Иванов не был, хотя мог быть избран в качестве ректора, тогда эта должность замещалась по выборам в Ученом совете университета. Вячеслав Иванович всегда очень смело и независимо высказывал свои идеалистические и религиозные убеждения и, конечно, при всем уважении и бережном отношении к нему, его не могли бы назначить на высокий пост в народном комиссариате просвещения или выбрать ректором только что образованного университета. Фантастические утверждения о высоких административных постах, занимаемых В. И. Ивановым в Баку, так же неосновательны, как и легенда о том, что по переезде в Италию он будто бы стал префектом Ватиканской библиотеки и кардиналом[255].
Впервые увидел я Вячеслава Иванова ранней весной 1922 года в вестибюле Азербайджанского государственного университета, куда мне удалось поступить на словесное отделение историко — филологического факультета. Высокий, румяный, он шел легкой походкой, не сутулясь, по направлению к своей комнате, отгороженной деревянной перегородкой от вестибюля. Его седые волосы светились и ореолом расходились вокруг большого лба, сливающегося с лысиной.
— Это Вячеслав Иванов, — с нескрываемой гордостью и восхищением сказал мне мой собеседник. И я навсегда запомнил неповторимый облик этого ученого — филолога, мыслителя и поэта.
Потом я часто видел и слышал его на лекциях и семинарских занятиях. Вячеслав Иванович говорил всегда увлекательно, вдохновенно, не для всех студентов понятно, удивляя разносторонностью своих интересов и познаний. Вскоре его лекции стали для меня и небольшой группы сплотившихся вокруг него учеников самыми главными, самыми значительными в нашей университетской жизни событиями.
В комнате за перегородкой, рядом с шумным вестибюлем, в котором всегда толпились студенты, Вячеславу Ивановичу с его старшей дочерью Лидией и семилетним сыном Димой было беспокойно и неуютно. Если не ошибаюсь, в начале нового 1922–1923 учебного года Вячеслав Иванович уже перебрался с семьей в лучшее помещение, в отдельную квартирку из двух комнат в первом этаже того же здания (бывшего Бакинского коммерческого училища) с отдельным ходом, в стороне от университетской суеты. Тут, в этих комнатках, в заваленном и заставленном книгами и рукописями кабинете, мне случалось часто и подолгу беседовать с Вячеславом Ивановичем о предстоящих семинарских занятиях, о прочитанных книгах, о стихах, которые мы все тогда писали и приносили ему на строгий суд. И с каким терпением и какой проницательностью он разбирал все написанное его учениками!
Случилось так, что уже в конце 1923 года мы обменялись стихотворными посланиями. Однажды я увидел у Вячеслава Ивановича его фотографию. Он был снят в берете, с книгой в руках. На этом портрете он чем‑то напоминал Ф. И. Тютчева. Я попросил разрешения взять на несколько дней этот портрет, чтобы переснять его для себя и для своих друзей по университету.
Когда переснятые фотографии были готовы, на обороте одной фотокопии Вячеслав Иванов, около 20 декабря 1923 года, сделал для меня такую надпись:
VICTORI MANU ELOHIM
Поэт, пытатель и подвижник
In nuce и в одном лице.
Вы добрый путник, белый книжник
Мне грезитесь в тройном венце.
Вы оправдаете, ревнитель
И совопросник строгих Муз,
Двух звуков имени союз,
Рукою Божьей победитель.
На эту надпись 22 декабря я ответил Вячеславу Ивановичу таким признанием:
Ты сердцем солнечным, Учитель милый,
Меня давно неудержимо влек,
И я летел к тебе, золотокрылый,
И трепетный, и глупый мотылек.
Я тоже солнечный, но Всемогущим
Мне мудрости змеиной не дано,
Я только радуюсь лугам цветущим,
Я только пью медвяное вино.
Что принесу тебе я, легкокрылый?
Твои цветы в твои же цветники?
За то, что ты, Учитель, свет мой милый,
Взял мотылька себе в ученики.
В последние дни 1923 года Вячеслав Иванович сделал на обороте той же фотографии, подаренной мне, следующую приписку:
Я вижу, детям солнца милы
Мои живые цветники,
Коль мотылек воздушнокрылый
Ко мне упал в ученики.
Так, этой стихотворной перепиской было признано и определено мое ученичество у Вячеслава Иванова. И впоследствии, в трудные минуты жизни, мне не раз вспоминались слова Учителя в первом его обращении ко мне, и эти слова придавали веру в свои силы и не раз помогали преодолевать непреодолимое, потому что Учитель был и пророком, он зорко предвидел будущее и знал и предугадывал многое случившееся впоследствии.
Однажды я спросил Вячеслава Ивановича, почему он так внимателен ко мне и тратит столько времени на разговоры вне университетских занятий, дома. Он ответил, что беседы со мной и рассказы об уже пережитом, знание моего прошлого и настоящего позволяют ему уверенно заглянуть в будущее, а направленность моего пути он уже чувствует по ранним моим стихам. В те годы мне было 20 лет или немного больше. В отличие от моих сверстников и друзей по университету, которые жили в родительской семье и были относительно обеспеченными молодыми людьми, мне с 18–летнего возраста пришлось жить самостоятельно и много работать. В Баку военная служба и занятия в университете отнимали весь день. Готовиться к семинарским занятиям, осознавать впечатления интересной и содержательной жизни можно было только в ночное время. Спать приходилось немного.
Вот почему однажды Вячеслав Иванович вспомнил о своем трудном отрочестве. Ему было пять лет, когда умер отец. Семья обеднела. В гимназические годы мальчик должен был давать платные уроки и мог читать и думать только ночью. Вячеслава Ивановича располагало ко мне не только знакомство с моими ранними стихами и увлеченность университетскими занятиями, но и повседневная занятость и работоспособность. Вот почему он счел возможным даже поручить мне обязанности секретаря двух семинаров, которые он вел, — по Пушкину и по поэтике. Стипендий тогда по университету мы не получали. Для Вячеслава Ивановича было характерно решение поручить мне дополнительные обязанности секретаря семинаров, не смущаясь и так большой моей занятостью. Он верил, что я справлюсь и с этой нагрузкой, а я, конечно, был благодарен ему и очень ценил почти каждодневные встречи с ним, не только связанные с университетскими делами. При этом Вячеслав Иванович внимательно и подолгу расспрашивал меня о моих сокурсниках. Это помогло мне лучше понять его внимание и заботу, без которых нельзя себе представить строгой щедрости нашего Учителя.
Значительность всего, связанного с Вячеславом Ивановым, глубина и проникновенность его речей часто сочеталась с иронической улыбкой, грациозной шуткой, полунамеком на бытовые мелочи, понятным только двум — трем его собеседникам. Это сочетание значительности и простоты, жреческого, почти торжественного спокойствия и непринужденной свободы и легкости общения, всегда удивляло и восхищало меня. Быть может, это объяснялось не только мудростью Вячеслава Иванова, но и чуткостью его, способностью отчетливо представлять себе состояние собеседника, подлинным тайновидением.
Решительно утверждаю, что Вячеслав Иванов, как и Вольф Мессинг, обладал редкостной способностью читать чужие мысли. Я встречался с Вячеславом Ивановым задолго до встречи с В. Г. Мессингом. И эта способность меня всегда поражала. И в обыкновенных бытовых встречах, и особенно на экзаменах, Вячеслав Иванович безусловно читал мысли и понимал, кто чего не знает и кто что знает, часто задавал тактичные вопросы, чтобы обойти то, чего студент не знал, и, наоборот, иногда неумолимо требовал точного ответа, наверное зная, что на этот вопрос студент ответить не может.
Однажды весной 1923 года я шел к Вячеславу Ивановичу. Недалеко от университета, около почтамта, я увидел нищего, настоящего восточного дервиша. Тогда в Баку было очень много нищих. Почему‑то я не дал ему милостыни. Отойдя от него на несколько шагов, я нащупал в кармане монетку, но поймал себя на том, что мне стыдно почему‑то вернуться к нему и дать эти деньги. Так я прошел мимо и начал, оправдывая себя, думать, что, может быть, действительно правы те, которые полагают, что милостыню давать не нужно, что это развращает того, кому дают милостыню. В этих душеспасительных рассуждениях я и вступил в комнату Вячеслава Иванова. Он сидел за столом вместе с профессором Л. А. Ишковым и пил белое вино. Оба друга рассуждали о какой‑то очень специальной исторической теме, связанной со средними веками. Вячеслав Иванов прервал говорившего Леонида Александровича, посмотрел на меня внимательно (а я еще ничего не успел сказать) и спросил: «Ну, так как же все‑таки, нужно давать милостыню или нет?» И стал говорить о том, что он думает о милостыне, как она обогащает прежде всего дающего. Это было самое настоящее чтение мыслей.
Я знаю, что однажды Вячеслав Иванов ответил одному человеку на неотправленное письмо.
Разговаривать с Вячеславом Ивановым было всегда и сладко и очень страшно. Мне посчастливилось беседовать с разными и часто значительными собеседниками. Из них едва ли не самым удивительным был Вячеслав Иванов. В разговоре с ним никогда не оставалось пустых моментов, лишних фраз, слов вежливости, того, что Щерба называет «упаковочным материалом». Всегда было взято все самое главное, самое существенное, Вячеслав Иванович знал, что всего нужнее и интереснее собеседнику. Он понимал всякий раз, в каком состоянии приходит к нему человек, прекрасно чувствовал, что волнует в данный момент его собеседника и сразу же отвечал, иногда по ассоциации, исходя, может быть, сначала из случайного и частного и приходя кратчайшим путем к цели. Разговор всегда поражал двумя противоположностями. Вячеслав Иванов был человек мягкий, но мягкость была тигриная, волевая. При всей мягкости его собеседник всегда чувствовал себя прочно взятым в руки. Вместе с тем, Вячеслав Иванов, ничего не упрощая, говоря иногда непонятное нам по нашему возрасту и развитию, не унижал собеседника ощущением бесконечного расстояния между собой и нами. Мне приходилось говорить несколько раз с Брюсовым. Всякий раз сковывало ощущение того, что ты ничего не знаешь, что с тобой говорит всезнающий, мудрейший человек, сошедший с высот. Вячеслав Иванов был сама мудрость. Но он проявлял такую любовную заинтересованность, что с ним говорилось, как с отцом, как с человеком, который мудрее тебя, но который говорит с тобой, как с равным, хотя знаешь, что ни о каком равенстве не может быть речи. Он обладал поразительной вкрадчивостью и мягкостью, которые вызывали удивительное доверие. Я бы не сказал, что это был человек необыкновенной доброты, как Максимилиан Волошин. Иногда Иванов был человеком совсем не добрым. И вообще от него иногда исходили страшноватые искры. Если бы захотел, он мог бы испепелить собеседника — противника. Но, зная свою колдовскую силу, он употреблял ее в редчайших случаях. В гневе он был страшен. Мне пришлось видеть его в гневе только несколько раз. К счастью, его гнев был обращен не на меня.
Должен признаться, что стихи Вячеслава Иванова до меня начинают доходить только сейчас. До сих пор он был для меня прежде всего одним из самых удивительных людей, которых я видел в жизни. И человеческая необыкновенность его заслоняла все остальное. Потом это был ученый, заботливый, внимательный наставник. И если бы от Вячеслава Иванова остались только стихи, может быть, мы не так горячо и благодарно вспоминали его.
Нам трудно предугадать дальнейшую судьбу поэтического наследия Вячеслава Иванова, восприятие его поэзии и понимание его творчества в будущем. Следует признать, что один из самых значительных деятелей русского символизма, вместе с Андреем Белым разработавший философские основы и эстетику символизма, и при жизни был известен небольшому кругу читателей и оставался поэтом для поэтов, литературоведом для узкого круга исследователей. Не удивительно, что некоторые литературоведы и поэты нашего времени, а также читатели, полагают, что поэзия Вячеслава Иванова обречена на забвение. Однако для европейской гуманитарной интеллигенции, способной оценить своеобразие и глубину поэтической мысли этого русского поэта, не возникало сомнений в плодотворности художественных открытий Вячеслава Иванова, который принадлежал к немногим поэтам — мыслителям своего времени, опиравшимся на глубочайшие традиции мировой культуры и, прежде всего, культуры античной. В этой глубине творческих корней Вячеслава Иванова, быть может, было нечто гетевское. В пристальном внимании к античности, в широте и основательности эрудиции, особенно в области немецкой культуры, Вячеслав Иванов, как и Андрей Белый, превосходил русских поэтов начала века.
В лекциях и на семинарах Вячеслав Иванович постоянно упоминал Гете и Шиллера, своего учителя прославленного историка Древнего Рима Теодора Моммзена, книгу Д. Фрэзера «Золотая ветвь» и Фридриха Ницше, открытого им в годы молодости, особенно его работу «Рождение трагедии из духа музыки».
Этот образованный «европеец» вместе с тем был явлением истинно русским, славянским. Ему был органически близок русский фольклор, народный эпос, былина. Не только как ученый, но прежде всего как поэт всю жизнь не расставался он с Державиным, Жуковским, Пушкиным, Боратынским, Тютчевым, Некрасовым, а из современников ближе всего ему были Иннокентий Анненский, Андрей Белый и Александр Блок. Философия Тютчева, его лирика и судьба были психологически близки Вячеславу Иванову, да и внешне в бакинские годы он выглядел старше своих лет и очень напоминал стареющего Тютчева. Впрочем, на подаренной мне фотографии в берете в профиль он больше напоминает Данте. Западничество Вячеслава Иванова не исключало уважения к славянофилам, а прозу С. Т. Аксакова, деятельность братьев Киреевских и поэзию и критические статьи Аполлона Григорьева он ценил за бережное отношение к народному русскому быту и языку. Русские славянизмы и архаизмы встречались в его повседневной речи и естественно звучали в стихах.
В медлительном, иногда несколько величавом произношении своих стихов Вячеслав Иванович как бы смягчал некоторую тяжеловесность и непривычную для слуха перегруженность ударными звуками. Эта замедленность чтения и плотность речи всегда соответствовали значительности поэтической мысли. Многие стихи, казалось, предназначались не для бумаги, а для вечной меди. Это была речь не оратора, но Пророка, Судии, в ней не было строгого или сатирического приговора. Поэт свидетельствовал о самых значительных событиях своего времени в общем потоке веков. Повседневное, даже будничное приобретало в его творениях приподнятость, иногда даже трагическую значительность. Понятно, что такая сложная и непривычная поэтическая речь не была доступна пониманию даже некоторых профессиональных критиков, находивших в поэзии Вячеслава Иванова бездушный и бессмысленный «филологический бред». В то же время крупнейшие поэты — современники: И. Анненский, К. Бальмонт, В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, А. Блок — высоко ценили творчество Вячеслава Иванова и видели в нем теоретика и вождя русского символизма. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи и стихи, посвященные Вячеславу Иванову, а также дневники, воспоминания и переписка, которые только теперь становятся достоянием исследователей.
З. Г. Минц в статье «О ”Беседах с поэтом В. И. Ивановым“ М. С. Альтмана» дает обзор высказываний о Вячеславе Иванове писателей и литературоведов начала XX века[256].
«Ал. Блок считал Иванова ”писателем образованным и глубоким“, ”прекрасным поэтом“[257], А. Белый — ”крупным художником, ученым и организатором символического течения современности“, ”мэтром“, которого он, Белый, ”высоко ценит и любит“[258], В. Брюсов — ”настоящим мастером, понимающим современные задачи стиха“, чья поэзия имеет ”редкую в наше время силу“[259], В. Пяст — ”новым звеном в цепи дорогих сердцу имен, протянувшейся через нашу родную литературу“[260], С. Городецкий назвал поэзию Вяч. Иванова ”поистине изумительным и величавым зрелищем для наших дней“[261] и т. д. и т. п. В общем обзоре символистской поэзии 1900–х гг. поэт и критик Поярков писал: ”В кружках московских поэтов нередко талант Вяч. Иванова сравнивали с дарованием В. Брюсова и К. Бальмонта. Удивительно быстро, в два — три года, поэт занял свое (при этом одно из первых) место в современной поэзии России“[262]. При этом значение творчества Вяч. Иванова признавали отнюдь не только его литературные единомышленники. Так, Н. Гумилев, скептически относившийся и к мистицизму Иванова, и к ”крайностям русской идеи“ в его творчестве, и к отвлеченной ”теоретичности“ лирики Иванова, вместе с тем, отмечает, что ”все поэтическое творчество“ поэта — ”сплошная революция, иногда даже против канонов, установленных им самим“[263]. Профессор Ф. Ф. Зелинский назвал В. Иванова ”пламенным новатором во всей области поэзии“[264]. Даже марксистская критика 1900–1910–х гг., остро полемическая, неизменно сурово критиковавшая мистико — идеалистические взгляды Иванова, признавала ту субъективную искренность поисков поэта, за которую ”вы не можете не уважать его“[265]. Главное же — и A. B. Луначарский, и П. С. Коган, и даже до вульгаризации прямолинейно — социологичный Вл. Кранихфельд постоянно исходил из убеждения, что творчество Вяч. Иванова — одно из наиболее ярких и типичных проявлений русского символизма»[266].
Мне довелось узнать Вячеслава Иванова в пору его творческой зрелости. Ему предстояло еще прожить полное исканий и жизненных испытаний целое 25–летие. Но уже в Баку в его стихах было заметно стремление к большей ясности и простоте — простоте высокой, Пушкинской. Он не раз возвращался к своей известной статье о поэме Пушкина «Цыганы» и на семинаре в Бакинском университете, и в июне 1924 года в речи на чествовании великого поэта в Москве. Анализ звукописи в лирике Пушкина и разработка проблемы звукообраза у Пушкина в трактовке Вячеслава Иванова опередили наших пушкиноведов, а также историков и теоретиков стиха[267]. В отличие от многих своих современников, Вячеслав Иванов не принимал теории искусства для искусства. В его представлении искусство всегда служит самопознанию человечества. Художник должен быть «солью земли»[268].
Все решительнее не принимая принципа индивидуализма, лежащего в основе философии Ницше, его антигуманизма и агрессивного имморализма, Вячеслав Иванов приходит к идее всенародности искусства. Он преодолевает ограниченность индивидуального сознания и сосредоточивает внимание на идее о сверхличном, всенародном и всечеловеческом — о «соборности» и «хоровом начале» в жизни и в искусстве.
В философском и творческом развитии Вячеслава Иванова все большее значение приобретает культ Диониса, греческого бога вина и загробного мира, бога ночи и «ночной стороны души», противостоящего «дневному» Аполлону. Дионис — бог, освобождающий человека от скованности дневного сознания, бог пляски и слез, открывающий в экстазе, в исступлении стихийную мудрость бытия. Поэтому проблема дионисийства для Вячеслава Иванова тесно связана с идеей соборности, объединяющей людей и освобождающей их от условностей и противоречий повседневности. Эти идеи Вячеслава Иванова лежали в основе курса греческой религии и отчетливо проступали в его исторической поэтике.
В Баку Вячеслав Иванович подводит итог всем своим изучениям и защищает докторскую диссертацию «Дионис и прадионисийство», изданную в 1923 году.
В Вячеславе Иванове всегда волновала необычайная озаренность. Это был пламенный человек, человек с пылающим сердцем. Этим пламенем озарена и его поэзия, и не случайно название его главной стихотворной книги «Cor ardens» («Пылающее сердце»).
Быть может, Вячеслав Иванов не был великим поэтом, но то, что он был великим человеком, за это мы можем поручиться. И еще он был великим мыслителем, а для нас Учителем.
В первой половине 1924 года вокруг Вячеслава Иванова образовалась группа его учеников. Мы нерегулярно собирались на литературные чтения в большой комнате у профессора — химика Петра Измайловича Кузнецова. Это не было какое‑то литературное общество, скорее литературный салон, в котором были две гостеприимные хозяйки: жена П. И. Кузнецова Раиса Александровна и ее дочь от первого брака Вера Федоровна Гадзяцкая, художница — график и поэт.
Наше содружество называлось «Чаша». На этих вечерах молодежь читала стихи, а в заключение с оценкой прочитанного и со своими произведениями выступал сам Вячеслав Иванович. Из людей старшего поколения, бывавших на собраниях «Чаши», надо назвать профессора — искусствоведа и археолога Всеволода Михайловича Зуммера и близкого друга семьи Ивановых Сергея Витальевича Троцкого, очень своеобразного и тонкого мыслителя идеалистического толка. Сохранилась групповая фотография, на которой запечатлены почти все участники наших вечеров. Здесь, кроме вышеназванных, сняты: Михаил Аркадьевич Брискман, литературовед и библиограф, впоследствии специалист по творчеству А. И. Одоевского; Александр Васильевич Уэльс, дальнейшая судьба которого мне неизвестна; Мирра (Мариам) Моисеевна Гухман, впоследствии видный лингвист; Михаил Михайлович Сироткин, очень талантливый и многообещающий филолог и поэт, впоследствии занявшийся вопросами педагогики и психологии; Андрей Константинович Давидович, тогда студент, впоследствии агроном и садовод; Цезарь Самойлович Вольпе, специализировавшийся на изучении жизни и творчества Жуковского и Блока, автор книги «Судьба Блока», в начале 1942 года погибший при эвакуации из Ленинграда в районе Ладожского озера; Лидия Вячеславовна Иванова, впоследствии композитор, ученица знаменитого Респиги; Ксения Михайловна Колобова, впоследствии профессор Ленинградского университета, специалист по античной истории; Нина Александровна Гуляева, дочь нашего профессора философии, автора учебника логики А. Д. Гуляева; Мария Яковлевна Варшавская, впоследствии научный работник Эрмитажа, специалист по западной живописи, ставшая женой М. А. Брискмана; Александра Васильевна Вейс, вскоре ушедшая на комсомольскую работу и погибшая в ссылке; Елена Борисовна Юкель, вышедшая замуж за владельца радиомагазина в Тегеране (в замужестве Оганян); Елена Александровна Миллиор, историк, знаток греческой истории и литературы, после блокады Ленинграда так и оставшаяся в Ижевске, в тамошнем педагогическом институте (умершая в январе 1980 года в Ленинграде); фотографируясь, я удостоился чести сесть у ног Учителя и положить ему на колени согнутую в локте правую руку. Мы снимались в середине мая 1924 года, днем, на большой, широкой застекленной веранде, примыкающей к комнатам, которые занимали Кузнецовы. Это была едва ли не последняя наша встреча.
Обычно, после наших дружеских чтений, мы обступали Вячеслава Ивановича и отправлялись его провожать, благо до университета, где он жил, было всего несколько кварталов. Но Вячеслав Иванович всегда отговаривал нас от этих проводов и даже сердился на нас.
В мае 1924 года A. B. Луначарский пригласил В. И. Иванова приехать в Москву, чтобы принять участие в первых Всесоюзных Пушкинских торжествах по случаю 125–летия со дня рождения поэта. Вячеслав Иванович согласился и решил выступить с докладом «Пушкин в 1824 году». Уже тогда предполагалась его поездка в Италию. Это надо было обсудить при встрече с Луначарским и официально оформить.
И вот, в середине мая Вячеслав Иванович предложил мне ехать с ним в Москву; ехать не только для того, чтобы сопровождать его, но и попытаться с его помощью перевестись в Московский университет. Он полагал, что после его отъезда в Италию осиротевшим ученикам будет не просто кончать университет, особенно русистам (возглавлявший кафедру русской литературы профессор A. B. Багрий не скрывал своей неприязни к В. И. Иванову и его ученикам). Надо ли говорить о том, что предложение Вячеслава Ивановича я принял с восторгом?
28 мая Вячеслав Иванов выехал из Баку в Москву. Мне удалось получить отпуск из Политотдела Каспийского военного флота, где я тогда служил преподавателем русского языка и литературы в школе повышенного типа «Красная звезда», и я отправился вместе с Вячеславом Ивановичем в одном купе скорого поезда.
Мне запомнились проводы на Бакинском вокзале горячим, по — летнему солнечным днем. Многие ученики пришли проводить Вячеслава Ивановича. Лидия Вячеславовна и Дима оставались еще некоторое время в Баку и приехали в Москву позднее.
Когда мы переезжали по большому мосту через Оку, уже неподалеку от Москвы, Вячеслав Иванович сделал на своей книге «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923) такую надпись:
Милому спутнику из Баку,
Виктору Андронниковичу Мануйлову,
При переезде через Оку,
Любовно требуя верности эллинскому языку.
В. И.
30 мая
Требование верности греческому языку весьма характерно для Вячеслава Ивановича и значительно накануне его отъезда в Италию и предстоящей разлуки. Известно, что он с 11–летнего возраста по собственному почину стал изучать греческий язык на год раньше, чем это было предусмотрено гимназической программой. В университете я читал Овидия, Горация и Катулла с Вячеславом Ивановичем, но греческий язык начал изучать у другого преподавателя и, к сожалению, так и не смог впоследствии продолжить эти занятия, хотя, конечно, понимал всю необходимость для русского филолога «верности эллинскому языку».
Москва понравилась Вячеславу Ивановичу своим оживлением, бодрым ритмом. Мы остановились в Доме Ученых на улице Кропоткина, бывшей Пречистенке, а затем вскоре Вячеслав Иванович устроил меня жить у Майи, Марии Павловны Кудашевой, впоследствии жены Ромена Роллана. Она жила тогда неподалеку от Дома Ученых в одном из переулков на Остоженке.
Но встречались мы с ним каждый день, то обедали в Доме Ученых, то у кого‑либо из многочисленных знакомых Вячеслава Ивановича: у П. Н. Сакулина, М. О. Гершензона, Г. И. Чулкова, A. C. Рачинского, Л. П. Гроссмана и т. д.
В Москву Вячеслав Иванович привез стихотворное либретто оперетты «Любовь — мираж», и я присутствовал у Чулковых на Зубовском бульваре на чтении и обсуждении этого либретто, столь неожиданного для Вячеслава Иванова жанра.
Когда чтение было окончено, Вячеслав Иванович попросил присутствующих до начала обсуждения подать ему записочку, обозначив на ней знак плюса или минуса (знак одобрения или осуждения). Вместо этого я написал такой элегический дистих:
Минуса я не поставлю, но плюс на листке воздвигая,
Над опереттою всей ставлю подобье креста.
Такой приговор показался многим туманным, и поэтому Вячеслав Иванович потребовал, чтобы автор объяснил, что он хотел сказать своим двустишием. Мне пришлось открыться, и я объяснил, что по моему мнению либретто написано настолько умно и тонко, что оно не дойдет до публики, не будет иметь успеха. К сожалению, я оказался в известной мере прав, музыка оперетты была написана композитором Поповым, но оперетта так и не была поставлена.
Вскоре после приезда в Москву состоялось свидание В. И. Иванова с A. B. Луначарским. Вячеслав Иванович пригласил меня сопровождать его, и мы отправились утром из Дома Ученых на Чистые Пруды, д. № 6, где помещался тогда Наркомпрос.
Пока дошла очередь до Вячеслава Ивановича, я наблюдал в приемной у Луначарского любопытный эпизод. Среди посетителей обращал на себя внимание пожилой, высокий и худой, очень подвижный человек в сильно поношенном, но когда‑то элегантном костюме. Он был возбужден и разговорчив. Выяснилось, что это учитель танцев из Вологды, у которого Луначарский жил в молодости, в дореволюционные годы, в ссылке. Луначарский, Толя, как его по старой привычке называл танцмейстер, сначала ухаживал за старшей дочерью маэстро — красавицей Рахилью, а затем за младшей, Розой. И вот теперь танцмейстер прочел в газетах, что нарком Луначарский озабочен судьбой балета Большого театра. И танцмейстер решил, что нужно срочно ехать «к Толе», чтобы помочь ему организовать и поднять советскую хореографию. Бедный учитель танцев думал, что его примут с распростертыми объятьями, как старого друга, «осыплют милостями и золотом». Но увы! Когда он выходил из приемной наркома, на лице его было написано разочарование. Выяснилось, что спасать русскую хореографию Луначарский намерен, не прибегая к его квалифицированной помощи.
Танцмейстер покинул приемную наркома, и В. И. Иванова пригласили в кабинет Луначарского. Тут, во время их разговора, я увидел, насколько Анатолий Васильевич уважал и, больше того, любил Вячеслава Ивановича. Луначарский был человеком необычайной широты интересов. В свое время он часто бывал по средам «на башне» у Вячеслава Иванова, спорил там с Н. Бердяевым, с Д. Мережковским, с В. В. Розановым.
И вот теперь, в 1924 году, возобновился разговор людей, хорошо знавших друг друга. Это не была беседа руководителя комиссариата просвещения с одним из деятелей культуры, это была непринужденная встреча добрых знакомых, конечно, не единомышленников, но людей, хорошо понимавших друг друга.
Хочу особо подчеркнуть, что В. И. Иванов не был эмигрантом, что он уехал в Италию по командировке наркома просвещения, довольно долго получал профессорское жалованье из бакинского университета и затем остался в Италии с ведома и разрешения Советского правительства.
6 июня 1924 года в Большом театре должен был состояться вечер, посвященный 125–летию со дня рождения Пушкина. В торжественной части вечера предполагались выступления П. Н. Сакулина, М. А. Цявловского и Вячеслава Иванова. Сакулин от имени ученых и организаторов вечера просил A. B. Луначарского открыть собрание, Луначарский долго отказывался, но потом согласился: «Я скажу краткое слово минут на пятнадцать. Что же я буду говорить о Пушкине, когда здесь присутствуют такие пушкинисты». Когда Луначарский с небольшим опозданием открыл многолюдное собрание и начал речь, он увлекся и проговорил более двух часов. После этого с кратким словом выступил П. Н. Сакулин. Вячеслав Иванов был в президиуме и произнес свою речь о Пушкине в 1824 году, особое внимание уделив анализу «Цыган». Концерт пришлось значительно сократить.
В перерыве перед концертом пили чай. Луначарский был несколько сконфужен, но все же приветливо беседовал с Вячеславом Ивановичем, П. Н. Сакулиным и М. А. Цявловским. Между прочим, шел разговор о делах Ясной Поляны, судьба которой тогда волновала Цявловского.
Мне вспоминается еще встреча В. И. Иванова с В. В. Маяковским, на филологическом факультете Московского университета.
Через несколько дней после Пушкинского вечера В. И. Иванов был приглашен обедать к П. Н. Сакулину. Вячеслав Иванович позвонил к Павлу Никитичу и сказан: «Со мной приехал мой ученик из Баку. Он, конечно, может пообедать в Доме Ученых, но ему полезно посмотреть, как обедают московские профессора. Позвольте, я приведу его к Вам». Мы пришли к четырем часам дня. Это была большая профессорская квартира. В шкафах и на столах масса книг. После обеда Павел Никитич сказал: «А ведь я вас пригласил не просто пообедать. Мне, Вячеслав Иванович, надо вас заманить на собрание Общества любителей российской словесности, которое собирается по пятницам. Мы хотим вас там немного фетировать» (то есть чествовать). Вячеслав Иванович сказал, что он согласился бы с удовольствием, но нет у него сейчас ничего готового, стихов с собой не захватил, читать нечего, одним словом, чтобы не ждали от него интересной программы.
Мы отправились в старое здание Московского университета, где собралась полная аудитория. Студенты встали и аплодисментами приветствовали Вячеслава Иванова. Когда П. Н. Сакулин открыл заседание, один из студентов, участников общества, начал очень витиевато произносить для всех присутствующих мучительную речь. Это было приветствие Вячеславу Иванову, очень высокопарное приветствие: «…Вы, бард нашей поэзии, спасибо, что вы посетили нас. Для нас это событие, потому что мы все сыны муз…» и все в таком духе. В тот момент, когда речь была, видимо, только на середине, с шумом открылась дверь и вошел В. Маяковский с палкой в руке. За ним — Н. Асеев, а потом еще поэт Наседкин. Маяковский еще в дверях громко прервал говорившего студента: «Как вам не стыдно, молодой человек? К вам приехал большой поэт, а вы говорите такие смердящие слова?! Прекратите словоблудие! Ни Вячеславу Иванову, ни нам эта патока не нужна. Лучше поговорим о деле, почитаем хорошие стихи. Вячеславу Ивановичу будет интересно, если я почитаю мои стихи. Он послушает и вы послушаете не поэзию вчерашнего дня, а поэзию сегодняшнюю. Вячеслав Иванов умеет ценить настоящую поэзию. Мне давно хотелось почитать ему».
Вячеслав Иванович обрадовался прекращению высокопарного панегирика и поддержал Маяковского. Он пересел на одну из парт, чтобы лучше видеть Маяковского, и Маяковский начал читать свои стихи — просто, отчетливо и громко, как всегда, превосходно. В. Иванов слушал Маяковского очень внимательно. Был перерыв. Пили чай. (В то время был хороший обычай — пить чай в перерыве заседаний). В. Иванов сидел рядом с Маяковским. Они говорили о поэме «Про это», которая была недавно закончена Маяковским. В. Иванов говорил с Владимиром Владимировичем, как с хорошим, добрым знакомым, хотя они встречались не часто. В. Иванов говорил: «Мне ваши стихи чужды. Я такого построения стиха и такой лексики для себя не могу представить. Но это и хорошо. Потому что было бы ужасно, если бы все писали одинаково. Мне ваши стихи кажутся чем‑то похожим на скрежет, как будто бы режут по стеклу чем‑то острым. Но это, вероятно, соответствует тому, что вы чувствуете. Я понимаю, это должно волновать нашу молодежь». Говорилось это вполне сочувственно. Потом зашел разговор о поездке за границу, о том, что В. Иванов едет в Италию, будет продолжать работу над переводом «Божественной комедии» Данте. Шла речь о Пушкине, о Блоке, о литературных и театральных новостях. При этом присутствовали 2–3 студента, старосты из этого общества. Это было, примерно, 10–11 июня 1924 года. Встреча с Маяковским произвела на Вячеслава Ивановича хорошее впечатление, и он потом тепло вспоминал о шумном и напористом появлении Маяковского в этом затхлом собрании «любителей российской словесности».
Через несколько дней Вячеслав Иванов отправился к Валерию Брюсову на Мещанскую улицу. В. Я. Брюсов собирался на все лето ехать в Коктебель. Он получил приглашение от М. Волошина, но опасался, как бы не встретить там Белого, с которым был в ссоре. (Там они все‑таки встретились в гостеприимном доме Волошина и помирились).
Разговор был очень значительный и ответственный. Вячеслав Иванович пришел к В. Я. Брюсову, уже совсем больному. Он и в Коктебель поехал с недолеченным воспалением легких. Когда мы пришли, В. Я. Брюсов сидел в кресле. Может быть, это было не кресло, а качалка или глубокое кресло с колесиками. Был не очень теплый пасмурный летний день. Брюсов сидел укутанный пледом. Вячеслав Иванов подошел и сурово и строго поздоровался с ним, а затем сказал приблизительно следующее: «Ну, вот видишь, Валерий, что ты сделал со своей жизнью, а главное со своим творческим даром?» И Вячеслав Иванович стал строго и гневно высказывать свое суждение о последних стихах В. Я. Брюсова: «Это не ты писал. Писал, как если бы это было тебе заказано. Но это не твои стихи и не твой голос».
Мне приходилось видеть Брюсова в предыдущие годы, как руководителя ЛИТО, как человека, который был хозяином положения, властным, спокойным, недоступным. А здесь мне стало жалко Валерия Яковлевича, и мне было неловко. Мне не нужно было присутствовать при этом разговоре. Брюсов весь сжался. Он стал жалким, каким‑то маленьким. Как будто действительно почувствовал свою вину. И он говорил, что теперь ничего уже нельзя изменить, что все уже сделано, жизнь почти решена. Он говорил о том, что задумал написать большую вещь, но какую именно, не сказал. «Вот я там все и выскажу. Ты поймешь». Вячеслав Иванович говорил о том, что поэзия не может жить одним только умом. Нужно эмоциональное внутреннее наполнение, прозрение, самораскрытие духа. В. Я. Брюсов как бы оправдывался. Он был в положении человека уязвленного, не обиженного, но раненного. Вячеслав Иванов не долго был у него. На прощание он сказал: «Нам нужно было повидаться, мы долго не виделись. Я хочу, чтобы ты знал, что я тебя любил и мне тебя очень, очень жалко». Так они расстались. Эта встреча задела и ранила В. Я. Брюсова. Это были дни, когда он подводил итоги своей жизни и чувствовал неудовлетворение от многого.
В то же лето В. И. Иванов ездил в Троице — Сергиеву лавру к П. А. Флоренскому, но я не сопровождал его. Помню только, что он вернулся очень удовлетворенный значительностью состоявшейся беседы, особенно просветленный и сосредоточенный.
Наконец, наступил день, когда я должен был уезжать из Москвы к родителям в Новочеркасск, а Вячеслав Иванович еще оставался в ожидании визы для отъезда в Италию. Мы обедали в последний раз и прощались в Доме Ученых.
Это было очень долгое прощание. Мы совсем уже простились, и я спустился со второго этажа. В вестибюле я надевал пальто. И вдруг вижу — Вячеслав Иванович быстро спускается с лестницы, бежит в вестибюль: «Я не могу, я должен вас еще раз обнять». Мы обнялись и оба заплакали.
Больше мы не встречались. Но была переписка. Было несколько очень дорогих мне и значительных писем от Вячеслава Ивановича из Италии: из Рима и Павии, где в колледже Борромео он преподавал греческий, латинский и церковно — славянский языки. В своих письмах к В. Иванову я иногда посылал посвященные ему стихи. Вот одно из них, написанное 25 мая 1925 года и отправленное из Новочеркасска:
ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ
По вечерам рассматриваю карту Италии далекой и желанной, И снится мне потом, как будто в Риме Я просыпаюсь утром золотым… И улицею Четырех фонтанов, Насквозь пронзенной звонкими лучами, В который раз, походкою весенней, Я прохожу по левой стороне… И всякий раз, в окне одном и том же, Склоненное над книгою старинной (Должно быть, томик вещего Эсхила) Мне светится знакомое лицо. Учитель мой, все тот же, как и прежде, Твой горестный и величавый облик, Власы, дымящиеся ореолом, Кольцо опаловое на руке. И опаленный радостною болью, Бросаюсь я к тебе и просыпаюсь, И снова русское смеется солнце И освещает карту на столе.[269]В заключение мне хочется привести одно из писем Вячеслава Ивановича, посланное им 18 марта 1928 года из Павии на бланке колледжа Борромео:
«Дорогой, родной Витя, я глубоко благодарен вам за письмецо — слишком уж короткое, но более длинного я и не заслужил своим могильным молчанием. Однако не корите меня за него, и так как, видимо, Вы, в самом деле, меня не корите, я объясняю это всепрощающее великодушие верным голосом Вашего золотого и вещего сердца, которое могильного молчания не боится, им не смущается (как не смущается вообще отсутствием знаков), но твердо знает, что его любят и за могилой, как я Вас неизменно — в неизменной, даст Бог, сущности Вашей — люблю. Знаю, что Вам трудно, и верю, что Бог Вам поможет. Напишите все же подробно о себе, о своем здоровье, своих работах, замыслах и видах на будущее; наконец, сообщите новые из ваших стихов. Напишите также о товарищах, о Ксении [Колобовой], о Нелли [Миллиор], об Альтмане, о Вольпе; кланяйтесь им, а Цезарю [Вольпе] скажите еще, что я очень перед ним винюсь. Сергею Витальевичу [Троцкому] я тоже не писал целую вечность, перешлите ему мой братский привет, я очень, очень за него тревожусь. Пишите мне без большого риска остаться в проигрыше, п. ч. теперь, кажется, буду отвечать исправно, хотя, быть может и плосковато, т. е. не глубоко, не существенно, но достаточно содержательно: иначе, видно, не сумею. Но Вы меня знаете, и сердце сердцу весть подаст.
Обнимаю Вас от всего сердца и желаю счастливой Пасхи. А, может быть, Вы на Пасху‑то на Кавказ махнете или к семье, и письмецо это до Вас не дойдет? Жаль было бы, потому что хочется подать Вам ласковую весточку и заочно Вас обнять.
Ваш Вяч. Иванов.»
Вот и из этого письма видно, что мы были для Вячеслава Ивановича не просто студенты, а будущие люди, дорогие ему люди.
В. И. Иванов умер в Риме 16 июля 1949 года.
Проходят годы. Сейчас все больше и больше понимаешь, как много он нам дал, понимаешь и то, чего не понимал раньше. Это как пружина, которая долгие годы развертывается. Я убежден, что если бы нам удалось донести до других людей не только поэзию Вячеслава Иванова, а его человеческое значение, то, что был такой человек и что такие люди могут быть и бывают, то, быть может, это было бы самое главное из тех дел, которые могли бы еще сделать.
Ольга Мочалова О Вячеславе Иванове Из воспоминаний
Как только хватило храбрости придти к большому человеку, поэту, мыслителю, ученому в его кабинет на Арбате? Или же это гнала фильская тоска? Я была стриженая, замерзшая, угрюмая и — дерзкая. Помню первый визит в квартиру Вячеслава Ивановича. При разговоре присутствовал Иван Моисеевич Дегтяревский, верный оруженосец поэта и его подголосок. В дальнейшем устроитель пушкинского семинара в своем доме (Староконюшенный, 4), известного, как студия Гунста. Разговора не помню. Впоследствии Вячеслав Иванович говорил мне:
— Вы имеете обыкновение не нравиться сразу. Я тоже подумал тогда — «что‑то странно»… Но потом… потом…
Я стала бывать в Большом Афанасьевском. Как‑то хорошо, легко получалось входить в эти двери, непринужденно завязывалась беседа. Доверчиво, щедро рассказывал В. И. о своей покойной жене Зиновьевой — Аннибал, об ее необыкновенном даровании постигать человека. Вспоминал о ее тяжелой смерти — она задохнулась, заразившись скарлатиной, волновался, ходил по комнате. Я с замиранием сердца смотрела на большой портрет сильной, властной женщины, висевший в простенке. Позднее мне стало известно о посмертном общении поэта с умершей возлюбленной. Гершензон говорил, что Лидия Дмитриевна была не менее одарена, чем ее гениальный муж. Она умела находить общий язык с деревенской старушкой и равно с представителем высшей культуры. Она была автором книг «Трагический зверинец», «Тридцать три урода», «Кровь и кольцо»[270].
Я не могла вовремя познакомиться с ее произведениями, а затем они пропали с книжного рынка совсем. Но то, что мне довелось прочитать, пугало каким‑то необузданным протестом, экзальтированностью, вызовом. Характерны для нее запомнившиеся строки:
Впервые: «Новый журнал», кн. 130, 1978, с. 150–158. Ольга Алексеевна Мочалова (1898–1978) — поэтесса, творчески и биографически связанная с некоторыми поэтами символистского круга. Автор неизданных воспоминаний «Литературные встречи» (ЦГАЛИ).
— Я б устроила в бане бал.
— Я Зиновьева — Аннибал.
Впрочем, тогдашнее мое суждение было незрелым. Думается, что она принадлежала к авторам более талантливым в жизни, чем в произведениях.
Настало теплое время, стаяли снега. Моя бритая голова оделась кудрявой шевелюрой. В. Ив. был нежно — внимателен и участлив ко мне. Он удивлялся моей интуиции, угадыванию мыслей. Так, я чутьем узнала о его пристрастии к Городецкому. Об этом кратковременном взрыве взаимного влечения.
В ту весну и лето я посвящала В. Ив. стихи. Не всё уцелело. Были строки:
Как страстно я запомню это лето,
Где, царственным внимание согрета,
Я в ласточку менялась из совы.
О, древнее лукавство жизни,
Приоткрывающее путь к отчизне,
Зеленый цвет травы!
Война, потрясения, бесхлебица, неустроенность — всё преодолевалось тогда силами молодости, встречей с гением, безгранично душевно — богатым.
К этому лету относится также мое признанье.
— Через меня послана
Белая роза,
Роза бездонного мира
Поцелуем глубин благовонных,
Веяньем звездного неба
Навстречу сиянию в Боге
И вечной живости веры
Даром любви.
Прочитав врученный ему листочек, В. Ив. взял меня за руку и долго, долго безмолвно смотрел в глаза. Мне даже стало неловко.
Об этом посвящении Гумилев впоследствии говорил:
— Отголосок символизма. Идет певец по дороге и поет. А женский голос следует за ним, прячется в кустарнике и подпевает…
Году в 20 (?) Вячеслав Иванович уехал в Баку в поисках лучшего устроения жизни. Он очень любил свою семью и всемерно о ней заботился. Расставанья не помню. В 1924 году Вячеслав Иванович с Лидой и Димой вернулся в Москву и остановился в Доме ученых. Намечался скорый отъезд его в Италию при содействии
Луначарского. Религиозному философу не находилось места в нашей стране. Он спрашивал обо мне, посылал знакомых съездить за мной на Фили и наладить встречу.
В Арбатском переулке в помещении школы Маяковский читал доклад о рифме, а Вячеслав Иванович сидел в Президиуме в качестве оппонента. Туда я пришла для встречи с ним. Во время доклада я захотела переменить место и встала со стула. В. И., думая, что я ухожу, вышел из‑за стола, подошел и шепнул:
— Не уходите, я хочу с вами поговорить…
Так началось наше второе знакомство.
Он допытывался о моем семейном положении, я отвечала уклончиво. Он сердился. Он прелестно сердился. Жалел, что жизнь так неустроена.
— С некоторых пор я замечаю, что мысль о вас сопровождается музыкой…
Смотрел на фото и говорил: — Прелестная девушка, в которую я влюблен…
— Надо поставить маяк, внутренний и внешний…
Я спрашивала: — Кто к вам ходит? — Ко мне ходят только поэты.
— Расскажите о себе…
— Я как принц в построенной башне. Мир в основном уже познан…
Одного из приходящих поэтов я встретила: маленький, чуткий и пугливый, как зверек среди людей. Не знаю, что он писал, но сам был фантастическим персонажем гофмановских сказок.
— Всё плачешь ты
О мертвом женихе… — говорил В. Ив. по поводу моей печали о Гумилеве. — Он Вас отметил и умер.
— Лермонтовски — гумилевский темперамент.
Постоянным посетителем В. Ив. был Юрий Верховский. Приходила Александра Чеботаревская, покончившая с собой в тот год. Писали портреты художники.
— Мир держится молитвами тайных старцев…
В. Ив. узнал, что ко мне на Фили ходит некий поэт, с очень дурной репутацией. Он был всюдошный и вездешний, претендовал на роль духовного руководителя. Впоследствии его сослали и в ссылке он погиб. Мне он жестоко повредил, прекрасно разобравшись в моей неопытности, бескорыстии и беззащитности. Пошло — талантливый и пошло — бездарный, он имел у многих скандальный успех.
В. Ив. решительным разговором разорвал это знакомство. — Простите, что я поступил без вашего согласия…
А я и не сердилась. Вопрос был накрепко решенный.
Одно из посвящений мне этого духовного провокатора я всё же приведу:
Смотрю, забыв сближения,
Как входишь ты на путь,
Как в мерности движения
Крылато дрогнет грудь.
Такие же высокие
И отдых, и покой,
У ангелов Вероккио,
Идущих в сад святой.
Но мироненавистнику
Мне радостен и люб
Подобный остролистнику
Обрез горящих губ.
Мы расстались с В. Ив. наскоро. Тон прощанья с его стороны был раздраженный. Уезжая, он увозил с собой спутницу жизни O. A. Шор. Перед отъездом он написал мне предисловие к предполагаемому сборнику стихов. Это и был поставленный мне маяк — внутренний и внешний.
По общему утверждению, Вячеслав Иванович удивительно выиграл в наружности к возрасту седины. В зрелости он был рыж и массивен. Это ушло и осталась соразмерность фигуры, тонкость черт лица. Не одни «жены — мироносицы», как ехидно называли его поклонниц, восхищались каждым жестом, каждой позой великого артиста. Даже не вникая в суть его высказывания, можно было на собеседованьях любоваться многообразием оттенков, которыми весь он переливался. Женственность, младенческая беспомощность опущенных рук, что‑то от птицы, от камня, от колебанья ветвей. Лицо ученого, мудреца, провидца. Изящество каждого слова и каждого шевеленья. Как милостиво и сдержанно принимал он пищу. Голос его не имел сравненья по своему музыкальному звучанью — выверенный звук, легко взлетающий, прозрачный, серебряный. Великолепное знанье людей и уменье властвовать ими. Говорили, что еще в гимназические годы он умел усмирять юношей — кавказцев, которые бросались друг на друга с кинжалами во рту.
Эпитет «необыкновенный» приходится повторять многократно, постоянно.
Не удержусь сказать: «Необыкновенное душевное богатство». «Вячеслав Великолепный» — назвал свою статью о нем Лев Шестов[271].
Всем известно пристрастие В. Ив. к Древней Греции. Аполлон и Дионис были вехами его мировосприятия. Он как‑то сказал мне, что в Греции его привлекает то, что он считает руководящим — чувство меры. Но мера его была мерою снежных горных вершин. Обычное человеческое — упреки, жалобы, досада, раздражение — отступали от него прочь. Он был очень деятелен в жизненной борьбе, не поддаваясь «житейскому волненью».
Я знаю только одно имя, которое можно сопоставить с В. Ив. — Генрик Ибсен. Та же многогранность ума, горный воздух, неизменяющее равновесие изящества. И — познание пещерных лабиринтов со всеми трудностями хождения во мраке.
Вячеслав Иванович кончил своего «Человека» молитвой «Царю Небесный», как Гете кончил «Фауста».
МОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ
Как виноградная лоза Змеен, Как юность первого дня Древен… Залетным переливом соловья Он высылал вперед себя свой голос, Порою остр с оттенком лезвия, Но чаще звук был светел, нерасколот. Затем весь облик выступал ясней: Извилистая длинных губ улыбка. Высоты мудрой седины, пенснэ, Движений женственная зыбкость. Завесы пурпур, жезлы, рамена, Подземный храм, сплетенные ехидны, Зал малахитовый под диском дня На будничной земле казались очевидны. Чудесное чудовище пещер В ученейшем скрывалось человеке. Страны других весов, особых мер, Куда текут не возвращаясь реки. Томим безмерной давностью времен, Он, не желая, слишком много помнил, Древнейшее не проходило в нем Как после пира вяжущая томность. Но почему его тончайших слух И гений, словно свет мгновенный, Дар превращенья, устремленный дух Не овладели властью поколеньей? В нем есть вина. Пещеры тайный мрак Скрывал порой не россыпи алмазов, В нем различает напряженный зрак Сомнительную двойственность соблазнов. Но за вину кем может быть судим Чудесный образ, близкий Леонардо? Не виноват ли больше перед ним Род неотзывчивый, неблагодарный? Былое восхищение храня, Мы все забвению не уступаем Заливы рек, блаженные моря, Которые его, лелея, обтекали.1939 год.
ПРЕДИСЛОВИЕ К СТИХАМ ОЛЬГИ МОЧАЛОВОЙ
Искусство наших дней не знает общей, прямой, ровной дороги. Вразброд торят пионеры нехоженные пути, забираясь порой в невылазную глушь, и не всем легко и по сердцу пробираться за ними звериной тропой.
Такова и лирика О. М. Не всем сразу прозвучит она полным и внятным голосом; зато не раз и вознаградит прислушивавшихся и вникавших интенсивным просверком жизненной правды и своеобразной, причудливой красоты.
Ночь — и небесный всадник развернул «свиток точных звезд». Летний зной и «колонны воздуха перепилены алмазным журчанием птиц». Зима — и «белкой на землю спрыгнул снежок». О воде — «нет женственнее переходов — возвращаться и умирать». О вечере — «Богородица кротких рук». О котенке: «обрывочком пиратских грез котенок мой живет»! И еще — «шелковинка моя, водопадик, забавный до искр паяц, суматоха моя, котенок, потеха, посмеха, кот». «Столько нанюхался леса, заподозрел ведьминых грез, что рубин пред тобою безволен, женщина несильна».
О жизни: — «Итальянский мальчик». О сирени: «Как страсть гениальной старухи, протягивает руки, изысканна и страшна».
О душе: «Из обломков радуг моих построй человечью душу».
Любимый «прием» поэтессы, проще сказал бы — оригинальная особенность — парадокс воображенья.
Поэзия ли это? Но как назвать иначе сжатую в немногих с налета, но не случайно схваченных словах, такую встречу души и жизни, когда последняя неожиданным поворотом и выраженьем лица как бы проговаривается и выдает что‑то о себе первой. А эта мгновенно ловит вырвавшиеся просверком полупризнания и делает из этого лишнее слагаемое своей дружбы и вражды, влюбленности в мир и ненависти к миру? Поистине, это схватыванье чужого и нечаянного в изведанном и обычно — замкнутом, это целостное изживанье в типичном явлении его внезапно усмотренной разоблаченной единственности и вместе общности с отдельным и чужеродным — составляет индивидуальную основу поэзии, как творчества образов.
Искусство ли это?
Да, если не победу гармонии и высоты, незыблемых, как прежде, мы зовем ныне искусством, но и отчаянно — дерзкую игру с прибоем хаоса на крайних отмелях разумного сознанья. Необычайная по быстроте и остроте сила узрения, представляющая новыми и невиданными знакомые вещи и отношения, давно была примечена мною в первых поэтических опытах М. Ради этой силы и прощаю их дерзкую и вместе застенчивую, злую и ласковую дикость, их невыдержанность и беззаконность. В ее глазах лирическое зеркало, искажающее линии и пропорции вещей, как искажает и сдвигает все новое искусство, но сосредоточивающее в предмете, как в некоем фокусе, их душу. И еще за то я мирюсь с ее варварской музой (волчья Беатриче), что в ее стихах поет лесная хищная кровь под холодною маской гордой и резкой мысли, за то, что она не любит интонаций душевной убедительности и, определяя или изображая вещи и ощущенья, больше скрывает, чем выражает сердечное чувство (признак глубокой страстности); за металлически — звонкий и уверенный тон ее приговоров, тем более звонкий и холодный, чем мучительнее заключенное в них признание, за рассчитанную сухость определений, за алгебру отвлеченных понятий, раскрывающих только внутреннему зрению цветущий образ, за надменную скупость слов и мелодий, за сдержанный в наружном проявлении и в глубине неукротимый душевный пыл. Талант жестокий и хрупкий. Она похожа на Гумилева, в стихах которого по ее словам «стройный воздух» — духом его вольности и вызова и сталью духовного взора и напоминает порой Маллармэ (которого не знает) приемом сочетанья абстрактного с чуждым конкретным для обозначенья другой, не названной конкретности, как и парадоксами синтаксиса.
Начало творческой деятельности М. многое обещает и ко многому обязывает, но поручиться за нее ни в чем нельзя. Гордая, она по — лермонтовски несвободна, потому что не находит в себе воли — веры, нужной для выбора пути. То строго — пытливо, то дерзко — жадно вглядывается она в лицо жизни, но песня не ставит ее выше жизни, не освобождает. У нее самостоятельная оригинальная манера при относительной слабости техники (стихи ее различишь среди тысячи) и великолепный поэтический темперамент, сочетающийся с необыкновенною силой узренья, но еще нет окончательно сложившегося лица.
Вячеслав Иванов
Москва, 27 августа 1924 г.
Павел Муратов Вячеслав Иванов в Риме
Впервые — «Звено» (Париж), воскресенье, 9 мая 1926 г., № 171, с. 2–3.
В модном клубе «Чирколо Рома» Вячеслав Иванов читает лекцию о религии Диониса. В удобных креслах по сторонам и в рядах стульев человек сто, сто пятьдесят слушателей: несколько литераторов, несколько клубных людей, корректно дремлющих под медленные слова ученой речи, три или четыре священника, много почтенных дам, приведших просвещаться хорошо воспитанных и хорошо одетых дочек. В стороне неподвижный, ясный и торжественный в своем сюртуке, старый друг лектора, некогда петербургский, а ныне варшавский профессор Фаддей Зелинский. Над нашей головой, в плафоне сеттеченто, боги «ложно — классической» мифологии, Сатурн и, кажется, Юнона с павлином. По стенам прекрасные пейзажи в духе Пуссена. Над лектором лилии и голубь с масличной ветвью в гербе хозяев дворца, Дория Памфили.
Вячеслав Иванов вспоминает — по — итальянски — страницы той книги, которую, вот уже лет двадцать, как все мы мечтали по — русски прочесть, с тех пор как увидели ее главы в «Вопросах Жизни»[272]. Далекие воспоминания! Однако, у некоторых книг своя печальная судьба. «Ватек» Бехфорда весь целиком погиб когда‑то в трюме потопленного судна, пытавшегося прорвать блокаду революционной Франции. Каким‑то чудом в руки Малларме попал почти через сто лет едва ли не единственный его экземпляр. Ивановская «Религия страдающего Бога» погибла целиком, тоже кроме одного экземпляра, в разгроме типографии Сириуса. Положительно, революционные времена мало благоприятны для книг! Однако же, будем справедливы и часть упрека обратим к их авторам. Милорд Бехфорд был дилетантом в литературе. Вячеслав Иванов, прекрасный поэт и ученый, всегда был плохим литератором — печатал мало и неохотно, не собирал себя, разбрасывал щедро и беспорядочно мысли и образы в беседах публичных и частных, в статьях, рассеянных по разным журналам и, быть может, отчасти забытых, пока их не раскопает какой‑нибудь прилежный литературный человек[273].
Последний печатный труд Иванова — научная работа по греческой религии «Дионис и прадионисийство», отпечатанная убого, на скверной бумаге в Баку, где он был перед Римом профессором университета. Книга трудная и специальная, одна из тех, которые прочтут, дай Бог, десять человек. Но студенты «профессора Иванова» все же прочли наверно или, скорее, пытались прочесть его книгу. То были его слушатели, а иметь слушателей — призвание этого ученого — поэта. Найдет ли он хоть одного слушателя здесь среди тех, кто слышит его сейчас в Палаццо Дория!
Вячеслав Иванов и Баку, кто из нас не пожимал плечами при таком сопоставлении. Престранная вообще оказалась судьба у этого русского поэта. Из всех других он должен был бы быть наименее изолированным. Вячеслав Иванов человек круга, аудитории, согласия и содружества. Ему необходимо иметь последователей и учеников. Его знания огромны, и философский, поэтический и религиозный опыт его безмерно драгоценны. Он оттого и не любит записывать свои мысли и закреплять свои образы, потому что естественно, чтобы их записывала со слуха другая рука и сохранило иное воображение. В литературе русской последних десятилетий Вячеслав Иванов и единственный наш подлинный академик. Академик, увы, оставшийся без Академии.
Вячеслав Иванов говорит о происхождении религии Диониса, о культах островных и континентальных, о Фракии, о Крите, о Хиттитах. В его ученой, изданной в Баку книге все эти положения развиты, обоснованы текстами и памятниками. Догадки его необычайно метки, и их секрет — не столько тонкое филологическое чутье, сколько глубокое постижение языка символов. Религии Дионисийские были пестры, причудливы и прихотливы в своих местных оттенках и временных вариантах. Но там, где другой запутался бы безнадежно, там Вячеслав Иванов знает дорогу, руководимый чем более сокровенной, тем более понятной ему символикой.
Надо знать Вячеслава Иванова, чтобы оценить символизм не как прошедший «литературный момент», но как какую‑то вечную систему мысли и чувствований. Вот то, чему этот поэт мог бы научить других поэтов в неосуществившейся Академии. Его филология и его история религии приобрели бы там совсем иные очертания, освещенные лучом символизма, прорывающим покровы обыкновенных знаний. Символический смысл приобрела бы тогда филология, как наука о слове, ибо не есть ли символ прежде всего само слово. И история религии там превратилась бы в нечто гораздо более важное, в религиозное упражнение.
Когда Вячеслав Иванов говорит о Дионисийском экстазе, об оргиазме, о великих мистериях Элевсина, об оракуле Дельф, о культах божественного стрельца, виноградаря, всадника, нет ощущения, что он говорит об идеях и чувствованиях отошедших. Их присутствие, их соприсутствование нашему кругу идей и чувств кажется живым. Слушая его, мы выходим из условной, располагающей все во времени схемы. Символизм религиозный и поэтический не укладывается в эту схему. Глубочайшая, хтоническая сторона греческой религии не изжита, разумеется, и до сего дня. В конце концов, есть только одно постоянство, одна истинная реальность — постоянство и реальность духовного опыта…
Не знаю, многие ли думали так вслед за Вячеславом Ивановым в стенах «Азербайджанского» Университета или в залах этого «Чирколо Рома». Но его «место в жизни», его поворот к истории и действительности, к вещам и идеям, были глубоко понятны поколению, слышавшему русских символистов. Пройдут немногие годы, и станет ясно, что эти поэты, от Владимира Соловьева до Александра Блока, были взнесены на такие высоты мироотгадывания, после которых покажутся, увы, лишь ничтожными те нынешние поэты, которые гордятся своим «преодолением» символизма.
З. Н. Гиппиус Поэт и тарпейская скала
Впервые: «Иллюстрированная Россия», Париж, № 2(660), 1 января 1938 г., с. 2–3.
Очень приятно иногда, забыв газеты и наше «детективное» время, поговорить о чем‑нибудь мирно — спокойном и красивом. Или рассказать о спокойно — счастливой жизни «мудреца на Тарпейской скале», старого нашего знакомца, известного поэта, ученого и философа, Вячеслава Ив. Иванова.
Этим летом и мы жили в спокойном мире и в красоте: горное местечко, городок на скале, окруженный густыми каштановыми лесами, над озером и римской Кампаньей, имел вид райский. Мы его называли «почти — рай» (для точности, потому что не подлинный же, все‑таки, рай).
Но вот октябрь, и мы опять в Риме. Ненадолго, увы: через несколько дней — Париж, низкое небо, дождь…
Сегодня последнее воскресенье. Пойдем в гости к Вяч. Иванову.
В Риме, по сравнению с Парижем, все «рукой подать». Далеко ли от нас, от виллы Боргезе, до Тарпейской скалы? Мы идем пешком.
Вот и волшебная лестница Капитолия. Волчицы не видно. Она спит. Да ее, кажется, из левого густого садика перевели в правый. Там тоже пещера. Марк Аврелий на предвечернем небе. Какое величие в его спокойствии! В одном этом жесте руки — Pax, мир…
Обогнув М. Аврелия, мы идем по узкой улочке, меж старых зданий. Мы уже на знаменитой скале, сейчас, направо, дверь В. Ив — ва, но на маленькой открытой площадке не можем не остановиться: под нами Форум, далее — Колизей, и все это в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола — Ave Maria…
С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ни одной ступени. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Если, через переднюю и крошечную столовую, пройти в стеклянную дверь на балкончик, там — провал; и длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она ведет в темный густой садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин — поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном постоянной своей сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын, студент). Вот эти стихи:
Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.
Над ним, меж книг, единый сон
Двух, сливших за рекой времен,
Две памяти молитв созвучных,
Двух спутников, двух неразлучных.
Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.
Много ль в Париже людей, хорошо помнящих знаменитую петербургскую «башню» на Таврической и ее хозяина. Теперь все изменилось. Вместо «башни» — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумной толпы новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой‑нибудь молодой семинарист в черной ряске, или итальянский ученый. Иные удостаиваются «а партэ» в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина… Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — обстоятельный отклик на все.
Мы как‑то отвыкли от встреч с людьми настоящей старой культуры. А это большое отдохновение. Вяч. Иванов, конечно, и «кладезь учености», но не в том дело, а в том, что заранее знаешь: всякий вопрос, в любой области, он поймет, с ним можно говорить решительно обо всем, что кажется значительным. Как сам он на данный вопрос отвечает — уже не важно: мы часто не соглашаемся, спорим, но спора не длим: взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен, споры же самая бесполезная вещь на свете.
Но особенно воскресала «башня», когда речь заходила о поэзии, о стихах. Мы привезли в Тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченнейший их разбор, давший повод к длинным разговорам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад!
Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе до сих пор живет «эстет» начала века. И он особенно любит в себе «эстета».
Завидно ли мне? Может быть. Что такое новейшее наше разочарование в эстетизме, в литературе, в силе слова? Ведь это, пожалуй, только дань сумасшедшим «темпам» нашего времени, погоне за всяческой «актуальностью». Искусство требует мира и тишины, нам некогда слушать голос муз, мы слушаем радио…
Так или иначе, живущие на Тарпейской скале счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, и Аве Мариа из римского Форума.
Порадуемся за них.
Рим.
Ф. Степун Вячеслав Иванов
В феврале текущего года Вячеславу Иванову исполнилось 70 лет. У нас, его друзей, свидетелей быстрого расцвета его своеобразного дарования, приговоренных ныне судьбою к бессильному созерцанию трагического усложнения жизни на путях страстного отрицания ненужных сложностей (на путях замены сложных чувств 19–го века голыми инстинктами 20–го и сложных мыслей упрощенными идеологиями), есть все основания вспомнить о нем, как о самой многогранной, но одновременно и цельной фигуре русской символической школы.
Для раскрытия верховной идеи России, заключающейся, по Достоевскому, в примирении всех идей, Вячеславу Иванову были отпущены исключительные таланты и силы. Природа щедро наградила его дарами поэта, философа и ученого. Долгие годы заграничных скитаний укрепили в нем его лингвистические способности и открыли ему доступ ко всем сокровищницам древних культур и ко всем глубинам образованности. Результат: единственное в своем роде сочетание и примирение славянофильства и западничества, язычества и христианства, философии и поэзии, филологии и музыки, архаики и публицистики.
Впервые напечатано в «Современных записках», кн. LXII, 1936.
Как почти все ведущие люди символической школы, Вячеслав Иванов был награжден весьма своеобразной и необычайной внешностью. В лисьей шубе с выбивающимися из‑под меховой шапки космами длинных волос и небольшой рыжеватой бородкой, он зимой в извощичьих санках мало чем отличался от сельского батюшки. Склоненный бледным, впоследствии бритым лицом, напоминающим лицо его учителя Моммзена, над лекторской кафедрой, он в длиннополом черном сюртуке являл собой законченный облик немецкого ученого середины прошлого века. Фрак явно превращал его в музыканта. Каждый, мельком взглянув на него, увидел бы в этом скрипаче или пианисте проникновеннейшего исполнителя Бетховена и Шумана. Возраста Вячеслав Иванов был всегда неопределенного. С одной стороны, в нем уже в годы наших частых встреч было нечто старившее его (maître, maestro), с другой же — нечто изумительно юношеское. Эта личная безвозрастность подчеркивалась и углублялась в нем вневременностью его эпохального образа: было в нем нечто прелестно старинное, нечто от портретов предков, но одновременно и нечто явно надломленно — декадентское в том смысле, в котором это слово понималось эпохой рубежа.
Историки греческой культуры согласно утверждают, что вся она выросла из того творческого досуга, которым в богатеющей Греции располагали высшие слои общества. Шлегель, большой знаток античного искусства, любил полушутливо, полусерьезно повторять, что античная праздность — высшая форма божественной жизни. Русская жизнь «рубежа двух столетий» и «начала века» была в этом смысле подлинно античной. У всех людей, принадлежавших к высшему культурному слою, у писателей, поэтов, публицистов, профессоров, присяжных поверенных и артистов было очень много свободного времени. Ходить друг к другу в гости, вести бесконечные застольные беседы, заседать и публично дискутировать в философских обществах считалось таким же серьезным делом, как читать университетские лекции, выступать на судебных процессах и писать книги.
Несмотря на большое количество таившихся в ней опасностей, о которых недавно остро писал Ходасевич, русская довоенная жизнь была в иных отношениях исключительно здоровой. Значение выдающихся людей эпохи не определялось ни славой во французском смысле слова, ни успехом — в немецком. Творческий дух жил еще у себя дома: он не пах ни кровью, ни потом соревнования и не требовал освещения рекламным бенгальским огнем. Несмотря на демократические и социалистические устремления в политике, культура жила своей интимной аристократической жизнью, и лишь в очень незначительной степени капиталом и рынком. По всем редакциям, аудиториям и гостиным ходили одни и те же люди, подлинные перипатетики, члены единой безуставной вольно — философской академии.
В этом мире, беспечно — праздном, но и духовно напряженном, Вячеслав Иванов играл видную роль. В его петербургской, а позднее московской квартире всегда собиралось великое число самого разнообразного народа и бесконечно длилась, сквозь дни и ночи, постоянно менявшая свой предмет, но никогда не покидавшая своей верховной темы беседа. Более симпозионального человека, чем Вячеслав Иванов довоенной эпохи, мне никогда уже больше не приходилось встречать. Вспоминая неделю, которую мне, вероятно в 1910 году, довелось прожить в гостях у Вячеслава Иванова, я прежде всего вспоминаю вдохновенного собеседника. В отличие от Андрея Белого, подобно огнедышащему вулкану извергавшего перед тобой свои мысли, и в отличие от тысячи блестящих русских спорщиков — говорунов, Вячеслав Иванов любил и умел слушать чужие мысли. В его любви к беседе — «Переписка из двух углов» является тому неоспоримым доказательством — было не столько пристрастия к борьбе мнений, сколько любви к пиршественной игре духа. Даже и нападая на противника, Вячеслав Иванов никогда не переставал привлекать его к себе своею очаровательной любезностью. За духовной трапезой он порой, словно острыми приправами, угощал своего собеседника полемическими выпадами, но никогда не нарушал при этом чина насладительной беседы.
Все публичные и полупубличные выступления Вяч. Иванова, его лекции, дискуссионные речи, разборы только что прочитанных стихотворений и просто споры в кругу близких людей неизменно отличались своеобразным сочетанием глубокомыслия и блеска, эрудиции и импровизации, тяжеловесности и окрыленности. Таковы же и его книги («По звездам», «Борозды и межи», «Родное и вселенское»). При всей их учености, они не научные трактаты, солидно построенные по всем правилам логики и методологии, а искусно и легко сплетенные венки из живых цветов дружественных бесед не только с современниками, но и с «вечными спутниками». Их обильные ссылки и цитаты не научный балласт, не подстрочно — профессорская бахрома, а образы живой и признательной любви к тем гениям человечества, без дружеского общения с которыми Вячеслав Иванов не мог бы прожить ни одного дня. Постоянно вспоминая на путях своих раздумий то Платона и Эсхила, то Данте и Шекспира, то Гете и Ницше, Вячеслав Иванов вполне естественно, как бы по закону учтивой любезности, приветствовал их особыми архаизующими интонациями своей речи, то эллинизирующими, то германизирующими жестами языка, тяготеющего в своей русской сущности к древнеславянской витиеватой тяжеловесности.
В связи со всем сказанным ясно, что теоретические работы Вячеслава Иванова (говорю исключительно о трех вышеназванных сборниках, оставляя в стороне его большой ученый труд о Дионисе и дионисийстве) носят характер не аналитический, а синтетический. Во всех них сверху падающий луч религиозно — философской мысли легко и естественно пронизывает все от искусства к политике ниспадающие планы современной культуры. О чем бы Вячеслав Иванов ни думал, он, как все представители религиозно — философской мысли русского символизма, всегда думает об одном и том же и одновременно обо всем сразу. Вместе с печальноликим Владимиром Соловьевым, всю жизнь таинственно промолчавшим о самом главном за тюремной решеткой своих рационалистических построений, Вячеслав Иванов является одним из наиболее значительных провозвестников той новой «органической эпохи», которую мы ныне переживаем в уродливых формах всевозможных революционно — тоталитарных миросозерцаний.
* * *
Все философские и эстетические размышления Вяч. Иванова определены с одной стороны христианством, с другой — великой эллинскою мудростью. Эта единственная в русской культуре, если не считать Зелинского, живая и творческая близость Вяч. Иванова к истокам античной культуры, во многом роднящая его с Гете, Гельдерлином и Ницше, придает его культурно — философским и художественным исследованиям и исканиям совершенно особый тембр. Христианская тема звучит в них всегда как бы прикровенно, в тональности, мало чем напоминающей славнофильскую мысль. Даже и явно славянофильские построения приобретают вблизи античных алтарей и в окружении западноевропейских мудрецов какое‑то иное выражение, какой‑то особый загар южного солнца, не светящего над русской землей.
Большинство статей Вяч. Иванова посвящено разработке художественных, культурно — философских, а в эпоху войны даже и политических вопросов. Постоянно думая над всеми этими темами как человек христианского сознания, Вячеслав Иванов никогда не писал статей определенно христианского богословского содержания. Исходная точка всех размышлений поэта — анализ своего собственного творчества. С самого начала своего позднего выступления в печати Вячеслав Иванов оказался в лагере символистов, поднявших знамя борьбы против иллюстративного натурализма, интеллигентской беллетристики с ее «материалистической социологией» и «нигилистической психологией». Но как ни велики заслуги Иванова в этой борьбе, не ею определится его место в истории русского художественного сознания. Гораздо важнее та концепция религиозно — реалистического символизма, которую Вяч. Иванов противопоставил концепции символизма идеалистического, являющегося, по его мнению, лишь утонченнейшей формой художественного натурализма. Чтобы понять лежащую в основе его эстетики разницу между религиозным и идеалистическим символизмом, необходимо уяснить себе сущность ивановского понимания символа.
Символ есть некий знак. Сущность знаменуемой этим знаком реальности не есть однако извечно статичная идея. Всякое односмысленное приравнение знака к идее грозило бы превращением таинственно живого символизма в элементарную иероглифику аллегорического искусства, в секретно — шифрованную тайнопись. Всякий символ есть всегда и неизбежно знак противоборства в знаменуемом им предмете. В этом творческий его динамизм. Так, например, образ змеи находится в очень сложных указующе — знаменующих отношениях и к земле, и к воплощению, и к полу, и к смерти, и к познанию, и к искушению, и к посвящению. Но все эти знаменуемые в образе змеи и указуемые символом змеи реальности не являются, по учению Вячеслава Иванова, разрозненными, разобщенными моментами бытия, но как бы элементами единого космологического мифа религиозного, в смысле объединения в себе всех бытийственно — смысловых начал нашей жизни.
Из этой концепции символа вырастает у Вячеслава Иванова образ поэта — символиста, того уже духовному взору Соловьева предносившегося художника — теурга, который не только лирой прославляет мир и его красоты, но своим религиозным постижением творчески оформляет народную душу и руководит народной судьбой.
Эта концепция, во многом явно утопическая, представляет собой во всех своих деталях целый кладезь премудрости, а потому и поныне еще величайшую ценность для наших непрекращающихся в эмиграции споров об отношении искусства к религии и политике и о задачах эмигрантского творчества. На первый взгляд, она может показаться родственной идее того педагогически — милитантного искусства Ницше, на которое нынче часто ссылаются в Германии и которое в известном смысле лежит в основе всякой теории социального заказа. Такое сближение, конечно, в корне неверно. Теург Вячеслава Иванова не имет ничего общего с художником — тираном Фридриха Ницше, мыслителя, в иных отношениях очень близкого вождю русского религиозного символизма. Думаю, что не будет ошибкой сказать, что разница между религиозно — знаменующим и идеалистически — преобразующим символизмом почти целиком совпадает с разницей между ивановским художником — теургом и ницшевским художником — тираном. Теург, по мнению творца религиозного символизма, не воспитатель и не преобразователь, приходящий в мир, чтобы переоценить все ценности, разбить скрижали с устаревшими канонами искусства и навязать миру и творчеству свою личную «волю к власти». С точки зрения Вяч. Иванова, Ницше провозглашает не религиозный символизм, смиренно стремящийся к тому, чтобы помочь предвечной и единосущной истине — красоте озарить собой мир, а символизм волевой, заносчивый, идеалистический, стремящийся навязать Божьему миру свою преобразующую человечество форму. В то время как религиозный символизм, преображая мир выкликанием и высветлением заложенной в нем идеи, как бы возвращает его Богу, идеалистический отрывает мир от Бога, утверждает свою собственную власть над ним, создает свои собственные идеалы и даже своих собственных богов. Религиозный символизм — это обретение истины и преображение ее светом мира и жизни, идеалистический — изобретение истины и преобразование мира согласно ее облику. Религиозный символизм — это утверждение и раскрытие предвечного бытия, идеалистический — защита неосуществимого идеала. Религиозный символизм — устремленность к объективной истине, идеалистический — к субъективной свободе. Религиозный — трезвость и самопреодоление, идеалистический — утопия и самоутверждение.
Эта разница религиозного и идеалистического символизма не остается, конечно, в писаниях поэта — мыслителя мертвой схемой. Тонко, легко, но одновременно точно и уверенно связывает он свою теорию двух символизмов с анализом исторических эпох, эстетических стилей и отдельных художественных произведений. Кратко, но весьма пластично вскрывает Вячеслав Иванов, как еще в четвертом веке античный мир заменяет принцип религиозно — канонического, т. е. символического искусства идеалистическим принципом свободного творчества, как этот новый принцип, после оттеснения на задний план иерархически — религиозного искусства средневековья, завоевывает (благодаря идеалистическому истолкованию античности в эпоху Возрождения) все новые и более сильные позиции, как он предает Афродиту небесную Афродите земной и создает тем самым главенствующий в 19 веке канон «воплощенной красоты классицизма и парнасизма». Блестяще пользуясь задолго до Шпенглера методом «физиономики», Вячеслав Иванов раскрывает свою основную мысль о противоположности двух символизмов как в сфере музыки, так и театра, занимавших в его художественных медитациях всегда очень видное место, и заканчивает свои размышления подробным анализом бодлеровского творчества, на примере которого выясняет исключительную значительность проблемы религиозного символизма для современной культуры и современного искусства.
Особое очарование культурно — философских построений и культурно — морфологических описаний Вячеслава Иванова заключается не только в их глубокой учености, но и в необычайной живости, естественности и интимности ивановского общения с творцами и творениями отошедших столетий. При малейшем, самому поэту вряд ли заметном усилии памяти, великое прошлое европейской культуры открывает перед ним, как перед своим любимейшим сыном, свои сокровищницы и радостно предлагает ему все, что только может понадобиться для подтверждения или украшения его собственных гаданий о смысле грядущих судеб человечества. Говоря о прошлом, Вяч. Иванов никогда не доцирует, как ученый гид, а всегда исповеднически проповедует открытые ему в прошлом истины. Не надо впадать в ошибку, в которую уже не раз впадали критики, внутренне чуждые духу ивановской мысли и стилю ивановской прозы. Несмотря на пышность и нарядность его стилистически барочной мысли и речи, он не заслуживает упрека в риторичности и неподлинности. Нельзя, конечно, не чувствовать некоторой искусственности и эффектности господствующего в статьях Вячеслава Иванова освещения; и все же это освещение внутреннее, а не внешнее, светопись духовного озарения, а не извне установленные прожекторы. Живая тревога о завтрашнем дне, звучащая во всех писаниях Иванова, является, как мне кажется, свидетельством правильности моей мысли. Уже в 1905 году Вячеслав Иванов произнес последнее слово своего анализа европейской культуры: «кризис индивидуализма», и первое своего пророчествования: «органическая эпоха». Территорией восстановления в будущем органической эпохи Вячеславу Иванову представлялась Россия. Философия искусства переходила тем самым в философию истории.
Было бы весьма странно, если бы Вячеслав Иванов при его исторических знаниях и его склонности к анализу исторических корней современности не ощутил бы и нигде не отметил своего критического отношения к немецкой романтике и к ее русскому варианту, раннему славянофильству. Большой знаток романтической эпохи и мыслитель, испытавший на себе еще в юности плодотворное влияние Владимира Соловьева, упорно боровшегося с реакционным утопизмом ранних славянофилов, Вячеслав Иванов не мог не чувствовать основного греха всякого романтизма, его как бы вспять обращенного пророчества. В этом пункте он и попытался отмежеваться от него. Романтизм принадлежит, по мнению Иванова, к силам, стремящимся повернуть колесо истории обратно, религиозный же символизм — к силам не реакционного, а мессианского пафоса. Романтизм это тоска по неосуществимому, религиозный символизм — по неосуществленному. Романтизм это odium fati; религиозный символизм — amor fati. Романтизм всегда находится в ссоре с исторической действительностью; религиозный символизм — в трагическом союзе с нею. Чудо для романтического миросозерцания — некое «pium desiderium»; для религиозного символизма чудо есть постулат. Для романтики золотой век лежит в прошлом; для пророческого пафоса религиозного символизма — в будущем, причем под пророчеством надо конечно понимать не астрономически точное предсказание, а некий творческий почин в направлении неизбежно грядущих событий.
Хотя в задачу этой статьи и не входит спор с создателем и вождем религиозного символизма, я не могу не отметить, что несмотря на правильно и блестяще сформулированную противоположность пророческого служения будущему и романтического погружения в прошлое, в построениях Вячеслава Иванова все же остается весьма много романтически — утопических черт, с особой силой проявившихся в последнем сборнике статей поэта («Родное и вселенское»). Обращенность романтизма к прошлому является в последнем счете результатом неправильного анализа настоящего. Главный грех романтизма это отсутствие трезвого взгляда на текущий исторический день и невозможность отделить в нем неизбежно грядущее от мечтам предносящегося. С этой точки зрения Вячеслав Иванов эпохи символизма представляется мне (быть может и ему самому?) типичным романтиком.
Но вернемся к главному тезису Вячеслава Иванова, к его убеждению, что наступает новая органическая эпоха. Защищать в расцвете индивидуалистической культуры начала 20 века мысль о конце индивидуализма было дело парадоксальным и нелегким. Все сказанное Вячеславом Ивановым по этому вопросу отличается большою тонкостью и изощренностью мысли, пытающейся вскрыть сверхиндивидуалистический смысл всех наиболее ярких явлений индивидуалистической культуры. Так, даже учение Ницше, этого крайнего ненавистника толп, масс, демократий и церквей, т. е. всех форм коллективизма и соборности, превращается под пером Иванова в свидетельство о конце индивидуалистической эпохи. В доказательство правильности такой своей интерпретации последнего властителя душ Европы, Вячеслав Иванов выдвигает религиозно — пророческий пафос идеи сверхчеловека, преодолевающий характерную, по мнению Иванова, связанность всякого типичного индивидуализма с отрицанием потусторонней вечности и заботы о завтрашнем дне. Нет сомнения, что такая интерпретация философии Ницше, идущая безусловно вразрез с прямым смыслом его бескрыло — позитивистических социологических концепций, в последнем счете все же правильна, ибо Ницше безусловно принадлежит к философам, жизнь и страдание которых по крайней мере в той же степени существенны для их философии, как и их отвлеченные построения. Последняя работа о Ницше, принадлежавшая перу профессора Ясперса, виднейшего представителя так называемой экзистенциальной философии, вполне подтверждает русское понимание Ницше, как трагического певца трансцендентности. О том же, что индивидуалист Ницше оказался предтечей и духовным прародителем величайших массовых движений двадцатого века, говорить не приходится: и фашизм, и национал — социализм постоянно сами подчеркивают свою связь с автором «Заратустры».
Еще интереснее и парадоксальнее ивановская интерпретация того типичного для начала века явления, которое можно назвать культом переживаний. Казалось бы, что этот культ, говоря языком эпохи, быстролетных и судьбоносных мигов не может быть понят иначе, как последнее слово занятой собой, т. е. индивидуалистически настроенной личности. Но и этому переживанию Вячеслав Иванов придает иной, по отношению к грядущей органической эпохе снова профетический смысл. По его мнению, сила старого индивидуализма заключается в законченности, замкнутости и слепости личности. Человек же 20–го столетия взволнованно открыт навстречу будущему. Подлинный индивидуализм разборчив, односторонен и аристократичен. Человек же 20–го столетия мучим желанием зараз исполниться всем. Да, он ловит миги жизни. Но миг современного человека — «брат вечности». Как и вечность, он смотрит на мир взором испытующей глубины; как и вечность, он метафизичен. Боясь и трепеща воплощения, этого подлинного самоутверждения индивидуализма, 19–й век является таким образом мостом к универсалистической эпохе, которая будет жить не во имя самодовлеющей личности, а во славу соборности, вечности и «хорового начала».
Поэты, такова вера Вячеслава Иванова, являются предвестниками грядущей органической эпохи. Беглый взгляд на историю западноевропейской литературы подтверждает эту веру. Индивидуализм Фауста и аристократизм Вильгельма Мейстера завершаются призывом к общему делу. То героическое уединение и даже одиночество человека, певцами которого были Сервантес и Шекспир, разрешается у Шиллера в дифирамбически — хоровую стихию духовной свободы. В девятой симфонии Бетховена агония замкнутой в себе и одиноко страдающей личности перерождается в симфонический восторг соборности и вселенскости. Столетие эпоса отзвучало. Кто не в силах подчинить себя хоровому началу, пусть закроет лицо руками и молча отойдет в сторону. Его удел смерть, ибо в индивидуалистической отрешенности жить дальше невозможно. Эти мысли Вячеслава Иванова осуществились — правда в весьма злой, дьявольской перелицовке — гораздо быстрее, чем кто‑либо из нас мог думать.
Все до сих пор сказанное ни в какой мере и степени не исчерпывает, конечно, богатого мыслями учения Вячеслава Иванова о религиозном символизме. От его лишь слабо освещенного мною средоточия во все стороны тянутся нити к более периферийным, но не менее интересным вопросам. В ряде статей Вячеславом Ивановым развиваются очень интересные, одним своим концом упирающиеся в религиозную философию, другим в социологию, эстетические теории. К таким теориям принадлежит, например, теория взаимоотношения «лица, манеры и стиля» в творчестве поэта, или теория нового театра без рампы, как театра действенной встречи Бога со своим народом. Внимательный читатель не пройдет также мимо размышлений поэта о подготовляющемся перерождении интимного искусства буржуазно — индивидуалистической эпохи в келейно — монашеское творчество.
На том основании, что Вячеслав Иванов в своих писаниях всегда отводит большое место народу, народности и соборно — хоровому началу, его не раз пытались причислить к неонародникам или неославянофилам. Вячеслав Иванов против этого неоднократно протестовал. И действительно, надо признать, что как поэзия, так и философия Вячеслава Иванова представляют собой совсем другую духовно — душевную ткань, чем писания Киреевских, Хомякова, не говоря уже о более поздних народниках политического толка. В творчестве Вячеслава Иванова совсем нет той тяжелой плотной и бытовой стихии, которая характерна для барски — помещичьей мысли славянофилов, и еще меньше той политической взволнованности, без которой немыслимо народничество. Если он по историософскому содержанию своих взглядов и близок славянофилам, то по глубине своих связей с европейской культурой, по своему чувству формы и меры он не только русский западник, но и человек Запада. Когда Вячеслав Иванов произносит слово «соборность», то никому никогда не представится собор на какой‑нибудь «дворянской площади» уездного города. Когда он говорит «хоровое начало», никому не вспомнится хоровод над рекой, скорее уже хор античной трагедии. Конечно, он мыслит народную стихию, как основу мифотворчества искусства, но народ его искусства не есть этнографически — историческая реальность. Народная душа, защищаемая Вячеславом Ивановым, есть ответственный перед Богом за судьбы своего народа ангел, подобный ангелам церквей в откровении Иоанна. Народное искусство Вячеслава Иванова — это искусство Данте, Достоевского, Гете или Клейста, это высокое искусство истолкования и даже создания народной души, не имеющее ничего общего с психологически — социологическими изображениями народной жизни или с требованием, чтобы искусство было доступно народному пониманию.
Таким пониманием народа и народной души объясняется и характер ивановского патриотизма. Согласно учению Владимира Соловьева, праведен лишь тот патриотизм, который озабочен не внешней мощью своего народа, а его внутренней, нравственно — религиозной силой. Народ должен расти и крепнуть не в борьбе за свое «место под солнцем», а в борьбе за осуществление своего нравственного долга и тем самым своего духовного облика. Национальность, т. е. народная индивидуальность, определяется в полном согласии с учением Соловьева, как самим Богом возложенная на каждый народ особая задача служения единой и всенародной истине. Национализм, или национальный эгоизм, есть отказ от этого соборного служения, расхищение духовной силы народа и предательство национального лица. Национализм есть таким образом тяжелое заболевание нации, часто ведущее к духовной и творческой смерти народа. Осуществление религозно — нравственной национальной задачи посильно — это очень интересный оборот теории Вячеслава Иванова, — конечно, лишь внутренне объединенным народам. Развитие этой мысли приводит Вячеслава Иванова к весьма своеобразному и спорному пониманию внутренней сущности русского культурного и политического нигилизма, представляющего собой, по его мнению, не простую политическую теорию, а нечто гораздо более сложное. Поэту — символисту в нем прежде всего слышится желание привилегированных слоев общества отринуть все, что не есть удел всех, чтобы в жертвенной, богоугодной наготе слиться с народом. Статья о Толстом с особой тщательностью разрабатывает эту русскую тему обесценивания, а не переоценивания всех ценностей.
* * *
И ученым, и философом, и публицистом Вячеслав Иванов, конечно, никогда не был: большие, творческие люди не состоят из суммы дарований. Как все поэты, так и Вячеслав Иванов родился поэтом со своим весьма, правда, необычайным духовным складом и совершенно особенным голосом. Человек, пришедший в русскую культуру начала 20–го века откуда‑то издали, принесший в нее неисчислимое обилие путевых воспоминаний, человек изощренного сознания, с душой многоголосой, как орган, Вячеслав Иванов не мог, конечно, стать бесхитростным поэтом — певцом, тем очеловеченным соловьем, в котором люди определенного склада все еще продолжают видеть прообраз подлинного поэта. Касаюсь этого вопроса лишь потому, что мне не раз приходилось слышать, что изумительный мастер стиха, Вяч. Иванов, в сущности, все же не поэт, что его глубокомысленные непроницаемо — темные стихи представляют собой скорее некую словесную иероглифику, чем подлинную поэзию.
Споры на эту тему вряд ли возможны и потому мало целесообразны. Конечно, Вячеслав Иванов не повторил бы брюсовских слов:
Быть может все в жизни лишь средство
Для ярко певучих стихов
И ты с безмятежного детства
Ищи сочетания слов.
Конечно, он не такой типичный только поэт, как Бальмонт. Но кто об этом пожалеет? Не таков он и как Андрей Белый. Нет спору: и Белый не только всецело поэт, и в нем много думы, культуры и сложности, но все же он непосредственнее и безыскусственнее Вячеслава Иванова. При всей его человеческой изощренности и декадентской изломанности, в Белом есть нечто первично — гениальное в смысле шеллинговского определения гения, как личности, творящей с необходимостью природы. Его лучшие стихи жгут и обжигают, хлещут и захлестывают душу. Сквозь все разнообразные метры знатока и исследователя метрических систем, у него часто слышны почти безумные космические перворитмы. Импровизационные силы словотворчества Белого единственны. В «Первом свидании», например, ощущается возможность бесконечного версификационного крещендо, какая‑то словесная хлыстовщина, перехватывающая дух. Всего этого у Вячеслава Иванова нет. Поэзия его гораздо аполлиничнее дионисийской поэзии Белого. Но зачем сравнивать несравнимое? А кроме того, если уж сравнивать, то надо признать и то, что в поэзии Вячеслава Иванова нет и тех роковых провалов чувства вкуса и даже мастерства, которые так мучительны у Белого.
Есть впрочем в семье поэтов — символистов одно имя, упоминание которого не только возможно, но даже и необходимо для выяснения внутреннего соотношения между ними. Это имя несравненного Блока.
Не может быть спора, — только об Александре Блоке можно сказать, что он был поэтом, и к этому ничего больше не прибавлять. Только в применении к нему слово поэт обретает свое первичное значение и одновременно исполняется каким‑то новым смыслом. Поэт Блок звучит более древне, канонично и веще, чем поэт Белый или поэт Вячеслав Иванов. Читая Блока, мы, люди его эпохи, даже и ушедшие далеко от него, чувствуем, что в свое время он был нашим глашатаем. Если афоризм Белого «человек — это чело века» вообще применим к кому‑нибудь, то прежде всего, конечно, к Александру Блоку. Блок действительно был челом нашего, правда, весьма краткого, века. Не мыслитель, как Иванов и Белый, и совсем не идеолог, он все же был властителем дум. Человек, чуть ли не всю жизнь промаявшийся в том же самом гиблом месте, которое как омут затянуло Аполлона Григорьева, и поэт, стихи которого были определены, как «канонизация цыганского романса», он для России начала века все же был тем, что некогда называлось общественной совестью эпохи. Думаю, что и столь несвоевременно и неуместно названное в заключении «Двенадцати» имя Иисуса Христа окажется через несколько десятков лет не всуе названным. Быть может, эта роковая ошибка Блока в каком‑то особом смысле, раскрыть который я сейчас не могу, окажется не ошибкой, а пророческой дальнозоркостью, за которую он заплатил глухотой поэта и своей преждевременной смертью.
Переходя от Белого и Блока к Вячеславу Иванову, мы переходим в совсем иной и совершенно особый мир. Этот мир цветет не на материке русской поэзии, а на каком‑то острове. Небо, пейзаж, растительность этого острова экзотичны. Не будь Россия через Византию связана с Грецией и не принадлежи южнотропический Крым и Кавказ к телу России, экзотику ивановской поэзии было бы трудно связать с Петербургом и Москвой, в которых он раскрылся, как поэт. На фоне северного неба непредставляемы пинии и кипарисы. Среди берез, рябин и елей как‑то не видятся взору алтари греческих богов, игрища эротов и фавнов, не слышатся вечерние флейты, не чувствуется грусть Цереры и весь тот античный мир, который живет в поэзии Иванова не в качестве литературных аллегорий и мраморных фигур ложно — классической эпохи, а во всей своей подлинности, первичности и первозданности.
Мне кажется, что, будучи христианским философом, Вячеслав Иванов как поэт потому так абсолютно просто, легко и естественно живет в мире античности, что непосредственно ощущает этот мир как бы вторым, ему лично особенно близким ветхим заветом христианства. Связь поэзии Вячеслава Иванова с античным миром выражается не только в оживлении образов древних богов и мифов, но и в пристрастии к античным и возрожденским размерам, что зачастую придает его стихам своеобразно — торжественный и для неискушенного уха весьма необычный характер. Эта торжественная тяжеловесность ивановских стихов усугубляется еще их глубокомысленной философичностью. Конечно, Бог создал Вячеслава Иванова настоящим поэтом, но он создал его в одну из своих глубокозадумчивых, философских минут.
Надо признать, что путь Вячеслава Иванова как поэта есть редкое в наше время явление непрерывного восхождения и совершествования. Amor, друг и вожатый поэта, возводил и его, как Петрарку, «di pensier in pensier, di monte in monte». В ранних стихотворениях 1903 года художественная форма еще не осиливает эмоционального и идейного содержания духовного мира поэта. Стихотворения этого периода нередко страдают некоторой риторичностью и чрезмерной орнаментальной сложностью. Но в сборнике «Cor ardens» (1905–1911 гг.) художественная форма, идейное содержание поэзии и личное переживание поэта являют собой (имею прежде всего в виду сонеты и канцоны второй части «Любви и смерти») уже полное, хотя быть может все еще непривычно пышное и торжественное единство. Еще не напечатанная поэма «Человек», по поводу которой среди поэтов и любителей поэзии вероятно будет много споров, представляется мне лично большим шагом вперед по пути внутреннего роста поэта. Она бесспорно много труднее всего, что было раньше написано Вячеславом Ивановым. Можно заранее сказать, что найдется не много людей, которые до конца прочтут, перечтут и действительно освоят эти 1350 строк, развертывающих перед читателем весьма сложное и глубокомысленное интуитивно — спекулятивное миросозерцание поэта. Эта сложность, однако, ничего не говорит против исключительной художественной цельности «Человека». Осилив теоретическое содержание поэмы, т. е. ознакомившись с ее предметом (требование, к слову сказать самое естественное, так как не отличая соловья от вороны и розы от лопуха, невозможно понять и самого элементарного стихотворения Фета), нельзя не почувствовать, что «Человек» много совершеннее более ранних стихов поэта. В нем совсем нет прежней риторики, всегда опасных орнаментальных украшений. Поэма говорит о самых сложных тайнах нашего бытия и сознания, но она говорит о них с простотой, доступной лишь подлинному вдохновению и вполне зрелому мастерству.
Последние, дошедшие до нас, стихи Вячеслава Иванова — «Римские сонеты» — отделены от поэмы «Человек» страшными годами русской революции. О том, как он ее пережил и духовно осилил, поэт рассказал очень кратко, но и вполне исчерпывающе в письме к Charles du Bos, представляющем собою послесловие к «Переписке из двух углов». Характеристика буржуазного мира дана в этом письме с такой страстностью и с таким гневом, что его заключительные слова: «Воистину, если бы я мог отступиться от Бога, то никакая тоска по прошлому не могла бы меня отделить от дервишей поставленной на голову универсальной религии», не кажутся ни парадоксальными, ни неожиданными. Но отступиться от Бога теоретик религиозного символизма и провозвестник новой органической эпохи, конечно, не мог. На основной вопрос русской революции, этого прообраза грядущих мировых событий, «с Богом ли ты или против Него?» — Вячеслав Иванов твердо ответил: «с Богом». И тут в его душе властно прозвучал старый, еще со времен юношеского общения с Владимиром Соловьевым, «большим и святым человеком», знакомый призыв к единению всех христиан в лоне римско — католической церкви.
Вновь арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.
Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.
И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.
И помнит, в ласке золотого сна,
Твой вратарь, кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.
Вячеслав Иванов не первый мыслитель и не первый поэт, для которого вечный Рим стал пристанью скитаний; их было много.
Но не для многих из них духовный возврат в Рим был одновременно и восходом на вершину их творчества. Тайну нового расцвета поэтического дара Иванова под сводами «родного дома» сейчас еще не время разгадывать. Тем не менее, невольно задумываешься над тем, что в «Cor ardens» поэт с благодарностью вспоминает о римском Колизее, впервые напоившем его диким хмелем свободы и благословившем этот хмель. Дионисийская тема ранних стихов Иванова, тема предвечного хаоса в лоне природы и в глубине человеческого сердца, вакхическая тема «размыкающих душу подземных флейт», явно связана с Римом. Быть может, в этом двойном значении Рима для поэта Иванова, в изначальной раздвоенности души поэта между Римом Колизея и Римом купола Святого Петра надо искать объяснение тому, почему «Римские сонеты», воспевающие успокоение поэта в Риме, волнуют нас юношеской силой таланта и совершеннейшей красотой. Как знать, если бы место отрешения, в гетевском смысле этого слова, не было бы одновременно и местом поклонения прошлому, возникли бы тогда из искуса длительного ивановского молчания столь совершенные стихи, какими являются «Римские сонеты»?
* * *
Возвращаясь мысленно к годам наших частых встреч с Вячеславом Ивановым, а тем самым к духовной жизни и быту довоенной России, мы, после всего пережитого и передуманного нами, не можем не видеть, что духовная элита тех лет жила и творила в какой‑то искусственной атмосфере. Вершины, на которых протекала в то время наша жизнь, оказались, к несчастью, не горными массивами, прочно поднимающимися с земли, а плавучими облаками в романтическом небе. В мыслях той эпохи было много выдумки, в чувствах экзальтации, в историософских построениях будущего много отвлеченного конструктивизма. Все гадали по звездам и не верили картам и компасам. Всей эпохе не хватало суровости, предметности и трезвости. Так как за все это заплачено очень дорого, то увеличивать список грехов, пожалуй, не надо. Это можно спокойно предоставить нынешним врагам того блестящего возрождения русской культуры, которое было сорвано войной и революцией. Искренне каясь в своих грехах перед лицом Истины, мы, участники и свидетели духовного роста довоенной России, должны этим врагам (большевикам — марксистам, отрицающим дух, либералам — позитивистам, для которых дух религиозной философии и символического искусства всегда был не духом, а смрадом, и жестоковыйным церковникам, боящимся свободного цветения духа) твердо сказать, что и на социологически радикально перепаханной почве завтрашней России культурный расцвет начинается с воскрешения тех проблем и идей, над которыми думали и страдали люди символизма. В конце концов ведь и Вячеслав Иванов оказался во многом вполне прав. Кризис западноевропейской культуры, кризис индивидуализма, поворот к коллективистической культуре в форме устремления к новой органической эпохе, ведущая роль России в этом новом историческом процессе, возрождение религиозного взгляда на судьбы человечества — разве все это не вполне точные слова о нашем времени? Весьма точные. Ошибся Вячеслав Иванов, как впрочем и все, что шли с ним рука об руку, только в одном: в недооценке силы того зла, которое все его пророчества о грядущем исказило в кривом зеркале русского и мирового большевизма.
Повторяю, отказ от утопизма и иллюзионизма, отказ от беспочвенных гаданий, мечтаний и конструкций безусловно является ныне верховной религиозно — этической нормой социального творчества. Тем не менее, упование Вячеслава Иванова, что
…Железным поколеньям Взойдет на смену кроткий сев. Уступит и титана гнев Младенческим богоявленьям… остается по — прежнему и навсегда в силе.Биографический справочник
В настоящий справочник вошли только имена тех лиц, о которых удалось найти какие‑либо биографические сведения. Общеизвестные культурные и политические деятели (Кант, Гитлер и т. д.) не оговариваются. Для характеристики отмеченных лиц часто приводятся выдержки из публикации: «Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым (Баку, 1921)» М. С. Альтмана (Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение, Ученые записки Тартуского гос. ун — та, вып. 209. Тарту, 1968), в этом случае в скобках указан лишь номер страницы; при ссылках на брюссельское издание Собрания Сочинений В. И., как и в тексте воспоминаний, указывается римскими цифрами — соответствующий том и арабскими — страница.
АВРААМОВ, Арсений Михайлович (1886–1944) — теоретик музыки, фольклорист и композитор. Один из организаторов Пролеткульта. В 1918–1926 собирал материалы для акустического изучения ладов в музыке народов России и Востока.
АБРИКОСОВ, свящ. (1880–1966) — из старообрядческой семьи, перешел в католичество в 1909, в Париже. Стал священником в 1917 в Петрограде. Принадлежал к маленькой группе русских католиков в Москве во время революции. Около 1920, в Москве, его жена, близкая подруга жены Бердяева, стала монашкой доминиканского ордена (в 1923 она была арестована, погибла в лагере). В 1922 А. был выслан из России вместе с Бердяевым и др. Поселился в Риме, где часто виделся с В. И. Умер в Париже.
АЙЗБЕРГ (Айсберг), Илья Семенович (1868–1942) — пианист, композитор, педагог. В 1923–1934 профессор (в 1923–1928 ректор) консерватории в Баку.
АЛЬБЕРТИ (Alberti, Leon Battista, 1404–1472) — один из выдающихся гуманистов итальянского Ренессанса, архитектор, писатель, музыкант.
АЛЬВАРО (Alvaro, Corrado, 1895–1956) — итальянский романист, поэт, эссеист. Жена — писательница Laura Babini. Редактировал газету Il mondo, орган Джованни Амендолы (лидера Либерально — демократической партии), до ее закрытия фашистами в 1926.
АЛЬТМАН, Моисей Семенович (1896–1986) — бакинский ученик В. И., поэт, филолог — классик, литературовед, доктор филологических наук. Ему посвящен цикл из трех стихотворений (1923), опубл. в IV, 88–89. Вел записи разговоров с В. И. (Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение, Ученые записки Тартуского гос. ун — та, вып. 209, Тарту, 1968). Среди главных книг: Читая Толстого (Тула, 1966) и Достоевский по вехам имен (Саратов, 1975).
АМЕНДОЛА, Джованни (Amendola, Giovanni, 1886–1926) — итальянский политический деятель, с 1919 депутат парламента (возглавил левое крыло Либеральной партии). С 1924 — один из лидеров антифашистского движения. В июле 1925 — подвергся нападению и был жестоко избит фашистами. Умер в эмиграции во Франции.
АМЕНДОЛА, Джорджио (Amendola, Giorgio, 1907–1980) — сын Джованни Амендола, деятель итальянского рабочего движения. В 1929 вступил в подпольную итальянскую компартию. Арестован в 1931, после 5 лет заключения выехал во Францию. С 1943 член ЦК ИКП, один из организаторов партизанской борьбы в Пьемонте. После 1945 — депутат парламента всех созывов, в 1979 выбран членом Европейского парламента. О нем и его отце см. кн.: Giorgio Amendola. Una scelta di vita, Milano, 1976–1980.
АМФИТЕАТРОВ, Александр Валентинович (1862–1938) — прозаик, драматург. Редактор петербургского общественно — литературного журн. «Современник». Бежал с семьей в Финляндию в 1921; продолжал литературную деятельность в Италии. См. его переписку с Горьким в Литературном наследстве, т. 95 (Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка), М., 1988, с. 31–474. Его переписка с В. И. готовится к печати.
АМФИТЕАТРОВ, Даниил Александрович (Amfiteatrov, Amphiteatrof, Daniele, 1901–1983) — композитор и дирижер, в США с 1938, после войны вернулся в Италию. Его брат, Максим (Massimo, р. 1907) — виолончелист.
АНДРЕЕВ, Леонид Николаевич (1871–1919) — «Да и вообще, после Достоевского не было у нас ничего первоклассного. Чехов — второклассный. Леонид Андреев, тот из второклассных спустился еще ниже» («Беседы», с. 306).
АНДРЕЕВА, Мария Федоровна (1868? — 1953) — актриса МХАТ, с 1903 — вторая жена Горького. О ней см. кн.: М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. М., 1961.
АНИЧКОВ, Евгений Васильевич (1866–1937) — историк литературы, критик, специалист по романским литературам. Был близок к символистским кругам, пропагандировал поэзию модернистов в своих статьях. Профессор Петербургского психо — неврологического ин — та. В октябре 1909 был освобожден из Петропавловской крепости, где отбывал 13–месячное заключение как один из лидеров «Всероссийского крестьянского союза». См.: Вяч. Иванов. «Е. В. Аничков». «Новый энциклопедический словарь», т. 2, СПб, изд. Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона, б. д. После революции стал профессором Белградского университета. Ему посвящено стих. «В Росалии весенние…» (Cor ardens; II, 466–468) и стих. 1928 г. «Сверстнику» (III, 531 и 838). Его жена — Анна Митрофановна (псевд.: Иван Странник, 1868–1933 или 1935). О ней см. II, 826. Его дочь — Татьяна Евгеньевна, художник, скульптор. О ней см. I, 27–28 и 143–144.
АПОЛЛОНИО (Apollonio, Mario, 1901–1977) — итальянский поэт, критик, специалист по Данте, редактор (изд. Ариосто, Гольдони). С 1942 профессор итальянской литературы Миланского Католического ун — та.
АХМАТОВА (Горенко), Анна Андреевна (1889–1966) — о ее отношениях с В. И. см. I, 848. Ее противоречивые высказывания о В. И. зафиксированы в записках Лидии Чуковской (Записки об Анне Ахматовой, т. 1, Париж, 1976, С. 46, 68–69, 156; т. II, Париж, 1980, с. 451–452).
БАДОЛЬО (Badolio, Pietro, 1871–1956) — итальянский маршал, главнокомандующий в итало — абиссинской войне. Участник смещения Муссолини (июль 1943), в 1943–1944 премьер — министр Италии, заключил перемирие с союзниками.
БАЙБАКОВ, Евгений Иванович — проф. истории Греции в Бакинском ун — те, официальный оппонент на защите докторской диссертации В. И. 22 июля 1921 в Баку.
БАЛАБАНОВА (Balabanov, Angelica, 1876–1965) — русско — итальянская социал — демократка (родилась в Милане). В 1897 уехала из России. За границей примкнула к Союзу русских социал — демократов. После II съезда РСДРП — меньшевичка. Играла значительную роль в Итальянской социалистической партии: входила в редакцию ее центрального органа Avanti, являлась членом ЦК, представителем ИСП в Международном социалистическом бюро. В 1917 вернулась в Россию, вступила в партию большевиков, стала членом Коминтерна. В 1924 исключена из ВКП(б) в связи с тем, что заняла меньшевистскую позицию. Жила в США. Вернулась в Италию после падения фашизма. Автор кн. Lenin visto da vicino (1959).
БАЛТРУШАЙТИС, Юргис (Георгий) Казимирович (1873–1944) — литовский и русский поэт, переводчик и критик, активно участвовал в символистском движении. С сентября 1920 начал дипломатическую карьеру: был дипломатическим представителем, затем чрезвычайным посланником и полномочным министром Литвы в СССР. В 1939 ушел на пенсию и уехал в Париж, где был назначен советником Литовского посольства. Ему и его жене Марии Ивановне (1878–1948) посвящено стихотворение В. И. «Петровское на Оке» (III, 528–529). Ему же посвящено стихотворение «Певец в лабиринте» (Свет вечерний; III, 497–499). Балтрушайтис посвятил В. И. цикл из четырех стихотворений «Вячеславу Иванову в Красной Поляне» (1918; Лилия и серп, Париж, 1948, с. 201–202). Поэзии Балтрушайтиса посвящена статья В. И. «Юргис Балтрушайтис как лирический поэт» в кн. Русская литература XX века. 1890–1910, под ред. проф. С. А. Венгерова, т. II, М., «Мир», 1915, с. 301–311. См. также III, 834–837. Его сын — Юргис (1903–1988), историк искусства.
БАЛЬМОНТ, Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт — символист, переводчик, критик. Ему посвящены стихи В. И. (см., напр., II, 352) и несколько статей (см., напр. «О лиризме Бальмонта», «Аполлон», № 3–4, 1912; «К. Д. Бальмонт», газ. «Речь», № 69, 11 марта 1912). O. A. Шор охарактеризовала отношения В. И. с ним как «сердечно — приятельские, они не имели ни вспышек, ни разрывов» (I, 73). См. также II, 740–741.
«16 января. Я процитировал стихи Бальмонта:
Мой зверь не лев, излюбленный толпою,
Мне кажется, что он лишь крупный пес.
Вячеслав Иванович взъярился: — Какая пошлость! Ведь сходство собаки со львом только внешнее и случайное, и сказать так, как сказал Бальмонт, значит сказать рифмованную пошлость. Бальмонт, впрочем, пошлости часто говорит. Он, конечно, поэт подлинный, первоклассный, но, к сожалению, слишком много (скажем скромно — 70 %) писал ненужного: перепевы самого себя, повторения, случайное, внешнее, а иногда и пошлое. Но вообще‑то он поэт не пошлый. Вот у Пушкина нет ничего пошлого, и я, любя Пушкина и ненавидя пошлость, не могу не сердиться на Бальмонта в данном случае.
— Да, — возразил я, — но ведь тот же Бальмонт говорит: ”Нравятся отдельностью все созданья мне“.
— Когда Бальмонт говорит, что ему нравится каждое отдельное созданье, он прав, ибо он здесь — утверждающий, говорящий некое ”да“ миру, а на всякое ”да“ человек имеет право; другое дело — сравнение льва с собакой: здесь, несмотря на внешне — утвердительную форму, сближение отрицательное, и отрицание это незаконно. Все же, повторяю, Бальмонт — большой поэт, талант /…/» («Беседы», с. 304).
«20 января. /…/ — Я как бы вижу все вещи в славе. И, по — моему, поэт и есть тот, кто славословит.
— Не в этом ли, однако, начало вашего ложноклассицизма?
— Почему же ложного? Истинного, истинного. Вспомните, уже Гомер воспевал ”славы мужей“. Это и есть задача подлинного классика. Воспевавшие же Фелицу и тому подобное были ложноклассиками именно потому, что не понимали действительной славы, то есть онтологической сущности вещей. Мне однажды сказали, что я последний поэт, и часто это кажется мне правдой. Озираясь на своих современников, я не вижу никого, кто мог бы славить. Только я да, пожалуй, еще Бальмонт, славословим.
— Правда, — сказал я, — мне вспомнились стихи Бальмонта:
О слава солнцу пламенному в вышних,
О слава небу, звездам и луне,
Но для меня нет в мире больше лишних:
С высот зову и тех, кто там, на дне.
— О, как это не по — русски! — поморщился В. И. — Как часто Бальмонт славит безвкусно, но славит он неустанно и беспрерывно. И за это я его люблю. И в этом наше сходство. Он мне говорил много раз, что у нас есть нечто общее, но он не знает, что это такое. А вот и есть то, что мы оба славословы. И, повторяю, я боюсь, что после меня уже не будет Поэта, и не потому, что больше нечего в мире славить или больше не будет талантов, а потому, что для прославления нужна одна такая точка в человеке, которой я уже больше ни в ком не вижу» («Беседы», с. 307).
«21 апреля. — Два порока губят Бальмонта, — сказал В. И., — бедность языка и отвлеченность. Он самый отвлеченный поэт наших дней. В ранней своей фазе, когда он пел мимолетное, он был конкретным и поэтическим. Но потом он без конца стал разговорчивым, становился все более и более отвлеченным и все менее и менее поэтическим. Кстати, о его многоречивости: еще около тридцати лет назад, когда вышла его книга ”Тишина“, Зиновьева — Аннибал уже прозрела эту черту в нем и под взятым Бальмонтом к этой книге эпиграфом из Тютчева ”Есть некий час всемирного молчанья“ приписала: ”Когда болтает лишь один Бальмонт“. Да, Бальмонт утомительно многоречив и пустословен, других же он совершенно не в состоянии слушать. Книг он читает много, но схватывает в них только то, что ему кажется ”бальмонтовским“. Других поэтов он не любит, и если он вас и слушает и говорит, что ему понравились ваши стихи, это значит только, что вы ему напомнили его самого, и он тут же сымпровизирует стихотворение в ответ. Он ездил по многим странам (где он только не был!), но всюду видел только себя. ”Нам нравятся поэты, похожие на нас. — Он мог бы также сказать: нам нравятся книги, похожие на нас, нам нравятся страны, похожие на нас, нам нравится всё, похожее на нас“. И потому, когда Бальмонт переводит Шелли или Эдгара По, он их обальмончивает. Ибо что такое По? Это сама Психея, а Шелли — сердце сердец (как написано у него на памятнике), что же у отвлеченного Бальмонта с ними общего? И вообще, у него нет ничего общего с модернизмом, он совсем не символист, он вовсе не характерен для нового направления нашей поэзии. И отвлеченность его не есть некая работа мысли над предметом, нахождение и выделение его общих признаков. Нет, все эти ”ости“ Бальмонта только отвлеченные имена прилагательные, т. е. чувственные восприятия, застывшие ощущения и… больше ничего. Ибо на большую работу мысли Бальмонт не способен. Он пишет ежедневно, почти ежечасно, но совершенно не в состоянии критически отнестись к написанному. Завет Пушкина — усовершенствовать плоды любимых дум — ему чужд. Он беспрерывно, без устали поет, как птица, с великим однообразием струя всегда одну и ту же руладу. Если человек не утомляется слушать соловья, то только потому, что человек не пассивное, а творческое эхо, перерабатывающее в себе его пение. И в отношении к Бальмонту, думаю я, повторяется то же самое. Мы его воспринимаем, переработанного нашим эхом. И в этом, быть может, секрет его нескудеющей и совершенно неоправданной тридцатилетней славы» («Беседы», с. 312).
«17 августа. В. И. готовится к публичной лекции о Бальмонте. В связи с этим я сказал, что Бальмонт мало ритмичен, беден стихотворными размерами.
— Нет, это не совсем так, — возразил В. И., — некоторые размеры он даже впервые ввел. Но ритмическая бедность его в том, что взятый размер в стихотворении (в начале), на всем его протяжении симметрично повторяется. У него нет смен (или очень редко) коротких и длинных строк, его ритмическая концепция какая‑то ”квадратная“. Но что составляет его главный недостаток, это бедность языка. Он, правда, изыскивает всякие способы обогатить свой язык, но тщетно. Ну, прочтите мне наугад какое‑нибудь его стихотворение, и я это вам покажу.
Я прочел ”Красный и желтый“ из сборника ”Литургия красоты“.
— Вот видите, — продолжал В. И., — здесь бедность языка сказывается в отсутствии какого‑нибудь останавливающего внимание богатого слова; слово ”чаруют“ (”искры чаруют нежданностью взгляда“) — красивое, но в общем контексте оно, как конфетка слащавое, а последняя строчка стихотворения — ”быстрая встреча нужна для умов“ — нехороша тем, что взято совершенно не идущее сюда отвлеченное понятие ”умов“. Чтобы понять, о чем я говорю, вспомните какое — нибудь стихотворение Баратынского, и вы сразу почувствуете богатство языка одного и бедность другого. Ну, прочтите мне еще одно стихотворение Бальмонта.
Я начал читать ”Облачную лестницу“: ”Если хочешь в край войти, вечно золотой, Облачную лестницу нужно сплесть мечтой“. — Как, в край? — переспросил В. И. — в страну? Ах, как этот географический ”край“ неуместен в царстве грез. А этот рецепт (”нужно“) как непоэтичен! Греза поэта очень милая, но язык не на высоте.
Я прочел еще одно стихотворение: ”Я не знаю мудрости, годной для других…“
— Ну, вот это стихотворение получше» («Беседы», с. 314).
БАУРА (Bowra, Sir Cecil Maurice, 1898–1971) — английский специалист по классической литературе, профессор Оксфордского ун — та, составитель антологии русской поэзии, автор The Heritage of Symbolism (London, 1943).
БЕЛЛИ, (Belli Giuseppe Gioacchino, 1791–1863) — итальянский поэт; всю жизнь прожил в Риме, писал на римском диалекте. Гоголь называл его настоящим народным поэтом. Главное произведение Римские сонеты (издано посмертно, 1886–1889).
БЕЛОБОРОДОВ, Андрей Яковлевич (1887–1965) — русский художник, архитектор. Автор воспоминаний «Работа во дворце кн. Феликса Юсупова» («Новый журнал», № 70, 1962) и «В Академии Художеств» (там же, № 73, 1963)
БЕЛЫЙ, Андрей (Бугаев, Борис Николаевич, 1880–1934) — писатель — символист, теоретик символизма, критик. Белый характеризовал свои отношения с В. И. как «сложные, запутанные… в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности» (Начало века, с. 474). См. также портрет В. И. в главке «Башня», Воспоминания о Блоке, «Эпопея», № 4, 1923, с. 154–170. Главная работа о В. И.: «Вячеслав Иванов» — в кн. Русская литература XX века. 1890–1910, под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III, кн. VIII, M., [1917], с. 114–149. «Если бы я знал, то написал бы свой ”памятник“ (большой или малый), но я не знаю. Знаю только, что вот ”Тантал“ Вячеслава Иванова — это хорошее произведение. Впрочем, относительно его я должен сделать два примечания: первое — что сцена с Бротеасом выдержана психологически, в то время, как все остальные выдержаны классически (в масках), и второе — что я слишком развил (хотя это не беда) идею Ницше о трагедии Солнца: оно все озаряет, а само слепо, все дает, а само ничего не в состоянии брать. Андрей Белый был совершенно прав, когда, разбирая мое творчество, взял исходным и центральным пунктом мою трагедию ”Тантал“» («Беседы», с. 306). См. также полемическую статью Белого Сирин ученого варварства. По поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское» (Берлин, изд. «Скифы», 1922), впервые в «Знамени Труда» за 26 марта (№ 163) и 3 апреля (№ 170) 1918 г. Иванову посвящены два стихотворения Белого: «Жизнь» («Всю‑то жизнь вперед иду покорно я». Пепел, 1906) и «Вячеславу Иванову» («Случится то, чего не чаешь». Звезда, 1916); см. также «В альбом В. К. Ивановой» (1912? — «Библиотека поэта», 1966, с. 466–467). Главные работы В. И. о Белом: «Б. Н. Бугаев и Realiora», «Весы», № 7, 1908; «А. Белый. Пепел», «Критическое обозрение», № 2, 1909 [IV, 615–618]; «Вдохновение ужаса (О романе А. Белого ”Петербург“)», «Утро России», 28 мая, № 141, 1916 (перепечат. в кн. Родное и вселенское: 1917; IV, 619–629). В 1944, в «Римском дневнике» («Август», 1) В. И. писал: «Был небу мил, кто дали мерил / Кометным бегом — и сгорел; / Кто ”золотому блеску верил“, / Поэт, — и пал от жарких стрел» (III, 622). «А вот Андрей Белый, по — моему, стихом не владеет. И потому, быть может, не владеет, что так тонко знает технику стиха. В поэзии он только экспериментатор. Но он гениален в прозе. И его ”Петербург“ одновременно и неудавшаяся, и гениальная книга. К тому же Белый — колоссальнейший ум, необычайный диалектик, с огромными познаниями и, как личность, пожалуй, более сложное явление, чем даже Ницше. Но он безумец, и это ”красиво“, когда слышишь это слово, но очень мучительно, когда с безумцем приходится жить. И он имеет еще несчастное свойство — все, что говорит и пишет, сейчас же и печатать. А это великое зло: читатели воспринимают эти мнения, как нечто объективное, отстоявшееся, а, между тем, я знаю, ”как это делается“. Так, например, когда Белый писал о Брюсове очень лестную статью (напечатанную в ”Луге зеленом“), Брюсов Белого преследовал, и Белый Брюсова ненавидел: этой статьей Белый хотел как бы отделаться от Брюсова, расквитаться с ним, воздав ему должное и сверхдолжное, как поэту. Таковы и многие другие суждения Белого, это — ”правда мгновения“, и оттого так много в них всяких противоречий. При моей последней с ним встрече Белый читал мне новые стихи Брюсова и почти о каждом стихе высказывал очень меткие отрицательные суждения. Помню, Белый мне однажды сказал, что Брюсов подобен очаровательной женщине, но которая, когда ты к ней подходишь в ожидании услышать что‑нибудь нежное, ласковое, вдруг прокричит — ”Паровозный свисток“!» («Беседы», с. 305).
БЕНУА, (Benois), Александр Николаевич (1870–1960) — живописец, график, театральный художник и критик, историк искусства. Один из организаторов и идеологов объединения «Мир искусства». С 1926 постоянно жил в Париже. О посещении «Башни» см. его кн. Мои воспоминания, кн. IV‑V, М., «Наука», 1980, с. 482.
БЕРДЯЕВ, Николай Александрович (1874–1948) — философ и религиозный деятель, в 1922 выслан из Советской России. Об отношениях с В. И. см. его «Ивановские среды» и примечания к ним в разделе Приложения настоящего тома. Бердяеву посвящен цикл (3 стихотворения) В. И. «Мистический триптих» (Cor ardens; II, 226–227 и прим. на с. 707–708). Жена Б. — Лидия Юдифовна (урожд. Рапп, 1889–1945). В своей автобиографии Самопознание, Париж, 1983, Б. писал: «Она по натуре была душа религиозная, но прошедшая через революционность, что особенно ценно. У нее образовалась глубина и твердая религиозная вера, которая не раз поддерживала меня в жизни. Она была человеком необыкновенной духовности. Перед смертью она приблизилась к святости. В разгар коммунистической революции она перешла в католичество и сначала пережила период католичества фанатически нетерпимого. Потом ее религиозная направленность стала мне более близкой. /…/ Она обладала несомненным поэтическим даром, периодически у нее являлось поэтическое вдохновение, и она писала интересные стихи. Кое‑что было напечатано, но охоты печатать у нее не было. М. Гершензон и В. Иванов ценили стихи Лидии» (с. 156). Лидии Юдифовне посвящено стихотворение В. И. «Из далей далеких» (Cor ardens; II, 306).
БЕРЛИН (Berlin, Sir Isaiah, p. 1909) — английский историк, профессор Оксфордского ун — та, автор известного эссе о философии истории Л. Н. Толстого (The Hedgehog and the Fox, 1953). Его работы по русской культуре собраны в кн. Russian Thinkers (1978). См. также его воспоминания «Встречи с русскими писателями, 1945 и 1956», опубликованные в переводе на русский, в «Slavica Hierosolymitana», vol. V‑VI, 1981.
БЕРНАНОС (Bernanos, Georges, 1888–1948) — французский католический романист, эссеист. Его лучшей кн. считается Journal d’un curé de campagne (1936).
БЕРН — ДЖОНС (Burne‑Jones, Sir Edward Coley, 1833–1898) — английский художник, прерафаэлит.
БЛАВАТСКАЯ, Елена Петровна (Mme Blavatsky, 1831–1891) — русская писательница, основательница Теософского Общества в 1875 в Нью — Йорке.
БЛОК, Александр Александрович (1880–1921) — ему посвящен цикл из двух стихотворений В. И. (1. «Ты царским поездом назвал…», 2. «Пусть вновь — не друг, о мой любимый!»), который открывает сб. Нежная тайна, посвященный «Александру Блоку, поэту». Цикл является ответом на стихотворение Блока «Вячеславу Иванову» («Был скрипок вой в разгаре бала», 1912). См. также стихотворение В. И. «Умер Блок», 1921 (III, 532 и прим. на с. 838–839). Об их отношениях см. II, 728–732; Е. Л. Белькинд. «Блок и Вячеслав Иванов» [письма Блока к В. И., 1907–1916], Блоковский сборник II, Тарту, 1972, с. 365–384; «Из переписки Александра Блока с Вячеславом Ивановым», Известия Академии Наук СССР, серия литературы и языка, т. 41, № 2, 1982. «16 января. /…/ — Блок первый из современных русских лириков. В обычной речи такой простой, он как бы двух слов связать не может, а в своих стихах, оказывается, он знает о вас интуитивно такие вещи, такие ваши интимные переживания, какие никто другой не знает. Блок и благозвучнее Бальмонта, и талант первоклассный. /…/
17 января. /…/ Да и Блоком я недоволен. Ах, как время все обернуло. Когда мы, ”символисты“, начали, нам представлялось совершенно иное. И вот нас уже объявили отошедшими. А между тем, как мало было сделано!» («Беседы», с. 305–306). Ср. «Записи высказываний В. Иванова на занятиях ”Кружка поэзии“», зарегистрированные Ф. И. Коган (ИМЛИ, ф. 55, оп. 1, № 5, лл. 24–25): «Десятая встреча. 16 мая 1920 года. В. И. делится с нами своими впечатлениями от вечера Александра Блока во Дворце Искусств [в Москве]. Он советует всем пойти послушать Блока: ”Ведь это большое явление в нашей литературной жизни“. Прочитанная Блоком поэма ”Возмездие“ кажется В. И.
”неубедительной — самая фабула — неясна, хотя некоторые страницы и блистательны, но пушкинская форма не подходит к современной сложности, она кажется золотой ризой на мертвеце“ … ”Лирические же стихи Блока великолепны, законченны, поэтичны“. Большее значение придает В. И. ”Скифам“ Блока.
Еще о Блоке: ”Я его считаю первым лириком нашего времени. Но он минор и как минор ниже мажора. А мажора у нас теперь нет. Блок, это — принц Гамлет и, как всякий принц, это — много благородства, это большая поэтическая красота; но это — не царь, царь это — мажор, это яркость, это — радость. В Блоке нет ничего царственного; он как принцем рожден, так принцем и должен жить…“
”В своем стихотворении ‘Был скрипок вой в разгаре бала’, посвященном мне, он пишет: И много чар, и много песен, / И древних ликов красоты…/ Твой мир, поистине, чудесен! / Да, царь самодержавный — ты. // А я, печальный, нищий, жесткий, / В час утра встретивший зарю, / Теперь на пыльном перекрестке / На царский поезд твой смотрю.
”Я сам знаю, Вячеслав Иванович, — сказал он мне — мы остались еще после вечера, когда публика ушла. Это — единственный из символистов, с которым мы на вы, есть у него такая почтительность ко мне, может быть потому, что я старше, хотя вот с Белым не так, — все, что я написал до сих пор, это все только бред и невроз революции. И он прав“». См. также Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 496–497.
БОГОЛЮБОВ, Николай Николаевич (1870–1951) — оперный режиссер. В 1911–1917 — режиссер — постановщик Мариинского театра, после 1917 — гл. режиссер оперных театров и профессор консерваторий в Одессе, Баку, Тифлисе и т. д. Автор кн. Полвека на оперной сцене. М., 1957.
БОДМЕР (Bodmer, Martin, 1899–1971) — швейцарский издатель, основатель и редактор журн. «Corona». Основал Fondation Bodmer в Женеве — хранилище редких рукописей и инкунабул.
БОРОДАЕВСКАЯ, Маргарита Андреевна (урожд. Князева) — ей посвящено стихотворение В. И. «Славянская женственность» (Cor ardens; II, 342) и цикл «Лога и жнивья» (IV, 14–15). См. о ней II, 738. Жена поэта, принадлежавшего к окружению В. И., Валериана Валериановича Бородаевского (1876? 1879? — 1923). В. И. посвятил ему несколько стихотворений: «Мизопоэт» и «Страстные свечи» (Нежная тайна, III, 49–50); «Рубка леса» (III, 514) — написано 4 сентября 1913 г. в имении Бородаевских «Петропавловка» (Курской губ.), где семья Ивановых гостила после возвращения из Рима; цикл «Дружественные тени» (IV, 16–17). Бородаевский и его жена были антропософами.
БРАГАЛЬЯ (Bragaglia, Anton Giulio, 1890–1960) — итальянский режиссер и театральный деятель, в 1918 основал в Риме, вместе с братом Carlo Ludovico, «La Casa d’arte Bragaglia», центр римского авангарда, а в 1921 Teatro degli Independenti. Де Кирико, де Пизис и др. сотрудничали в его журн. «Cronache d’attualità» (1916–1922).
БРЕНСОН (Brenson, Teodoro/Theodore, 1893–1959) — художник, гравер, родился в Риге, переселился в Италию, член «Gruppo Romano Incisori Artisti». С 1941 в США, умер в Нью — Йорке.
БРЮСОВ, Валерий Яковлевич (1873–1924) — писатель, поэт — символист. О его отношениях с В. И., о рецензиях двух поэтов друг на друга, о стихотворных посвящениях — см. предисловие к его «Переписке с Вячеславом Ивановым, 1903–1923», пред. и публ. С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева и A. B. Лаврова. Литературное наследство, т. 85, М., 1976, с. 428–545. «16 января. /…/ — Ну, а о Брюсове какого вы мнения, В. И.? — Это вопрос посложнее. Дело в том, что Брюсов, при большом и несомненном таланте, самым грубым образом изнасиловал свою музу. Он с ней грубо обращался, таскал ее (я сам видел) за волосы, бил ее. Брюсов дерзает обратиться к своей музе с угрозой: ”Влекись, мой вол… мой кнут тяжел“. И еще он о себе писал: ”Но последний царь вселенной, Сумрак! Сумрак! — за меня“. Какой‑то эмпирический (не метафизический тяготеет над них грех, и Брюсов служит злу. Не Сологуб, как кажется многим, а Брюсов. Если, например, у вас есть какое‑нибудь колеблющееся дело, которое можно решить и за и против вас, и вы предоставите его решение Брюсову, будьте уверены, что он всегда решит против вас, даже если он вас не знает. По его собственному неоднократному мне признанию, он вынужден вечно лгать. Помню, какое сильное произвел он впечатление на мою жену [Л. Д. Зиновьеву — Аннибал], когда при первом знакомстве, в течение целого вечера, рассказывал, что он больше всех в мире страдает, ибо вынужден всегда лгать и скрывать свое истинное лицо. Брюсов — большая поэтическая сила, все же он поэт только второклассный.
17 января. — Вот Вы, В. И., — сказал я, — так сурово говорили вчера о Брюсове, а между тем в Cor ardens вы писали, что он открыл вам новую ”эру Офиеля“ и обращались к нему со словами ”И музы темной посвящаю Прозренья — зрящему Тебе“…
— Да, я был одно время в него влюблен, неоднократно целовал его глаза, а глаза его были черные, прекрасные, подчас гениальные. Бывало, он стоит с наклоном головы влево, весь гибкий, упругий, и вдруг весь озаряется светом, когда мелькнет у него какой‑нибудь замысел, или ему вдруг представится план его будущего произведения. Он был подобен кошке или черной рыси на Парнасе, если хотите, пантере. Брюсов мог мгновенно импровизировать стихи почти любым размером. Да, не того я от него ожидал, сердит я на него. ”Огненный ангел“, правда, хороший роман (рассказов Брюсова я не люблю), но это все не то, не то…» («Беседы», с. 305–306).
«23 января. Я прочел понравившиеся мне стихи Брюсова:
Нежно гаснет бледно — палевая,
Вечереющая даль.
Словно в лодочке отчаливая,
Уношусь в мою печаль.
Выхожу в аллею липовую,
Где сказал он мне: я твой!
И не плачу, только всхлипываю…
— Для меня эти стихи — образец безвкусия. Ведь женщина, которую Брюсов описывает, находится в таком состоянии, что уж и плакать не может, а только всхлипывает, состояние души человека такое тяжелое, что у него уже не хватает звуков, а Брюсов, видите ли, упражняется в изысканных гипердактилических рифмах. И, выпячивая эти рифмы, Брюсов показывает, что ему нет никакого дела до этой женщины и что, вообще, этой женщины для Брюсова нет, а есть только эффектные рифмы: липовую — всхлипываю, палевая — отчаливая. Я считаю, что это не творчество, а выделка фабрикатов. Рифма в стихах играет служебную, второстепенную роль и не должна себе довлеть. Вспоминаю, как Брюсов однажды пришел ко мне и сказал: ”Вячеслав, ты в ‘Нежной тайне’ употребил рифму: полюс — Solus, ведь я тебе ее дал, а ты поместил даже не в главном, центральном стихе, а в каком‑то второстепенном“. Я только пожал плечами, мне это было смешно слушать: придавать такое чрезмерное значение рифме. Но в этом и есть сущность декадентства, что часть приобретает значение целого. Это есть разложение, отпадение от целого, отделение каждого атома. Это и есть начало зла, служение дьяволу.
Мой друг Рачинский рассказал мне такой анекдот. Пришел некий великий грешник на исповедь. Исповедующий спрашивает его: ”Ты убивал?“ — ”Грешен“. — ”Прелюбодействовал?“ — ”Грешен“. — ”Разбойничал?“ — "Грешен“ и т. д. Наконец, спрашивает он: ”Еретик?“ — ”Боже упаси!“ Вот таков и я. Во всем грешен, но не еретик: в искусстве, как в религии, есть правовкусие и вкус еретика. И именно вкус еретика у Брюсова, возгласившего: ”Но последний царь вселенной, Сумрак! Сумрак! — за меня“. Да, Брюсов жрец, пусть маленький, но очень старательный, именно этого сумрака, этого зла» («Беседы», с. 308).
БРЮСОВА, Надежда Яковлевна (1881–1951) — сестра поэта, музыковед, деятель музыкального образования (1906–1916: преподавала в Московской Народной консерватории; 1918–1929: в Наркомпросе РСФСР руководила музыкальными учебными заведениями). В 1921–1943 — профессор Московской консерватории по классу теории музыки и фольклора.
БУБЕР (Buber, Martin, 1878–1965) — религиозный философ, родился в Австрии, в 1924–1933 — профессор иудаики во Франкфурте — на — Майне. После прихода Гитлера к власти — профессор Иерусалимского ун — та. Вместе с Ф. Розенцвейгом перевел Ветхий Завет на немецкий язык. В издаваемом им журн. «Die Kreatur» (№ 2, 1926) появился первый на Западе перевод Переписки из двух углов. В философии и метафизике Иванова и Бубера были некоторые созвучия, в частности, в трактовке проблем «я» и «ты» и отношениях человека и Бога.
БУЛГАКОВ, Сергей Николаевич (1871–1944) — философ, богослов. По окончании юридического ф — та Московского ун — та преподавал политическую экономию в Московском Техническом Училище; в 1901 — профессор Киевского Политехнического ин — та; в 1906–1911 — приват — доцент Московского ун — та. В 1918 рукоположен в священники (о. Сергий), организует братства Св. Софии, попадает в Крым, где становится профессором Симферопольского ун — та. С 1 января 1923 выслан из России, едет сначала в Константинополь, затем в Прагу, где читает лекции на Русском юридическом ф — те. С 1925 — в Париже, профессор Богословского ин — та. Ему посвящены стихотворения В. И. «Пасхальные свечи» (Cor ardens; II, 265–266 и прим. на с. 706) и «Мать» (III, 524). Его жена — Елена Ивановна (урожд. Токмакова).
БУНИАТЗАДЕ, Дадаш Ходжа оглы (1888–1938) — один из руководителей борьбы за советскую власть в Азербайджане. С 1920 — нарком просвещения и нарком РКП (одновременно) Азербайджанской ССР; затем, с 1928 — пред. СНК республики, с 1932 — наркомзем ЗСФСР. Член ЦИК СССР.
БУНИН, Иван Алексеевич (1870–1953) — писатель, первый русский лауреат Нобелевской премии (1933).
БУОНАЮТИ (Buonaiuti, Ernesto, 1881–1946) — итальянский священник «модернист», его авторству была приписана анонимная книга — программа модернистов Il programme dei modernisti (1907). В 1925 был отлучен от Церкви. Профессор истории христианства в Римском ун — те, после заключения конкордата между Италией и Ватиканом в 1927 — был лишен кафедры. В 1930 ему запрещено носить рясу. Трижды собрание его сочинений вносилось в индекс запрещенных Церковью книг. В. И. познакомился с ним вскоре после приезда в Рим, но слышал о нем уже в России, вероятно, от ученика Буонаюти, августинского монаха Пальмьери.
ВАГНЕР (Wagner, Richard, 1813–1883) — «Вагнер — второй, после Бетховена, зачинатель нового дионисийского творчества» («Вагнер и Дионисово действо», II, 83–85). «3 февраля 1921 г. /…/ Я вот отношусь к Ницше с большим уважением, однако, когда‑то собирался его выставить в комическом виде, примерно в таком же, в каком Аристофан выставил Сократа. План моей предполагаемой комедии был приблизительно таков: Дионис с сонмом сатиров и менад возвращается из Индии. По дороге через Персию они натыкаются на новоявленного Заратустру — Ницше, которого также сопровождает большой сонм. Ницше начинает излагать свое учение, называя его учением Диониса, сатиры хлопают глазами и ушами и никак не могут признать это учение за дионисийское. Происходят забавные qui pro quo, причем особенно забавными оказываются ницшеанцы. Между прочим, я полагал вывести в комедии и Вагнера, который, как всякий торжественный персонаж, мог быть особенно юмористичным (”Вот стоит Вагнер, он стоит как колонна“ — писал о нем Ницше). Ведь и музыка Вагнера вызывает или восторг, или смех. От великого до смешного — шаг, от торжественного до смешного — еще меньше, часто ни шага. В заключении судьей между сатирами и Ницше выступает сам Дионис, и тут можно воздать Ницше следуемое ему признание. В таком духе рисовалась мне некогда эта комедия, напоминающая, впрочем, скорей ”Лягушки“ Аристофана, чем его ”Облака“» («Беседы», с. 309–310).
ВАЛЕРИ (Valéry, Paul, 1871–1945) — французский поэт и эссеист.
ВАРШЕР, Татьяна Сергеевна (1880–1960) — русский ученый, археолог, много писавшая о Помпеях (о зверях и растениях «помпейской» живописи), вблизи которых она жила в Италии. Связана с Немецким археологическим ин — том и Американской Академией в Риме. Она постоянно виделась с Мережковскими во время их посещения Италии в 1936–1937, часто упоминается в письмах Гиппиус из Италии (см. Из переписки З. Н. Гиппиус, Мюнхен, 1972). Автор воспоминаний Виденное и пережитое (в Советской России). Берлин, 1923.
ВЕНТУРИ (Venturi, Lionello, 1885–1961) — итальянский историк и теоретик искусства, в 1932–1939 жил во Франции, с 1939 по 1944 преподавал в США. Вернулся в Италию в 1945, преподавал в Римском ун — те.
ВЕРХОВСКИЙ, Юрий Никандрович (1878–1956) — поэт, историк литературы, специалист по русской поэзии начала XIX века. Лично и литературно был близок к символистам, но хотел сочетать модернистскую поэтику с ориентацией на стиховую культуру пушкинской поры. Ему посвящено несколько стихотворений В. И.: «Выздоровление» (Cor ardens; II, 333 и прим. на с. 736); «Послание на Кавказ» (Нежная тайна; III, 55–58); «Новодевичий монастырь» (Свет Вечерний; III, 566); и четыре, собранных в IV, 11–13, 24, 39.
ВЕЧОРКА, Татьяна (Толстая, Татьяна Владимировна, 1892–1965) — поэтесса, три сборника стихов вышли в 1918–1927. Второй сб., Соблазн, вышел в Баку в 1920.
ВИАРДО (Viardot, Pauline, урожд. García, 1821–1910) — знаменитая испанская певица, «друг сердца» И. С. Тургенева; дочь известного тенора и педагога Manuel Garcia, сестра певицы Maria Felicità García Malibran (1808–1836).
ВИКТОР ЭММАНУИЛ III (Vittorio Emanuele III, 1869–1947) — король Италии в 1900–1946 гг.
ВОЛОШИН, Максимилиан Александрович (1887–1932) — поэт — символист, переводчик, художник. Ему посвящено стихотворение «Сон Мелампа» (Cor ardens; II, 294–299 и прим. на с. 715–716). Волошин об Иванове: см. Лики творчества, Л., 1988, с. 477–484, 571, 745–746.
ВОЛЬПИЧЕЛЛИ (Volpicelli, Luigi, 1900–1983) — видный итальянский педагог, профессор Римского ун — та с 1939, автор множества книг по теории образования. Зять Анджело и Ольги Синьорелли. Его дочерям посвящено стихотворение В. И. «В детский альбом» (III, 547). О нем см.: Prospettive su Luigi Volpicelli (Istituto di pedagogia, Roma, 1964).
ВРУБЕЛЬ, Михаил Александрович (1856–1910) — художник. «Мир твоей славной, страдальческой тени, безумец Врубель!» (В. И., «Заветы символизма», II, 599).
ГАЛЛАРАТИ СКОТТИ (Gallarati Scotti, Tommaso Fulco, Luca, 1878–1966) — итальянский писатель, политик, дипломат.
ГЕРШЕНЗОН, Михаил Осипович (1869–1925) — историк русской литературы и общественной мысли, философ, связанный с В. И. многолетней близкой дружбой. В. И. и Гершензон, Переписка из двух углов (1921; III, 384–415 и прим. на с. 808–818). Гершензону посвящено стихотворение в Нежной тайне «Совесть» (III, 42–43 и прим. на с. 701). Реакция Гершензона на стихотворение приводится на с. 490 издания стихов В. И. в «малой серии» «Библиотеки поэта» (1976). Его жена: Мария Борисовна, сестра пианиста Александра Гольденвейзера.
ГИППИУС, Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэтесса символистского направления, прозаик, драматург, критик (псевдонимы: Антон
Крайний, Товарищ Герман и т. д.). Сотрудничала и одновременно полемизировала с В. И. в 1900–е годы.
ГЛИЭР, Рейнгольд Морицевич (1874–1956) — композитор. Ему обращено стихотворение В. И. 1924 г.: «Глиэр! Семь роз моих фарсийских…» (IV, 91) в связи с тем, что Глиэр положил на музыку стихи В. И. «Газелы о розе» (1911).
ГНЕСИН, Михаил Фабианович (1883–1957) — композитор и педагог (по композиции), ученик H. A. Римского — Корсакова и А. К. Лядова. Написал музыку к пьесам Блока («Балаганчик», 1909, и «Роза и крест», 1914) и к античным трагедиям Софокла и Еврипида. Автор воспоминаний о Римском — Корсакове (М., 1956).
ГОЛЕНИЩЕВ — КУТУЗОВ, Илья Николаевич (1904–1969) — исследователь европейских средневековых литератур и славянских литератур XV‑XVI веков, переводчик, поэт (сборник его стихов Память, изд. «Парабола», Париж, 1935, вышел с предисл. В. И.). Эмигрировал в 1921, в 1955 вернулся в СССР. О нем см.: В. М. Жирмунский. «Памяти И. Н. Голенищева — Кутузова», в кн. И. Н. Голенищев — Кутузов, Творчество Данте и мировая культура (М., 1971); Д. С. Лихачев. «Илья Николаевич Голенищев — Кутузов», в кн. И. Н. Голенищев — Кутузов. Славянские литературы. Статьи и исследования (М., 1973). Ему посвящено стихотворение В. И. «Земля» (Свет Вечерний; III, 508). Сам Г. — К. писал о творчестве В. И.: «Лирика Вячеслава Иванова», «Современные записки», № XLIII, 1930, с. 463–471. Об отношениях между ним и В. И. см.: «V. Ivanov ed: giovani poeti dell’emigrazione russa — corrispondenza con I. Goleniscev‑Kutuzov», A. Shishkin, в кн. Cultura e Memoria, atti del terzo simposio internazionale V. Ivanov (Firenze, 1988).
ГОЛУБКИНА, Анна Семеновна (1864–1927) — скульптор. Ей посвящено стихотворение В. И. «Утреня в гробу» (III, 559–560), написанное в 1914. Тогда же началось знакомство В. И. с ней, — она стала ваять бюст В. И. О ней см. статью Волошина в кн. Лики творчества, Л., 1988, с. 295–301.
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР, Александр Борисович (1875–1961) — пианист, композитор, педагог, народный артист СССР (с 1946). В 1906–1961 — профессор Московской консерватории по классу фортепьяно.
ГОРОВИЦ (Horowitz), Владимир Самойлович (р. 1904) — пианист, окончил Киевскую консерваторию, покинул СССР в 1925. Живет в США.
ГОРОДЕЦКИЙ, Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт. В. И. посвятил ему несколько стихотворений: «Суд огня» (II, 245–248), «Как жутко — древне и до грусти живо» (IV, 41), «Замышленье Баяна» (IV, 52–53); он также отрецензировал его сб. стихов Ярь («Критическое обозрение», № 2, 1907). Об отношениях Городецкого с В. И. см. прим. на с. 473–474, 492–493 в изд. «Библиотеки поэта». Его жена: Анна Алексеевна (урожд. Козельская, 1889? — 1945), публиковала стихи и прозу под псевднимом А. (или Н.) Бел — Конь — Любомирская.
ГОРЬКИЙ, Максим (Пешков, Алексей Максимович, 1868–1936) — см. его «Вяч. И. Иванов» в кн.: Горький. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. (Архив А. М. Горького, T. VI, М., 1957, с. 210–211).
ГРЕГЕР (Groeger, Wolfgang E.) — немецкий поэт, переводчик Пушкина, Толстого и В. И.: Klüfte. Über d. Krizis d. Humanismus [Кручи. О кризисе гуманизма]. Berlin, Verlag Skythen, 1922.
ГРЕЧАНИНОВ, Александр Тихонович (1864–1956) — композитор, положил на музыку стихи В. И. «Мистический триптих» и пять «Римских сонетов». Ему посвящено стихотворение В. И. «Твоя душа вся звон и строй» (1919; IV, 83). С 1925 жил за границей.
ГУЛЯЕВ, Александр Дмитриевич — ученый классицист, профессор Бакинского ун — та, выступал неофициальным оппонентом на защите 22 июля 1922 диссертации В. И. Об Александре Дмитриевиче Гуляеве, Александре Осиповиче Маковельском (1884–1969) и других бакинских профессорах см. прим. на с. 561 в кн.: Трагедии Эсхила в переводе В. Иванова. М., 1989. Серия «Литературные памятники». См. также: Н. В. Котрелев. «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета». Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение, Тарту, 1968.
ГУМИЛЕВ, Николай Степанович (1886–1921) — см. ответ В. И. на стихотворение Гумилева «Sonetto di risposta» (II, 336). «20 сентября. — Поэта Гумилева я ценю. Одно время он был под сильным влиянием Брюсова и ”французов“, но затем от своих учителей освободился и приобрел полную самостоятельность. Помню, когда вышел его первый оригинальный сборник стихотворений, я в большой рецензии, напоминавшей по форме похвальный отзыв об академическом диссертанте, указал, что Гумилев уже прошел искус подмастерья и стал настоящим мастером. Был тогда он еще очень молод и подавал большие надежды, которые впоследствии и оправдал: он поэт несомненный и своеобразный. Конечно, — романтик и упивающийся экзотикой, но романтизм его не заемный, а подлинный, им пережитый. Дважды, с очень тощими средствами и без достаточного знания языков, ездил он в Абиссинию, охотился на африканских зверей, обошел и объездил Абиссинию всю вокруг. Позже, вместе со своей женой A. A. Ахматовой и С. М. Городецким, образовал пресловутое литературное направление ”акмеизм“. Конечно, все трое были совершенно разными и быстро как литераторы разошлись… Гумилев той поры казался мне человеком вызывающим, иногда мог даже показаться наглым, но по существу был он рыцарски благороден и мужественен. Между прочим, накануне своей дуэли с Максимилианом Волошиным (из‑за поэтессы Черубины де Габриак — псевдоним Е. И. Васильевой, урожденной Дмитриевой) Гумилев провел ночь у меня. Я, хотя Волошин был моим приятелем, в этом его столкновении с Гумилевым был на стороне Гумилева, а с Волошиным разошелся… Это, разумеется, не мешает мне высоко ценить стихи последних лет Волошина: в них он настоящий красавец» («Беседы», с. 317).
ГЮНТЕР, фон (von Guenther, Johannes, 1886–1973) — немецкий поэт и переводчик русской литературы, был тесно связан с кругом русских символистов. С апреля 1908 прожил 14 недель на «башне». Ему В. И. посвятил цикл немецких стихотворений «Gastgeschenke» (II, 337–340). Автор воспоминаний Ein Leben in Ostwind. Zwischen Petersburg und
München, München, 1969. О нем см. сборник Поэзия и перевод, М. — Л., 1963, с. 383–387.
ДАМИАНИ (Damiani, Enrico, 1892–1953) — итальянский славист, автор множества переводов, особенно из болгарской литературы. С 1928 — профессор Римского ун — та, затем — Istituto Univ. Orient, di Napoli. Перевел некоторые стихотворения В. И., в т. ч. дифирамб «Огненосцы».
ДЕГТЕРЕВСКИЙ, Иван Моисеевич — о нем см. воспоминания O. A. Мочаловой в приложении II настоящего тома.
ДЖЕНТИЛЕ (Gentile, Giovanni, 1875–1944) — итальянский философ, принадлежал к школе философского идеализма, возглавляемой Кроче. В 1922–1924 — министр просвещения в правительстве Муссолини, известен своей радикальной реформой итальянской системы образования. В 1925–1937 — один из организаторов и редакторов Enciclopedia Italiana (где В. И. опубликовал статью о символизме). Был убит партизанами — антифашистами во Флоренции, 15 апреля 1944.
ДЖЕРМАНИ (Germani, Fernando, p. 1906) — итальянский органист, профессор Римской консерватории, с 1948 — первый органист собора Св. Петра. Редактор полного собрания сочинений Фрескобальди.
ДЖИВЕЛЕГОВ, Александр Карпович (1875–1952) — литературовед, театровед, член — корреспондент АН Армянской ССР (с 1945). С 1930 — профессор ГИТИСа.
ДОБРОВЕИН (Dobrowen), Исай Александрович (наст. фамилия: Барабейчик, 1891–1953) — русский дирижер, пианист и композитор. С 1923 жил за границей, где выступал с различными оркестрами.
ДОБУЖИНСКИЙ, Мстислав Валерианович (1875–1957) — литовско — русский живописец, график, иллюстратор, театральный художник, член «Мира искусства». В поздний период творчества жил в Литве, Франции, Англии и США. О В. И. — см. Воспоминания Добужинского (М., «Наука», 1987, с. 271–275.
ДУЗЕ (Duse, Eleonora, 1858–1924) — известная итальянская актриса. 17. 03. 1891 Чехов писал своей сестре Марии из Петербурга: «Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской ”Клеопатре“. Я по — итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видал ничего подобного /…/ Глядя на Дузе, я понимал, отчего в русском театре скучно».
ДУНКАН (Данкан, Duncan, Isadora, 1878–1927) — американская танцовщица, одна из основоположниц современного танца. Впервые выступила в России в 1904, затем неоднократно приезжала на гастроли (1905–1913). В 1921 приехала в Москву, в 1922 вышла замуж за С. А. Есенина, приняла советское гражданство, организовала студию танца. Покинула СССР окончательно в 1924.
ДЮ БОС (Du Bos, Charles, 1882–1939) — французский переводчик, критик, редактор журн. «Vigile». Семь томов его Approximations выходили в 1922–1937 (отдельным изд. в 1965). Письмо В. И. к Дю Босу см. в III, 418–432. Бердяев писал о Дю Босе: «Одно время главным руководителем со — собраний в Понтиньи был Шарль Дю — Бос. В последние годы он очень болел и не мог бывать в Понтиньи. Дю — Бос умер осенью 39 года. Я познакомился с ним в 24 г. у Льва Шестова, где встречал и еще некоторых французов. С Дю — Босом у нас установились очень дружественные отношения. Я знаю, что он ко мне относился очень хорошо. Но дружеское общение у французов совсем иное значит, чем у русских. У французов нет особенной потребности во встречах со своими ”друзьями“. Дю — Бос был очень оригинальный человек, не похожий на средне — французский тип. Он не был человеком нашего времени, он был человеком романтического века. У него был романтический культ дружбы. Когда ему нужно было сделать надписи на своей книге для друзей, то оказалось, что у него около 200 друзей, которым нужно было подписывать. Он не был замкнут во французской культуре, он также обладал английской и немецкой культурой, в совершенстве владел этими языками. Когда я с ним познакомился, он не заявлял себя еще католиком. С известного момента он обнаружил себя католиком, но забыл об этом и в один прекрасный день вспомнил. В нем была большая чистота и благородство, настоящий духовный аристократизм и своеобразный эстетический фанатизм. Он соглашался говорить лишь о первоклассных писателях. Это был очень искренний и правдивый человек. Но меня больше всего поражало, до чего он целиком живет в литературе и искусстве. Все проблемы ставились для него в литературном преломлении. Чудовищное преувеличение литературы во Франции есть черта декаданса. Когда молодой француз говорил о пережитом им кризисе, то обыкновенно это означало, что он перешел от одних писателей к другим, например, от Пруста и Жида к Барресу и Клоделю. Россия страна великой литературы, но ничего подобного у нас не было. Дю — Бос в этом отношении был очень типичен. Но вместе с тем он был более блестящий causeur и conférencier, чем писатель. Это был изумительный по утонченности и изощренности causeur, сравниться с ним может только Вячеслав Иванов. Он высказывал иногда изумительные по тонкости мысли и замечания. Но в этих мыслях я не замечал синтетической цельности, централизованности, отсутствие чего вообще характерно для французов последнего времени. Самое лицо Дю — Боса, немного напоминавшее Ницше, было очень интересное, одухотворенное и благородное. В последние годы он очень страдал от болей и видел в этом религиозный смысл. /…/ Он жил культом великих творцов культуры, особенно любил Гете, английских поэтов, Ницше, любил очень Чехова. Это был фанатик великой культуры и ее творцов. К нашей катастрофической эпохе он совсем не был приспособлен». (Самопознание, Париж, 1983, с. 405–407).
ДЯГИЛЕВ, Сергей Павлович (1872–1929) — художественный и театральный деятель, один из организаторов и редактор журн. «Мир Искусства». Организатор и руководитель знаменитых «Русских сезонов» в Париже, впоследствии — «Дягилевского балета» («Les Ballets Russes»).
ЗАМЯТНИНА, Мария Михайловна (1865–1919) — подруга Л. Д. Зиновьевой — Аннибал, домоправительница Ивановых, «домашний гений» их семьи. Ей посвящено множество стихотворений В. И. (см. I, 595, 632–633; II, 305–306, 353, 508–509; IV, 59).
ЗЕЛИНСКИЙ, Фаддей Францевич (1859–1944) — филолог — классик, литературовед, профессор Петербургского ун — та, участвовал в редакционной работе «Всемирной литературы». С 1921 — в эмиграции, профессор Варшавского ун — та, польский академик. Был очень близок к тому пониманию античности, которое характеризует Ницше и русских символистов. В широкой деятельности символистов по популяризации античной культуры в России Зелинскому принадлежит заметная роль. Автор статьи о В. И. в кн. Русская литература XX века. 1890–1910, под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III, кн. VIII, M., 1917, с. 101–113. Ему посвящено стихотворение по — гречески В. И. (III, 60) и стихотворение «Другу гуманисту» (III, 530–531). «8 апреля. Говоря о драмах Софокла в переводе Ф. Ф. Зелинского [Софокл. Драмы, т. 1–3, M., M. и С. Сабашниковы, 1914–1915] я выразил сожаление, что до сих пор еще не издан переведенный В. И. Эсхил. При этом я добавил, что вводные статьи Зелинского к Софоклу очень интересны, и было бы желательно, чтобы перевод Эсхила был так же щедро комментирован.
— Нет, — сказал В. И., — у меня план другой: я хочу издать Эсхила в трех книгах, и статьи — в отдельной книге, а не к каждой трагедии отдельно. Ведь у Зелинского Софокл тонет в его комментариях и статьях, хотя и то сказать, статьи‑то и наиболее здесь ценны. При всем уважении к эрудиции и таланту Фаддея Францевича, нужно сознаться, что его перевод далеко не классический, на нем нельзя остановиться, как на окончательном. А между тем каждый классик должен быть переведен окончательно, канонизированно. Таковы, скажем, фоссовский перевод Гомера и шлегелевский — Шекспира. В России классическим переводом является ”Одиссея“ Жуковского. А ”Илиада“ Гнедича, хотя и не классический перевод, но занимает крепкое место, и только безвкусица нашего времени может отдать предпочтение переводу Минского. Я сам пробовал переводить ”Илиаду“, и у меня выходило довольно интересно, в особом древне — русском роде, и совершенно непохоже на перевод Гнедича» («Беседы», с. 311).
ЗИНОВЬЕВ, Александр Димитриевич (1854–1931) — брат Лидии Димитриевны. Его старшему сыну Александру, погибшему на русско — японской войне, посвящено стихотворение В. И. «Месть мечная» (Cor ardens; II, 251 и прим. на с. 703).
ЗИНОВЬЕВ, Димитрий Васильевич (ум. 14/27 сентября 1904) — отец Л. Д. Зиновьевой — Аннибал.
ЗИНОВЬЕВА — АННИБАЛ, Лидия Димитриевна (1866–1907) — писательница символистского направления, вторая жена В. И. (по первому браку, Шварсалон; муж — Константин Семенович). Ее прозвище — Диотима. Ей посвящено множество стихов В. И. и сб. Cor ardens. «17 января. /…/ О других своих произведениях судить не могу. Да и, вообще, могу ли я теперь судить? Я так далек от всего этого, словно я совершенно переменился, точно я умер. Во всяком случае, кого я ни читаю из современников, все не то. Только когда я читаю Зиновьеву — Аннибал, я вновь живу, снова плачу, как живой, снова у меня здоровое отношение к жизни» («Беседы», с. 306). «15 декабря. /…/ что Вы скажете, Вячеслав Иванович, о ее собственном творчестве, в частности, о сборнике ”Трагический зверинец“? Мне кажется неправильным уже его заглавие. Ведь ”трагическое“ — категория чисто человеческая, а если мир, изображенный в книге, только ”зверинец“, то он не может быть трагическим. Пафос книги — Воля, по Шопенгауэру, слепая и неразумная. Не последний только рассказ сборника, а весь он мог быть назван ”Волей“…
— Я не согласен, — возразил В. И., — что заглавие книги неточно. Формально все рассказы повествуют о зверях (”Глухая Даша“ и ”Царевна — кентавр“ ведь тоже звери). И не только формально, но и по существу весь мир представлен здесь зверинцем. И зверинец этот не научный, не комический, а трагический. И ”Воля“ у Зиновьевой — Аннибал не та, что у Шопенгауэра; там безысходность, кружение Воли в самой себе, здесь — ее человеческое преодоление. И бунт героини ”Трагического зверинца“ не только космический (против дисгармонии мира), но и социальный (против общественного неуклада). В этом отношении рассказ ”Глухая Даша“ даже революционный. И характерно, что, когда этот рассказ впервые появился в ”Тропинке“ (детский журнал, издаваемый Поликсеной Соловьевой — Аллегро), он вызвал со стороны реакционеров целый ряд негодующих писем…» («Беседы», с. 319–320).
ЗУММЕР, Всеволод Михайлович (1885–1970) — историк искусства, археолог, ориенталист, коллега В. И. в Бакинском ун — те. Ему посвящено стихотворение В. И. 1926 г. «Уж расставались мы…» (IV, 94).
ИВАНОВ, Вячеслав Иванович (16–28 февраля 1866 — 16 июля 1949) —
«20 января. Я принес В. И. маленький свой экспромт, где писал:
У тебя, родимого,
Слово есть любимое,
Слово — СЛАВА.
Мне оно незримое,
Но тобой палимое,
Благовонный дым его
Чую в гимнов сплаве…
— Да, да, — сказал В. И., — я люблю это слово. И у меня оно означает не то, что у Пушкина. У него ”слава“ в сфере слуховой (”шeпот глупца“, ”похвала льстеца“, ”слух обо мне пройдет…“), а для меня же она нечто зримое, некий ореол, нимб лучей вокруг предметов» («Беседы», с. 307).
«25 января. Я сказал Вячеславу Ивановичу, что имя соответствует ему, фамилия же — Иванов — недоразумение: какой это Иванов? Но Вячеслав Иванович с этим не согласился:
— Я нахожу, что моя фамилия, в связи с моим ”соборным“ мировоззрением, мне весьма подходит. ”Иванов“ встречается среди всех наших сословий, оно всерусское, старинное и вместе с моим именем и отчеством звучит хорошо: Вячеслав — сын Иванов. Кроме того, фамилия эта мне еще приятна по духовному моему родству с художником Ивановым, которого все больше начинают должным образом понимать и ценить. Сочетание ”Вячеслав Иванов“ так же хорошо звучит, как сочетание ”Владимир Соловьев“. /…/ Добавим еще, что имя Вячеслав мать мне дала вопреки воле отца (была она славянофилка), и это имя, думаю, в значительной степени определило всю мою жизнь. А будучи беременной, она постоянно смотрела то на портрет Пушкина, то на висевший у нее на стене портрет некоего многознающего и трудолюбивого немца. И вот у меня есть кое‑что от Пушкина, а еще больше, пожалуй, от этого немца» («Беседы», с. 309).
Отец В. И. — Иван Тихонович Иванов (1816–1871); мать — Александра Дмитриевна, урожд. Преображенская (1824–1896).
«20 декабря. Я очень, как Вы знаете, люблю слово ”слава“ и ценю свое славянское имя — Вячеслав. Но о личной, так называемой славе всегда очень мало думал, а теперь и вовсе не думаю. Вот я получил из Тифлиса предложение приехать к ним. Предложение исполнено самых лестных для меня комплиментов (вроде того, что я ”славянский Гете“ и т. п.), но мне это безразлично. Я теперь своей ”славой“ интересуюсь ну столько же, сколько, скажем, славой Аполлона Майкова, или Полонского. Какой‑то центр у меня сдвинулся, и менее всего мне хочется быть «выставочным»; напротив, я б хотел уйти в тень. Впрочем, я и раньше не столько думал о современниках, сколько о потомках.
Мне кажется, что никто из моих современников так не живет чувством мифа, как я. Вот в чем моя сила, вот в чем я человек нового начинающегося периода. Если, по Огюсту Конту, человечество в своем развитии прошло через три фазы: мифологическую, теологическую и научную, то ныне наступают сроки новой мифологической эпохи. И тогда, когда она настанет, меня впервые должным образом оценят». («Беседы», с. 321).
«12 февраля. — Нужно, — сказал В. И., — чтобы всякий творческий человек испытывал известное самообольщение, что он в каком‑то отношении в своем творчестве первый из современников. Так, в нашем кругу это чувство первенства испытывали Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый и я. Да, и я. И если я писал, что первую пальму и лавр предоставляю Бальмонту, то этим я отнюдь не хотел сказать, что считаю его выше себя: нет, я как жюри — вне сравнения, он первый среди всех остальных, не считая меня. То же — хваля Брюсова, я этим говорил, что сам‑то я еще больше. И так же, как я, думал каждый из нас. И так было всегда. Леонардо да Винчи, Микель — Анджело и Рафаэль — каждый считал себя первым. Так глядели на себя Эсхил, Софокл и Эврипид, так же — Пушкин и Баратынский. И иначе быть не может. Сознавая себя вторым во всех отношениях, я бы не мог больше писать. Пусть Бальмонт обильнее и благозвучнее меня, а Блок задушевнее, я все же считаю себя в некоем отношении первым. Но это относится, конечно, только к современникам. Смерть канонизирует, обращает в героев. И, клянусь, ни одной минуты в жизни я не считал себя выше Пушкина. Мне чуждо подобное заявление: ”Предо мною другие поэты — предтечи“ (Бальмонт). Я почитаю своих литературных предков, а кто почитает отца своего и мать свою, будет многолетним на земле, т. е. в данном случае — славен. Гений не может не ценить своих предшественников уже потому, что он их необычайно любит. Но признавать себя во всех отношения уступающим своим современникам было бы со стороны поэта оскорблением своей музы и подобно тому, как если бы кто‑нибудь сказал о своей возлюбленной, что она во всех отношениях уступает другой. Это было бы нехорошо. И уж гораздо лучше тенденция, столь наивно выраженная у Дон — Кихота (да и, вообще, у рыцарства), что его Дульцинея — первая в мире, и он вызывает всякого, кто это не признает, на бой. Конечно, это было весьма глупо, когда каждый рыцарь провозглашал свою даму первой и готов был сцепиться со всяким, в этом сомневающимся. Но человеческая глупость бывает и очаровательной. Человек должен быть мудрым и глупым, всего хуже умники, и они‑то наибольшие… дураки». («Беседы», с. 310).
ИВАНОВ, Димитрий Вячеславович (р. 1912) — сын В. И. по браку с В. Е. Шварсалон, журналист, писатель (псевд., по месту, где он родился во Франции, в Haute Savoie — Jean Neuvecelle), один из редакторов брюссельского Собрания сочинений В. И. Ему посвящено стихотворение В. И. «Время» (III, 544).
ИВАНОВ, Сергей Петрович (1894–1983) — художник, график, иллюстратор, жанрист, портретист. Студент Академии Художеств в Петрограде. В 1922 бежал в Финляндию, переселился в Париж, где жил и работал до смерти. О нем см. брошюру «Atelier Serge Ivanoff», изданную в связи с выставкой в Hôtel Drouot в Париже в октябре 1988 г. Его портрет, работы З. Е. Серебряковой — помещен в кн.: З. Серебрякова. Каталог выставки. М., 1986, С. 241.
ИВНЕВ, Рюрик (Ковалев, Михаил Александрович, 1891–1981) — поэт, писатель. «27 августа. Рюрик Ивнев читал свои стихи из сборника ”Солнце во гробе“. — Вы талантливы, — сказал ему В. И. — сильны в мелодиях, но у меня впечатление, что Вы себя к чему‑то нудите, как если бы человек заставлял себя ради какой‑то особенной каллиграфии писать не своим почерком. Вот теперь Вы — имажинист, но по природе своей вся ваша группа не однородная. Есенин ближе к мифотворчеству, он, конечно, талантлив, хотя его учителя, Клюева, я квалифицирую выше. Мариенгоф тоже талантлив, но Смердяков. Шершеневича я знаю меньше, мне он представляется скорее с преобладанием ума и воли, чем чувства. Да и ваша эмоциональность не совсем соответствует, по — моему, имажинизму.
Ивнев продолжал читать свои стихи. Один стих особенно остановил наше внимание: ”Песни — как бритва, от этих песен весь рот в крови“. — Это не забудется, — сказал В. И., — я не знаю, хорошо ли это, но это режется. Если бы мне пришел в голову подобный образ, я бы его не написал: я бы пожалел себя. Я понимаю Гете, сказавшего: ”Я никогда не напишу трагедии, я бы ее не пережил“…» («Беседы», с. 314).
ИГУМНОВ, Константин Николаевич (1873–1948) — пианист и педагог, профессор Московской консерватори с 1899. Народный артист СССР (1946).
ИЛЬИН, Иван Александрович (1882–1954) — философ, профессор Московского ун — та. Выслан из Советской России в 1922. О нем см.
Воспоминанания Евгении Герцык (Париж, 1973, с. 153–155) и Между двух революций А. Белого (М., 1934, с. 312–313).
КАВИКЬОЛИ (Caviccholi, Giovanni, 1894–1964) — итальянский поэт, романист, драматург, театральный критик, журналист. Родился и умер в г. Мирандола. Антропософ.
КАЗЕЛЛА (Casella, Alfredo, 1883–1947) — итальянский композитор, пианист, дирижер, представитель неоклассицизма.
КАЛЬИ (Cagli, Corrado, 1910–1976) — итальянский художник, уехал из Италии в 1938 из‑за расовых законов, во Францию, затем, в 1940, — в США. Вернулся в Рим в 1948.
КАЛЬЦА (Calza, Guido, 1888–1946) — итальянский археолог, специалист по истории древнего Рима. О нем см.: G. Becatti, «Commemorazione di Guido Calza», — Rendiconti della Pontificia Accademia di archeologia, XXII, 1946, c. 23–30.
КАЛЬЦА (Calza, Raissa, 1897–1979) — танцовщица, родилась в Одессе, жена Г. А. Кроля, после развода с ним вышла замуж за художника Джорджио де Кирико (1925–1933). После второго развода училась археологии в Париже. По возвращении в Рим вышла замуж за археолога Кальца, занималась раскопками и историей г. Остия, написала несколько книг по истории древнего Рима (Iconografìa romana imperiale da Carausio a Giuliano, 287–363 D. C. 1972; путеводитель по древнему городу Остия и др.).
КАРАТЫГИН, Вячеслав Гаврилович (1875–1925) — музыкальный критик, пропагандист творчества Скрябина, Стравинского, Прокофьева, профессор Петроградской консерватории (с 1919).
КАРНИЦКАЯ, Нина Андреевна (р. 1906) — пианистка, педагог.
КАУН (Kaun, Alexander, 1889–1944) — американский историк русско — советской литературы, профессор Калифорнийского ун — та (Беркли), автор книг о Л. Андрееве (1924), Горьком (1931) и советской поэзии (1943).
ДЕ КИРИКО (De Chirico, Giorgio, 1888–1978) — итальянский художник, глава «метафизической школы» в живописи.
КЛОДЕЛЬ (Claudel, Paul, 1868–1955) — французский поэт, драматург и религиозный мыслитель.
КОГАН, Петр Семенович (1872–1932) — литературовед, критик, с 1921 — президент Государственной Академии художественных наук. Высказывания Когана о В. И. см. в его книгах: Очерки по истории новейшей русской литературы, т. 3, Современники, вып. 3, Мистики и богоискатели (М., 1911, с. 138 и др.); Литература этих лет. 1917–1923, 2–е изд. (Иваново — Вознесенск, 1924, с. 49).
КОГАН, Фейга Израилевна (1891–1974) — поэтесса, переводчица, теоретик художественного чтения. Участвовала в «Кружке поэзии» под руководством В. И. в Москве в феврале — августе 1920. В работе кружка участвовали поэтесса O. A. Мочалова, будущие литературоведы А. И. Кондратьев и Т. М. Левит, будущий переводчик И. А. Кашкин и др. Всего было 17 заседаний. Записи высказываний В. И. на занятиях кружка были сделаны Коган (ЦГАЛИ, ф. 272, оп. 1, ед. хр. 33, и ИМЛИ, см. «Блок»). Они частично опубликованы в Литературном наследстве, т. 92, кн. 3, М., 1982, с. 496–497, 502, 507.
КОКОШКИН, Федор Федорович (1871–1918) — юрист, лидер партии кадетов, контролер Временного правительства, убит матросами 7/20 января 1918 в Мариинской больнице в Петрограде. См. стихи В. И. «Ф. Ф. и М. Ф. Кокошкины» (IV, 41) и «Памяти Ф. Ф. Кокошкина» (IV, 71).
КОЛОБОВА, Ксения Михайловна (1905–1978) — филолог — классик, профессор Ленинградского ун — та по кафедре классической филологии. Автор нескольких книг о древней Греции (например: Древний город Афины и его памятники, изд. ЛГУ, 1961).
КОНЮС, Георгий Эдуардович (1862–1933) — музыкальный теоретик, композитор, педагог. В 1920–1933 — профессор Московской консерватории (до того работал в Саратове).
КРОЛЬ, Георгий Александрович (1893–1932) — ученик Мейерхольда, театральный и кинорежиссер. Его жена — см. Кальца, Раиса.
КРОЧЕ (Croce, Benedetto, 1866–1952) — итальянский философ и критик.
КРУЧЕНЫХ, Алексей Елисеевич (1886–1968) — поэт — футурист.
КУДАШЕВА, Мария (Майя) Павловна (урожд. Кювилье, во втором браке — Роллан, 1895–1985) — поэтесса (писала по — русски и по — французски), переводчица, жена Ромена Роллана. Ей посвящено стихотворение В. И. «Сад» (IV, 40).
КУЗМИН, Михаил Алексеевич (1872–1936) — поэт, прозаик, драматург, композитор. Впервые появился на «башне» 18 января 1906 (см. письмо Л. Д. Зиновьевой — Аннибал, Литературное наследство, т. 92, к. 3, с. 235–236), жил в «башенной квартире» пять лет (1907–1912). Ему посвящено несколько стихотворений В. И. (II, 332–333; III, 48–49). О его отношениях с В. И. см. мою биографию Кузмина в третьем томе его Собрания стихов. Мюнхен, 1977.
КУЛАКОВСКИЙ, Юлиан Андреевич — филолог — классик, по окончании историко — филологического факультета Московского ун — та продолжал занятия за границей у Моммзена. С 1881 — читал курсы римской словесности, римской истории и латинского языка в Киевском ун — те. Младший брат Платона Андреевича Кулаковского (1848–1913), профессора Историко — филологического ин — та, балкановеда.
КУРОПАТКИН, Александр Николаевич (1848–1925) — генерал от инфантерии, в 1898–1904 — военный министр.
КУСЕВИЦКИЙ, Сергей Александрович (1874–1951) — дирижер, контрабасист — виртуоз, с 1920 жил за рубежом. С 1924 по 1949 возглавлял Бостонский симфонический оркестр (до 1928 одновременно продолжал свои знаменитые «концерты Кусевицкого» летом в Париже).
КЮФФЕРЛЕ (Küfferle, Rinaldo, p. 1903) — итальянский специалист по русской литературе, переводчик Толстого, Мережковского и др. Его перевод на итальянский Человека вышел в 1946, в изд. Bocca.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (Leonardo da Vinci, 1452–1519) — «9 февраля. Говорили о художниках. — А знаете ли Вы, — сказал В. И., — что у меня о Джиоконде совершенно особое мнение. Я полагаю, что все черты ее лица (и в особенности улыбка) — от самого Леонардо, как это можно видеть и по его ”автопортрету“, где, впрочем, эта улыбка замаскирована обильными волосами. Я говорил по этому поводу со специалистами-художниками, и они со мной в этом согласились. А вывод из этого я делаю такой, что Леонардо, значит, в лице Монны — Лизы встретил своего полного физического (а, следовательно, и психического) двойника. Никакой любви к Джиоконде Леонардо не испытывал, как потому, что вообще женщин не любил, так и потому, что любят противоположное, но интерес его к своей двойнику был, конечно, исключителен. И потому‑то он так долго (в течение семи лет) писал этот портрет, что он не мог оторваться от этого самосозерцания и самоизучения» («Беседы», с. 310).
ЛЕПИСИЕ (Lépicier, Alexis, 1863–1926) — французский священник, теолог (см. его монументальную работу в 25 тт.: Institutiones theologicae dogmaticae ad textum S. Thomae Concinnate), с декабря 1927 — кардинал.
ЛО ГАТТО (Lo Gatto, Ettore, 1890–1983) — итальянский литературовед, переводчик и популяризатор славянской культуры в Италии. Профессор русской литературы и языка в Риме и Неаполе. Автор Истории русской литературы (Storia della letteratura russa, v. 1–7, 1927–1945). О нем см. «Достоевский в исследованиях и переводах Этторе Ло Гатто (по случаю смерти…)» Anna Maver Lo Gatto, — в кн.: Dostoevsky Studies, vol. 4, 1983, с. 165–172.
ЛУНАЧАРСКИЙ, Анатолий Васильевич (1875–1933) — критик, публицист, искусствовед, Комиссар народного просвещения. О В. И.: «Заметки философа (Неприемлющие мира)» — «Образование», № 8, 1906, с. 43–55 (вторая пагинация).
ЛУРЬЕ (Lourié), Артур Сергеевич (1892–1966) — музыкальный критик, композитор, глава музыкального отделения Наркомпроса. Эмигрировал в 1921, жил в Париже, где его композиции на религиозные темы высоко ценились «избранным кругом друзей», среди последних — Маритен. Умер в Принстоне, США.
МАДЗИНИ (Mazzini, Giuseppe, 1805–1872) — лидер республиканско — демократического крыла итальянского Рисорджименто, основатель «Молодой Италии».
МАНН (Mann, Thomas, 1875–1955) — немецкий романист, эссеист, лауреат Нобелевской премии (1929).
МАНУЙЛОВ, Виктор Андроникович (1903–1987) — литературовед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского ун — та, «лермонтовед». О нем см. статью Лихачева в «Русской литературе», № 4, 1983 и Виктор Андроникович Мануйлов. К 80–летию со дня рождения. Указатель литературы, составители: О. В. Миллер, В. А. Захаров (Темрюк, Краснодарский государственный историко — археологический музей — заповедник, дом — музей М. Ю. Лермонтова в Тамани, 1984), и предисловие М. Дудина к сб. его стихов: Стихи разных лет. Л., 1984. Ему посвящено стихотворение В. И. «Victor manu Elohim» (IV, 90).
МАРИТЕН (Maritain, Jacques, 1882–1973) — французский католический философ, неотомист. Умер в монастыре близ Тулузы. Т. С. Элиот назвал его влияние «самой сильной силой в современной философии». Его жена — Раиса, поэтесса еврейско — русского происхождения.
МАРСЕЛЬ (Marcel, Gabriel, 1889–1973) — французский философ — христианский экзистенциалист, драматург, литературный критик, композитор.
О нем Бердяев писал: «Марсель был новый converti. Он был философ и вместе с тем драматург, но философия его была совершенно другого типа, чем у Маритена, он — представитель экзистенциальной философии во Франции. В вопросах, соприкасающихся с богословием и догматами, он еще чувствовал себя беспомощным. Впоследствии я оценил его как собеседника на чисто философских собраниях» (Самопознание, с. 308).
МАХНО, Нестор Иванович (1889–1934) — анархист, возглавлявший крестьянское движение на южной Украине в 1918–1921 («махновщина»). Бежал в Румынию в 1921.
МЕЙЕРХОЛЬД, Всеволод Эмильевич (1874–1940) — режиссер. Первая жена: Ольга Михайловна (урожд. Мунт, 1874–1940). Дочери: Мария (Бялецкая, 1897–1929); Татьяна (Воробьева, р. 1902); Ирина (Меркурьева, по сцене Хольд, р. 1905).
МЕЛЛ (Mell, Max, 1882–1971) — австрийский поэт и драматург, знаменитый своими тремя религиозными «Легендендрамами» (1923–1927).
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — прозаик, поэт, драматург, критик. В эмиграции с 1920. Ему посвящено стихотворение В. И. «Лицо» (II, 265). О его отношениях с В. И. см. II, 705–706.
METHEP (Medtner), Николай Карлович (1880–1951) — русский композитор немецкого происхождения. Эмигрировал в 1921. Умер в Англии.
МЕТНЕР, Эмилий Карлович (1872–1936) — музыкальный критик (псевд.: Вольфинг), руководитель изд. «Мусагет» и редактор журн. «Труды и дни». Брат композитора. Ему посвящено стихотворение В. И. «Порог сознания» (III, 562).
МИЛЛИОР, Елена Александровна (1900–1978) — специалист по истории древней Греции. Две из ее статей о Мастере и Маргарите напечатаны в «Вестнике РХД», № 119, (III‑IV, 1976), под инициалами «Е. М.». См. некролог в «Вестнике РХД», № 124 (I, 1978), с. 251–253.
МИЛЬШТЕЙН, Натан Миронович (р. 1904) — скрипач, в 1920–1925 концертировал в СССР, выступая в ансамбле с B. C. Горовицем. С 1925 живет за границей (с 1928 — в США).
МИНЦЛОВА, Анна Рудольфовна (ок. 1860–1910?) — переводчица, деятельница теософского движения. О ее отношениях с В. И. см. прим. на с. 722 второго тома брюссельского собрания его сочинений, и статью Maria Carlson в кн. Cultura e Метоriа, atti del terzo simposio internazionale V. Ivanov (Firenze, 1988). Ей посвящено стихотворение В. И. «Vates» (II, 312–313).
МОКЕРО (Mocquereau, Dom Andre, 1849–1930) — французский ученый — монах, авторитет по грегорианскому пению, основатель и редактор Paléographie musicale (17 тт., 1889–1958), автор многочисленных книг по своей специальности (особенно известна: Le Nombre musical grégorien ou Rythmique grégorienne, 1908–1927).
МОЛИНАРИ (Molinari, Bernardino, 1880–1952) — итальянский дирижер, с 1912 — дирижер оркестра Augusteo в Риме, пропагандист творчества современной итальянской школы (Респиги, Малипиеро, Казелла).
МОРИАК (Mauriac, Francois, 1885–1970) — французский романист, член Французской академии (с 1933).
МОРОЗОВА, Маргарита Кирилловна (1873–1958) — жена известного фабриканта и коллекционера М. А. Морозова, организатор изд. «Путь», близкий друг А. Белого, Е. Трубецкого, Скрябина. В ее московском особняке собирался салон и происходили заседания Московского религиозно — философского общества.
МОЧАЛОВА, Ольга Алексеевна (1898–1978) — поэтесса, творчески и биографически связанная с некоторыми поэтами символистского круга. О ней см. статью, подпись «Москвич» в «Вестнике РХД», № 119, (III‑IV, 1976), с. 231–233.
МУРАТОВ, Павел Павлович (1881–1950) — писатель и искусствовед, автор известной кн. Образы Италии (т. 1–2, 1911–1912). В эмиграции жил в Риме, затем переселился в Париж. Умер в Ирландии. Первая его жена — Евгения Владимировна; вторая — Екатерина Сергеевна.
НАШИМБЕНЕ (Nascimbene, Rinaldo, 1883–1958) — епископ, ректор Collegio Borromeo с 1928 по 1939.
ОКОРОКОВ, Г. В. — профессор Парижской Русской консерватории имени С. В. Рахманинова по классу виолончели.
ОСТРОГА, Феликс Валерианович (1867–1936) — профессор Женевской консерватории по классам рояля и гармонии, директор филармонического оркестра при «Большом» театре Женевы, композитор. Автор «Письма из Женевы», «Весы», № 4, 1905 (подпись: F. M. Ostroga) и рецензий в журн. «Аполлон». О нем см. II, 683–684.
OTTOKAP (Ottokar, Nicola), Николай Петрович (1884–1957) — крупный специалист по истории итальянского Средневековья (городские коммуны Флоренции, Сиены). Родился в СПб. Профессор и ректор Пермского ун — та (1919–1921). В 1921 уехал в Италию. С 1930 — профессор Флорентийского ун — та. Автор Breve storia della Russia (1936).
ПАВЛОВА, Анна Павловна (Матвеевна) (1881–1931) — выдающаяся русская балерина.
ПАПИНИ (Papini, Giovanni, 1881–1956) — итальянский критик, романист, поэт. Сотрудник символистского журн. «Весы»; был близким другом О. И. Синьорелли и ее мужа (см. их переписку: Carteggio Papini‑Signorelli, Milano, 1979).
ПЕЛЛЕГРИНИ (Pellegrini, Alessandro, p. 1897) — ученик и поклонник Бенедетто Кроче, специалист по французской и немецкой литературам (книги о Ницше, Жиде, Ст. Георге, Бодлере и др.), ординарный профессор по немецкой литературе при ун — те в Катании (с 1952), затем в Павии (с 1959), критик, редактор. Ему обращено письмо В. И. «Docta pietas» (III, 434–450).
ПЕТРУШЕВСКИЙ, Дмитрий Моисеевич (1863–1942) — историк — медиевист, представитель социально — экономического направления историографии, профессор Московского ун — та; с 1929 — академик. Основные его труды относятся к социальной истории Англии в средние века.
ПЕТТАЦЦОНИ (Pettazzoni, Raffaele, 1883–1959) — итальянский историк религии, главной сферой интересов было развитие идеи монотезима в древности и среди первобытных народов. Был президентом Международной ассоциации историков религии, редактором журн. «Numen».
ПЕШКОВ, Максим Алексеевич (1896–1934) — сын Горького, художник — иллюстратор, каррикатурист. Об обстоятельствах его смерти и смерти его отца см. статью «К вопросу о смерти М. Горького» Мишеля Никё («Минувшее», Париж, Atheneum, т. 5, 1988).
ПЕШКОВА, Екатерина Павловна (1876–1965) — первая жена Горького (с 1896), мать его сына Максима. До революции принадлежала к партии с. — р. После Октябрьской революции, будучи близким другом Ф. Э. Дзержинского, возглавляла Московский Политический Красный Крест, и через нее Горький хлопотал за «осужденных». О ней см.: Д. Минин. «Еще раз о Политическом Красном Кресте». «Память», вып. 3, Париж, 1980.
ДЕ ПИЗИС (De Pisis, Filippo; наст. имя: Luigi Tibertelli, 1896–1956) — итальянский художник, писатель, искусствовед, принадлежал к течению «Arte Metafisica», сотрудник Де Кирико; с 1943 жил в Венеции. Издана его переписка с Ольгой Синьорелли (F. de Pisis, Lettere a un’amica, Milano, 1967).
ПИЙ XI (Pius XI, род. Ambrogio Damiano Achile Ratti, 1857–1939) — nana римский с 6 февраля 1922 по 10 февраля 1939.
ПИЙ XII (Pius XII, род. Eugenio Pacelli, 1876–1958) — папа римский с 2 марта 1939 по 9 октября 1958.
ПЛЕВЕ, Вячеслав Константинович (1846–1904) — министр внутренних дел, убит с. — р.’ом Е. С. Сазоновым.
ПРЕЙС, Николай Николаевич — о нем см. прим. к стихотворению В. И., посвященному П., «Скорбный рассказ» (III, 525) — III, 833. Ему также посвящено стихотворение «Послание с берегов Колхиды» (IV, 53–54).
ПРЕСМАН, Матвей Леонтьевич (1870–1941) — пианист, педагог, выпускник Московской консерватории. В 1921–1922 — профессор консерватории в Баку. С 1923 — в Москве.
ПРЭН, Эрик (Prehn, 1894–1985) — художник, родился в Москве в старой английской семье, осевшей в России. После эмиграции работал в Риге, Париже, Флоренции, Лондоне, Эдинбурге. Его произведения находятся в The Fine Art Society в Эдинбурге, в Русском музее в Ленинграде и во множестве частных собраний. Уделял много времени искусствоведческим изысканиям, особенно занимался истоками искусства итальянского XIII века. Анализ богословских течений открыл ему путь к объяснению неожиданного появления на распятиях XI века Христа, изображенного живым и царственно умиротворенным, а не страдающим, как в последующую эпоху. Доказал также, что еще до Чимабуэ тосканские мастера работали под Римом. Среди кн.: Visual Perception in XIII Century Italian Painting (Roma, 1968); Aspetti della pittura medievale toscana (Firenze, 1976). См. некролог в «Новом журнале», № 163, 1986.
ПРОКОФЬЕВ, Сергей Сергеевич (1891–1953) — композитор, пианист и дирижер, народный артист РСФСР (1947).
ПРОТОПОПОВ, Сергей Владимирович (1893–1954) — музыковед, композитор, дирижер и педагог; окончил Киевскую консерваторию по классу композиции Б. Л. Яворского (1921).
РАЙХ, Зинаида Николаевна (1894–1939) — актриса, вторая жена В. Э. Мейерхольда.
РАПП, Евгения Юдифовна (ум. 1960) — свояченица H. A. Бердяева. О ней Бердяев писал: «Женя, сестра Лидии, поселилась с нами в 1914 г. и после этого мы и доныне живем вместе. Она была моим большим другом, всегда очень обо мне заботилась. И она была одним из немногих людей, хорошо меня понимавших. У нее редкий ум, необыкновенная доброта, настоящий дар ясновидения и всегдашняя поглощенность вопросами духовного порядка. Постоянные болезни не мешали духовной напряженности. Это человек необыкновенный и наши отношения необыкновенные. Ее значение огромно в моей жизни. Наша общая жизнь прошла в духовном общении, и я многим духовно обязан этому общению» (Самопознание, с. 156–157).
РАЧИНСКИЙ, Григорий Алексеевич (1853/9? —1939) — литератор, переводчик, последователь В. Соловьева, играл активную роль в Московском религиозно — философском Об — ве «Памяти Вл. Соловьева». Член редакции «Вопросов Философии и Психологии», редактор изд. «Путь». Его Трагедия Ницше. Опыт психологии личности (М., 1900) была одной из первых книг на русском яз. о немецком философе. Ему посвящено стихотворение В. И. «На получение греческой молитвы» (III, 43–44), а также пятистишие на греческом языке (III, 59).
РЕСПИГИ (Respighi, Ottorino, 1879–1936) — итальянский композитор, профессор Национальной академии Санта Чечилия в Риме.
РИБОЛЬДИ (Riboldi, Leopoldo, 1880–1966) — итальянский священник, ректор Колледжио Борромео (1920–1927). Переехал в Милан, вошел в орден доминиканцев под именем Джузеппе — Мария (Padre Giuseppe‑Maria).
РОЗЕНЦВЕЙГ (Rosenzweig, Franz, 1886–1929) — см. Бубер.
РОМАНОВ, великий князь Константин Константинович (1858–1915) — печатал свои стихи под инициалами «K. P.».
РОССИ (Rossi, Mario, p. 1902) — итальянский дирижер, имел свои оркестры в Риме, Флоренции, Турине.
РОСТОВЦЕВ, Михаил Иванович (1870–1952) — историк, ученый — классицист, археолог. В 1901–1918 — профессор Петербургского ун — та. С 1918 — в эмиграции. С 1925 — профессор древней истории и классической филологии в Йельском ун — те (США). Ему посвящено греческое стихотворение В. И. в Нежной тайне (III, 59).
САБАШНИКОВА, Маргарита Васильевна (1882–1973) — художница, поэтесса, первая жена М. А. Волошина (с 1906), антропософка. Автор воспоминаний, вышедших по — немецки Die grüne Schlange (1–е изд. в 1954; послед, в 1985), где подробно рассказывается о В. И. периода «башни» (см. также II, 764–767 и 808–809). Написала портрет Л. Д. Зиновьевой — Аннибал после ее смерти — по воспоминаниям и фотографиям. В. И. с ним никогда не расставался (портрет до сих пор находится в римской квартире Ивановых). Ей посвящен рассказ Л. Д. Зиновьевой — Аннибал «Медвежата» в Трагическом зверинце. Ей «тайно» посвящен цикл В. И. «Золотые завесы» (II, 384–392). Умерла в Германии. См. о ней: Margarita Voloschin. Leben und Werk (Stuttgart, 1982).
САБАШНИКОВЫ, Михаил Васильевич (1871–1943) и Сергей Васильевич (1873–1909) — братья, книгоиздатели. О них см.: С. Белов.
Книгоиздатели Сабашниковы (М., 1974) и Издания М. и С. Сабашниковых (1891–1934). Каталог выставки. М., 1975.
САВИНИО (Savinio, Alberto; наст. имя — De Chirico, 1891–1952) — итальянский художник — сюрреалист, с 1925 по 1939 жил в Париже. Брат Джорджо де Кирико.
СЕВЕРЯНИН, Игорь (Лотарев, Игорь Васильевич, 1887–1941) — поэт. «16 января. /…/ Кстати о талантах. Разве это не беспринципно, что если кто талантлив, то уж перед ним преклоняются, не считаясь с тем, что человек делает со своим талантом? Вспоминаю, Игорь Северянин прислал мне письмо, на которое я было начал ему ответ в таком роде: ”Милостивый Государь! Что Вы все носитесь со своим талантом! Это в среде художников так же само собой разумеется, как во всяком приличном обществе — то, что каждый его член человек порядочный. Важно не это, а…“ Тут я, однако, бросил писать, ибо испугался, что могу подвергнуться участи Брюсова — быть Северяниным расхваленным, а получать похвалы от Северянина мне вовсе не улыбалось. Это Сологуб сделал ошибку, разъезжая по всей России в роли его аккомпаниаторши: он, такой мастер… с Игорем Северяниным!
— Да в чем же порочность Северянина?
— А в том, что каждый поэт застает поэзию на определенной ступени развития и пытается или двигать ее дальше, или, находя, что до него движение поэзии было неверным, изменить направление этого движения. Таков истинный сын муз. Но вообразите блудного сына, который из поколения в поколение накопленные родительские книги начинает распродавать и покупает на них ликеры и тому подобное, какое это произведет на вас впечатление? Таков Северянин. Он увешивает себя ничтожными, фальшивыми драгоценностями, неискусно и пошло наряжается, и в таком виде является в общество, трубя о своем таланте…» («Беседы», с. 304–305).
СЕГАНТИНИ (Segantini, Giovanni, 1858–1899) — итальянский художник, частый его сюжет — альпийские ландшафты. В Сант — Морице находится музей Сегантини.
СЕРАО (Serao, Matilde, 1856–1927) — итальянская журналистка и писательница. См. о ней КЛЭ, т. 6, с. 770.
СЕРЕБРЯКОВА, Зинаида Евгеньевна (1884–1967) — художница, уехала из России в Париж в 1924. Племянница А. Н. Бенуа. См. о ней: Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице. М., 1978.
СИЛОНЕ (Silone, Ignazio, 1900–1978) — итальянский романист, публицист, политический деятель. Покинул Италию в 1930, возвратился в страну в 1944.
СИНЬОРЕЛЛИ (Signorelli, Angelo, 1877–1952) — итальянский врач, профессор медицины, муж О. И. Ресневич. Друг Маринетти. О его собрании античного искусства см.: Collezione del Prof. Angelo Signorelli (Roma, 1951); Raccolta archeologica del Prof. Dottore Angelo Signorelli [каталог выставки] (Roma, 1951).
СИНЬОРЕЛЛИ, Ольга Ивановна (урожд. Ресневич, 1883–1973) — в начале века переехала из Риги в Италию, где стала одним из первых переводчиков на итальянский Достоевского, Гоголя, Толстого, Чехова, Блока, Белого и др. Близкий друг Элеоноры Дузе, биографию которой написала (Roma, 1938; переведена на многие языки, включая русский — М., 1975). Ее салон в Риме в период между двумя войнами посещали Пиранделло, Станиславский, Гордон Крэг, Роден, Маринетти, Казелла, де Кирико, де Пизис (см. предисловие Э. Гарэтто к публ. «Письма Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова к Ольге Ресневич — Синьорелли». — «Минувшее», т. 5, 1988, с. 165–169). Ее семья была очень дружна с семьей В. И. Ей принадлежит итальянский перевод Переписки из двух углов (1932).
СКРЯБИН, Александр Николаевич (1872–1915) — композитор. О нем В. И. писал след. статьи: «Взгляд Скрябина на искусство», «Скрябин и дух революции» (Родное и вселенское)., обе напечатаны в 3 томе брюссельского Собрания сочинений; несколько стихотворений: «Воспоминание о А. Н. Скрябине» (III, 531–532); «Памяти Скрябина» (III, 565) и «Ко дню открытия памятной доски на доме Скрябина» (IV, 48). Об отношениях В. И. с композитором см.: «Статьи Вяч. Иванова о Скрябине» И. А. Мыльникова — Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. (Л., 1985, с. 88–119) и прим. на с. 494–495 изд. В. И. в «Библиотеке поэта». Первая жена Скрябина: В. И. Исакович. Вторая жена (с 1905): Татьяна Федоровна Шлёцер (1883–1922), племянница профессора Московской консерватории П. Ю. Шлёцера, пианистка. Дочери: Ариадна и Марина. Сын: Юлиан (1908–1919) утонул в Днепре в возрасте 11–ти лет.
СОЛОВЬЕВ, Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ, мыслитель, поэт, публицист, переводчик. «Он был покровителем моей музы и исповедником моего сердца» (В. И. «Автобиографическое письмо»). О значении Соловьева для В. И. см. прим. к статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» (III, 746–804).
СОЛОГУБ, Федор (Тетерников, Федор Кузмич, 1863–1927) — поэт — символист, прозаик, драматург, переводчик. Ему посвящены стихи В. И.: «Апотропей» (II, 326–327) и «Vox populi» (III, 51). «17 января. /…/ Уж ”Мелкий бес“ Сологуба лучше и, пожалуй, шедевр» («Беседы», с. 306). «10 апреля. /…/ — Да, — сказал В. И. со вздохом. — Теперь всё пошли ”виртуозы“, а раньше были другие. Писатель был солью земли.
— Ну, кто из символистов мог быть таким? Бальмонт, Брюсов, Сологуб?
— Брюсов — нет, Бальмонт — не знаю, но допускаю, Сологуб — думаю, нет. Он как‑то застыл, вокруг него разлилась студа. Он очурил себя магическим кругом, и никто в круг не войдет, но и он из своего круга не выйдет. Он пишет: ”Подымаю бессонные взоры и луну в небеса вывожу“. Да, вывел, заклял ее, и она вышла. Но что с ней делать, не знает, и ”…Сестры, сестры! войте, лайте На луну“…» («Беседы», с. 312). См. также публикацию A. B. Лаврова: «Вяч. Иванов. Письма к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской». — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976.
СОМОВ, Константин Андреевич (1869–1939) — художник, один из основателей и главных деятелей «Мира искусства». Автор портрета В. И.
(1906) и обложки к его сб. Cor ardens (1911). Ему посвящена кн. Л. Д. Зиновьевой — Аннибал Трагический зверинец и несколько стихотворений В. И.: «Фейерверк» (II, 312), «Терцины к Сомову» (II, 325–326). В. И. часто упоминается в кн.: К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979.
СПАИНИ (Spaini, Alberto, p. 1892) — итальянский писатель, журналист, редактор переводов Гете, Гофмана, Ведекинда, Кафки и др.
СТЕПУН, Федор Августович (1884–1965) — философ, писатель, критик. Выслан из России в 1922. С 1926 занимал кафедру социологии в Высшей Технической Школе в Дрездене, где работал до 1937, после чего был принужден оставить профессуру. После конца Второй мировой войны занял кафедру русской истории и культуры в Мюнхенском ун — те. Ему посвящено стихотворение В. И. «Демоны маскарада» (III, 542–543). Его статья о В. И. напечатана в Приложении II настоящего тома (первопуб — ликация: «Современные записки», LXII, 1936; перепечатан в кн. Встречи, Мюнхен, 1962; по — немецки вышла в журн. «Hochland», декабрь 1933 и по — итальянски в «ивановском номере» «Il Convegno».
СТОЛПНЕР, Борис Григорьевич (1871–1937) — философ — марксист. «У Иванова, помню, торжественно заседает совет петербургского религиозно — философского Общества (Столпнер, Д. В. Философов, С. П. Каблуков…)» (А. Белый. «Воспоминания о A. A. Блоке», «Эпопея», № 4, 1923, с. 156). «Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительности» (А. Белый. Начало века, с. 322).
СТРАВИНСКИЙ, Игорь Федорович (1882–1971) — выдающийся русско — американский композитор.
СТРУВЕ, Петр Бернгардович (1870–1944) — экономист, публицист, общественный деятель (участник сб. Вехи), лидер кадетской партии, с 1907 — редактор журн. «Русская мысль». Умер в эмиграции.
СУДЕЙКИН, Сергей Юрьевич (1882–1946) — художник, близкий к «Миру искусства», «Голубой розе», театральный декоратор (оформил, в частности, постановку «Поклонения кресту» на «башне» 19 апреля 1910). С 1920 жил во Франции, затем в США.
СУХОТИНА, Татьяна Львовна (урожд. Толстая, 1864–1950) — старшая дочь Л. Н. Толстого. См. рецензию В. И. «О дневниках Т. Л. Сухотиной» в 4–м томе брюссельского Собрания сочинений и прим. к ней (IV, 777–781). Ей посвящено стихотворение В. И. «Гляжу с любовию на Вас…» (III, 607–608). св. ТЕРЕЗА ЛИЗЬЕСКАЯ (Ste. Thérèse de Lisieux, 1873–1897) — французская монахиня — кармелитка, «маленькая Тереза», канонизирована в 1924.
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич (1828–1910). «15 фeвраля. — Говорили о стихиях природы. Толстому, сказал я, видимо, враждебна была стихия воды. В ”Войне и мире“ он описывает какое‑то не то озеро, не то болото, в котором в жаркий день купаются солдаты, и вода изображена так, что, кажется, уже не в огне, а в воде последний ад. И, если не ад, то уж, во всяком случае, чистилище.
— Как это характерно для Толстого, и как это чуждо мне! — воскликнул В. И. — Вот Гете, сказавший, что глаз не мог бы видеть солнца, если бы сам не был солнечным, мне близок, а у Толстого вот в глазу есть такой ”дух“ (вспомните ”духи глаз“ у Данте), который мне чужд. Это дух брезгливости. Толстой смотрит на все брезгливо, с каким‑то отвращением. Ссорясь, например с Тургеневым, он говорит, что ненавидит его за то, что у Тургенева какие‑то ляшки. Оценивать человека, начиная с ляшек — как это характерно для Толстого! Толстой высокомерно воплотился. В противоположность Гомеру, всему миру говорящему ”Да“, Толстой всему говорит ”Нет“, отбрасывая на все явления мира тень. Одно только любил Толстой — невеститься (описывать период сватовства и первое время замужества), но впоследствии, в ”Крейцеровой сонате“ осуждает и это. И уж ничего в мире он не благословляет» («Беседы», с. 311).
ТОМАШЕВСКИЙ, Всеволод Борисович — замнаркома Просвещения Азербайджанской ССР, лингвист, ректор Ленинградского ун — та (см. брошюру Ленинградский гос. университет, под ред. В. Б. Томашевского, Л., 1925).
ТРОМБАДОРИ (Trombadori, Antonello, p. 1917) — итальянский писатель, журналист, живет в Риме.
ТРОЦКИЙ, Сергей Витальевич — ему посвящено стихотворение В. И. «Соловьиные чары» (Нежная тайна, III, 45). Погиб в лагере.
ТРУБЕЦКОЙ, Евгений Николаевич (1863–1920) — младший брат кн. С. Н. Трубецкого, профессор философии права, автор кн. Миросозерцание B. C. Соловьева, 2 тт. М., изд. «Путь», 1913.
ТУРГЕНЕВА Анна (Ася) Алексеевна (1890–1966) — художница, первая жена А. Белого, антропософка. Ее портрет (гравюра) В. И. воспроизведен в 3–м томе брюссельского Собрания сочинений. Ей посвящено стихотворение В. И. «Асе» (III, 47). Умерла в Арлесгейме (Швейцария).
УАЙЛЬДЕР (Wilder, Thornton, 1897–1975) — американский романист и драматург. «Вскоре после освобождения Рима, еще до окончания войны, в доме В. И. неожиданно появился американский офицер с фронта — известный писатель Thornton Wilder, с которым В. И. ранее не был знаком лично. Сразу образовалась невероятная близость, пронзительное, проникновенное понимание друг друга, какое редко бывает даже среди старых друзей. Многочасовая беседа их о ”Блудном сыне“ и ”Иове“ навсегда осталась ярким воспоминанием как в душе В. И., так /…/ и в душе его нежданного сочувственника» (О. Дешарт, «Введение», I, 226–227).
ФЛОРЕНСКИЙ, Павел Александрович (1882–1943) — философ, математик, богослов. Жена его — Анна Михайловна, урожд. Гиацинтова (1889–1973). Дети: Василий (1911–1956); Кирилл (1915–1982); Ольга (р. 1917); Михаил (р. 1921); Мария (р. 1924).
ФОРМИДЖИНИ (Formaggini, Angello Fortunato, 1878–1938) — итальянский редактор, писатель, покончил с собой 29 ноября 1938 (бросился с башни Ghirlandina в Модене).
ХЕССЕ (Hesse, Hermann, 1877–1962) — немецкий романист, поэт, эссеист.
ХЛЕБНИКОВ, Велимир (Виктор Владимирович, 1885–1922) — поэт — футурист, прозаик. О нем и В. И. см. публикацию А. Парниса «Новое о Хлебникове», — «Даугава», № 7, 1986, с. 106–109. «Вспоминается мне и проникновенное слово Лидии Вячеславовны (дочери Вячеслава Иванова) о о том, что когда вглядишься в недра человека, оттуда вдруг выплывает не то чудо, не то чудовище, уму непостижимое, например, Хлебников» (М. С. Альтман. «О Хлебникове». Неизданные воспоминания). В. И. посвятил Хлебникову стихотворение «Подстерегателю» (II, 340).
ХОДАСЕВИЧ, Валентина Михайловна (1894–1970) — художница, театральный декоратор, племянница В. Ф. Ходасевича. В замужестве — Дидерихс. См. ее воспоминания Портреты словами. М., 1987 (В. И. упомянут на с. 196).
ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, критик, литературовед. О нем и В. И. см. мою публикацию «Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925–1928)», «Минувшее», т. 3, 1987, с. 264–268. Письма В. И. к Ходасевичу опубликованы в «Новом журнале», № 62, 1960.
ЦЕТЛИН, Михаил Осипович (1882–1945) — издатель, поэт (псевд. Амари), критик, меценат, имел известный салон в Москве, затем в Париже. Оттуда уехал в Нью — Йорк, где был одним из основателей «Нового журнала». Некролог, подписанный М. Алдановым, см. в «Новом журнале», № 11, 1945, с. 341–344. Его жена — Мария Самойловна (урожд. Тумаркина, 1882–1976). О семье Цетлиных см. публикацию Н. Винокур «Новое о Буниных», «Минувшее», т. 8, 1989, с. 282–329.
ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, Александра Николаевна (1869–1925) — переводчица, критик, близкая к символистам, свояченица Ф. Сологуба. В. И. дал ей прозвище «Кассандра». Ей посвящено несколько стихов В. И., см.: I, 771–772, 790 [ «Кассандре»], II, 321–322. Покончила с собой. Ее сестра, Анастасия (1876–1921), тоже покончила с собой: «бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста, рядом с тем домом на Ждановке, где ждал ее к вечернему чаю Сологуб» (Р. В. Иванов — Разумник. Писательские судьбы, Нью — Йорк, 1951, с. 18).
ЧУЛКОВ, Георгий Иванович (1879–1939) — поэт, критик, беллетрист, драматург, литературовед. В. И. часто упоминается в его воспоминаниях Годы странствий. М., 1930. Ему посвящено несколько стихотворений В. И., см.: II, 331–332; III, 45; IV, 81. В. И. написал вступительную статью «О неприятии мира» к кн. Чулкова О мистическом анархизме (1906). Жена Ч. — Надежда Григорьевна (1874–1961) — переводчица.
ШАРОВ, Петр Федорович (1886–1969) — актер Театра В. Ф. Комиссаржевской, в 1917–1919 играл в МХАТ. Позднее возглавлял Пражскую группу русского драматического театра, работал режиссером (Голландия, Италия). Умер в Риме.
ШВАРСАЛОН, Вера Константиновна (1890–1920) — дочь Константина Семеновича Шварсалона и Л. Д. Зиновьевой — Аннибал. Ее братья: Сергей и Константин. Ей посвящено много стихов В. И. «19 февраля. В. И. прочел мне стихотворение ”Ее дочери“ (из сборника ”Нежная тайна“) и пояснил: ”Оно посвящено моей третьей жене Вере Константиновне и в нем говорится о том, что я вижу в ней лик и отсвет моей любимой, ее матери, моей второй жены, Лидии Дмитриевны (‘Детский список дочери — богини’) и что я боюсь потерять ее так же внезапно, как потерял ее мать“.
— Так вы были трижды женаты, Вячеслав Иванович?
— Да, в первый раз я женился в Москве, когда мне было 20 лет и 3 месяца, на Дмитриевской. Я тогда души не чаял в ее брате, и, может быть, не люби я так брата, не женился бы на его сестре. Со своей первой женой я прожил девять лет и имел от нее дочь. Потом началась моя любовь к Лидии Дмитриевне. Мы оба думали, что наше взаимное влечение — темное, демоническое, а оказалось, что это была истинная любовь. Я с Дмитриевской развелся, это было очень сурово и жестоко, но я тогда, видите ли, был ницшеанцем… Теперь я это воспринимаю как убийство, ибо жизнь Дмитриевской оказалась совершенно разбитой» («Беседы», с. 311).
ШВЕЙГЕЛЬ, отец Иосиф (1894–1964) — специалист по вопросам литургики, работал при Ватиканской типографии над оформлением книг Священного Писания, издававшихся там. См. также I, 853.
ШЕСТОВ, Лев (Шварцман, Лев Исакович, 1866–1939) — философ. Его статья «Вячеслав Великолепный. К характеристике русского упадничества» опубликована в «Русской мысли», № 10, 1916, отд. II, с. 80–110. В беседе с Альтманом 2 сентября 1921 Иванов замечал: «Кстати о иенской группе. Одно время о нас, символистах, писали, что мы‑де нео — романтики, и пытались связать нас с немецкой литературой. Я же полагаю, что мы имеем достаточно корней у нас в России и нас следует связывать с Тютчевым, Фетом ”Вечерних огней“, Владимиром Соловьевым. Было еще одно мнение (Бальмонта, Брюсова), выводившее символизм от Эдгара По и Бодлера. Таковы три главных мнения. Четвертое, вульгарное, было, собственно, только ругательным и смешивало в одно символизм и декадентство. Это мнение не было ничем обосновано и обнаружило полное неумение разобраться в литературных фактах, выше вульгарности это мнение не подымалось. Впрочем, Лев Шестов (а он, не в обиду будь ему сказано, ученик Ницше), когда писал обо мне свою статью ”Вячеслав Великолепный“, эпиграфом к ней поставил: ”Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса“. А ведь ”пышное увяданье“ и есть, по терминологии Ницше, декадентство» («Беседы», с. 315). О Ш. см. кн. Н. Л. Барановой — Шестовой Жизнь Льва Шестова. 2 тт. Париж, 1983.
ШИЛТЬЯН, Григорий Иванович (1900–1985) — художник. О нем см.: Sciltian, Opera omnia, premessa, saggio critico ed apparato bio‑bibliografico. Catalogo delle opere (Editore Ulrico Hoeph, Milano, 1986). См. также: Gregorio Sciltian, Trattato sulla pittura (Milano, 1976, 1980); Mia avventura (Milano, 1963).
ШЛЁЦЕР, Борис Федорович (Boris de Schloëzer, 1881–1969) — русско — французский музыковед и критик (с 1921 — во Франции), брат второй жены Скрябина, Татьяны, друг Скрябина, о котором написал монографию. Сотрудник «Золотого Руна» и «Аполлона». Переводчик (на французский) Гоголя, Достоевского, Розанова и Шестова. О нем см. подробно в кн.: H. Л. Баранова — Шестова. Жизнь Льва Шестова, 2 тт., Париж, 1983, т. 2, с. 312–313.
ШОР, Давид Соломонович (1867–1942) — пианист и музыкальный деятель, с 1927 — в Палестине. Дядя O. A. Шор.
ШОР, Евсей Давидович (1891–1974) — сын пианиста, двоюродный брат O. A. Шор. Поселился в Германии в 1922, затем переехал в Израиль. См. о нем IV, 757–770, где опубликована его переписка с В. И.
ШОР, Ольга Александровна (псевд. О. Дешарт, О. Deschartes, 1894–1978) — близкий друг семьи Ивановых, с которыми прожила большую часть их римских лет, и которую в семье прозвали «Фламинго». В. И. посвятил ей несколько стихотворений: III, 507, 584; IV, 96–97. Некрологи О. Шор см. в «Новом журнале», № 132, 1978; «Вестнике РХД», № 126 (III, 1978); и в III, 688–693.
ШПЕТ, Густав Густавович (1879–1940?) — философ, профессор Московского ун — та, переводчик; вице — президент Российской академии художественных наук (РАХН, впоследствии ГАХН) в 1923–1929. Арестован в 1934, сослан в Енисейск, затем в Томск. В октябре 1937 вторично арестован, получил «10 лет без права переписки». Его семья уверена, что настоящая дата смерти не 1940, а 1937. О нем см.: В. В. Зеньковский. История русской философии, т. 2, Париж, 1950, с. 369–372; А. Белый. Между двух революций. Л., 1934, с. 305–311.
ШТЕЙНЕР (Steiner, Herbert, 1892–1966) — соредактор, вместе с Бодмером, журн. «Corona», крупный специалист по творчеству Гуго фон Гофмансталя (см. составленный им каталог Harvard Collection of Hugo von Hofmannsthal, 1954); эмигрировал в США, редактировал журн. «Mesa» (№№ 1–5, 1945–1955). Здесь впервые опубликовано по — немецки письмо В. И. к Карлу Муту (Karl Muth), редактору журн. «Hochland», по поводу кн. Theodor Haecker, Schonheit, ein Versuch (Leipzig, 1936), «Mesa», № 2, Autumn, 1946, c. 21–22, под названием «Ein Echo» (см. III, 646–649). Там же появились впервые по — английски шесть из двенадцати писем Переписки из двух углов (№ 3, Winter, 1947, с. 4–22, в переводе Eleanor Wolff) и в № 4, Spring, 1952 — «Il coro avvenire», с. 15–18.
ШУСТЕР (Schuster, Ildefonso, 1880–1954) — архиеп. Миланский, кардинал.
ЭЛЛИС (Кобылинский, Лев Львович, 1879–1947) — поэт — символист, переводчик, критик. Умер в Швейцарии. О нем см. статью С. С. Гречишкина, A. B. Лаврова в кн. XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Краткое содержание докладов. Л., 1972, с. 59–62.
ЭНДИ (d’Indy, Vincent, 1851–1931) — французский композитор, органист, дирижер, педагог.
ЭРН, Владимир Францевич (1882–1917) — философ, профессор Московского ун — та. «Кстати, о Владимире Соловьеве. Вот Вы говорите, что он на меня влиял. Это верно, но больше, чем Владимир Соловьев, на меня влиял Владимир Эрн» («Беседы», с. 309). Эрну посвящено несколько стихотворений В. И.: II, 451; III, 524–525, 533–536; IV, 63. О нем см. «Вестник РХД», I — 1983. Его жена — Евгения Давидовна.
ЮКЕЛЬ, Лена — студентка бакинского ун — та. Родилась в 1904, живет в Лондоне.
ЮНГ (Jung, Karl‑Gustav, 1875–1961) — швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии».
ЮСУПОВ, Феликс Феликсович (1887–1967) — князь, один из организаторов убийства Распутина, в котором принимали участие вел. кн. Дмитрий Павлович и В. М. Пуришкевич. Умер во Франции.
ЯВОРСКИЙ, Болеслав Леопольдович (1877–1942) — музыкальный теоретик, педагог, пианист, композитор. Один из инициаторов создания Московской народной консерватории (1906–1916). В 1916–1921 — профессор Киевской консерватории.
ЯКОБСОН, Роман Осипович (1896–1982) — крупный лингвист — славист.
ЯКУБИСИАК (Jakubisiak, Augustyn, 1884?) — польский священник, писатель, философ. Среди его книг: Essai sur les limites de l’espace et du temps (Paris, 1927); La pensée et le libre arbitre (Paris, 1936) и др. на польском и французском языках.
Иллюстрации
1. Мария Михайловна Замятнина, Лидия, Вячеслав Иванов (1900–е гг.).
2 «Башня»
3 Лидия Димитриевна Зиновьева — Аннибал (период «Башни»).
4. Лидия Димитриевна, Вера, Вячеслав Иванов (ок. 1905).
5. Лидия, Костя, Вера, Сережа (1914).
Вячеслав Иванов в Риме (1913).
6. Вячеслав Иванов в Баку.
7. Пролог «Эвменид», переписанный Л. В. Ивановой, со сценическими указаниями, вписанными рукой В. Иванова (ок. 1917).
8. Лидия Вячеславовна Иванова (Баку, начало 1920–х гг.).
9. Выпуск 1926 г. консерватории Санта Чечилия по классу Респиги. Стоят: Токки, Респиги, Кучча; сидят: Л. В. Иванова, Оттавиани.
10. Л.В. Иванова (Рим, 1930-е гг.).
11. В. Иванов и ректор Борромео монсиньор Нашимбене в саду палаццо Борромео (1929).
12. Письмо В. Иванова детям из Павии с новыми стихами (1929).
13. В. Иванов и Ф. Ф. Зелинский во дворе Колледжио Борромео.
15. В. Иванов за письменным столом (у стены портрет Л. Д. Зиновьевой — Аннибал). Середина 1930–х гг.
16. В.Иванов и О.А. Шор в «журчливом садике» на Капитолии. В глубине — копия статуи Моисея Микельанджело (ок. 1935).
17. В.Иванов, Ф.Ф. Зелинский и его дочь Вероника. Рим, Форум (1937).
18. Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус и В.Иванов на вилле Мережковских в Рокка ди папа, около Рима (1937).
19. Вячеслав Иванов (конец 1930-х гг.).
20. В.Иванов в своей квартире на Авентине (1945).
21. В.Иванов в кабинете на Авентине (после 1945).
22. Портрет В.Иванова, сделанный Т.Л. Сухотиной-Толстой (1948).
23. Л.В. Иванова за органом (1950-е гг.).
24. Л.В. и Д.В. Ивановы (1960-е гг.).
Примечания
1
Елшину, оставшуюся до глубокой старости в Женеве, Л. В. встретила неожиданно в шестидесятые годы в женевском трамвае
(обратно)2
«Ее дочери», Cor ardens. В. И. Иванов. Собрание сочинений, т. II, стр. 352 (Брюссель, 1974). Далее все стихи цитируются по этому изданию (римская цифра — том, арабская — страница).
(обратно)3
См. запись беседы В. Иванова с М. С. Альтманом в Баку, 10 октября 1921 г.: «/…/ — Вспомните, Александра Николаевна, — попросил я [Альтман], — историю стихотворений В. И., вам посвященных, и ваше первое с ним знакомство.
— Я знакома с В. И. уже 18 лет, с 1903 года. Познакомилась с ним в Париже. Едва мы, группа москвичей, узнали, что в Париж приедет В. И. и будет читать лекции по истории греческой литературы и религии, мы записались на эти курсы и с нетерпением ждали приезда В. И., которого никто из нас не видел, но о котором мы были наслышаны, как об оригинальном поэте и выдающемся ученом. Мы также знали, что В. И. живет в Швейцарии, где ведет очень уединенный и замкнутый образ жизни. Приехал В. И., и курсы начались. Как-то раз я сидела в национальной библиотеке и занималась. Мимо моего стола прошел В. И. с книгами. Так как нам обоим на обратном пути было по дороге, я условилась с В. И., что после занятий позову его (к этому времени я была уже с ним знакома). Когда после окончания занятий я подошла к его столику, он мне подал записку с обращением ”Кассандре“. Это был сонет, впоследствии помещенный в сборнике ”Прозрачность“ [I, 790. — Ред.]. Посвящение я просила снять, так как стихотворение было очень ответственным. Там, между прочим, была строка: ”Ты новые затеплишь Александры“. Каждый мог меня спросить: ”Да что ж вы такое сделали, чем вы потом оправдали пророчество поэта?“ Помню, когда я прочла впервые этот сонет, я ничего не поняла, но обращение — ”Кассандре“ — меня поразило. Дело в том, что у меня два брата классика и, бывало, еще в детстве, желая меня дразнить, они становились передо мной, чертили круг и вопили: ”Трагедия, трагедия — греческий козел“ [”трагедия“ — по-гречески означает ”козлиная песня“, или ”песня козлов“. — М. А.]. Поэтому я была необычайно поражена, когда В. И., меня совершенно не зная, назвал Кассандрой. Такой же прозорливостью поразил меня В. И. и в другой раз, когда принял Ивановского (впоследствии профессора) за моего мужа и тем попал ему не в бровь, а в глаз, ибо как раз в это время Ивановский сделал мне уже вторично предложение, и хотя я ему и отказала, но продолжала оставаться с ним в хороших дружеских отношениях. Второе стихотворение [”Осенью“, I, 771—72. — Ред.] посвящено мне по следующему случаю. Я гостила у Ивановых в Швейцарии. Однажды, на прогулке, я нарвала массу цветов повилики. Их набрался такой огромный ворох, что я, не зная, куда их девать, бросила цветы в воду, и они поплыли, и так как по берегам росли высокие тростники, обвились вокруг них, и получилась очень красивая картина повилики в тростниках. В. И., увидев, что я бросила цветы в воду, вскрикнул. Но затем, когда повилика застряла в тростниках, он остановился, задумчиво любуясь ими. Это было под вечер. А на второе утро В. И. повел меня в беседку, где Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал имела обыкновение уединяться и писать, и прочел своей жене и мне написанное им стихотворение. Между прочим, в это время В. И. подготовлял свой сборник стихов ”Прозрачность“, он был в три недели закончен, мне продиктован и затем мною вторично переписан. И, вообще, эта книга мне отчасти обязана своим возникновением. Третье стихотворение ”Повилики“ [II, 321—22. Ред.] возникло вот как. Живя в Саратовской губернии и гуляя раз по берегу Хопра, я увидела, что в прибрежных тростниках вьется повилика, и так высоко, что почти достигает верхушек тростников. Я сорвала повилики, высушила их и вложила в письмо к В. И. Он прислал мне в ответ стихотворение. Но уж очень в этом стихотворении повилики уничижительны:
Жадные пристрастия мертвенной любви,
Без улыбки счастия и без солнц в крови…
— Нет, не уничижительные, — отозвался В. И., — а очень грустные: и тростники, и повилики. Повилики — символ верности, а тростники — символ поэта. Повилики в тростниках — это ваша связанность с моей судьбой, ваша верность мне.
— Верность повилики, да, — сказала Александра Николаевна, — ну, а тростники…?
— Да ведь и они связаны, — сказал В. И. и, вспомнив прошлое, все невозвратное прошлое, глубоко вздохнул…» (Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение. — Ученые записки Тартуского Гос. Университета, вып. 209, Тарту, 1968, с. 318–319).
(обратно)4
Ср. описание ее самоубийства в прим. Ольги Дешарт (присутствовавшей на панихиде по Гершензону) к стих. «Повилики», во втором томе брюссельского Собрания сочинений: «Она оказалась в Москве [в 1924 г. — Ред.], когда В. И. приехал для участия в Пушкинском юбилее, и проводила его на вокзал, когда он в конце августа уезжал в Италию. Она была умна, изысканно образована, многое глубоко понимала и чувствовала; но всегда нервно беспокойная, она страдала припадками мучительной тоски, грозно свидетельствующими о гнездящейся в ней наследственной душевной болезни. Много говорили в литературных кругах о самоубийстве ее родной сестры, жены поэта Сологуба — Анастасии Николаевны. Самоубийство это было далеко не единственным в семье Чеботаревских. Отъезд В. И. глубоко огорчил Александру Николаевну; она знала, что расстались они навсегда. Часто стала забегать она к М. О. Гершензону; в его светлом духовном мире она искала утешение. Неожиданно Гершензон умер, 19 февраля 1925 г. В большом зале Гос. Академии Художественных Наук 22 февраля состоялось отпевание: М. О. Гершензон был председателем литературного отдела Академии. Его любили. Чувствовалась настоящая грусть и сердечность в переполненной зале, ненарушенная некоторой официальной торжественностью обстановки. Все речи сопровождались песнями превосходного хора Б. Л. Яворского. Вдруг к месту, близ гроба, откуда произносились речи, ринулась Чеботаревская; указывая простертой рукой на умершего, она закричала: ”Вот он! Он открывает нам единственно возможный путь освобождения от всего этого ужаса! За ним! За ним!“ И она стремглав, дико убежала. Бросились ее догонять друзья; среди них Ю. Н. Верховский, Н. К. Гудзий. В течение нескольких часов они за нею гонялись по улицам, подворотням, лестницам. Наконец, хитростью безумия ей удалось от них скрыться. В тот же день вечером нашли ее мертвое тело в Москве — реке. (Несмотря на зимнюю пору, была оттепель, и река оказалась частично незамороженной.)» (II, с. 725–26).
(обратно)5
Частная собственность. Вход запрещен под угрозой штрафа. (фр.)
(обратно)6
Профессор Вульф, его жена, талантливая художница (Вера Васильевна) и два сына, наши с Костей друзья: Володя и Боб. Владимир учился впоследствии у Игумнова и стал пианистом. — Прим. автора
(обратно)7
В статье «Студия у Таврического» А. Кобака и Д. Северюхина, в газ. «Смена» от 22 мая 1986, описывается история дома (№ 25), где находилась «башня» (в квартире седьмого этажа, увенчанной башней). Авторы сообщают о постройке дома (1903–1904), его архитекторе (Михаил Кондратьев) и первом владельце (купец Дернов). «Домашнему» сближению художников и литераторов на «башне» способствовал тот факт, что непосредственно под квартирой Ивановых помещалась основанная в 1906 г. E. H. Званцевой художественная школа, в которой преподавали Л. Бакст и М. Добужинский. В ней училась, в частности, и жена Волошина — Маргарита Сабашникова.
(обратно)8
В 1902 г. Чулков был арестован и сослан в Сибирь. См. его воспоминания Годы странствий (М., 1930): «Там, за Качугом, начиналась новая жизнь — огромная великолепная пустыня, зеленоокая тайга, с ее благоуханиями, с ее звериными тропами, с ее шаманскими тайнами…» (с. 25).
(обратно)9
«Загорье», Cor ardens, II, 278.
(обратно)10
29 октября 1907 г. Л. Д. Блок писала матери Блока: «Были на похоронах Лидии Дмитриевны. Было много народу, все цветы живые, хорошо было. /…/ Похоронили в Александро — Невской лавре. Речей не говорили, просто стояли тихо вокруг могилы» (Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 313). См. некролог в газ. «Речь» от 20 октября 1907 г. (№ 248). Ср. также в записках В. К. Шварсалон о похоронах матери: «После моста на повороте Вячеслав познакомил меня с Блоком, а Блок, т. к. была некоторая замешка, начал стремиться вперед и говорил взволнованно и азартно: ”возьмемте, понесем сами гроб, Вячеслав Иванович, пойдемте, возьмемте, сами понесем!“ И прошел вперед с другими, и, кажется, понесли гроб /…/ когда опустили гроб и Городецкий согнулся, оперся о зеленую часовню и зарыдал, я даже злилась, и потом почему‑то говорила Вячеславу, что это было неискренно или ”ломанье“. Вячеслав с Блоком шептали, будут ли говорить, и решили, что лучше, если не будут» (Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 313–314).
(обратно)11
См. стих. Cor ardens «Ha башне», II, 259 и «Зодчий» («Я башню безумную зижду / Высоко над мороком жизни», II, 380. В своем Дневнике 25 июня 1909 г. В. И. записал: «Хорошо на башне. Устроенный, прохладный, тихий оазис на высоте, над Таврическим садом и его зеленой чашей — прудом с серебряными плесами» (II, 773).
(обратно)12
Ср. след. из воспоминаний Пяста Встречи (М., 1929), с. 173: «У огромного импозантного швейцара Павла, — из числа тех классических швейцаров в ливрее прежних времен, которые еще даже после 1905 года не перевелись в ”лучших домах“ Петербурга с подъездами, и который стоял чуть ли не с булавой в подъезде дома на Таврической, впуская в полночь гостей на ”башню“, — а в пиджачке и калошах на босу ногу выпускал под утро их оттуда, безропотно принимая ничтожную мзду из многих студенческих и богемных рук за бужение в неурочный час, — у этого Павла было, как полагается для подлестничных жильцов, несметное количество детей».
(обратно)13
«Жираф», Романтические цветы.
(обратно)14
См., например, стих. «Messa Solemnis Бетховена», Кормчие звезды, I, 534–535; где Бетховен назван и «надзвездный гений», и «пророк»; или «Творчество», Кормчие звезды, I, 536 («С Титанами горе, Бетховен, ты гремел!»); или «Beethoveniana», Прозрачность, I, 778–779.
(обратно)15
Имеется в виду оперетта «Забава дев», премьера которой состоялась 1 мая 1911 г. в петербургском Малом (Суворинском) театре, с декорацией и костюмами С. Ю. Судейкина. См. книгу Д. Когана С. Судейкин (М., 1974), с. 57–63.
(обратно)16
В статье, посвященной роману, напечатанной в сборнике Родное и Вселенское (М., 1917), В. Иванов вспоминает: «Мне незабвенны вечера в Петербурге, когда Андрей Белый читал по рукописи свое еще не оконченное произведение, над которым ревностно работал и конец которого представлялся ему, помнится, менее примирительным и благостным, чем каким он вылился из‑под его пера. Автор колебался тогда и в наименовании целого; я, с своей стороны, уверял его, что ”Петербург“ — единственное заглавие, достойное этого произведения, главное действующее лицо которого сам Медный Всадник». (См. «Вдохновение ужаса. О романе Андрея Белого ”Петербург“», IV, 621). 21 января 1912 г. Белый вместе с А. Тургеневой приехал в Петербург. Они жили на Башне до конца февраля, см. «Воспоминания о A. A. Блоке», «Эпопея», № 4, 1923, с. 217–219; см. там же, с. 157: «Звал он меня ”Гогольком“ за мое, будто бы, сходство с Гоголем»).
(обратно)17
Он воспроизведен в третьем томе Собрания сочинений, с. 64.
(обратно)18
См. Cor ardens, II, 337–340.
(обратно)19
В двадцатые годы, в Баку, Городецкий также «издавал» юмористический журнал для друзей
(обратно)20
Премьера «Тристана и Изольды» состоялась 30 октября 1909 г. Дирижер — Э. Ф. Направник, художник — кн. А. К. Шервашидзе. Генеральная репетиция 28 октября. Репетиции начались в первых числах ноября 1908 г. См. статью Мейерхольда «К постановке ”Тристана и Изольды“ на Мариинском театре 30 октября 1909 г.» в сб. О театре (СПб, 1913), перепечатанную в первой книге двухтомного собрания его статей, писем и т. д. (М., 1968), с. 143–161.
(обратно)21
«La Farce de maître Pierre Pathelin» — анонимный французский фарс XV века (ок. 1470 г.). Имя адвоката Патлена стало нарицательным для обозначения плута, мошенника
(обратно)22
См. рецензию Е. А. Зноско — Боровского («Башенный театр») в «Аполлоне», № 8, 1910, с. 31–36. Премьера «Поклонения Кресту» (в переводе Бальмонта) состоялась на Башне 19 апреля 1910 г., художник — С. Ю. Судейкин. Среди «актеров» были Кузмин, Княжнин, Пяст. Фотография спектакля помещена в первой книге собр. соч. Мейерхольда (М., 1968), с. 177. См. «Башенный театр» в книге воспоминаний Пяста Встречи (М., 1929), с. 166–180, где он пишет: «Изобилие материй пленило Судейкина; наворотивши вороха тканей, он создал настоящий пир для взора» (с. 172).
(обратно)23
«Хоромное действо», Нежная Тайна, III, 54–55. Много позже, в семидесятые годы, в Риме, Лидия Вячеславовна начала писать оперу на испанский текст Кальдероновой драмы. Партитуру она окончила за несколько месяцев до смерти. Это произведение принадлежит к главным ее музыкальным композициям.
(обратно)24
В своем дневнике 1909 г. Вячеслав записывает 16 августа: «Я был еще в постели, когда вбежала вернувшаяся из Царского Лидюша. Она немного выросла, смотрит умно; глаза очень косо поставлены, скулы очень велики, она не красива, но оригинальна и мила, хотя еще неловка от эгоизма, детского и моего, моего же атавизма и неравновесия между робостью и отвагой, материальной косностью и оживленною неожиданною предприимчивостью талантливой натуры» (II, 790). 23 августа: «Лидия маленькая разбудила меня, по моей просьбе, скрипкой. Нужно было ехать в тюрьму. Я предчувствовал тяжелое. В самом деле, в свидании было отказано. На месяц Аничков наказан» (II, 794).
(обратно)25
Собственность — это воровство. (Выражение Прудона).
(обратно)26
В письме С. Л. Франку от 3 июня 1947 г. Вяч. Иванов сообщал: «/…/ а с конца 1904 года основался в Петербурге, где между прочим (1910–1912) преподавал историю греческой литературы на Раевских Женских Курсах» (цит. по автографу в фонде Франка, Бахметьевский архив Колумбийского ун — та; «Переписка С. Л. Франка с Вяч. Ивановым», «Мосты», № 10, 1963, с. 363).
(обратно)27
См. экспромт, подписанный «граф А. Толстой», в журн. «Черное и белое», № 2 (март), 1912, с. 14:
ЭПИГРАММА НА В. ИВАНОВА У поэта Вячеслава Иванова от неосторожного обращения с огнем вспыхнула и сгорела борода. (Из слухов) Огнем палил сердца доныне И, строя огнестолпный храм, Был Саламандрою Челлини И не сгорал ни разу сам. Но только отблеск этот медный Чела и лика впалых щек Был знак таинственный и вредный Тому, кто тайно души жег. Но как Самсон погиб от власа — Твоя погибель крылась где? Вокруг полуночного часа В самосгоревшей бороде.Эпизод с В. Ивановым отражен также в неоконченном романе А. Н. Толстого «Егор Абозов» (1915).
(обратно)28
Ср. письмо В. Иванова к С. Л. Франку от 3 июня 1947 г.: «А помните ли Вы, как в Силламягах мы играли в городки с покойным Гершензоном и с Петрушевским?» («Мосты», № 10, 1963, с. 365). Силламяги (Силламяэ) — дачный поселок в Эстонской губернии, на берегу Финского залива, в пятнадцати километрах от Нарвы (ныне город в Эстонской ССР).
(обратно)29
III, 20–21
(обратно)30
Лидия Вячеславовна сочиняла музыку с четырехлетнего возраста. Некоторые вещи, написанные, когда она была еще подростком, и сейчас исполняются в концертах, например «Амалфея». В Эвиане создавался сборник «Нежная тайна».
(обратно)31
III, 15.
(обратно)32
См., например, восемнадцать газелей о розе в Cor ardens, II, 451–463.
(обратно)33
«Отец его [Эрна. — Ред.] был по происхождению наполовину немец и наполовину швед (отсюда его шведская фамилия, а отнюдь не немецкая). Мать была наполовину полька, наполовину русская» (см. «Из письма вдовы В. Ф. Эрна», — «Вестник РХД», № 138, I-1983, с. 97. Запись содержит краткую биографию Эрна).
(обратно)34
«Летом 1916 г. в Красной Поляне он пишет введение к творениям Платона ”Верховное постижение Платона“. Платон всегда волновал В. Ф., и обе его диссертации были лишь подготовительными ступенями к его монументальной работе о Платоне. Здесь должна была раскрыться положительная его философия, здесь должен был он показать в полной мере свое обоснованное кредо. Но Бог судил иначе. И жизнь В. Ф. оборвалась как раз в тот момент, когда он освободился от всех академических обязательств, получил свободу для писания того, к чему стремился все последние годы. Умер В. Ф. за два дня до защиты своей докторской диссертации». (Из письма вдовы В. Ф. Эрна», — «Вестник РХД», № 138, I-1983, с. 97). См. также его «Верховное постижение Платона», — «Вопросы философии и психологии», кн. 137–138, 1917
(обратно)35
См.: Г. С. Сковорода. Жизнь и учение. М., «Путь», 1912; две большие статьи, опубликованные в 1911 г. в журн. «Вопросы философии и психологии» (кн. 107 и кн. 110) лежат в основе монографии. Первая работа Эрна о Сковороде появилась в 1908 г. (статья «Русский Сократ» в журн. «Северное сияние», № 1, ноябрь).
(обратно)36
См. также: Философия Джоберти. М., «Путь», 1916; Розмини и его теория знания. (М., «Путь», 1914).
(обратно)37
«Модернизм» — направление, стремившееся согласовать католическое вероучение с современным научным и философским мышлением; был осужден папой Пием X в 1907 г. в декрете «Lamentabili» и в энциклике «Pascendi». В 1910 г., по motu proprio «Sacrorum Antistitum», священники, подозреваемые в модернизме, должны были давать анти — модернистскую клятву.
(обратно)38
В. Иванов с Верой вернулись в Россию в августе 1913 г. (Стихотворение «Весы», III, 515, например, было написано 28 августа в имении Бородаевского в Курской губ.). См. также газ. «Голос Москвы» за 22 августа/4 сентября 1913 (№ 193): «С осени переселяется в Москву из Петербурга Вячеслав Иванов».
(обратно)39
См., например, «Голос Москвы» за 11 (24) октября 1913 (№ 234): «У ”эстетов“» — о докладе В. Иванова на первом заседании Литературно — Художественного кружка, в присутствии Брюсова, Бальмонта, Ходасевича и др.
(обратно)40
Ср. Самопознание Бердяева: «Очень запомнился мне один очень яркий человеческий образ. Это был доктор Любек. Он был мистик и мистически одарен» (цит. по второму изданию, Париж, 1983, с. 225) и примечание жены Бердяева: «Доктор Любек прожил среди нас три дня. Он поражал своим исключительным вниманием к людям, добротой, чуткостью, необыкновенной проницательностью. О людях, которых он видел в первый раз в жизни, он говорил так, как будто знал всю их прошлую жизнь. На одном из собраний, вечером, он увидел жену известного поэта и, взволнованный, просил мою сестру передать ей, чтобы она покинула мужа, иначе ей грозит смерть. Жена поэта не обратила внимания на это предупреждение. Вскоре она умерла. Наступил канун Нового года. В большой столовой, ярко освещенной старинной люстрой, царило оживление, веселый смех. Произносились блестящие тосты. Никто не подозревал о надвигающихся катастрофах. Только д — р Любек сидел молча, грустно склонив голову. B. C. [Вера Степановна Гриневич. — Ред.], обратившись к нему, просила сказать несколько слов. ”Мне очень не хочется, — ответил он, — нарушать веселое настроение ваших друзей, то, что я вижу, очень страшно“. B. C. настаивала… ”Скоро, очень скоро, — начал он, — над Европой пронесется ураган войны. Россия будет побеждена. После поражения Россия переживет одну из самых грандиозных мировых революций“. Тут Любек обратился к H. A. [Бердяеву. — Ред.]: ”Вы будете избраны профессором Московского университета“. — ”Это не может быть, — ответил, смеясь, H. A. — У меня нет докторской степени…“ — ”Вы скоро увидите, — продолжал Любек, — прав ли я…“ — Наступило молчание. Казалось, всех присутствующих охватило жуткое предчувствие. Я сидела недалеко от Любека. Он вдруг обратился ко мне и спросил, почему я сторонюсь. Я была смущена, не зная, что ответить. Обратившись к нему, неожиданно я спросила, почему мне показалось, что, когда он вошел, под его плащом я увидела старинный меч (я начертила форму меча). Он побледнел. ”Как странно, что вы это увидели. Этот меч я когда-то держал в руках. Это было давно, в средние века. Однажды я видел себя в зале старинного замка, около меня стояла прекрасная женщина. Защищая ее таким мечом, я убил человека… Воспоминание это преследует меня с детства, я не могу видеть и прикоснуться к холодному оружию“… На следующий день д-р Любек покинул нас» (с. 226).
(обратно)41
Свет Вечерний, III, 529. Стихотворение было написано в январе 1915 г., в Москве (см. примеч. к стихотворению в III, 834–837).
(обратно)42
См. книгу Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. М., 1915.
(обратно)43
В квартире — музее Скрябина в Москве хранится портрет Татьяны Федоровны и Юлиана, написанный Еленой Григорович. После смерти художницы он был передан музею Ольгой Александровной Шор. (Прим. автора).
(обратно)44
«Воспоминание о А. Н. Скрябине», III, 531–532.
(обратно)45
Весной 1908 г. Флоренский окончил Московскую Духовную Академию; кандидатское сочинение «О религиозной Истине», начальный вариант книги Столп и утверждение Истины, напечатано в «Вопросах религии», вып. 2, 1908, письмо I‑VIII. Второй вариант был написан в 1912 г. 19 мая 1914 г. он защитил диссертацию на степень магистра богословия, озаглавленную «О духовной Истине. Опыт православной Феодицеи». Третий, полный вариант книги (Столп и утверждение Истины. Опыт православной Феодицеи в двенадцати письмах) вышел в издательстве «Путь» в том же году
(обратно)46
В начале марта 1904 г. Флоренский пришел к епископу — старцу Антонию просить благословения на монашество, но получил отказ. Осенью, по совету Антония, поступил в Московскую Духовную Академию.
(обратно)47
III, 525. См. также стих. 1917 г. «Послание с берегов Колхиды» (IV, 53–54).
(обратно)48
В. Иванов высоко ценил A. C. Голубкину и считал ее «гениальным художником». В музее — мастерской Голубкиной в Москве (ул. Щукина, 12) хранятся бюст и «маска» В. Иванова, а также не менее удачная камея — портрет. (См.: A. C. Голубкина. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников. М., «Советский художник», 1983). Фотография бюста воспроизведена в IV, 651. В письме к жене В. Ф. Эрн сообщал: «…у Ивановых я встретился с Голубкиной — скульптором гениальным и изумительно вдохновенным, хоть и молчаливым человеком. Она сделала бюст Вячеслава — силы Бетховенской — титанический размах. Вячеслав взят не в эмпирии, а в каком‑то умопостигаемом пределе. Вячеслав гордится и говорит, смеясь, что чувствует себя ”китайским императором“. Представь мою радость, когда вчера Голубкина пришла к Ивановым, чтобы сказать, что хочет с меня лепить бюст. Я счастлив, что смогу посмотреть на нее в процессе ее творчества. Она высокая, худая, атлетически сильная, грубая на словах, прямая, из крестьянской среды, живет иногда впроголодь и раздает по 500 р. — страшно добрая, с лицом некрасивым и гениальным, не говорит, а бормочет, а то смотрит так серьезно и глубоко, что жутко делается, а то улыбается прекрасной детской улыбкой. С Вячеславом она познакомилась всего месяц назад, на его лекции, и сейчас же захотела лепить. Мне кажется, лепка для нее метод особого художнического узнавания людей…» (там же, с. 290–291)
(обратно)49
Ср. Воспоминания Евгении Герцык (Париж, 1973): «Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей, и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал ”сексуальные извращения“. И между нами и Ильиными прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет, таким отражен он в Воспоминаниях Белого. Ненависть, граничащая с психозом» (с. 154). См. также Между двух революций А. Белого: «/…/ молодой, одержимый, бледный, как скелет. Иван Александрович Ильин, гегельянец, /…/ возненавидел меня с первой встречи: ни за что ни про что; /…/ по — моему, он страдал затаенной душевной болезнью задолго до явных вспышек ее; /…/ у него были острые увлеченья людьми; и ничем не мотивированные антипатии; ему место было в психиатрической клинике, а вовсе не за зеленым столом. Рассказывали: в многолюдном обществе он, почувствовав ненависть к Вячеславу Иванову, стал за спину его и передразнивал его жесты, что в державшемся подтянуто гегельянце уже выглядело бредом с укусом уха Николаем Ставрогиным» (с. 312).
(обратно)50
В примечании к стих. «Дитя вершин», написанному 5 августа 1916 г. в Красной Поляне, находим: «Красная Поляна — высокое кавказское плоскогорье над Сочи» (III, 832).
(обратно)51
См. Пути русского богословия прот. Георгия Флоровского (Париж, 1937): «История ”Афонской смуты“ еще не написана, существует только полемическая и очень пристрастная литература. Спор вспыхнул вокруг книги схимонаха Илариона На горах Кавказа. Беседа двух старцев подвижников о внутреннем единении с Господом наших сердец через молитву Иисус Христову, или духовная деятельность современных пустынников, составил пустынножитель Кавказских гор схимонах Иларион. 1 изд. Баталпашинск, 1907, 2 изд., исправ. и много дополн., 1910, 3 изд. К. — Печерской лавры, 1912. Сперва эта книга с большим сочувствием была принята в монастырской среде, но вскоре многим показалась соблазнительной та смелость, с которой Иларион говорит о Божественном соприсутствии в молитве и называет призываемое имя Иисусово ”самим Богом“. Для Илариона это было, по — видимому, не столько богословским утверждением, сколько простым описанием молитвенной реальности. Но и самый молитвенный реализм казался слишком смелым. Психологизм в истолковании молитвы многим представлялся более безопасным, смиренным и благочестивым. Начался спор в печати, всего больше в журнале ”Русский Инок“, который издавался в Почаевской лавре, и против Илариона очень резко высказался арх. Антоний. Весь полемический материал был собран впоследствии в анонимном сборнике: Св. Православие и Имябожническая ересь. Харьков, 1916; срв. и кн. С. В. Троицкого Об именах Божиих и имябожниках. СПб, 1914 (из ”Церков. Вед.“). На Афоне спор сразу же принял неистовое и мятежное течение, и все богословские доводы были примрачены страстью и раздражением. Спор пришлось оборвать силою, почти насилием. Последователи Илариона были объявлены еретиками, под именем ”имябожников“ (сами они называли себя ”имяславцами“, а своих противников ”имяборцами“), и несколько сот монахов были насильственно выдворены и вывезены с Афона и расселены по разным обителям в России (определение Св. Синода от 29 авг. 1913 г.)» (далее — ссылки на литературу, с. 571–572).
(обратно)52
См. книгу Эрна Разбор послания Святейшего Синода об Имени Божием. М., 1917.
(обратно)53
Стихотворные переводы Эсхила, сделанные В. Ивановым, изданы в серии «Литературные памятники», изд. «Наука», М., 1989.
(обратно)54
Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков. В пер. размерами подлинника В. Иванова. М., Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914, с. 41.
(обратно)55
Wjatscheslaw Iwanow, Dostojewskij, J. C. В. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1932.
(обратно)56
IV, 64. Стих. «Молитвы» (№ 1) впервые было напечатано в «Народоправстве» 23 октября 1917 г., № 13. Автограф находится в римском архиве В. Иванова. См. IV, 718.
(обратно)57
См. «Гимн» В. Иванова, IV, 60.
(обратно)58
Ср. письмо И. А. Белоусова к Л. Н. Андрееву из Москвы, 2 (15) мая 1918 г.: «У нас опять была пальба: вышибали анархистов. Сейчас по вечерам на улицах патрули, — обыскивают, — ищут оружие. В приказе сказано, что если у кого найдут оружие и будут его отбирать, а тот будет сопротивляться — расстреливать на месте. Где же отмена смертной казни? Прежде цареубийцу судом судили, а потом вешали, а теперь ”на месте“. Всех сделали палачами!» (Литературное наследство, т. 92, кн. 3, с. 478).
(обратно)59
Ср. описание сходного «воспитательного эксперимента» Луначарского в воспоминаниях М. В. Сабашниковой — Волошиной: Margarita Woloschin, Die grüne Schlange, изд. 1985, с. 329–331 (главка «Wieder Chimären»).
(обратно)60
В. Иванов заведовал историко — театральной секцией ТЕО (театрального отдела Наркомпроса). С 1918 до июля 1919 г. ТЕО руководила Ольга Давыдовна Каменева (1883–1941), жена Л. Б. Каменева, сестра Троцкого. 4 августа 1919 г. В. Иванов посвятил ей следующее стихотворение (печатается впервые по автографу ИМЛИ, ф. 51, оп. 1, № 5):
Во дни вражды междуусобной
Вы, жрица мирная народных эвменид,
Нашли в душе высокой и незлобной,
Что просвещенных единит.
И разные, но все с мечтой вольнолюбивой О славе новых зорь и в мир идущих Муз, Сомкнулись в трудовой союз Вкруг Вас, порывистой, вкруг Вас, нетерпеливой. И полюбились нам Ваш быстрый гнев и лад, Нрав опрометчивый, и Борджий профиль властный, И черных глаз горячий взгляд, Трагический, упорный, безучастный… И каждый видит Вас такой, — но каждый рад Вновь с Вами ратовать, товарищ наш прекрасный.В фонде В. Иванова в ИМЛИ (ф. 55, оп. 1, № 5) хранятся также записи Фейги Израилевны Коган (1891–1974) о заседаниях ею организованного в начале 1920 г. «Кружка поэзии». Он работал при Литературном Отделении Московского Государственного Института Декламации (ГИД) под руководством В. Иванова с 29 февраля по 1 августа 1920 г. Встречи происходили почти еженедельно, по воскресениям; всего было 17 встреч. Другой экземпляр записей высказываний В. Иванова на занятиях кружка находится в ЦГАЛИ, ф. 272, оп. 1, ед. хр. 33. Они частично опубликованы в Литературном наследстве, т. 92, кн. 3, с. 496–497, 502, 507.
(обратно)61
11 (24) июня 1918 г. в праздник Святого Духа, Сергей Булгаков был рукоположен в Москве. «К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии, М. А. Новоселова, H. H. Прейса, Вяч. Ив. Иванова, H. A. Бердяева, П. Б. Струве, кн. E. H. Трубецкого, Гр. А. Рачинского, В. К. Хорошко, A. C. Глинку (Волжского), М. О. Гершензона, Л. И. Шестова, Е. А. Аскольдову и др. Все они после службы участвовали и в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном (тогда это было нелегко, как и теперь)» (С. Булгаков, прот. Автобиографические заметки. Париж, 1946, с. 42).
(обратно)62
По всем нам известным данным. Л. Ю. Бердяева перешла в католичество в 1916 г.
(обратно)63
В. Иванов прожил конец лета и начало осени 1919 г. в Серебряном Бору; там, в августе — сентябре, в санатории «Габай», был написан цикл стихов «Серебряный Бор», III, 509–514.
(обратно)64
Цикл в 12 сонетов был начат в Рождественские праздники 1919 г. и окончен в феврале 1920 г. См. III, 568–573.
(обратно)65
III, 569.
(обратно)66
В начале 1980–х годов Лидия и Димитрий узнали от сына Groeger’a, что его отец перевел на немецкий язык много стихов В. Иванова.
(обратно)67
В своих воспоминаниях «Здравница» («Возрождение», 1929, 14 марта, № 1381) В. Ф. Ходасевич писал: «Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось ”дравницей для переутомленных работников умственного труда“ /…/ В здравницу устроил меня Гершензон, который сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3–м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. /…/ Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом. Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом — небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. /…/ Из этих‑то ”двух углов“ и происходила тогда известная ”Переписка“. Впрочем, к моему появлению она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов». Ср. также письмо Гершензона Шестову от 26 июня 1922 г: «На днях я прочитал в ”Накануне“ статейку Лундберга об этой книжке [Переписке из двух углов. — Ред.] Он воображает: сосновый бор, здравница с некоторым комфортом, и т. под. Нет, это была тесная, грязная, без малейшего комфорта и с плохой едой (однако много лучше домашней, которая тогда была — голод) здравница в 3–м Неопалимовском пер. Грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в коридоре к уборной, на окне занавески нет, матрац — как доска, — и духота; я там переночевал только первую ночь, а после — благо близко — ходил туда только обедать и ужинать 2 раза в день. А В. И. там жил, потому что весь день был в Театральн[ом] Отд[еле], а вечером — лекции, и спал он крепко. Начал переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб — не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его письмами всегда есть дата, а под моими нет; напишу начало, оно лежит 5–6 дней, он пристает, и наконец допишу. Я это время все лежал и читал Нансена. По моему настоянию и прервали на 6–й паре; он хотел, чтобы была ”книга“. А тут уж у него завертелось: В[ера] Конст[антиновна] умирала; нам не пришлось даже сряду перечитать наши листки разного цвета и формата (бумаги тогда нельзя было достать, писали на клочках), ему — потому что было не до того, а я не мог исправлять свои писания, раз он не исправляет и не учтет моих поправок. Так и сдали издателю (чтобы получить гроши гонорара) неперечтенные черновики. Корректуру мне прислали, когда В. И. был уже в Баку, и я потому же ни йоты не мог изменить» (М. О. Гершензон. Письма к Льву Шестову. 1920–1925. Публ. А. д’Амелиа и В. Аллоя. — «Минувшее», вып. 6, 1988, с. 262–263). Переписка из двух углов впервые была издана петербургским издательством «Алконост» в 1921 г. и переиздана в 1922 в Германии («Огоньки»). Как Гершензон писал Шестову, «Переписка из двух углов читалась за границей» («Минувшее», вып. 6, с. 249), и была опубликована в переводе на французский, итальянский, испанский, немецкий, фламандский и английский языки.
(обратно)68
Ср. следующий пассаж из письма Гершензона к Шестову от 31 июля 1920 г.: «Печальные дела у Вяч. Иван[ова]. Вера Конст. после плеврита зимою все лихорадила, а теперь у нее скоротечная чахотка в последних градусах; с прошлой недели она лежит в клинике и дни ее сочтены. А он еще весною получил от Наркомпроса денежную командировку за границу, и уже его паспорт заграничный был почти готов, чтобы ехать со всей семьей, но тут‑то Вере Конст. и стало хуже» («Минувшее», вып. 6, с. 245).
(обратно)69
В письме к Франку от 3 июня 1947 г. Вяч. Иванов сообщал: «В 1920 году, не выпущенный на волю, хоть имя мое и стояло на очереди заграничных командировок, поехал я на Кавказ с фиктивною командировкой дать отчет об университетском преподавании на Северном Кавказе и самовольно явился в Баку» («Мосты», № 10, 1963, с. 363).
(обратно)70
См. «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета», Н. В. Котрелев, Труды по русской и славянской филологии XI. Литературоведение. Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 209 (Тарту, 1968), с. 326–339.
(обратно)71
Традиционно — «Шахсей — Вахсей», траурные церемонии у шиитов в первые десять дней мухаррама в память гибели в битве при Кербеле (680 г.) Хусейна — сына халифа Али. Мистерии, изображающие события из жизни Али и Хусейна, сопровождаются самоистязанием участников.
(обратно)72
В. Иванов. Дионис и прадионисийство, Баку, 1923, с. 183–186; II, 61.
(обратно)73
См. письмо Гершензона Шестову от 23 апреля 1922 г.: «Вяч. Иванов по — прежнему с дочерью и мальчиком живет в Баку, читает множество лекций и пьет много вина; дочь этой зимою долго болела тифом; он изредка мне пишет, а я ему» («Минувшее», вып. 6, 1988, с. 256).
(обратно)74
См. запись беседы В. И. с М. С. Альтманом в Баку, 10 октября 1921 г.:
«В. И. с дочерью и сыном живут в небольшой, загроможденной всякими вещами комнате при университете. Раз туда заглянул поэт Сергей Городецкий, живший в 1921 г. в Баку, и, не застав хозяина, оставил записку:
Вошел. Поправил керосинку.
Вдохнул души твоей пылинку
И, хаоса любимый сын,
Прославил комнату — овин.
В этом‑то ”овине“ за перегородкой лежит сегодня В. И. У него желтуха и высокая температура. Александра Николаевна Чеботаревская (известная переводчица и старинный друг В. И.) и я сидим у его постели и пытаемся его развлечь» (с. 318).
31 августа 1922 г. В. Иванов писал Ф. Сологубу из Баку: «Александра Николаевна, которая была нашею отрадой и помощью целый год, увы, покидает нас; /…/ Не выпускайте из рук Вашей дивной лиры. Моя разбита» (Вяч. Иванов, «Письма к Ф. Сологубу и А. Н. Чеботаревской», публ. A. B. Лаврова. — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976, с. 149).
(обратно)75
См. письмо Гершензона Шестову от 7 августа 1922 г.: «От Вяч. Ив[анова] с месяц назад было письмо и рассказы приехавших оттуда. Сам он как будто доволен своей жизнью, но на вид она не хороша: весь день читает лекции, по ночам много пьет с университетскими приятелями, ничего не пишет, часто болеет. Дима, его мальчик, в июне по несчастному случаю потерял 4 пальца на правой руке, — пришлось ампутировать поперек ладони» («Минувшее», вып. 6, 1988, с. 265).
(обратно)76
Лена Юкель (в замужестве Оганиан) живет в Лондоне. В течение долгих лет она регулярно переписывалась с бакинскими друзьями, главным образом с В. А. Мануйловым. С Лидией Вячеславовной она встречалась в семидесятые годы, в Швейцарии, и постоянно обменивалась письмами.
(обратно)77
Воспоминания Мануйлова «О Вячеславе Иванове» см. в Приложении.
(обратно)78
Речь идет о Нине и Лиде Гуляевых, подругах Нелли.
(обратно)79
III, 553.
(обратно)80
III, 547.
(обратно)81
Эти беседы частично опубликованы З. Г. Минц: М. С. Альтман. «Из бесед с поэтом Вячеславом Ивановичем Ивановым (Баку, 1921 г.)». — Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение, Ученые записки Тартуского гос. Университета, вып. 209 (Тарту, 1968), с. 304–325.
(обратно)82
В 1926 г. в Баку, уже после отъезда В. Иванова за границу, вышел сборник стихов Норд (тираж 1000 экз.), в котором печатались многие студенты и друзья В. Иванова. Авторы сборника: Всеволод Рождественский, Виктор Мануйлов, Михаил Казмичев, Леонид Борисов, Максимилиан Волошин, Ксения Колобова, Михаил Брискман, Николай Тихонов, Вера Гадзяцкая, Владимир Луизов, Лидия Кошарская, Александр Моргулис, Константин Муран, Михаил Сироткин и Вячеслав Иванов («Тот в праве говорить…» — см. «Могила», III, 518; «Звезды блещут над прудами», III, 235–236; «Возврат», III, 529–530; «Чернофигурная ваза» — см. «Греческая ваза», III, 545–546).
(обратно)83
18 февраля 1921 г. Хлебников писал из Баку Маяковскому: «Здесь /…/ Крученых — он собирается к вам», а 9 апреля он сообщал оттуда же матери (E. H. Хлебниковой): «Приезжайте все сюда. Здесь очень хорошо!» (Собрание произведений Велимира Хлебникова, t. V, 1933, с. 317 и 319). Вскоре после этого он уехал в Иран. В. Иванов участвовал в поэтическом вечере Крученых в мае 1921 г. (см. газ. «Бакинский рабочий», 11 мая 1921, № 105 /238/).
(обратно)84
Намек на знаменитое кафе «Стойло Пегаса» на Тверской, где собирались имажинисты. Кафе было закрыто в 1924 г.
(обратно)85
III, 45.
(обратно)86
Торжественный вечер произошел 6 июня 1924 г. (о нем см. газеты «Правда» и «Известия» от 7 июня). Ср. письмо Гершензона Шестову от 4 июня 1924 г.: «”Событие“ у нас — приезд Вяч. Ив[анова] — 6 июня — 125–я годовщина рождения Пушкина; по этому случаю Общ[ество] Люб[ителей] Росс[ийской] Слов[есности] устраивает /…/ вечер — и выписало В. И. для произнесения речи. Он согласился, и дней 5 назад приехал один. Хорош, как давно не был: молод, свеж бодр и светло настроен — очарователен; и весь блеск прежнего великолепия знаний, памяти, чудесного произнесения иностранных фраз и цитат, и тонкость и сложность афоризмов; и так как принимают его всюду царственно, то окрылен и весело возбужден, и каждого окутывает волной ласки и доброты; словом, Крез — триумфатор, лучезарный Ра, или тому подобный. Нет, правда, в высшей степени обаятелен и удивителен. Он приехал с целью выхлопотать себе командировку с содержанием, и наверное получит ее; тогда он осенью уедет с Лидией и Димой, и вы увидитесь. Он пробудет здесь недели 3–4, живет в Доме Ученых. Видимся каждый день, я наслаждаюсь им и опять влюбился в него; обыкновенно приходит вечером часов в 9, после дневной беготни и приглашенного обеда, усталый и светлый, и сидит до часу, рассказывая о дневных своих хлопотах и встречах и о жизни в Баку. И о тебе я должен был подробно рассказать ему. Он физически очень хорош и прекрасно выглядит: сед и брит» («Минувшее», вып. 6, с. 300–301).
(обратно)87
В письме к Федору Степуну от 30 июня 1963 г. O. A. Шор сообщала: «Он говорил о ”Цыганах“ и о необходимости для России вновь обрести свой религиозный лик. В. И. имел большой успех; ему много аплодировали, не меньше, чем Луначарскому, который на том же заседании, непосредственно до В. И., прочел речь, утверждавшую как раз обратное. Но удивительно было не это, а то, что В. И. в течение всего своего трехмесячного пребывания в Москве (с конца мая по конец августа) являлся могучим духовным магнитом, к которому тянулись все мыслящие и духовно томящиеся» (римский архив В. И.).
(обратно)88
См. письмо Гершензона Шестову от 16 июня 1924 г.: «Вяч[еславу] Ив[анов]ичу О. Д. Каменева в одно утро устроила командировку за границу, с хорошим содержанием, с паспортами и визами на казенный счет, и т. д. Он едет с семьею, т. е. с Лидией и Димой, сперва в Венецию, на неопределенный срок. Думаю, что еще застанет тебя в Берлине; я дам ему твой адрес, и он конечно побывает у тебя. Вчера он читал у меня свое последнее стихотворное произведение, род трагикомедии; много таланта, главное — восхитительные стихи. Заставь его прочитать эту вещь у д — ра Эйтингона, как в прошлом году Ремизов читал своего Петьку. У меня в Академии он читал при огромном стечении публики очень хороший доклад; овациям конца не было» («Минувшее», вып. 6, с. 302). В письме к Степуну от 30 июня 1963 г. O. A. Шор писала: «B. И. получил командировку, чисто формальную как право выехать и, конечно, без копейки денег» (римский архив В. И.).
(обратно)89
Рукописи В. Иванова и Л. Д. Зиновьевой — Аннибал, оставленные в Москве, позднее были переданы (не проданы) в рукописный отдел Гос. Библиотеки им. Ленина на хранение, где и остаются до сих пор (ф. 109, 1256 ед. хр. 1880–е гг. — 1921).
(обратно)90
В письме, написанном «в три приема», т. е. 24 апреля, 30 июня и 16 июля 1963 г. (оригинал находится в римском архиве В. И.), O. A. Шор подробно указывает на «явные описки и фактические неточности» и другие «дезидерата» в машинописной копии немецкой статьи о В. Иванове, посланной Степуном в Рим.
Часть статьи затем появилась в журн. Die Welt der Slaven, Jahrgang VIII, Heft 3, November 1963, c. 225–233, под названием «Vjaceslav Ivanovs Lehre vom realistischen (religiösen) und idealistischen Symbolismus»; она впервые полностью опубликована в кн. Степуна Mystische Weltschau Fünf Gestalten des russischen Symbolismus (München, 1964), c. 201–278, под названием «Wjatscheslaw Iwanow. Der russische Europäer».
(обратно)91
Ср. письмо O. A. Шор к Степуну от 24 апреля 1963 г.: «В Баку В. И. прожил почти четыре года. За все это время он написал всего одно стихотворение (если не считать в шутку рифмованных строк): смерть Веры сказалась параличом его поэтического творчества. Но научно он работал много и плодотворно. Он закончил книгу ”Дионис и прадионисийство“ и представил ее факультету как докторскую диссертацию. Университет собирался дать ему доктора honoris causa, но он по примеру Петрарки захотел защитить диссертацию по всем академическим правилам».
(обратно)92
12 июля 1925 г. Всеволод Мейерхольд, из Венеции, писал В. Иванову: «Зинаида Николаевна [Райх. — Ред.] и я часто с восторгом вспоминаем нашу встречу в Москве, когда Вы так замечательно, с таким блеском и с таким тонким юмором читали Вашу умную, блестящую комедию на музыке. Дорогой учитель! Отвечайте на это письмо непременно и скоро. Любящий Вас В. Мейерхольд» (из римского архива В. Иванова).
(обратно)93
Судя по репертуару берлинских театров, помещенному в газете «Berliner Tageblatt», Ивановы приехали в немецкую столицу 31 августа 1924 г. В это воскресенье, в 61/2 вечера, в штатсопере состоялось представление Die Meistersinger von Nürnberg Рихарда Вагнера.
(обратно)94
Роман La garçonne Виктора Маргерита (Victor Marguerite, 1866–1942) вышел в 1922 г. (изд. Flammarion), а в русском переводе (Холостячка) — в 1924 г. (к 1925 г. он уже издавался десять раз в рижском изд. О. Д. Строка!). Роман был обвинен в порнографии и против него был затеян судебный процесс.
(обратно)95
Baiocchi, baiocchi — денежки, денежки (стар. итал.).
(обратно)96
Добрый вечер, господин капитан (итал.).
(обратно)97
«Убийство депутата Казалини. Рим (телеграмма; агенство Вольф). Сегодня утром [12 сентября 1924 г. — Ред.] рабочий Корви в вагоне трамвая четырьмя выстрелами из револьвера тяжело ранил в голову депутата — фашиста, генерального секретаря фашистских союзов Казалини. Корви арестован. Он заявил, что является членом коммунистической партии и хотел отомстить за убийство Маттеотти, фотографию которого он имел при себе. Казалини, перевезенный в больницу, там скончался от полученных ран» («Дни», 14 сентября 1924 г., № 564). 10 июня 1924 г. Джакото Маттеотти (1885–1924), видный юрист и один из лидеров итальянской социалистической партии, был похищен и убит фашистами в Риме. Преступление привело к т. н. «кризису Маттеотти». «Похороны Казалини. Рим (телеграмма). Сегодня [15 сентября — Ред.] состоялись торжественные похороны Казалини. Конторы и магазины были закрыты, громадная толпа народу собралась по пути следования похоронной процессии, охраняемому цепью войск. За гробом шли, между прочим, Муссолини, правительство, делегация Палаты Депутатов /…/ В процессии несли многочисленные флаги и венки. Собравшаяся толпа благоговейно приветствовала похоронное шествие /…/ Несчастный Казалини был убит /…/ в присутствии его 12–летней девочки» («Дни», 17 сентября 1924, № 566).
(обратно)98
Мария Чианфарани, вдова Плачиди (итал.).
(обратно)99
удобства, уюта (франц.).
(обратно)100
письменный стол (итал.).
(обратно)101
крохотной гостиной (итал.).
(обратно)102
III, 851.
(обратно)103
П. С. Коган провел май 1927 г. в Италии (см. Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 3, 1917–1929 /1959/, с. 522). Ср. письмо Георгия Чулкова Вячеславу Иванову от 21 мая 1928 г., в котором он просит Иванова послать стихи в журнал «Красная новь»: «/…/ Но редакторы все еще мечтают, что ты пришлешь им что‑либо иное. У них печатается Андрей Белый и они вообще желают быть ”широкими“». И добавляет: «Что касается персональной пенсии (об этом мне сообщала P. M. Шор, прося моего содействия), то я с своей стороны дважды обращался с напоминанием к П. С. Когану, который любезнейший человек, но невыносимый кунктатор. Завтра увижу его и скажу ему назидательное и обличительное слово» (римский архив В. Иванова).
(обратно)104
В «бакинский период» Иванов почти полностью отказался от поэтического творчества и занимался в основном университетскими делами. 17 июля 1921 он писал В. А. Меркурьевой: «Я старый, немецкого типа, педант — профессор, только профессор, и не говорю ничего иначе, как ”наукообразно“. Много работаю, исключительно в филологии (о стихах и тому подобном и помину нет)». 9 декабря 1923 Сергей Шварсалон, пасынок В. И., писал из Баку А. Д. Скалдину: «Здесь В. И. — другой; после всего, что с ним было, он облечен послушанием молчанья; только иногда, почти только со мной, приоткрывается. Академизм — броня. Послушание не только в молчании поэтическом, но очень глубоко» (цит. в примеч. на с. 149–150 публикации A. B. Лаврова: Вяч. Иванов, «Письма к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской», Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год, Л., 1976)
(обратно)105
III, 853.
(обратно)106
III, 578
(обратно)107
III, 852
(обратно)108
III, 579
(обратно)109
III, 579.
(обратно)110
III, 581
(обратно)111
III, 582
(обратно)112
«”Ревизор“ Гоголя и комедия Аристофана». Статья датирована «Рим, сентябрь 1925 года», появилась в 1926 г. в вышедшем под редакцией A. A. Гвоздева, Мейерхольда и др. сборнике Театральный Октябрь, № 1 (Л. — М.), с. 89–99. Немецкий перевод, сильно переделанный автором, вышел в Corona, Heft 5, München‑Zürich, 1932–33 и в книге W. Iwanow, Das alte Wahre (Suhrkamp, Frankfurt, 1955); IV, 387–398 и 752–754.
(обратно)113
12 декабря 1924 г. Горький сообщил Иванову, что его «Римские сонеты» были отправлены в редакцию журн. «Беседа», и просил его прислать для последующих номеров журнала статьи об Идиоте и о Пушкине (текст письма напечатан в моей публ. «Из переписки В. Ф. Ходасевича» — «Минувшее», вып. 3, 1987, с. 267). 29 декабря 1924 г. Иванов писал В. Ф. Ходасевичу, соредактору «Беседы»: «Пишу для ”Беседы“ об ”Идиоте“. Не присоветуете ли чего‑нибудь относительно изданий? Привет!» («Новый Журнал», № 62, 1960, с. 286). Стихи не появились, потому что журнал внезапно прекратил существование в мае 1925 г. на № 6/7; статья не осуществилась по той же причине. Собранные материалы вошли в главу об Идиоте в немецкой книге Иванова о Достоевском
(обратно)114
Ср. письмо Гершензона Шестову от 9 января 1925 г.: «Получил я на днях письмо от Вяч. Ив[анова], пространное и содержательное. Живут они очень приятно, он опять, после стольких лет, начал писать, дети хорошо устроены; одно горе: деньги тают, а заработка никакого; эта забота очевидно отравляет его существование. Он хотел бы отсюда иметь работу, но это конечно пустая мечта» («Минувшее», вып. 6, 1988, с. 309).
(обратно)115
«Немногие пловцы в безмерной стремнине» (лат.). Цитата из Энеиды Вергилия, I, 118 (в переводе С. Ошерова [1971], ст. 118 читается: «Изредка видны пловцы средь широкой пучины ревущей»).
(обратно)116
Баллада Шиллера
(обратно)117
III, 850–851
(обратно)118
III, 852
(обратно)119
О переводах В. Ивановым «всех поэтических произведений Микель — Анджело Буонароти в количестве 3000 (трех тысяч) строк» говорится в проекте договора между Ивановым и «Издательством при Театре имени Всеволода Мейерхольда». Проект этот был передан Иванову председателем издательства, Зинаидой Николаевной Мейерхольд — Райх 3 августа 1925 г. в Риме (римский архив В. Иванова). О переводах, при их тогдашней встрече, В. И., З. Райх и Мейерхольд много говорили. Но издание не осуществилось. Иванов в августе 1925 г. перевел цитируемые им сонеты «О простуженном Коте», «К Ночи», «Нет замысла, какого б не вместила», «Не смертный образ очи мне пленил». Два последних сонета опубликованы в кн.: В. Иванов. Стихотворения и поэмы (Библ. поэта, малая серия, Л., 1976), с. 389–390.
(обратно)120
Из упомянутых замыслов Мейерхольд реализовал только свою знаменитую постановку «Ревизора» (премьера прошла 9 декабря 1926 г.) в ТИМе. Начиная с организации Театра РСФСР Первого и в течение всего существования в Москве театра, руководимого Вс. Мейерхольдом (1920–1938), постановка «Гамлета» значилась в его планах. Существует и план постановки «Кармен» Ж. Бизе (1925; план предусматривал переложение партитуры оперы для трио гармонистов). Пушкинские «Цыгане» не были доведены им до конкретного плана.
(обратно)121
Мейерхольд выехал за границу (Германия, Италия, Австрия) 2 июля 1925 г. и возвратился в Россию 3 сентября. Целью поездки было знакомство с театрами за рубежом и свидания с рядом театральных деятелей.
(обратно)122
См. письмо Горького В. Ф. Ходасевичу от 13 августа 1925 г. («Новый Журнал», кн. XXXI, 1952, с. 205). См. также «Горький и Мейерхольд (К истории отношений»)», А. Февральский, «Вопросы литературы», № 3, 1966, с. 183–185.
(обратно)123
Еще 20 июля 1925 г. Горький писал В. Ф. Ходасевичу: «На днях сюда приедет В. И. Иванов» («Новый Журнал», кн. XXXI, 1952, с. 203).
(обратно)124
См. конец первой части воспоминаний, с. 115.
(обратно)125
Так в оригинале письма Иванова.
(обратно)126
cestino — корзинка с провиантом (итал.).
(обратно)127
Castelli — вино из виноградников в окрестностях Рима.
(обратно)128
Этот благородный старец, угрюмый и злой, но столь кокетливо голубой, этот хитрый чарующий гигант (фр.).
(обратно)129
Сержик — Сергей Витальевич Троцкий, о нем см. первую часть воспоминаний. Ему не удалось выехать из Советской России, где он и погиб в лагере.
(обратно)130
мой сын (фр.).
(обратно)131
Т. е. Павел Александрович Марков (р. 1897), театральный критик, режиссер и педагог, и драматург Николай Робертович Эрдман (1902–1970). Ср. в восп. Маркова следующий забавный пример «культа личности Горького»: «В те дни в Сорренто приехал к нему [Горькому. — Д. М.] Вячеслав Иванов /…/ он жил по советскому паспорту, бывал в советском посольстве, но — по всем своим взглядам, повадкам, манерам — явился полной противоположностью Горькому. Подлинный метафизик, игравший идеалистическими категориями, как мячиком, он еще в Риме рассказывал о предстоящем визите к Горькому, он был параден, блистателен — готовился к встрече обстоятельно и красиво. Горький встретил своего философского врага с изящной приветливостью, они провели день в подробной беседе, и, присутствуя при их разговорах, я не уставал изумляться широте знаний Горького по сравнению с изысканностью знаний Иванова, как известно, написавшего свою диссертацию на латинском языке. Речь шла о теории Mappa, о языковедении; Иванов наслаждался возможностью блистательной словесной дуэли, улыбаясь своими тонкими губами и поблескивая золотом очков. Но Горький обрушивал на него еше бо́льшую эрудицию и, покашливая, приводил в доказательство неведомые Иванову статьи, напечатанные в иностранных журналах. Оба собеседника были, видимо, довольны беседой, хотя каждый остался на своих позициях. Но, возвращаясь в ”Минерву“, утомленный Иванов должен был сознаться, что никогда не встречал более сильного и вооруженного противника» (П. Марков, «Встречи с Горьким», «Театр», № 6, 1959, с. 134). На с. 135 Марков пишет: «В один из дней он позвал к себе Эрдмана и долго и внимательно разбирал его ”Мандат“. Я не знаю подробности их встречи, но Эрдман вернулся с этой двухчасовой беседы окрыленным и радостным».
(обратно)132
Лидия и Дима снимали в то лето комнату на море в Неттуно, близ Рима, у скромных хозяев. В их бедной передней, однако, висел рисунок пышного генеалогического дерева, доказывающего происхождение хозяев от знатного рода маркизов Квинтили, со своей стороны потомков древнеримских Quintilii.
(обратно)133
Ср.: «Алексей Максимович поощрял и нередко сам составлял маршруты наших поездок с Максимом на мотоцикле вдоль побережья Неаполитанского залива…» (Валентина Ходасевич, «У Горького в Сорренто», в кн. Портреты словами, М., 1987, с. 190; см. также с. 196: «При мне приезжали в Сорренто и посещали Алексея Максимовича: З. Н. Райх, В. Э. Мейерхольд /…/ П. А. Марков, Н. Р. Эрдман, поэт Вячеслав Иванов…»). См. также статью В. Ф. Ходасевича «Горький»: «Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе» (Некрополь, с. 245).
(обратно)134
Александр Каун писал В. И. 12.8.1925 из Сорренто по поводу возможной работы в Калифорнии или в Лондоне. Каун с женой приехал в Сорренто 25 июля (см. Летопись жизни и творчества A. M. Горького, вып. 3, 1917–1929, М., 1959, с. 417).
(обратно)135
Дима посылал Вячеславу свои латинские и математические упражнения. Вячеслав здесь рекомендует делать больше «thèmes», т. е. переводов с французского на латинский (прим. автора).
(обратно)136
«Дракончик» — шутливое прозвище римского друга Ивановых, талантливого археолога, специалиста по Помпее, Татьяны Сергеевны Варшер
(обратно)137
«Запретив ”Беседу“, в Москве решили, что нужно чем‑нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: ”Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа ‘Беседы’ или о возобновлении ‘Беседы’. Весь материал заготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит“ [полный текст письма опубл. в «Новом Журнале», кн. XXXI, 1952, с. 203. — Д. М.]. Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал типа ‘Беседы’ в России нельзя издавать, потому что ‘типическая’ черта ‘Беседы’ в том и заключалась, что журнал издавался заграницей, и что ‘ограничительные условия’ уже налицо, ибо наша ‘Беседа’ издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадает под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть» (В. Ф. Ходасевич. «Горький», «Современные Записки», №LXX, 1940, с. 153). Любопытен тот факт, что, предлагая Иванову редактировать отдел стихов в ожидавшемся журнале, Горький за две недели до того, т. е. 13 августа 1925 г., писал Ходасевичу: «”Беседа“, кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. /…/ Беллетристика, стихи найдут себе место в ”Русск[ом] Совр[еменнике]“, который возобновляется при старой редакции» («Новый Журнал», XXXI, 1952, с. 204–205). В. Иванов никогда не играл никакой роли в ред. «Русского Современника», который так и не возобновился. Горький обманул и себя и В. Иванова.
(обратно)138
См. «Vyacheslav Ivanov’s Translations of Dante», Pamela Davidson, «Oxford Slavonic Papers», New Series, volume XV, 1982, где дается сохранившийся отрывок из перевода; ее же: The poetic imagination of V. Ivanov. Cambridge Univ. Press, 1989.
(обратно)139
3–го июня 1947 В. И. писал С. Л. Франку: «Оказавшись в 1924 г. с дочерью и сыном в Риме, я не знал, куда деться, и был счастлив, получив, вследствие хлопот Ф. Ф. Зелинского, от Каирского университета предложение занять кафедру истории римской литературы. Начались переговоры об условиях (прямо сказочных) и времени переезда; я принялся упражняться в английском языке, но когда в египетском посольстве было обнаружено, что я проживаю по советскому паспорту, моя сказка из тысячи и одной ночи рассеялась маревом: тамошнее министерство немедленно пресекло затеи наивных гуманистов» («Мосты», № 10, 1963, с. 364; цит. по оригиналу, хранящемуся в Бахметевском архиве Колумбийского университета).
(обратно)140
Ср. письмо В. Иванова С. Л. Франку от 3 июня 1947 г.: «Более терпимою к моему советскому подданству, несмотря на фашизм профессуры, явилась Павия, где я получил место проф. новых языков и литератур в университетском Колледжио Борромео, старинном, роскошном и даровом общежитии для наиболее успешных студентов всех факультетов, и вместе лекторство русского языка в Университете. С осени 1926 г. до летних вакаций 1934 г. я жил там, в дивном здании XVI — ого века, но сокращение бюджетов повело за собой упразднение отдельной профессуры в Колледжио» («Мосты», № 10, 1963, с. 364) Рибольди был тогда еще совсем молодым. Он был худой, среднего роста, брюнет, с живыми, постоянно загорающимися глазами, с красивыми чертами лица, гибкий; он жадно изучал каждого нового любопытного для него человека, старался вжиться в его судьбу, выдумывал за него цели, к которым тот должен был стремиться, и в своем увлечении часто страшно преувеличивал его способности. Заинтересовавшись человеком, он ему не давал покоя, требуя от него все большего и большего. Он говорил: «Я люблю найти огонь в людях и, когда найду, стараюсь его разжигать». Он был великодушный, смелый, опрометчивый. Любил сочетать людей, выдумывал иногда совсем неожиданные предприятия. Иной раз талантливо, и все выходило; иной раз неудачно, и кончалось ему во вред. Но он никогда не унывал, не останавливался и, оставляя старые увлечения, предавался новым. Эта потребность постоянного волевого движения, думается мне, была у него отчасти врожденной, а отчасти зависела от отсутствия внутренней душевной гармонии, побуждающего его искать ее вне себя. Он принадлежал к поколению, из которого вышло много священников «модернистов», перечитал всю французскую литературу этого движения; учился он в Риме в Ломбардской семинарии, когда там начинал свою деятельность знаменитый модернист Буонаюти. Он с ненавистью рассказывал про своих руководителей и их педагогические методы. После такой студенческой подготовки, опять‑таки предполагаю я, нелегко было стать священником и руководить людьми. Отец Рибольди очень много читал, был человек большой культуры. Принадлежал он родом к высшему обществу, имел изысканные манеры, поэтому при его доброте и чутком интересе к людям с ним было всегда неверятно легко, интересно и весело
(обратно)141
первый этаж (итал.)
(обратно)142
четвертому (итал.)
(обратно)143
соответствия (фр.)
(обратно)144
немецкая овчарка (итал.)
(обратно)145
Время — деньги (англ.)
(обратно)146
Моисей Альтман был одним из любимых и близких друзей В. Иванова, который, по свидетельству семьи В. И., высоко ценил его научный и поэтический талант — и поэтому отечески журил за привычку разбрасываться, любовь к парадоксу и каламбуру и недостаточную академическую серьезность. О глубоком душевном отношении к Альтману см. стихи, посвященные ему (III, 826–827, IV, 88–89). В отзыве об Альтмане от 13. IV. 1923 В. И. писал: «Моисей Альтман отличался за все время пребывания своего в университете выдающеюся даровитостью и успешностью научных занятий. По всем зачетам получил он высшую отметку, представленная же им выпускная работа на тему ”Дремлющие мифы в Илиаде Гомера“, была оценена факультетскою комиссией как превосходное доказательство научного трудолюбия и замечательной самостоятельности научной мысли. Эта работа дает больше, чем сколько мы в праве требовать от работы студенческой, потому что устанавливает целый ряд новых точек зрения на изучаемый предмет. Из работ Альтмана, подвергавшихся рассмотрению на моих семинариях, отмечу интересные по новизне результатов исследования о ”Записках из мертвого дома“ Достоевского и о мифе в ибсеновской драме ”Пер Гюнт“. В своей книге ”Дионис и прадионисийство“ в главе XI (”О возникновении трагедии“) я пишу в обширном примечании 3–м к § 8 (на стр[аницах] от 247 по 250): ”Не лишены интереса догадки одного из моих университетских слушателей, М. С. Альтмана, о религиозной символике трагедии… Сообщаю эти порою несомненно меткие, порою остроумные, правда, но проблематические соображения, не беря на себя их защиты в целом“. Приводя далее в сжатом изложении эти догадки, упомянуть о которых я, как автор исследования, признал в связи последнего уместным и целесообразным, я отмечаю в некоторых местах неизвестные Альтману факты, служащие к их подтверждению. Все вышеуказанное свидетельствует о пробужденности и самостоятельности научной мысли нашего кандидата». (Цит. по статье «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета», Н. В. Котрелев, Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение, Ученые записки Тартуского Гос. университета, вып. 209, Тарту, 1968, с. 331).
(обратно)147
«Глупости остались мне, а благочестие досталось Вам» — по — латыни «Pius» (Пий) означает «благочестивый».
(обратно)148
В. Иванов не совсем точно цитирует текст мемориальной доски, который читается: Alumnis / VITA PRO PATRIA FUNCTIS / MCMXV MCMXVIII / NON NOMINA UT ADSINT NUMINA. В. И. сердился на Рибольди за отсутствие имен на мемориальной доске. Он верил в мистическую силу имени (ср. с. 55–56). Впоследствии в том же портике появилась и доска, посвященная самому В. И.
(обратно)149
«Ваше задание — это только быть с нами, постоянно быть с нами, жить с нами» (итал.).
(обратно)150
Речь идет о Витторио Бэонио — Брокьери (Beonio‑Brocchieri, Vittorio, p. 1902). После своего «тройного доктората» Бэонио стал журналистом и по поручению миланской газеты «Коррьере делла сера» дважды предпринял кругосветное путешествие на пилотируемом им самим самолете. С 1942 г. — профессор истории политических учений Павийского университета. Автор многотомной Trattato di storia delle dottrine politiche.
(обратно)151
без ограничения, вдоволь (фр.).
(обратно)152
О. Д. Фокс (Fox), английский священник, с которым В. Иванов познакомился вскоре после приезда в Рим и с которым он упражнялся в английской разговорной речи, готовясь к занятию кафедры в Египте или в Канаде. Проекты не осуществились, но вся семья Ивановых очень подружилась с о. Фоксом.
(обратно)153
В 1927–28 гг. ректором Колледжио был Giuseppe Molteni, a затем, с 1928 по 1939 — Rinaldo Nascimbene. Первый ректор, с 1588 по 1596 — Giovanni Battista Sommaruga
(обратно)154
Текст мемориальной доски: «Al poeta VENCESLAO IVANOV / che esulando dalla sua terra Russa / trovò in Italia una seconda patria / e lungo fidato asilo in questo Borromeo / dove lo visitarono gli amici / Zielinski Buber Ottokar e Croce / è dedicata questa lapide / quasi a pagare il debito di gloria / che offerse al Collegio / la sua decenna le presenza / dal 1925 al 1936». («Поэту Вячеславу Иванову, разлученному со своей родной Россией и нашедшему в Италии вторую родину и надежную верную пристань в Борромео, где посещали его друзья Зелинский, Бубер, Оттокар и Кроче, посвящена эта мемориальная доска как слабая дань славе, которую он принес Колледжио своим десятилетним пребыванием, с 1925 по 1936 годы».
(обратно)155
«хецный» — слово из семейного ивановского обихода: уютный, приятный, ласковый.
(обратно)156
Розминианцы — орден, основанный под официальным названием Institutum Charitatis итальянским священником Антонио Розмини Сербати (1797–1855). Розмини — автор трудов по гносеологии и онтологии и по истории философии. Он представляет собой «один из величайших моментов в философском самопознании Запада», — как пишет Владимир Эрн (Спор Джоберти с Розмини. Тифлис, 1914, с. 5). Исследование Эрна Розмини и его теория знания (М., «Путь», 1914) было одной из редких книг, которую В. Иванов привез с собой из России. Розмини погребен в Домодоссола, недалеко от Павии, где находится один из главных розминианских центров.
(обратно)157
См. письмо В. Иванова от 16 января 1927 г. (римский архив).
(обратно)158
После первых павийских «гастролей» (как пишет В. Иванову Зелинский из Варшавы 5 января 1927 г.), Фаддей Францевич был частым гостем в Collegio Borromeo, и много раз читал лекции в университете. В элегантно напечатанной латинской грамоте, обращенной Ректору и Сенатору Варшавского университета, Павийский университет шлет Зелинскому свои поздравления по поводу пятидесятилетия научной деятельности. Послание напоминает, что юбиляр был в Павии «hospes gratissimus» («дорогим гостем»). Документ датирован: a. d. XIV Kai. Jun. MCMXXX. Один экземпляр хранится в римском архиве Иванова.
(обратно)159
душа народа (итал.).
(обратно)160
подеста (итал.) — так, во времена фашизма, назывался мэр города.
(обратно)161
о развале империи (итал.).
(обратно)162
о крушении, о катастрофе, о развале (итал.).
(обратно)163
Первые слова знаменитого стих. Валерия Катулла (87–57 гг. до н. э.): «И ненавижу ее и люблю. ”Почему же?“ — ты спросишь. / Сам я не знаю, но так чувствую я — и томлюсь». (Перевод Ф. Петровского).
(обратно)164
Николай Кузанский (Nicholas Cusanus) (Николай Кребс, Krebs, 1401–1464) — теолог, философ, развил учение об абсолюте как «совпадении противоположностей».
(обратно)165
Die Kreatur, редколлегия: Martin Buber, Joseph Wittig, Viktor von Weizsäcker (Verlag Lambert Schneider, Berlin). Там же, во втором выпуске (Zweites Heft) за 1926, в переводе Nicolai von Bubnoff, проф. Гейдельбергского университета: M. Gerschenson und W. Iwanow, «Briefwechsel zwischen zwei Zimmerwinkeln», с 159–199. Отд. изд. в этом же переводе: Frankfurt am Main, Siegel‑Verlag, 1946
(обратно)166
«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (от Иоанна, 1:47).
(обратно)167
Отдельные выпуски Ветхого Завета (Die Schrift) в переводе Бубера и Франца Розенцвейга выходили в изд. Lambert Schneider (Berlin) с 1926 г. См. их книгу Die Schrift und ihre Verdentschung (Berlin, Schocken, 1936). В кабинете Иванова Библия Бубера и его книги (в том числе знаменитая Ich und Du, Leipzig, 1923) стояли на почетном месте.
(обратно)168
III, 508
(обратно)169
III, 537–538
(обратно)170
III, 507
(обратно)171
III, 553–554. Рукопись стихотворения хранится в фонде автографов Ватиканской библиотеки
(обратно)172
тучность (франц.).
(обратно)173
Wjatscheslaw Iwanow, «Vergils Historiosophie», Corona, Jahr I, Heft 6 (май 1931 г.), с. 761–774. Журнал закрылся в 1943 г.
(обратно)174
«Ты Еси» была впервые напечатана в «Золотом Руне», № 7–8—9, 1907, a «Anima» в Короне, Jahr V, Heft 4 (май 1935 г.), с. 373–389. Статья «Античный ужас. По поводу картины Л. Бакста ”Terror Antiquus“ (публичная лекция)» впервые напечатана в «Золотом Руне», № 4, 1909, с. 51–65, а как «Terror Antiquus», в переводе Nicolai von Bubnoff, в Короне, Jahr V, Heft 2 (январь 1935 г.), с. 133–164. Venceslao Ivanov, «Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la ”Docta pietas“», // Convegno, № 8–12, 25 декабря 1933 — 25 января 1934, с. 316–327, с датой: Pavia, февраль 1934 г., а в Короне, Jahr VII, Heft 1 (1937), с. 94–108, как «Wjatscheslaw Iwanow an Alessandro Pellegrini». Другие публикации В. Иванова в Короне: «Gogol und Aristophanes», Jahr III, Heft 5 (июнь 1933), с. 611–622; «Zwei russische Gedichte auf Goethes Tod», Jahr IV, Heft 6 (август 1934), c. 697–703; «Brief an Charles Du Bos», Jahr V, Heft 6 (сентябрь 1935 г.), с. 706–716; «Vom Igorlied», Jahr VII, Heft 6 (1937), c. 661–669. «Anima», «Terror antiquus», «Gogol und Aristophanes», «Vergils Historiosophie», «Rückblick» [an Charles Du Bos] и «Über die ”Docta Pietas“» перепечатаны в кн. W. Iwanow, Das alte Wahre, Essays, под ред. Victor Wittkowski (Suhrkamp, Berlin und Frankfurt а. М., 1946).
(обратно)175
«Многоуважаемый господин профессор» (нем.) и «Дорогой главный кот» (англ.).
(обратно)176
Ст. «О русской идее» впервые появилась в «Золотом Руне», № 1, 1909, с. 85–93 и № 2–3, с. 87–94; перепечатана в сб. По звездам (1909), с. 309–337. В немецком переводе J. Schor: Die russische Idee (J. C. B. Mohr‑P. Siebeck, Tübingen, 1930), 39 стр.
(обратно)177
Wjatscheslaw Iwanow, Dostojewskij. Tragödie — Mythos — Mystik, перев. Alexander Kresling (J. C. B. Mohr — Paul Siebeck, Tübingen, 1932), предисловие Иванова подписано: Pavia, Dezember 1931. Английский перевод Norman Cameron: Vyacheslav Ivanov, Freedom and the Tragic Life. A Study in Dostoevsky, foreword by Sir Maurice Bowra (Harvill Press, London, 1952; Noonday Press, N. Y. C., 1957). В русском издании: IV, 483–588. Об истории текста и переписки с Е. Д. Шором, см. IV, 757–770.
(обратно)178
Corrispondenza da un angolo all’altro, перевод Ольги Ресневич — Синьорелли (Lanciano, Carabba, 1932).
(обратно)179
«Вячеславу Иванову, который недостаточно убежден — а, поклонник Корнеля, должен бы — что я его люблю еще больше с тех пор, как увидел его — с благодарностью от всего сердца за два незабываемых дня — его друг Шарль Дю Бос. Пятница, 3 июня 1932 г.» (фр.).
(обратно)180
Venceslas Ivanov et М. О. Gerschenson, «Correspondance d’un coin à l’autre», traduit du russe par Hélène Iswolsky et Charles Du Bos, Vigile, quatrième cahier, 1930, c. 33–120 (на с. 35–38 — предисловие, без подписи; на с. 39–51 — «Lettre à Charles Du Bos» с датой: Noli Ligure, le 15 octobre 1930). Отдельное издание: V. Ivanov et М. О. Gerschenson, Correspondance d’un coin à l’autre. Précédée d’une introduction de Gabriel Marcel et suivie d’une lettre de V. Ivanov à Ch. Du Bos. Traduction du russe par Hélène Iswolski et Ch. Du Bos (Editions Roberto A’Corrêa, Paris 1931). Переиздано в 1979 г. (L’Age d’Homme, Lausanne), с предисловием О. Deschartes.
(обратно)181
«La vision du laurier dans la poésie de Pétrarque», traduit de l’italien par Jeanne Lac, Vigile, premier cahier 1932, c. 59–73. Впервые: «Il lauro nella poesia del Petrarca», Annali della Cattedra Petrarchesca, vol. IV, Firenze, 1932.
(обратно)182
Встреча произошла в апреле 1931 г., когда Кроче вместе со своими друзьями Alessandro Casati, Tommaso Gallarati‑Scotti, Stefano Iacini, Francesco Flora, Piero Treves, Riccardo Balsamo‑Crivelli приехал в Павию из Милана. О ней см.: «Disputa al Borromeo» в кн. Tommaso Gallarati‑Scotti Interpretazioni e Метопе (Milano, 1965); «Venceslao Ivanov al Borromeo», Cesare Angelini, в газ. Corriere della Sera, 9 мая 1966; перепечатана (под названием «Poeta russo a Pavia») в кн. Анджелини Il piacere della memoria (Milano 1977) и в брошюре, ред. Fausto Malcovati, Vjaceslav Ivanov a Pavia [1986], специально выпущенной для участников и гостей третьего международного симпозиума по Иванову (сентябрь 1986, Павия).
(обратно)183
Venceslao Ivanov, «Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la ”Docta pietas“», Il Convegno № 8–12, 25 декабря 1933 — 25 января 1934, с. 316–327, с датой: Pavia, Febbraio 1934. Итал. текст и русский перевод см. III, 434–450.
(обратно)184
Il Convegno. Rivista di letteratura e di arte (Milano), № 8–12, 25 Dicembre 1933 — 25 Gennaio 1934, Anno XIV‑XV. Содержание выпуска: Taddeo Zielinski: Introduzione all’opera di Venceslao Ivanov; Fedor Stepun: Ritratto di Venceslao Ivanov; Ernst Robert Curtius; Venceslao Ivanov; Herbert Steiner: Idea e Amore; Gabriel Marcel: L’interpretazione dell’opera di Dostoievski secondo Venceslao Ivanov; Venceslao Ivanov: La ribellione contro la terra madre. Analisi del romanzo di Dostoievski «Delitto e Castigo»; Alessandro Pellegrini: Considerazioni sulla «Corrispondenza da un angolo all’altro» di V. Ivanov e M. O. Gerscenson; Venceslao Ivanov: Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la «Docta pietas»; Venceslao Ivanov: Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno; Venceslao Ivanov: Dalle «Sporadi»; Leonida Gancikov: A realioribus ad realia; Nicola Ottokar: Dioniso e i culti predionisiaci; Venceslao Ivanov: Poesie; O. Deschartes: Cennii biografici
(обратно)185
Il Frontespizio, ежемесячный журнал, выходивший с 1929 по 1938, под ред. Piero Bargellini, при ближайшем участии Giovanni Papini. Четыре стихотворения В. Иванова были напечатаны в номере за сентябрь 1930: «Il paradiso terrestre» («О земном рае»), «Palinodia» («Палинодия»), «Regina viarum» (1–й «Римский сонет») и «La cupola» (9–й «Римский сонет»), в переводе самого В. И.; в апрельском номере за 1932 — три стихотворения в переводе Ринальдо Кюфферле: «Capella votiva» («Капелла» /«У замка, над озером…»/), «La via d’Emmaus» («Путь в Эммаус») и «Il corno alpino» («Альпийский рог»). Эти стихи были перепечатаны в «ивановском» номере // Convegno. Статья «Il mito di Edipo» («Миф об Эдипе») появилась в номере за август 1933 г.; она является последней частью речи, произнесенной В. И. в Сан Ремо 10 апреля 1933 г.: «Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno», впервые полностью напечатана в номере Il Convegno, посвященном Иванову. Итальянский текст и перевод на русский («Размышления об установках современного духа») — в III, 452–484
(обратно)186
Venceslao Ivanov, L’Uomo. Traduzione in versi di Rinaldo Küfferle (Fratelli Bocca editori, Milano, 1946).
(обратно)187
В рецензии на книжку LXII «Современных Записок» (1936), где на с. 178–183 впервые появились девять «Римских сонетов», В. Ф. Ходасевич писал: «Очередная книжка ”Современных Записок“ ознаменована литературным событием: в ней находим мы цикл ”Римских сонетов“ Вячеслава Иванова, не выступавшего в печати уже очень давно: лет четырнадцать, а может быть и семнадцать» (газ. «Возрождение», 25 декабря 1936, № 4058). Появление работ Иванова в эмигрантской прессе наверное было мотивировано его отказом от советского гражданства в том году, освобождающим его от обещания, данного при отъезде из России Луначарскому (см. письмо Иванова И. Н. Голенищеву — Кутузову от 24 апреля 1930 г.: «Предпочитаю быть верен своему обещанию, в силу которого был отпущен за границу — не участвовать в эмигрантской печати» — фотокопия письма находится в Римском архиве). Публикация I‑VIII из стих. «Деревья. Вступление к поэме» в десятом выпуске «Современных Записок», с. 116–118, в 1922 г. была перепечаткой из «Записок мечтателей», № 2–3, 1921, с. 136–138, сделанной, по — видимому, без ведома автора.
(обратно)188
Иванов печатался в следующих книжках «Современных Записок»: LXIII, 1937, с. 164–169, 9 стихотворений: «Каменный дуб» (III, 501), «Notturno» (III, 508), «Собаки» (III, 553–554), «Родина» (III, 558), «Земля» (III, 508), «Сверстнику» (III, 531), «Могила» (III, 518), «Умер Блок» (III, 532) и «Воспоминание о А. Н. Скрябине» (III, 531–532); LXIV, 1937, с. 156–159, восемь стихотворений цикла «De profundis amavi» и статья «О Пушкине» — с. 177–195; LXV, 1937, с. 164–167, шесть стихотворений: «Палинодия» (III, 553), «Кот — Ворожей» (III, 507), «Слово — Плоть» («Язык», III, 567), «Полдень» (III, 504); «Митрополит Филипп» (III, 558), «Новодевичий Монастырь» (III, 566); LXVI, 1938, с. 176–178, два стихотворения: «Демоны маскарада» (III, 542–543) и «Monte Таrрео» («Староселье», № 1, III, 584); LXVII, 1938, с. 153–154, одно стихотворение: «Ferrea turris» («Ha Оке перед войной», 4; III, 527–528); LXVIII, 1939, с. 184–186, три стихотворения: «Размолвка» (III, 521), «Светлячок» (III, 502) и Madonna della neve» (III, 521); LXIX, 1939, c. 205–206, два стихотворения: «Вечерняя звезда» («Серебряный бор», 2; III, 510) и «Восход солнца» («Серебряный бор», 5; III, 511); LXX, 1940, с. 123–124, стихотворение «Ночные зовы» (III, 515–516). Все стихи позднее вошли в состав сб. Свет Вечерний
(обратно)189
«Дуче, я фашистка с первого часа» (итал.).
(обратно)190
«Мысль летит на крыльях золотых…» (итал.) — знаменитый в Италии хор из оперы «Набукко» Верди (1842 г.). Его поют евреи, увезенные в плен Навуходоносором, вспоминая далекую родину. В XIX веке, до объединения независимой Италии, хор стал чуть ли не национальным гимном.
(обратно)191
«Нашептывала река Пьяве…» (итал.) — песнь композитора и поэта Е. А. Марио (Е. А. Mario; наст, фамилия — Giovanni Gaeta, 1884–1961), в которой восхваляется битва итальянской армии против австро — немецких войск на реке Пьяве в 1918 г. Песня стала чрезвычайно популярной, и ее пели как национальный патриотический гимн.
(обратно)192
Ср. I, 3–4 стих. «Фламинго»: «И чертят фламинго в синем небе/Дуги света розовей Авроры» (Свет Вечерний, III, 507). Стихотворение было написано 24 января 1915 г. в Москве, а посвящено O. A. Шор — в 1927 г. в Риме. «[Оно] относится к посещению Египта весною 1902 г. В душе поэта навсегда осталось радостное воспоминание о полетах фламинго. ”Розовое облачко над головой — залог от небес о рае“ — говорил он» (III, 829).
(обратно)193
Речь идет о докладе Иванова, прочитанном 17 марта 1910 в Московском «Обществе Свободной Эстетики» и повторенном 26 марта в «Академии» в Петербурге. В переработанном виде эти выступления были напечатаны под названием «Заветы символизма» в журн. «Аполлон», № 8, 1910 [см. II, 588–603].
(обратно)194
«Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым», публ. Н. В. Котрелева, Известия Академии Наук СССР, серия литературы и языка, т. 41, № 2, 1982, с. 171. Речь идет о докладе, прочитанном Блоком 8 апреля 1910 в «Академии» в порядке ответа на доклад Иванова. В обработанном виде он появился под заглавием «О современном состоянии русского символизма» в журн. «Аполлон», № 8, 1910.
(обратно)195
9 мая 1978 г., за три дня до кончины Ольги Александровны, тело итальянского политического деятеля Альдо Моро (р. 1916), расстрелянного террористами из «Красных бригад», было найдено в багажнике автомобиля на римской улице. До этого Альдо Моро продержали в заключении 54 дня (его похитили 16 марта)
(обратно)196
Ср. письмо Иванова к Шарлю Дю Босу: «Произнося (4/17 марта 1926 г., в день праздника св. Вячеслава в России) Символ Веры, за которым следовала формула присоединения, у алтаря моего святого (дорогого сердцу славян), в трансепте базилики св. Петра, в то время как на соседней могиле Апостола для меня уже готовилась обедня на церковнославянском языке и причастие под двумя видами согласно восточному обряду, — я впервые почувствовал себя православным в полном смысле этого слова» (III, 429).
(обратно)197
Иванов подробно объясняет причины своего перехода в католичество в своем письме к Шарлю Дю Босу (III, 418–432). См. также след. пассаж из письма Иванова С. Л. Франку от 18 мая 1947 г.: «Из таких мест Рима многовековая жизнь Церкви невольно представляется длинным, длинным шествием вроде крестного хода, в истоке которого доселе идут первосвидетели Христовы. Трудно любящему Христа не примкнуть к этому шествию верных. Много темного деялось на пути его, но оно не прекращается и неповрежденною хранит веру. Поздние византийцы выступили из исконного соборного хода, но (в противоположность позднейшим протестантам, разбредшимся со своими библиями по сторонам) пошли рядом, тем же по существу, но отдельным крестным ходом. Не могу понять, как Вы можете видеть в описанном шествии только ”эмпирически объединенный и нормированный“ коллектив. Не могу понять и того, почему ”хорошо и то, что вокруг нее (католической церкви), за ее пределами, есть и не объятый ею круг христианских душ“. Кто же, однако, эти счастливцы? Ужели заблудившиеся в дебрях ”свободного исследования“ протестанты? Или православные подданные Василия Темного (нашего Генриха VIII), Петра Великого и Сталина? Или старокатолики, последователи Деллингера, умолявшего Пия IX не раскалывать Церкви провозглашением папской безошибочности в соборных решениях? Но Церковь не раскололась оттого, что на соборе отвергнут был парламентский принцип подсчета голосов и утверждено древнейшее предание римского арбитра. К тому же само папство ограничило свою догматическую инициативу определением верований, издавна укоренившихся в предании. Пример тому — чудный догмат о непорочном зачатии, утверждающий, что рай на земле доныне есть для прозревших, как это проповедовал старец Зосима и как уверяли меня с удивительной силой поэтического слова неграмотные имя — славцы, спасающиеся в Кавказских дебрях. /…/ Сознает ли католичество свою «ущербность» в сравнении с Востоком? Латинство, разумеется, знает, что оно только часть, а не целое; католичество же не имеет ни основания, ни права признавать себя ущербным, ибо оно говорит свое Да всему положительному на Востоке и включает в свою полноту весь Восток. Напротив, религиозно — чувствительные русские не могут не сознавать своей церковной ущербности, поскольку отметают духовные сокровища Запада и его святых и видят православие низведенным стараниями государственной власти на уровень церкви национальной» («Мосты», № 10, 1963, с. 360–361). 28 мая он продолжал: «Да, должно признать, что греки, вопреки голосу всех святых отцов, забыли слова: ”Ты Петр“, и сошли с церковной магистрали и что католическая Церковь состоит из двух половин: латинской церкви и греческой, которая невелика количественно, но необходима духовно, потому что, упреждая ход истории, уже осуществляет полноту Церкви вселенской. Зачастую правятся в римских базиликах восточные служения, и только тактические, глубоко обдуманные и правильные соображения препятствуют папе отслужить восточную литургию в облачении восточного патриарха. Ваша радость на внестоящих просто анахронизм: в старину латинство обезличило бы Россию, как оно исказило душу Польши, но теперь католичество не значит латинство. /…/ В заключение беседы о католичестве замечу, что западное созерцание Церкви во всей полноте и славе раскрывает содержание слов апостольского символа: Communio Sanctorum…» (там же, с. 362; цит. по рукописи в Бахметьевском архиве Колумбийского университета).
(обратно)198
нежная Франция (франц.).
(обратно)199
«Стальной скок» — одноактный балет в двух картинах, хореография Л. Ф. Мясина, декорации и костюмы Г. Б. Якулова. Премьера состоялась 7–го июня 1927 в Théâtre Sarah‑Bernhardt во время двадцатого парижского сезона Русских балетов Дягилева (Les Ballets Russes).
(обратно)200
Екатерина Габриэловна Стравинская, первая жена композитора, умерла 2 марта 1939 г., а с 14 июля 1921 г. он все больше времени проводил с танцовщицей и художницей Верой Артуровной Судейкиной (урожд. de Bosset, 1888–1982), которая в мае 1922 г. ушла от своего мужа, художника С. Ю. Судейкина. 9 марта 1940 г. они поженились в Соединенных Штатах Америки
(обратно)201
Ср. Самопознание Бердяева (Париж, 1983): «В последние годы произошло небольшое изменение в нашем материальном положении: я получил наследство, хотя и скромное, и стал владельцем павильона с садом в Кламаре. В первый раз в жизни, уже в изгнании, я имел собственность и жил в собственном доме, хотя и продолжал нуждаться: всегда не хватало. Я, правда, давно получил по наследству от отца железные рудники в Польше, на земле его, упраздненного польским правительством, майората. Я никогда не мог реализовать этой собственности, не получал от нее ни одного гроша и имел лишь расходы. Наследство, сделавшее нас обладателями павильона, я получил от нашего умершего друга, Флоренс Вест, англичанки по происхождению, замужем за очень богатым французом. Она была своеобразный и интересный человек, очень красива, с сильным характером, глубоко религиозная в типе библейско — протестантском. Ее мучила потребность осуществления евангельского христианства в жизни. Л. была с ней очень дружна. У нас в доме, в течение ряда лет, был кружок по изучению Библии, в котором она играла главную роль. Ее память обо мне очень облегчила нашу жизнь» (с. 327–328). Ср. там же: «У нас в доме, по обыкновению, собирались и беседовали на темы духовного порядка и на связанные с ними темы социальные. Обыкновенно находили, что у нас хорошо и уютно. Но уют создавал не я, а мои близкие» (с. 321).
(обратно)202
См. Самопознание: «Я познакомился с Ж. Маритеном в самом начале своего пребывания в Париже, в 25 году. Знакомство состоялось через вдову Леона Блуа. /…/ Сам Л. Блуа был крестным отцом Маритена, протестанта по рождению, католика converti. Я кое‑что читал Маритена и для меня он был главным представителем томизма во Франции. Говорили, что он имеет большое влияние на католическую молодежь. Г — жа Блуа предложила пойти вместе к Маритену. Интересно, что сам Маритен был в прошлом анархистом и материалистом. Став католиком, он начал защищать очень ортодоксальное католичество, приобрел известность как враг и свирепый критик модернизма. У меня было предубеждение против томизма, против католической ортодоксии, против гонения на модернистов. Но Маритен меня очаровал. В нем было что‑то очень мягкое в противоположность его подчас жесткой манере писать, когда речь шла о врагах католичества и томизма. То, что он написал о Декарте, Лютере и Руссо, было очень несправедливо. [Имеется в виду его кн. Trois Réformateurs, 1925. — Ред.] У нас скоро установились с Маритеном самые дружеские отношения. Я его полюбил, что при моей сухости случается не часто. Думаю, что и он меня тоже любит. Отношения у нас странные потому, что он мне прощает мои, враждебные ему, совсем не ортодоксальные мысли, которые не прощает другим. Может быть, это отчасти объясняется тем, что я человек другого мира, не католик и не француз. Философски мы всегда спорили с Маритеном, у нас разные философские истоки и разные типы философского миросозерцания. Он весь проникнут Аристотелем и Фомой Аквинатом. Германская философия ему совершенно чужда. Меня всегда поражало, что, будучи философом, он так плохо знает немецкий язык. Но истоки моего философствования Кант и германская философия. Маритен — философ схоластический, я философ — экзистенциальный. Сговориться при этом трудно. /…/ Маритен первый ввел томизм в культуру. За долгие годы нашего общения Маритен очень изменился, но он всегда остается томистом, он приспособляет новые проблемы к томизму и томизм к новым проблемам. Он, в сущности, модернист в томистском обличии. /…/ Маритен редкий француз, в котором я не замечал никаких признаков национализма. Он сделал большие усилия выйти за пределы замкнутой латинской культуры, раскрыться для других миров. Он очень любил русских, предпочитал их французам. В самом Маритене были черты сходства с русским интеллигентом» (с. 305–307).
(обратно)203
«Путь чрез тесные врата», «Праздник» (франц.).
(обратно)204
«Отельная династия» Хесс еще процветает в Энгельберге. В августе 1986 г., во время двухнедельного пребывания в этом городке, Димитрий Вячеславович познакомил меня с этой семьей. Они, в особенности Рита Хесс — Инфангер, поделились со мной воспоминаниями о семье Ивановых. Им еще принадлежит отель, в котором жил Дима в тридцатые годы. Отель Trautheim, где поселилась Лидия с В. И. при первом приезде в Энгельберг, давно сгорел; на его месте теперь стоит Crystal, в свое время принадлежавший дяде Риты Хесс — Инфангер, Герману Хессу
(обратно)205
Имеется в виду выступление Иванова в Сан Ремо 10 апреля 1933 г. на заседании «Lunedi letterari» («Литературные понедельники»): «Discorso sugli orientamenti dello spirito moderno» («Размышления об установках современного духа»), впервые опубликованное в «ивановском» номере Il Convegno (см. III, 453–484). Иванов также печатался по — немецки в журн. Hochland (Мюнхен, ред. Karl Muth): «Humanismus und Religion. Zum religionsgeschichtlichen Nachlass von Wilamowitz», Juli, 1934,c. 307–330; «Der Sinn der antiken Tragödie», Dezember, 1936, c. 232–243; «Der Ursprung des russischen Romans: Eugen Onegin», März, 1938, c. 442–447. Статьи Иванова начали там появляться после опубликования в декабрьском выпуске журнала за 1933 г. статьи Степуна: «Wjatscheslaw Iwanow. Eine Porträtstudie», с. 350–361
(обратно)206
В Neue Zürcher Zeitung от 9 сентября 1928 г. (№ 1621) появилась статья В. Иванова: «Tolstoi und die Kultur» (сокращенный перевод статьи «Лев Толстой и культура», «Логос», № 1, 1911); см. также Neue Schweizer Rundschau от 2 февраля 1931: «Dostoevskij als Denker» и «Aus der Tragödie ‘Tantalos’»
(обратно)207
Но это ведь очень тонко сделано (итал).
(обратно)208
О. Deschartes, «Cenni biografici», Il Convegno, № 8–12, 25 декабря 1933 — 25 января 1934, с. 384–408.
(обратно)209
См. письмо Иванова С. Л. Франку от 3 июня 1947 г.: «С осени 1926 г. до летних вакаций 1934 г. я жил там [в Павии], в дивном здании XVI — ого века, но сокращение бюджетов повело за собой упразднение отдельной профессуры в Колледжио. В Риме я, наконец, развязался с большевиками, приняв итальянское подданство; но приглашение во Флорентийский университет не было утверждено министерством, потому что мне было‑де уже под 70 лет — предельный возраст, а на самом деле потому, что я не был записан в фашистскую партию» («Мосты», № 10, 1963, с. 364–365).
(обратно)210
III, 584. Ср: «В августе /…/ 1937 г. ”скалу“ (как звали квартиру В. И.) посетили парижские гости Д. С. Мережковский и Зинаида Гиппиус. Просили показать последние стихи. В. И. улыбнулся: ”Самые последние в сущности не подлежат оглашению; но вам прочту“ — ”Какая прелесть! — воскликнула, выслушав пьесу [”Журчливый садик…“. — Публ.], Зинаида Николаевна, — мне хотелось бы иметь это стихотворение. Ольга Александровна, дайте мне его на память“. В начале 1938 г. В. И. получил из Парижа № 2 ”Иллюстрированной России“ от 1–го января 1938 г. со статьей Зинаиды Гиппиус /…/. Там В. И. прочел /…/ стихотворение. В. И. сперва рассердился, потом рассмеялся: ”Ничего не поделаешь с поэтами!“» (III, 854–855).
(обратно)211
«Midi le juste y compose de feux / La mer la mer, toujours recommencée!»
(обратно)212
«Davoser Hefte», ноябрь 1931, с. 34–35. Журнал редактировал J. Ferdman.
(обратно)213
Преображенская часто вспоминается в письмах З. Н. Гиппиус из Рима как «римский секретарь» или «римская помощника» Д. С. Мережковского (см. Из переписки З. Н. Гиппиус, Мюнхен, 1972, с. 259–260, 270 и др).
(обратно)214
См. воспоминания А. Белобородова «В Академии Художеств». — Новый журнал», № 73, 1963, с. 197–215
(обратно)215
См. воспоминания самого Белобородова «Работа во дворце кн. Ф. Юсупова. — «Новый журнал», № 70, 1962, с. 184–200). См. также Дневник К. А. Сомова, запись от 30 августа 1919 г.: «К 2 часам пошел во Дворец Юсуповых. Видели комнаты молодого Юсупова, построенные Белобородовым, и то место, где был убит Распутин» (К. А. Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979, с. 194).
(обратно)216
Le Golfe de Solerne Treize bois originaux de Béloborodoff introduits par un texte inédit de Paul Valéry, Collection de l’Obélisque, Carlo Bestetti, Editions d’art Paris‑Rome, 1951. Béloborodoff, Vedute di Roma, Vingt‑quatre vues de Rome présentées par Henri de Régnier, de l’Académie française, avec un Petit Guide de Jean Neuvecelle, Carlo Bestetti‑Edizione d’arte, Roma, 1961. См. также: Rome, notes d’histoire et d’art, par Maurice Paléologue, de l’Académie française. 52 bois dessinés et gravés par Béloborodoff dont 12 hors‑texte imprimés en couleur à la main par l’artiste et 40 en deux tons dans le texte. Jules Meynial, Paris, 1930.
(обратно)217
Портрет В. Иванова воспроизведен в III, 608. Портрет Лидии Ивановой — в IV, 710.
(обратно)218
См. письмо В. Иванова к С. Л. Франку от 18 мая 1947 г.: «Что касается здешнего отношения к Востоку, то уже Лев XIII провозгласил восточное литургическое предание превосходнейшим в сравнении с латинским, и я лично, работая в институтах, подчиненных Конгрегации по делам Восточной Церкви, имею перед глазами трогательные примеры (не говорю уже о славянах) итальянцев, немцев, французов, бельгийцев, англичан, испанцев, выучивающихся русскому языку и принимающих восточный обряд (который для священников исключает возможность служить по латинскому обряду) из любви к России, как будущей — они твердо на это надеются — восточной половине вселенской Церкви. Огромное большинство католического клира, правда, не имеют никакого понятия о русском православии; но папы (как я лично убедился в этом не без глубокого волнения, беседуя с покойным Пием XI) и наиболее просвещенные круги духовенства ни о чем так не ревнуют, как о воссоединении церквей» («Мосты», № 10, 1963, с. 361).
(обратно)219
Гиппиус описала жизнь «на скале» в очерке «Поэт и Тарпейская скала». — «Иллюстрированная Россия», № 2 (660), 1 января 1938 г. Он первые перепечатывается в приложении к настоящему тому. Иванов часто упоминается в письмах Гиппиус из Италии (Из переписки З. Н. Гиппиус, ред. Темиры Пахмусс, Мюнхен, 1972). В письмах Мережковского и Гиппиус к В. А. Злобину, опубликованных в приложении к книге Мережковского Маленькая Тереза (Эрмитаж, 1984), на стр. 138, в письме от 16 мая 1936, Гиппиус сообщает: «мне в Риме было веселее, масса интересных людей (один Вячеслав Ив. со своим домом на Тарпейской скале чего стоил!)».
(обратно)220
Судя по письму З. Н. Гиппиус к ее секретарю В. А. Злобину от 5 декабря 1934 г., первая встреча Д. С. Мережковского с Муссолини произошла 4 декабря 1934 г.: «Ну вот, вчера свершилось это свидание. Мы с Варшерихой проводили Д. С. до дверей palazzo Venezia и ждали в café напротив, погуляв сначала по Капитолию. Очень интересно, Д. С., конечно, emballé, главое же — Дук [т. е. Duce. — Ред.] согласился на все, — приехать весной и издать книгу» (Из переписки З. Н. Гиппиус, с. 249). Муссолини предложил помощь в устройстве перевода книги Мережковского Иисус Неизвестный, 2 тт. (Белград, 1932). Летом 1936 г. Мережковские опять были в Италии. В начале мая Мережковский имел аудиенцию в Риме у Муссолини, который обещал более интимную и продолжительную беседу. Гиппиус писала Злобину 4 июня 1936 г.: «/…/ в Рим мы вернулись для второго свидания Д. С. с Ц[езарем] [т. е. Муссолини. — Ред.]» (там же, с. 250–251). 24 июня 1936 г. Гиппиус пишет ему же: «К Д. С — чу, действительно, глава [Муссолини] отнесся как нельзя лучше, благородно и даже, как говорит ДС, с добротой сильного и глубокого человека. Зять его (ДС имел и с ним свидание) сказал даже, что Италия горда тем, что предоставит возможность жить и работать такому человеку (ДС)» (там же, с. 257). Мережковские остались в Италии до конца 1936 г., получая «субсидию» от итальянского правительства, пока Мережковский работал над своей «Жизнью Данте» (Данте. 2 тт.: [1. Жизнь Данте. 2. Что сделал Данте]. Bruxelles, «Petropolis», 1939). Лето 1937 (июнь — октябрь) они опять провели в Италии (обсуждался фильм по «Данте»; сценарий, написанный Мережковским, был представлен министром иностранных дел и другом Мережковского, самому Муссолини, но на этот раз «аудиенции» не было). 29 августа 1937 г. Гиппиус писала Злобину: «Х[озяин]а [Муссолини. — Ред.] не добиться, и боюсь, вообще, что ”пора кончать роман“» (там же, с. 299). См. также письма Мережковского к Злобину в кн. Д. С. Мережковского Маленькая Тереза (Эрмитаж, 1984), с. 128–178. Вскоре Мережковский полностью разочаровался в Муссолини и называл его «сумасшедшим».
(обратно)221
«Дуче, я верующий» (ит.).
(обратно)222
Книга Мережковского, законченная им незадолго до смерти в декабре 1941 г. и названная им «романом», впервые опубликована в 1984 г. Маленькая Тереза (Эрмитаж). Об интересе Мережковских к французской святой см. предисловие публикатора, Темиры Пахмусс, сс. 14–30.
(обратно)223
Ср. письмо Мережковского Злобину от 6 июля 1937 г.: «Кажется, мы нашли дачу и можете себе представить — даром. Один римский ”миллионер“ или, во всяком случае, богатый человек, писатель — философ (по социологии), узнав, что автор Leonardo da Vinci ищет виллу на Rocca di Papa, предложил мне свою, villino Flora, в три этажа /…/ Завтра едем на автомобиле Gamberini (имя владельца) осматривать виллу» (Маленькая Тереза, с. 162). 10 июля, однако, Мережковский писал: «С хозяином роскошной виллы случилась маленькая ”клякса“ (Гоголя): в последнюю минуту он вдруг слегка ожидовел и потребовал 3000 лир за 2 месяца, но уступил за 2500 л., м. б. уступит и за 2000…» (там же, с. 163). 15 июля Мережковский сообщает: «Мы решили ехать в Rocca di Papa. Жулик устроил все за 2500 лир, но чего это мне стоило!. На Скалу мы переезжаем, вероятно, на будущей неделе, в среду» (там же, с. 166–167). 22 июля Мережковские туда переехали из Рима и оставались там до конца сентября.
(обратно)224
Ср. письмо Мережковского Злобину от 21 июля 1937 г.: «Вот адрес: Rocca di Papa, Villa Flora, Viale Enrico Ferri, 11, Roma /…/ Мы останемся одни на этой Скале с Жозефиной, милейшей и честнейшей сицилианкой» (Маленькая Тереза, с. 168). 26 июля 1937 г. Гиппиус писала Злобину из Рокка ди Папа: «/…/в кухнях молодая Жозепина (со своей ”Моникой“ — 2 месяца), такая чуждая и забитая притом, что она вовсе ничего не понимает, ни я ее» (Из переписки З. Н. Гиппиус, с. 293), и 12 августа: «Джузеппина наша так мила, что я бы с ней не расставалась. Беда в том, что она работает, как вол, а ее крошечную Франку нянчит девчонка Gina, немногим той больше, и вчера, на дороге, повалила вместе с коляской, чуть не убила. Мы были в ужасе /…/Я этой поганой Джине твердо объявила, чтоб она ни шагу из сада (еще бы тверже, если б умела я по — итальянски ругаться)» (там же, с. 298). 29 августа она же пишет: «С каким бы удовольствием я ее [парижскую прислугу. — Ред.] сменила на нашу Джузеппину с ее младенцем, да она не поедет» (там же, с. 301). 25 сентября: «Д. С. признает, что хорошо отдохнул. Мне и Джузеппину жаль, и ее крошечную девочку, и вкусную дешевизну» (там же, с. 307).
(обратно)225
26 ноября 1938 г. Гиппиус писала O. A. Шор: «Еще и еще раз пробую аукнуться с вами и с вашим домом, милая Фламинго. Только от Джузеппины, которая меня не забывает, знаю, что вы еще на той же квартире и здоровы» (Римский архив В. Иванова).
(обратно)226
Диссертация была опубликована в Петербурге Императорским Археологическим Обществом в 1910 г.
(обратно)227
«Il Messaggero» от 30 октября 1983 (с. 7):
Er ritratto nun vò tornà più a casa!
Me l’aricordo quanno fu dipinto
Da Cagli co la cera càlla, spasa,
Sopr’ar colore fonno e mezzo stinto.
S’accenneva de bbotto, rasa rasa,
La pittura e a mme, coll’occhio avvinto
Da quer mistero drent’a la cimasa,
Me s’uprìva davanti un labbirinto.
Lo studio stava su a Monte Tarpèo
E, fòri, un pianoforte da solista
Pareva che sonassi in cerzidèo.
Veniva da la loggia der povèta
Viaceslàvo Ivanòffe, er zimbolista,
Tutta fitta de glicine e segreta.
(обратно)228
См. письмо В. Иванова С. Л. Франку от 18 мая 1947 г.: «В Восточном Институте, где я был и доныне считаюсь профессором церковно — славянского языка, и в Руссикуме, где я преподавал, сначала в их аудиториях, а потом у себя на дому, историю русской литературы, пишутся и защищаются докторские диссертации о Соловьеве, Бердяеве, Булгакове, Карсавине; там и Ваше имя хорошо известно и произносится с глубоким уважением. Показательно, что это изучение направляется не только на богословские и философские доктрины, но стремится проникнуть в мистическое богочувствование православных и в религиозную психологию народа (было мне любопытно, например, читать с нерусскими студентами народные ”духовные стихи“» («Мосты», № 10, 1963, с. 361).
(обратно)229
В своем Введении к первому тому Собрания сочинений O. A. Шор пишет, что предложение пришло от о. Венделина Яворки (1882–1966), ректора Русской Католической Семинарии с 1929 по 1934 г.: «В самом конце июня 1941 г. он передал В. И. заказ на писание Введений и комментария к Деяниям и Посланиям Апостольским и к Апокалипсису. Передача заказа была последней встречей Яворки с В. И. Яворка вскоре уехал из Рима. Священником Яворка бывал в Шанхае, Харбине и на Украине. При Сталине его заключили в концлагерь. Освобожден он был после смерти Сталина. Тогда он вернулся на родину [Словакию. — Ред.], где работал и откуда не уезжал до смерти…» (I, 853). О заключении Яворки см. также воспоминания А. Ванеева («Минувшее», том 6, «Atheneum», 1987, с. 54–204).
(обратно)230
Деяния св. Апостолов, Послания св. Апостолов, Откровение св. Иоанна (Рим, Tipografia Vaticana, 1946) и Псалтирь (на славянском и русском языке) (там же, 1950). См. также письмо Иванова к С. Л. Франку от 28 мая 1947 г.: «Прибавлю еще в дополнение к вышесказанному о моей преподавательской работе, что время от времени приходится мне переводить на церковно — славянский язык какой‑нибудь латинский текст, и я же составил (главным образом по Решу) объяснительные примечания и введения к русскому переводу (перепечатанному с синодального издания) Деяний и Посланий Апостольских и Иоаннова Откровения» («Мосты», № 10, 1963, с. 362)
(обратно)231
См. письмо Иванова С. Л. Франку от 3–го июня 1947 г.: «Там [в Баку. — Ред.] я напечатал свою книгу ”Дионис и прадионисийство“ и, защитив ее перед факультетом, получил от него диплом на звание доктора. Книгу эту перевело на немецкий язык издательство Бенно Швабе в Базеле и прислало перевод на одобрение мне вместе с авансом за будущее издание книги согласно подписанному договору; но перевод требовал тщательной правки, а текст ряда изменений и дополнений, и за этою кропотливою работой я испытываю терпение негодующего издательства уже немало лет» («Мосты», № 10, 1963, с. 363–364). Швейцарское издание так никогда и не вышло. Иванову посчастливилось с другим немецким изданием, переводом его «Тантала», о котором он писал Франку: «/…/ трагедия ”Тантал“ в удивительном по совершеству поэтическом переводе на немецкий язык Генри Гейзелера/…» (там же, с. 364). (Wenceslas Iwanow, Tantalos. Tragödie. Deutsch von Henry V. Heiseler, Dessan, K. Rausch Verlag, 1940). Трагедия была переведена еще в 1908 г., а опубликована лишь через 32 года; Иванов упрекал Гейзелера только за несоблюдение цезуры в ямбическом триметре.
(обратно)232
«Краткий визит» Бунина произошел, по — видимому, в 1936 г. См. письмо из Италии Зинаиды Гиппиус к В. А. Злобину от 20 и 22 ноября 1936 г.: «Что касается Бунина, то его поведение всех удивило. Умчался, как метеор. Сначала Варшер послала к нему Преображенскую, — будто бы посоветоваться насчет ”визы жене“. Потом не знаю уж, что с ним было. В последний раз мы видели его у Иванова, уходя откуда он пригласил эту Преображенскую с ним пообедать. Говорил, что ждет какого‑то ”письма“. На другой день было открытие выставки друга (не ”ami“) Преображенской, и она поехала обедать‑то, чтобы его туда затащить. Но в 9 ч. утра, Варшер, с которой он условился завтракать, слышит телефон: ”Приезжайте, я уезжаю“. Хорошо, говорит она, что я была уже одна. И хлоп — уехал». (Из переписки З. Н. Гиппиус, с. 284).
(обратно)233
Лидия Вячеславовна умерла в этой же квартире 6 июля 1985 г. Через несколько месяцев после ее кончины весь дом на виа Альберти был продан, и жильцы выселены. Д. В. Иванов нашел в соседнем доме — на via Ercole Rosa, 8 — квартиру, комнаты которой расположены более или менее так же, как на виа Альберти и из окон которой тот же вид. Там восстановлен кабинет Вячеслава Иванова, там находится его библиотека.
(обратно)234
Ср. письмо В. Иванова к С. Л. Франку от 18 мая 1947 г. (к письму приложено стихотворение «В стенах, ограде римской славы…», написанного 8 января 1944 г.): «И захотелось мне, первым делом, сообщить Вам стихотворение, написанное в январе 1944 года и рисующее обстановку моей религиозной жизни: описание моей приходской церкви на Малом Авентине, внутри Аврелиановых стен. Эта древняя церковь в конце VI века была отдана папою Григорием Великим сиро — палестинским монахам, выходцам из лавр Саввы Освященного (кстати, сегодня у нас его праздник с крестным ходом). Прибавлю в пояснение, что православный, присоединяющийся к Римской Церкви, обязан оставаться верным восточному обряду, и ему только разрешается исповедоваться и причащаться в латинских церквах; поэтому мой приход в строгом смысле этого слова — церковь св. Антония Великого — при русской Духовной академии, Коллегиум Руссикум, где по — русски совершается богослужение, в большие праздники с архиереем, и Верую поется без слов ”и Сына“» («Мосты», № 10, 1963, с. 359–360). В православном тексте Символа Веры говорится: «/…/ И в Духа Святаго, животворящего, иже от Отца исходящего»; в католическом: «/…/ от Отца и Сына исходящего». По особому распоряжению папского престола, католикам восточного обряда разрешается опускать слова «и Сына
(обратно)235
Ср. запись беседы с В. Ивановым от 4 сентября 1921 г., сделанную М. Альтманом: «4 сентября. Я рассказал В. И. о своем намерении стать вегетарианцем. Не из‑за добродетельных каких‑нибудь принципов, — пояснил я, — а просто из‑за того, что мы уже находимся, как мне кажется, в такой фазе развития, что уже органически не можем есть животных: как живых, мне их жаль, а как трупы, они противны. — Откуда такая добродетель? — сказал В. И., — бойтесь себе привить насильственно добродетель. Каждая добродетель — яд. Если б у меня был враг и я захотел бы страшно отомстить, я бы привил ему не свойственную ему добродетель. И на теле человечества всякая привитая добродетель вызывает ужасные абсцессы и нарывы. Как, чтобы из одной тональности перейти в другую, нельзя миновать ни одного промежуточного звена, иначе получится ужасная какафония, так и к каждой добродетели нужно придти, проходя последовательно все промежуточные ступени. Если бы мы уже сейчас все стали вегетарианцами, это развило бы в нас такую ужасную паучью жестокость, что мир бы содрогнулся. Я даже думаю, что приятию животных в себя обязаны мы, в некоторой степени, нашему благородству. Может быть, зверю в себе должны мы быть благодарны, что мы люди.
И я бы не хотел, чтобы мы стали подобными растениям. Что может быть ужаснее (о ужас, ужас! — при этом В. И. закрыл лицо, как бы заслоняясь от невыносимого зрелища), я это видел своим внутренним зрением, когда в растении начинал вдруг зарождаться зверь. Вы представьте себе этот метафизический ужас, у меня нет слов для его передачи, когда вы вдруг видите, как в чашечке цветка вдруг вырастает шерсть, вдруг показался глаз, протянулись щупальца. Для меня в этом предел ужаса.
— Да, — сказал я, — Ваша мысль мне понятна, и об аналогичном пишет Бальмонт:
Часто мы думаем, будто растения —
Алость улыбки и нежный намек.
Нет, в мире растений — борьба, убиенье,
И петли их усиков — страшный намек.
Удавят, удушат, их корни лукавы,
И лик орхидеи есть лик палача.
Люблю я растенья, но травы — удавы,
И тонкость осоки есть тонкость меча.
— Это не совсем то, что я говорю, — сказал В. И., — конечно, это тоже страшно, когда в будто бы невинном мире растений мы наталкиваемся на то, что мы определенно можем назвать злом, но то, о чем я говорю, много страшнее. Здесь ужас в том, что два царства, растительное и животное, обычно раздельные, вдруг переходят одно в другое.
— Но разве они так раздельны, ведь они беспрерывно диффундируют друг друга.
— Да, но, во — первых, что удается природе самой сделать, то при искусственных условиях подчас невыносимо, да и при естественной диффузии должны быть ужасающе критические моменты. Я это раз видел в душе человека, как в нем — растении зародился вдруг зверь. Как вы, чья стихия — вода, любите быть возле воды, но не захотели бы стать водой, так и я, любя растительное царство, хотел бы быть при растении, но не в нем, и питаться растениями, но не ими одними, не стать внезапно, еще совершенно к этому не подготовленный, вегетарианцем. И вам не советую» (Труды по русской и славянской филологии, XI, Литературоведение. Ученые записки Тартуского гос. университета, вып. 209, Тарту, 1968, с. 315–316).
(обратно)236
Ср. письмо Зинаиды Гиппиус к В. А. Злобину из Италии (вилла Флора, Рокка ди Папа) от 11 сентября 1937 г.: «Я достойна не одного, а нескольких детективов. Вячеслав Ив., оказывается, тоже их обожает: взял жадно у нас отработанных. Он сделался сиднем, едва влез в наш парк до амфитеатра; говорит только о стихах и даже Папой точно перестал интересоваться» (Из переписки З. Н. Гиппиус, Мюнхен, 1972, с. 306).
(обратно)237
Портрет воспроизведен в третьем томе Собрания сочинений.
(обратно)238
В римском диалекте буква «л» всегда заменяется на «р». Так, в сонете римского поэта Тромбадори «Вячеслав Иванов — символист», звучащая по — итальянски: «Viaceslav Ivanov, il simbolista», — превращается на римском диалекте в: «Viaceslavo Ivanóffe er zimbolista».
(обратно)239
Свет Вечерний. Poems by Vyacheslav Ivanov, with an Introduction by Sir Maurice Bowra and commentary by O. Deschartes. Edited by Dmitri Ivanov (Oxford at Clarendon Press, 1962). В послесловии O. A. Шор писала: «Печатаемый сборник полностью составлен самим автором. Еще в 1946 г. проф. С. А. Коновалов писал В. И., что в Англии помнят и ценят его старые стихи и предлагают печатать его новые поэтические произведения. Тогда же было принципиально решено приступить к изданию сборника стихов. А осенью 1947 г. В. И. в Риме посетили Sir Maurice Bowra и Sir Isaiah Berlin; они взяли с собою рукописи ”Света Вечернего“ и ”Дневника“. (В те времена нельзя было доверить манускрипты неисправной послевоенной почте.) Таким образом, три оксфордских профессора на радость поэта стали покровителями его Музы. Издание по разным причинам затянулось. Думая о близкой смерти, В. И. радовался, что в Оксфорде собираются огласить его последние песни. За несколько дней до кончины (16 июля 1949 г.) он еще раз прочел весь сборник; некоторые слова и строки он заменил новыми. /…/ В. И., к сожалению, не знал, что его ”Свет Вечерний“ и ”Римский Дневник“ будут печататься в Clarendon Press. Он, любивший и понимавший красоту типографского искусства, был бы глубоко тронут таким драгоценным подарком судьбы» (с. 179–180).
(обратно)240
Статья о Лермонтове появилась посмертно в сборнике под ред. Lo Gatto, I protagonisti della letteratura russa dal XVIII al XX secolo (Milano, 1958), с. 257–271 (на с. 793–805 — статья Степуна о В. Иванове). Итальянский текст перепечатан в IV, 353–366, а русский перевод — в IV, 367–383. Вторая статья, «Forma formans e forma formata», напечатана в сборнике под редакцией Lo Gatto, L’Estetica e la poetica in Russia (Firenza, 1947). Итальянский текст перепечатан и сопровожден переводом на русский («Форма зиждущая и форма созижденная») в III, 674–682.
(обратно)241
IV, 382–383.
(обратно)242
«Повесть о Светомире царевиче», книга вторая, VI; I, 284
(обратно)243
М. А. Кузмин тоже написал музыку на слова этого гимна; она напечатана в первом издании Cor Ardens. Ноты Кузмина и Лидии Вячеславовны воспроизведены в II, 829–838
(обратно)244
22 июня 1988 г. останки Вячеслава Иванова, в присутствии его сына Димитрия, были перенесены в семейную могилу на римском кладбище Тестаччио (Testaccio), y Авентинского холма, прилегающем к Аврелиановой стене и пирамиде Цестия. Могила принадлежала первоначально семье Зиновьевых. В ней был похоронен в 1931 году Александр Димитриевич Зиновьев, брат Лидии Димитриевны. Впоследствии, после смерти В. Иванова, могила была передана Д. В. Иванову. В ней похоронены также Лидия Вячеславовна и O. A. Шор. Могила эта, как и некоторые другие на кладбище, занесена в число исторических памятников; она находится под постоянной охраной международного дипломатического комитета, ответственного за кладбище Тестаччио. Кладбище существует с первой половины XVIII века. На нем покоются многие писатели, художники и музыканты, умершие в Риме (среди них великий английский поэт Джон Китс). Кладбище было основано для погребения иностранцев не католиков (и поэтому часто называется в путеводителях просто «протестантское кладбище»). Католики любой национальности могут, однако, быть похоронены в семейных могилах, которые первоначально принадлежали не католическим семьям. Александр Димитриевич Зиновьев, первым похороненный в семейной могиле, где покоится В. И. Иванов, — был православным.
(обратно)245
Ср. след. из «Бесед» с М. С. Альтманом: «19 января. У нас слишком мало придают значения прилежанию. В Германии вот умеют это ценить, и прилежания требуют не только от ученого, но и от художника. Помню, когда я учился в Германии, какую бездну прилежания мы были вынуждены проявить в семинаре Моммзена по римской истории. Семинар этот состоял в следующем: Моммзен намечал ряд тем, и каждый из участников, принимаясь за работу, должен был исчерпать весь имеющийся по данной теме материал (то же должен был делать и рецензент), так что случалось, что референт по данной теме оказывался иногда осведомленнее самого Моммзена. Все же и столь подготовленного референта Моммзен нередко ставил в тупик. Был Моммзен тогда уже 70–летним стариком (первое время занятия были в университете, потом мы к нему ездили на его виллу), нрава был он сердитого и во время диспутов прямо вцеплялся в референта и яростно нападал. А от референта требовалось быть стойким до конца и с апломбом выдержать и отразить все нападки. Такая школа многому научила, судите хотя бы по этому труду (В. И. указал при этом на свою диссертацию на латинском языке «О римских откупщиках»). П. Г. Виноградов сейчас же проектировал мне кафедру по римской истории в Москве, говоря, что прохождение Момммзеновского семинара достаточная аттестация. Но я ушел, удивив всех, совсем в другую сторону, зарылся в поэзию, и вся моя жизнь потекла по иному руслу. Прилежным, однако, мне кажется, я остался и будучи поэтом…» (Труды по русской и славянской филологии, XI. Литературоведение. Ученые Записки Тартуского гос. университета, вып. 209, Тарту, 1968, с. 306–307
(обратно)246
Ср. след. из «Бесед» с М. С. Альтманом: «5 октября. — Моя близость с Владимиром Соловьевым началась следующим образом. Когда я развелся с моей первой женой, Дмитриевской, она, приехав в 1895 году из Италии в Петербург, отправилась с альбомом моих стихов, вошедших потом в мой первый сборник ”Кормчие звезды“, к Владимиру Соловьеву, чтобы он высказал о них свое мнение. Пошла она к нему потому, что мы оба его высоко чтили, да кто же у нас тогда в России был лучшим поэтом (Фет уже умер) и лучшим критиком: не он ли первый по — настоящему открыл Тютчева? Соловьев назначил Дмитриевской рандеву в Английской гостинице, где он постоянно, наезжая в Петербург, проживал. Ознакомившись с моими стихами, Соловьев сказал, что они безусловно совершенно самобытны, оригинальны, и стал меня пропагандировать в своих кругах. Круги эти (Стасюлевич и его друзья) были весьма туги и неповоротливы. Я с великим восторгом принял высокую оценку Соловьева и в свой ближайший приезд в Петербург познакомился с ним. С тех пор каждый год, приезжая из‑за границы в Петербург, я с ним встречался. Когда я готовился к изданию своего первого сборника стихов, он собирался написать обо мне большую статью. Но этому не суждено было исполниться. Последний раз я видел его в 1900 году, за полтора месяца до его смерти. Мы с ним ехали в фаэтоне, и я ему сказал, что нашел название для своего сборника — ”Кормчие звезды“. ”Кормчие звезды“, — сказал он, — сразу видно, что автор филолог; сравни: ”Кормчие книги“ — ”Кормчие звезды“, — повторил он, это хорошо". Затем он слез с фаэтона и исчез в толпе. Больше я его уж никогда не видел» (Труды по русской и славянской филологии, ук. выпуск, с.317–318).
(обратно)247
9 февраля 1937 г. Иванов, по просьбе Ло Гатто, произнес речь о Пушкине на собрании по поводу столетия со дня смерти поэта. Эта речь появилась под заглавием «Gli aspetti del bello e del bene nella poesia del Puskin» в сб. Alessandro Puskin nel primo centenario della morte, a cura di E. Lo Gatto. Istituto per l’Europa Orientale, Roma, 1937. См. русский перевод («Два маяка») в IV, с. 330–342.
(обратно)248
Перевод Ло Гатто появился с предисловием В. Иванова (см. перевод на русский язык «Роман в стихах», IV, с. 324–329): Eugenio Oneghin di Alessandro Puskin. Versione poetica di Ettore Lo Gatto. Introduzione di Venceslao Ivanov. Milano, 1937.
(обратно)249
Иванов никогда не печатался в «Последних новостях» (не исключено, что газета перепечатала какие‑то старые его стихи).
(обратно)250
Эрос, СПб, «Оры», 1907; перепечатан в Первой части Cor Ardens, M., «Скорпион», 1911; Младенчество, Пб., «Алконост», 1918.
(обратно)251
Сонеты Петрарки к этому времени уже были напечатаны: Петрарка. Автобиография. Исповедь. Сонеты. Перевод М. Гершензона и Вяч. Иванова, М., 1915. Лидин, видимо, путает их с другим переводом: «Менее благоприятную судьбу имел мой другой большой труд — перевод трагедий Эсхила, сделанный для издательства Сабашниковых, но перехваченный советским Госиздатом, который, — быть может оттого, что я уехал за границу, — похоронил его в своих недрах» (письмо В. Иванова С. Л. Франку от 3 июня 1947 г. — «Мосты», № 10, 1963, с. 364). Перевод не был напечатан в 1917 г. из‑за пожара в издательстве.
(обратно)252
Видимо, имеется в виду «мелопея» «Человек»; первые три части поэмы были написаны в 1915 г., а последняя часть и эпилог — в Москве в 1918–1922 г. Отдельное издание: Париж, 1939. См. III, 198–242 и примечания на с. 737–743. Стих. «Святая Елисавета» задолго до встречи Иванова с Лидиным было опубликовано в Cor Ardens (II, 468–469).
(обратно)253
Алкей и Сафо, Собрание песен и лирических отрывков, в переводе размерами подлинников. М., Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914; Пиндар. первая пифийская ода Пиндара, перевод размером подлинника Вячеслава Иванова. СПб, тип. «В. Балашов и К°», 1899. Переводы из Д’Аннунцио нам неизвестны.
(обратно)254
См. обстоятельную статью Н. В. Котрелева «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета» в Трудах по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. Ученые записки Тартуского гос. ун — та, вып. 209, Тарту, 1968, с. 326–39.
(обратно)255
См. М. Чарный. «Неожиданная встреча (Вячеслав Иванов в Риме)», «Вопросы литературы», 1966, № 3, с. 194–199.
(обратно)256
Труды по русской и славянской филологии, XI, с. 297–298. [Неточности Минц в цитатах и подстрочных примечаниях к ним исправлены редактором.]
(обратно)257
Александр Блок. Собрание сочинений в 8 тт. М. — Л., ГИХЛ, 1963, с. 190
(обратно)258
А. Белый. Арабески. М., «Мусагет», 1911: с. 471, 473 и 468.
(обратно)259
Валерий Брюсов. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., «Скорпион», 1912, с. 119 и 136.
(обратно)260
В. Пяст. «Вячеслав Иванов», в кн.: Книга о русских поэтах последнего десятилетия, под ред. Модеста Гофмана. СПб. — М., изд. т — ва М. О. Вольфа, [б. д.], с. 267.
(обратно)261
С. Городецкий. «Ближайшая задача русской литературы», «Золотое Руно», 1909, № 4, С. 70.
(обратно)262
Н. Поярков. Поэты наших дней. М., 1907, с. 111.
(обратно)263
Н. Гумилев. Письма о русской поэзии, Пг., «Мысль», 1923, с. 34.
(обратно)264
Ф. Ф. Зелинский. «Вячеслав Иванов», в кн.: Русская литература XX века. 1890–1910, под ред. проф. С. А. Венгерова, т. III, кн. VIII («Мир», 1917), с. 110.
(обратно)265
П. Коган. Очерки по истории новейшей русской литературы, т. III. Современники, вып. III, Мистики и богоискатели. М., «Заря», 1911, с. 138.
(обратно)266
См.: A. B. Луначарский. «Заметки философа. Неприемлющие мира», «Образование», 1906, № 8; В. П. Кранихфельд. В мире идей и образов. Этюды и портреты., т. 3, Пг., «Жизнь и знание», 1917 (глава «Новые наследники Переписки Гоголя»).
(обратно)267
Имеются в виду следующие статьи: «О ”Цыганах“ Пушкина», написана для второго тома собр. соч. Пушкина в «Библиотеке великих писателей», ред, С. А. Венгеров (СПб, 1908) и перепечатана в сб. По звездам (СПб, 1909); «К проблеме звукообраза у Пушкина», написана в Риме весной 1925 г. (март — апрель) и опубликована в: Московский пушкинист. Статьи и материалы под ред. М. А. Цявловского, т. 2, М., 1930. Обе статьи перепечатаны в четвертом томе брюссельского Собрания сочинений. (Прим. ред.)
(обратно)268
10 апреля 1921 г., в беседе с М. С. Альтманом: «Да, — сказал В. И. со вздохом. — Теперь всё пошли ”виртуозы“, а раньше были другие. Писатель был солью земли» (Труды по русской и славянской филологии. XI, с. 312). (Прим. ред.)
(обратно)269
Впервые напечатано, с датой 25 мая 1925 г., Баку, — в сборнике стихов Мануйлова Стихи разных лет. Л., 1984, с. 38–39. (Прим. ред.)
(обратно)270
Лидия Дмитриевна Зиновьева — Аннибал: Трагический зверинец. Рассказы. Пб., «Оры», 1907; Тридцать три урода. Повесть. Пб., «Оры», 1907; Кольца. Драма в трех действиях. Вступительная статья Вяч. Иванова. М., «Скорпион», 1904.
(обратно)271
Лев Шестов. «Вячеслав Великолепный. К характеристике русского упадничества». — «Русская мысль», № 10, 1916, с. 80–110 (вторая пагинация).
(обратно)272
«Религия Диониса. Ее происхождение и влияния», I‑III, «Вопросы Жизни», № 6 (июнь), 1905, с. 185–220, с примечанием: «Вяч. Иванов, ”эллинская религия страдающего бога“, гл — V, ”Новый Путь“, 1904, сентябрь. Настоящая статья подводит окончательные итоги названного исследования [см. ниже]». Продолжение: № 7 (июль), 1905, с. 122–148, гл. IV‑V. «Эллинская религия страдающего бога» — «Новый путь», январь, 1904, с. 110–134 (Введение, гл. I); февраль, с. 48–78 (гл. II); март, с. 38–61 (гл. III); май, с. 28–40 (гл. IV); август, с. 17–26 (гл. IV); сентябрь, с. 47–70 (гл. V).
(обратно)273
Ср. высказывание самого Иванова в беседе с Альтманом, 15 июня 1921 г.:
— Я совсем запутался, — ответил В. И. — Мне хочется выдвинуть в книге [Дионис и прадионисийство] ряд новых проблем, и я переживаю настоящие муки творчества. Впрочем, я люблю это состояние внутренней с собой передряги. На сей раз мне хочется свою работу скорей издать, но обычно я страшно медлю и всячески откладываю печатание. Так вот поступал я с Эсхилом, перевод которого я уже было сдал Сабашникову, но взял обратно. Так вот я поступил и с готовым сборником своих стихов.
— А как вы полагаете назвать свой сборник?
— «Арион». С эпиграфом из пушкинского «Ариона»: «Лишь я, таинственный певец, На берег выброшен грозою, Я гимны прежние пою, И ризу влажную мою Сушу на солнце под скалою». Но я все медлю с изданием своих новых стихов. Мне Брюсов как‑то говорил, что величие поэта, между прочим, сказывается в обилии и значительности произведений, оставшихся ненапечатанными. Вспомним, что «Медный всадник» не был при жизни Пушкина напечатан, а ведь это краса пушкинских поэм. Что касается меня, я на себя за свою медлительность подчас пеняю, но она у меня так сильна, что надо дивиться, что у меня все же многое издано.
(Труды по русской и славянской филологии, XI, с. 313).
(обратно)

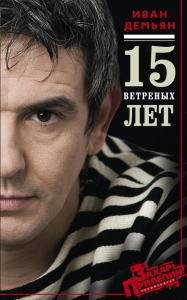



Комментарии к книге «Воспоминания. Книга об отце», Лидия Вячеславовна Иванова
Всего 0 комментариев