А. Б. Махов Микеланджело
Светлой памяти Михаила Владимировича Алпатова
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ НАЧАЛО ПУТИ
Глава I ИСТОКИ И СТАНОВЛЕНИЕ
В искусстве не достичь заветной цели,
Коль высший смысл земного бытия
Умом пытливым мы не одолели.
Микеланджело (XXXV)1Микеланджело прожил долгую жизнь, а для своего времени даже слишком долгую — без малого девяносто лет. Он явился в мир на стыке двух столетий, отмеченных великими художественными свершениями, когда в борьбе со средневековой схоластикой утверждались идеи гуманизма и происходило переосмысление всех прежних понятий об отношениях между миром подлунным и миром небесным. Возросшее внимание к античной философии и искусству привело к тому, что повсеместно возродился интерес к личности самого человека, к его сути и земным деяниям, что и дало название великой исторической эпохе — Возрождение.
Античность для итальянцев была живой легендой, поскольку земля, на которой они жили и трудились, славилась обилием памятников далёкой старины, а их предки-римляне господствовали над миром. Самым ярким носителем легенды о славном прошлом Италии был великий флорентиец Данте Алигьери, проложивший путь от Средневековья к Возрождению и Новому времени. Его «Комедия» была названа «божественной» за её высочайшее поэтическое совершенство. Главное в ней — это реальность мира, почти скульптурно выраженная в терцинах, в которых предстал живой человек раннего Возрождения с его радостями и печалями.
В те годы получил широкое распространение термин «гуманизм» (studia humanitatis), выражающий саму сущность мировоззрения и культуры как стройной системы разносторонних знаний о человеке и его месте в природе и обществе. Идеология гуманизма рождалась и развивалась в постоянной, порой ожесточённой борьбе со средневековыми предрассудками и церковными догматами рабского смирения, самоуничижения, нищеты духа, аскетического презрения к миру и человеку. Родоначальником гуманизма принято считать Франческо Петрарку, который дал очень лаконичную, полную тонкого юмора и жизненной достоверности характеристику своей эпохи. Он пишет, что это было время, когда «юристы забыли Юстиниана, медики — Эскулапа. Их ошеломили имена Гомера и Вергилия. А плотники и крестьяне бросили своё дело и толкуют о музах и Аполлоне».2
Гипербола Петрарки говорит о новом напряжённом тонусе жизни, затронувшем все социальные слои Италии, несмотря на мощное сопротивление клерикальных сил. Не случайно основополагающим трактатом Средневековья являлся труд под названием «О презрении к миру, или О ничтожестве человеческого состояния», появившийся в 1195 году и принадлежавший перу папы римского Иннокентия III. В ходе борьбы со средневековыми догмами гуманизм смело и упорно вырабатывал идеи свободомыслия и жизнеутверждения, способствуя невиданному расцвету нового искусства, обращённого к человеку и окружающей его природе.
Гуманистами было выдвинуто принципиально новое понятие нравственности. Их лозунг был agere et intelligere — «действовать и познавать». Они полагали, что virtus — добродетель — является свойством всякого мыслящего и деятельного человека, преисполненного высокого достоинства, а потому крайне требовательного к самому себе. Как считал Петрарка, добродетель уже сама по себе представляется стимулом к действию, являясь наградой за старания и путь к намеченной цели. Эти идеи получили мощное развитие в трудах флорентийских философов, филологов и поэтов, основавших Платоновскую академию, где были полностью переведены на латынь и прокомментированы сочинения Аристотеля, Платона, Плотина, работы стоиков, эпикурейцев и многих других античных авторов.
В то знаменательное время, словно в тигле средневековых алхимиков, перемешивались самые различные, часто взаимоисключающие взгляды о сути человека и смысле его жизни. На формирование искусства Возрождения повлияли романский стиль, готика, художественное наследие Византии и стран Восточного Средиземноморья. Но первостепенным и определяющим было влияние античности — великой культуры Гомера и Вергилия.
Наступила эпоха глубоких прозрений и открытий. Гуманист-эпикуреец Лоренцо Валла подверг сомнению подлинность так называемого «Дара Константина», оправдывавшего притязания церкви на светскую власть. Вскрыв подлог, учёный выбил из рук клерикалов их главный козырь, что не замедлило вызвать небывалое брожение умов. Флорентиец Валла считал, что природа — это и есть Бог, увидев в гармонии мира первоначало самой природы. Глава Платоновской академии Марсилио Фичино в своих трудах прославлял человека, который «почти равен гению творца небесных светил». Его эстетические взгляды легли в основу поисков красоты и гармонии мира в творчестве мастеров Высокого Возрождения. Тогда же Джованни Пико делла Мирандола в сочинении «О достоинстве человека», впервые увидевшем свет в Болонье в 1496 году, провозгласил, что человек есть «единственная мера всех вещей». Эти три гуманиста с их глубокими философскими познаниями, вторгшись в проблематику богословия, отвоевали у него право человека на свободу, на эстетическое наслаждение и гармоничное развитие.
В ту эпоху произошёл радикальный пересмотр старых философских понятий и сформировалась новая методология изучения окружающего мира и природы самого человека. Однако окончательному разрыву с ортодоксальностью мешало то, что многие пытливые умы в своих изысканиях всё ещё проявляли робость. Следуя неторным путём, они часто спотыкались, напоминая вереницу слепцов на известной картине Питера Брейгеля Мужицкого, которые опираются как на костыли то на Библию, то на традицию античной мысли. Всё это происходило в те времена, когда из учёной латыни постепенно вырос новый язык vulgo, несущий на себе печать живой разговорной образной речи народа. Со временем язык Вергилия и Цицерона превратился в язык Данте, Петрарки и Боккаччо, постоянно совершенствуясь и обогащаясь благодаря живым и неиссякаемым родникам народного словотворчества.
Если Средневековье — это эпоха сугубо теоцентрическая, то в трудах гуманистов упорно и настойчиво прокладывал себе путь антропоцентризм. Ещё задолго до космологической теории Коперника и Галилея в сочинении работавшего в Италии немца Николая Кузанского «De Docta ignorantia» («Учёное незнание») уже утверждалось, что Земля, как и любое другое небесное тело, не может быть центром Вселенной, которая вечна и беспредельна в своей космической бесконечности.
Основным и противоречивым источником, питавшим искусство Возрождения, оставалась религия, хотя в те годы истинно религиозное чувство не играло главенствующей роли, как прежде, и светским духом были насквозь пронизаны главные очаги культуры, заражённые свободомыслием. Религиозный скептицизм проник даже в «святая святых», в Ватиканский дворец римских пап. Когда в 1455 году умер папа Николай V, в его покоях и кабинете, заваленных античными рукописями, которые он всю жизнь собирал, не нашлось даже томика Евангелия. Ещё более примечательной фигурой был литератор, филолог и меценат Энеа Сильвио Пикколомини, автор нашумевшего любовного романа, занимавший в течение шести лет папский престол под именем Пия II. Однако среди пап той эпохи были не только ученые-гуманисты, но и властолюбцы вроде Александра VI Борджиа, запятнавшие Святой престол убийствами, беззастенчивой коррупцией и неслыханным развратом. Их преступления многократно усилили раздававшуюся в разных концах Европы критику в адрес папства и католической церкви в целом. Выдвинувший теорию «религии добра» земляк и современник Микеланджело историк и философ Франческо Гвиччардини даже ратовал за упразднение папства — этой «шайки злодеев» с их лицемерием и алчностью, не имеющими ничего общего с проповедуемым ими христианством.3
Важнейшим центром свободомыслия и передовых идей была Флоренция — признанная колыбель итальянского Возрождения. Как справедливо заметил француз Ренан: «Флоренция после Афин — город, сделавший больше всех других блага для духа человеческого. Флоренция — вместе с Афинами — матерь всякой истины и всякой красоты».4 Она была также важнейшим торгово-промышленным и финансовым центром Италии, который контролировал мировые денежные потоки и одевал в шелка и яркие сукна Европу и Ближний Восток. Судьба распорядилась так, что поначалу во Флоренции, а затем в папском Риме жили и творили одновременно Леонардо да Винчи, Микеланджело и самый молодой из этой славной триады — Рафаэль. Между ними шло постоянное соперничество, близости и взаимной симпатии не наблюдалось. Однако именно благодаря им изобразительное искусство стало мощным орудием культуры эпохи Возрождения, значительно превосходящим по воздействию и выразительности созданных художественных образов литературу, музыку и науку.
В те достопамятные годы Италия, по выражению Бахтина, представляла собой страну сконденсированного исторического времени. Человек тогда был не только свидетелем, но и прямым участником бурных событий. Как говаривали древние, omnia mutatur — всё меняется, причём столь стремительно, что многое, казавшееся ещё вчера правильным и незыблемым, сегодня оказывалось отринутым самой жизнью. Чтобы устоять и не растеряться перед вторгшимися в жизнь каждого человека коренными переменами, редко у кого доставало сил и дерзаний достойно противостоять им, не теряя собственного лица. Нужны были новые Прометеи по силе мысли и стойкости духа, и таким был Микеланджело Буонарроти. Он отразил подлинные глубины самой сути человека, чего не достигал ни один другой итальянский творец ни до него, ни после. Микеланджело поныне возвышается над всеми как недосягаемая вершина.
Говоря о нём, трудно найти нужные незатасканные слова, которые позволяют определить его место в искусстве и оценить величие сотворённых им титанических образов. Любая высказанная о них мысль может нарушить состояние глубокой задумчивости и даже катарсиса, испытываемого при виде его творений, поражающих воображение исполинской мощью и страстностью. Недаром Тютчев считал, что «мысль изречённая есть ложь». Невозможно словами выразить суть деяний гения, — их надо прочувствовать и проникнуться глубиной посыла творца, дошедшего до нас через пять с лишним столетий, которые изменили до неузнаваемости сегодняшний мир, наше сознание и художественное восприятие.
За годы долгой жизни Микеланджело в мировом искусстве сменились три художественных стиля. Он начал свой путь в конце XV века, а завершение его беспримерных по значимости художественных творений и подвижнической жизни, всецело отданной искусству, пришлось на годы глубокого кризиса, переживаемого искусством Возрождения, когда стала очевидной противоречивость взглядов идеологов гуманизма, а порождённая ими культура начала всё дальше отходить от правды жизни, теряя былую свободу и независимость от воли и вкусов заказчика.
В Микеланджело рано пробудился интерес к искусству. За свои недюжинные способности, любознательность, остроту ума и независимость суждений он был принят как равный в круг гуманистов, поэтов и художников, работавших при дворе просвещённого правителя Флоренции, известного поэта, мецената и тонкого ценителя искусства Лоренцо Медичи, прозванного современниками Magnifico — Великолепным. Собирая вокруг себя талантливых людей, он приблизил к себе приглянувшегося ему даровитого подростка, в котором первым угадал великое будущее. Огромное влияние на становление мировоззрения юного Микеланджело и развитие его эстетического вкуса оказали основатели Платоновской академии — Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Мирандола, Анджело Полициано и Кристофоро Ландино, снискавшие Флоренции мировую славу. Они стали первыми наставниками любознательного отрока.
Пытливый юнец рано осознал, сколь труден и тернист в искусстве путь к вершинам. Об ином он не помышлял, ибо ощущал в себе колоссальный заряд творческой энергии и не гнушался никакой чёрной работы. Его одержимость в деле изумляла всех: будь то первый его учитель, прославленный художник Гирландайо, или простой каменотёс. Обретённые в юности знания и навыки оказали Микеланджело неоценимую услугу, когда он в одиночку, почти не прибегая к помощи подмастерьев и учеников, приступил к осуществлению своих грандиозных замыслов. Преисполненный исполинской энергии и почти космического мировосприятия, он готов был бросить вызов самой природе.
При первом взгляде на его юношеские произведения нельзя не ощутить в них ярко выраженный неоплатонизм, ставший преобладающим методом мышления в ту эпоху и утвердивший примат духа над материей, души над телом. Микеланджело посчастливилось в отроческом возрасте оказаться в среде интеллектуальной элиты своего времени. Годы его юности прошли в атмосфере высокого полёта творческой мысли. Он воспринял неоплатонизм не частично, как модную философскую теорию, а в полной мере — в качестве метафизического обоснования своей собственной личности.
Новые идеи вдохновляли Микеланджело в стремлении к красоте и даже сказались на его интимной жизни, преисполненной платонической любви в её подлинном смысле, что нашло отражение в любовной лирике. Неоплатонизм стал главным нервом всего его творчества. Вера неоплатоника Микеланджело в насыщенность материи духом выражена им как в произведениях изобразительного искусства, так и в поэзии.
Стоит сослаться ещё на один духовный источник, сыгравший важную роль в формировании мировоззрения юного Микеланджело, когда он, как и многие флорентийцы, подпал под влияние страстных проповедей объявившегося во Флоренции Доминиканского монаха Джироламо Савонаролы — человека высокообразованного, блестяще владевшего пером, словом, обладавшего даром убеждения и почти гипнотического воздействия на людей. Савонарола смело выступал с церковных амвонов против папства, тирании, фарисейства, стяжательства и разврата. Его обличительный пафос как грозного судии, призывавшего к аскезе и покаянию, потрясал толпу, видевшую в нём новоявленного Мессию. Юный Микеланджело прислушивался к высказываниям Савонаролы, а весть о трагической гибели проповедника глубоко потрясла его. С годами он стал воспринимать Савонаролу почти как святого, чем объясняется присущая ему в последние годы жизни экзальтированная религиозность.
Заканчивалась славная эпоха Кватроченто, то есть XV века, отмеченная великими художественными творениями и неожиданными откровениями. Весь этот век в Италии был пронизан духом античности, что принесло громкую славу его искусству, когда в Рим потянулись толпы паломников, чтобы увидеть новое чудо — «Пьета» молодого Микеланджело, чья слава разнеслась по свету. Но не сбылись мечты о наступлении «золотого века», который предрекали тогдашние властители дум.
Приход нового, XVI столетия, когда на политическом небосклоне сгустились грозовые тучи — предвестницы грядущих потрясений и народных бедствий, — когда Италия продолжала оставаться раздробленной на мелкие княжества, враждующие между собой, Микеланджело встретил преисполненный сил и готовый на самые смелые дерзания. Ему суждено было стать подлинным выразителем своего трагического времени, так как он первым сумел уловить и передать в искусстве учащённое дыхание и тяжёлую поступь новой эпохи с её дерзновенными устремлениями, гениальными научными предвидениями, открытием Нового Света, первым кругосветным плаванием, народными восстаниями, опустошительными вспышками эпидемий, кровопролитными войнами. Это был век великого нетерпения и невиданного ранее духовного напряжения, пора героев и палачей, мечтателей и авантюристов, еретиков и фанатиков.
Своим героическим «Давидом», ставшим общепризнанным символом всей эпохи Возрождения и самой известной скульптурой в мире, Микеланджело нанёс сокрушительный удар стилю Кватроченто, утратившему связь с реалиями новой действительности и изжившему себя. В искусстве утверждался классический стиль, который порвал со средневековыми традициями и черпал вдохновение в античном наследии. После более чем тысячелетнего религиозного обскурантизма, когда в Риме ревнители чистоты веры безжалостно уничтожали и выкорчёвывали памятники античного искусства, презрительно называемого «варварским», из небытия извлекались на поверхность и представали изумлённым взорам римлян Аполлон Бельведерский, Лаокоон со змеями, Ватиканский торс, бронзовая статуя Геракла и другие античные изваяния, в том числе римские копии с оригиналов Лисиппа, Мирона, Праксителя и Фидия. Всё это позволило итальянским мастерам познать неведомую им ранее гармоничную систему пропорций, главным критерием которой была порождённая природой строгая закономерность. Началось не просто повальное заимствование мотивов и приёмов ваятелей глубокой древности, а проникновение в существо их жизнеощущения, здоровой чувственности и величавого ритма античности.
После смерти Лоренцо Великолепного, ставшей невосполнимой утратой для итальянской культуры и искусства, Флоренция стала постепенно утрачивать своё значение. Центр культуры и искусства стал перемещаться в Рим, caput mundi — столицу мира. Оказавшись впервые в Риме, молодой Микеланджело взглянул на него с высоты Капитолийского холма. Вечный город представлял собой жалкое зрелище с одиноко стоящими полуразрушенными колоннами, вросшими в землю развалинами дворцов, зияющими глазницами Колизея и бездействующими акведуками. Именно тогда у него возникла дерзкая мысль вернуть Риму былое величие, и надо признать, что это ему во многом удалось. Позднее, при возведении капеллы Медичи во Флоренции, Микеланджело порывает с классическим стилем, поскольку в нём всегда была сильна идиосинкразия на искусство, ублажающее вкусы и запросы избранных, и прежде всего высшего духовенства и знати. Он пережил 13 сменявших друг друга римских пап, диктовавших ему свою волю. С некоторыми из них ему удавалось находить общий язык и понимание, других он глубоко презирал за спесь, непомерные амбиции и алчность, но вынужден был сдерживать свои чувства, поскольку от римских понтификов зависело в его жизни многое, если не всё.
Ему было тесно в рамках официального искусства с обязательным соблюдением церковных канонов. Он ощущал себя демиургом, а вынужден был наперекор своим взглядам учитывать требования малосведущих в искусстве заказчиков — отсюда постоянная внутренняя напряжённость, сопротивление, борьба и моменты отчаяния. Смятение духа, утрата согласия с окружающим миром и самим собой — всё это порождено не только величием творца, но и его слабостью. А разве слабость человека, наделённого высочайшим даром, не достойна сочувствия и понимания?
Глава II РАБ СОБСТВЕННОГО ГЕНИЯ
Мой гений дружен с высшей красотой.
Она меня с рожденья уязвила
И душу целиком заполонила —
Вот и мечусь, охваченный тоской (44).
Итальянское Возрождение, как образно сказано в одном из исследований, — это своего рода «виттенбергская» предыстория трагедии европейского искусства начала XVI века.5 Микеланджело, подобно Лютеру, стал сотрясать своим искусством общепризнанные каноны официальной идеологии. Изначально итальянскому искусству не были свойственны трагические мотивы — возобладало мнение, что в нём торжествовала всеобщая гармония. Однако всю итальянскую культуру пронизывало ощущение и предчувствие неминуемой трагедии, которое неотвязной тенью следовало за искусством Возрождения. В те годы всё отчётливее стали сказываться тревожные предчувствия трагического исхода, что и привело в конце концов к неизбежной гибели многих самых светлых надежд и чаяний.
Микеланджело оказался смысловой подоплёкой этого процесса. Своим многогранным творчеством он опрокинул все устоявшиеся представления об итальянском Возрождении как эпохе удивительной гармонии, оптимизма, душевного покоя и красоты. Незадолго до этого отчётливо проявилась тенденция «к изображению должного и прекрасного как чего-то сущего, вытекающего из того понимания исторической картины, которая сложилась в XV веке».6 Искусство первой половины XVI века принято считать Высоким Возрождением, но его влияние было непродолжительным, хотя не прерывалась связь с традициями Джотто, Мазаччо и Донателло. Следует иметь в виду, что на рубеже двух столетий Италия подверглась иностранному нашествию, что способствовало сильному всплеску патриотических чувств итальянцев и созданию широкой народной основы для культуры Возрождения.
Вторая половина нового столетия оказалась переломной для всего европейского искусства. Разуверившись с годами в идеалах гуманизма, но сохранив верность духу Возрождения, Микеланджело в последних работах решительно отвергает новый стиль, названный «маньеризмом», который противоречил идеалам гуманизма и великим принципам Возрождения, проявляя полное равнодушие к этическому началу. Для маньеризма характерны экзальтация, вычурность, преобладание физического над духовным, погоня за красивостью. Гедонистическое эстетство и эротизм становятся главными его признаками. Поиски маньеристами новых откровений оказались тщетны, вскрыв их неспособность увязать прошлое с настоящим, а тем более с будущим. Всё это выглядело как опухоль на здоровом теле искусства, давшая со временем метастазы, которые вызвали затяжной глубинный кризис. Говорят, что однажды при виде молодых художников, копировавших его фрески в Сикстинской капелле, старик Микеланджело воскликнул с горькой усмешкой: «О, скольких ещё моё искусство сделает глупцами!»
* * *
Он ворвался в итальянское искусство подобно мощному вихрю, сокрушая и унося прочь всё наносное, отжившее и оплодотворяя свежими соками всё живое и разумное. Его искусство нельзя понять в отрыве от огромного художественного наследия, накопленного во Флоренции, где, словно в кузнице Вулкана, выковывался гармоничный сплав из скульптуры, живописи и архитектуры.
Всё это богатство Микеланджело сумел вобрать в себя и творчески переосмыслить. В скульптуре его ближайшим предшественником были Донателло, отчасти Дезидерио да Сеттиньяно, делла Кверча и делла Роббиа, в архитектуре — Брунеллески, а в живописи — Мазаччо и, вопреки различию характера и темперамента, Сандро Боттичелли.
А вот в поэзии он шёл от Данте, присутствие которого постоянно ощущал за спиной и многие его стихи с юношеских лет знал наизусть. Для него Данте был величайшим авторитетом, по нему он поверял свои сокровенные думы. Живя, как и великий поэт, вдали от родной Флоренции, он восклицает:
О, если бы родиться мне тобой И жить твоими думами в изгнанье, Счастливой одаряя мир судьбой! (248)Его художественное мировоззрение поражает глубиной, страстностью, но и односторонностью, поскольку он воспринимал мир исключительно пластически, и только человеческое тело представлялось ему достойным изображения. Здесь он полностью солидарен с одним из своих наставников, Марсилио Фичино, который предупреждал: «Остерегайтесь принижать человечество, считая его земнорождённым и смертным. Ведь человечество — это нимфа. Она прекрасна телом, небесного рода и любезна Богу Творцу превыше других созданий. Душа и дух её — любовь и милосердие, значительность и великодушие, руки — щедрость и величественность, ноги — благородство и скромность и, наконец, всё её тело — умеренность, достоинство, красота и великолепие. О прекрасная форма, о бесподобное зрелище!»7
Обогатив искусство новыми, неведомыми ранее светотеневыми эффектами и смелыми ракурсами, Микеланджело в некоторой степени и обеднил его, лишив возможности узнавания повседневного в жизни с её радостями и печалями. Но всё это было неведомо его творчеству, которое отмечено печатью страдания и боли. Его творения глубоко интересовали не одно поколение европейских философов, стремившихся осмыслить созданный гением образный мир и определить главное в его творчестве. Близкий к неоплатонизму немец Шеллинг с полным основанием заметил, что Микеланджело «компенсировал отсутствие грации, нежности и привлекательности возвеличиванием силы»8.
Микеланджело был страдальцем и печальником Италии, ставшей в ту пору лакомым куском для завоевателей всех мастей. Но во взглядах он не всегда был последователен и порой, как и его знаменитый земляк Макиавелли, считавший главной причиной всех бед Италии папство, возлагал надежды на приход «доброго государя» — избавителя от чужеземных захватчиков. Жизнь, однако, смешала все карты, показав, сколь беспочвенны такие мечты, обернувшиеся катастрофой, когда в мае 1527 года ландскнехты императора Карла V подвергли Рим варварскому разграблению.
Не в пример равнодушным к политическим перипетиям собратьям по искусству, которые ради получения заказа могли поступиться своими идеалами, Микеланджело оставался убеждённым республиканцем и страстным поборником свободы:
Готов пойти на плаху за свободу! Не сдамся и туда продолжу путь, Где не страшны мне зло и произвол (70).Ведущая тема творчества Микеланджело — это трагическая тема борьбы, которая никогда не оставляла его ни в жизни, ни в искусстве. Несмотря на внешнюю суровость и угрюмость, он был крайне застенчив. Основной отличительной чертой творений Микеланджело является ярко выраженный контраст между материей и духом, свободой и рабством, волей и безволием. Такие антиномии свойственны его искусству и поэзии. Его творения лишены гармонии с окружающим миром, столь характерной для Высокого Возрождения; они полны диссонанса, что подготовило почву и явилось питательной средой для зарождения нового стиля в искусстве — барокко.
В отличие от своих великих современников Леонардо и Рафаэля Микеланджело разрушал изнутри породивший его стиль мышления, который не умещался в нём. Его творчество — это своеобразный мост, перекинутый от «золотого века» Лоренцо Великолепного к трагическому по своей сути барокко.
* * *
Историческая обстановка, сложившаяся в Италии, оказалась крайне неблагоприятной для Микеланджело с его независимым взглядом на мир и повышенной требовательностью к себе и к людям. Главное в его творчестве — это характер, сложный и противоречивый, гордый и непримиримый, мрачный и подозрительный. Он проявился как в скульптуре и живописи, так и в поэзии и дошедших до нас письмах. В его характере отразились страдания творца, борьба и протест, горькая ирония и отчаяние.
В архиве Микеланджело содержится характерный поэтический фрагмент:
Рождает жажда жажду — я же стражду (II).Эта одиночная строфа точно передаёт состояние вечной неудовлетворённости и поиска новых выразительных средств. В её авторе постоянно жило стремление добиваться превосходства над превосходством и сверхсовершенства над совершенством, а отсюда неудовлетворённость самим собой и отчаяние.
Рождению образа в скульптуре или в живописи предшествовал, как правило, сложный процесс раздумий, но уже при первом движении руки мастера полностью раскрывалась динамика, передаваемая каждой детали композиции, отчего его творениям свойственна поразительная цельность, которая представляет собой особый мир, сходный по образу и подобию с миром, сложившимся в сознании самого творца. Однако переделывать, исправлять или переосмыслять свой замысел он не умел, а скорее всего, не хотел. Стоило руке Микеланджело дрогнуть или его сознанию породить новую идею, как он оставлял работу незавершённой — non finito, ибо полагал, что волновавшая его мысль полностью выражена и не нуждается в дальнейшем развитии.
О микеланджеловском non finito существует обширная литература. Но, пожалуй, наиболее точно высказался Джорджо Вазари, автор всемирно известных «Жизнеописаний», заявив, что У Микеланджело появление non finito происходило «из-за невозможности выразить столь великие и устрашающие замыслы».9
Главным для него было передать биение сердца человека, его плоть и кровь. Многие исследователи отмечали, насколько сильна в нем «одержимость фигурой человека» (furia della figura). Подобно античным ваятелям и живописцам, Микеланджело сделал своей стихией тело человека, его силуэт и пластическую форму, в чём он видел преломление всех тайн бытия и непрестанное противостояние противоборствующих сил добра и зла, земного и горнего. Кроме человека, ничто другое его не занимало. Чтобы раскрыть сущность человека, он срывает с него одежды или, как сам любил выражаться, сдирает «сапоги из собачьей кожи», и его герой предстаёт во всей своей первозданной наготе.
Трагедией всей его жизни стал конфликт между героическим началом художественных образов, порождённых могучим гением, и натурой творца — человека нерешительного, со слабой волей, подверженного сомнениям и часто склонного к действиям, не поддающимся разумному объяснению. Гнетущая печаль, которую он нёс в себе, отпугивала от него людей, создавая вокруг мрак и пустоту.
Считается, что злой рок преследовал творца всю жизнь, не позволяя ему завершить многие из великих начинаний. На самом же деле причина бед в самом Микеланджело — в недостатке воли, в сомнениях, в чрезмерной требовательности к искусству и к самому себе.
В нём всё до крайности выпукло и контрастно, так как в жизни он видел свет или тьму, горение или тление, а всякая половинчатость и компромиссы были ему чужды. Так в одном из мадригалов прорывается крик души:
Смеюсь и тут же плачу, как в бреду… Не знаю я средины на беду! (155)В глубине его души был сокрыт некий дуализм, не позволявший ему воспринимать картину мира в её неразрывном единстве. В его сознании мир постоянно разлагается на ряд сталкивающихся между собой противоположностей. Немецкий философ Зиммель, говоря о Микеланджело, считает, что помещая себя в этот раздвоенный мир, ищущий творец распространяет его на собственное бытие и рассматривает самого себя как существо, расщеплённое на материю-природу и дух, что вполне соответствует неоплатоническим воззрениям самого мастера. Но подлинная трагедия позднего Микеланджело, как считает немецкий философ, в недостижимости «третьего идеального мира», к которому были направлены все его мысли, нашедшие отражение в последних изваяниях и сонетах.10
* * *
Утверждая в искусстве идеалы истинной красоты и величия, он в равной степени требовал героических свершений от своего времени, на которые оно оказалось неспособным. А потому нет предела отчаянию художника, разладу с окружающим миром и самим собой. Он замыкается в одиночестве, оказавшись заложником и рабом своего гения, который был несоразмерен его характеру и довольно хлипкому телу. Он сам признаёт в одном из сонетов, что у него «из пакли плоть», подверженная многим болезням.
Великий творец был вынужден платить своему гению и властелину дань собственным здоровьем, бессонницей, душевными терзаниями и отшельническим образом жизни. И лишь на закате жизни судьба к нему смилостивилась, озарив его одиночество внезапно вспыхнувшим чувством привязанности к известной поэтессе маркизе Виттории Колонна, которой посвящён цикл проникновенных стихов.
Творец-одиночка создал произведения исполинской мощи и красоты, при виде которых трудно поверить, что их сотворил простой смертный. Поэтому его имя обрастало мифами и легендами. В некотором смысле он сам дал повод таким легендам, когда принялся диктовать бывшему ученику Асканио Кондиви историю своей жизни,11 заявив, что является потомком древнего аристократического рода Каносса и что в нём течёт императорская кровь. В то же время биограф приводит такое признание Микеланджело: «Я всегда жил как бедняк, мало ел, почти не пил вина, мало спал». Пользуясь прижизненной славой, он стремился к славе вечной, придумав образ вдохновенного Богом неимущего художника.
Но вопреки созданным о нём мифам Микеланджело не был сверхчеловеком или, скажем так, неким сверхъестественным феноменом в искусстве. Современная наука, изучающая аномалии в развитии организма человека, называет такие отклонения аутизмом (от греч. autos — сам по себе), симптомы которого проявляются в нарушении связей с реальностью, в замкнутости и подавленности духа. Принято считать, что такие отклонения были свойственны Копернику и Галилею, Ньютону и Канту, Менделееву и Эйнштейну, обладавшим особым даром восприятия мира, резко отличавшимся от восприятия обычными людьми, пусть даже наделёнными многими талантами. Не исключено, что симптомы подобных аномалий были у Микеланджело врождённым признаком, проявившимся ещё в раннем детстве, что не могло остаться незамеченным сверстниками и взрослыми. С годами такие отклонения привели к повышенной раздражительности, замкнутости и подавленности духа.
В своё время Плиний Старший, говоря об Апеллесе и Фидии, отметил, что их творения — событие для дальнейшего развития искусства, но их не следует считать событием для судеб всего человечества.12 С этой точкой зрения нельзя не согласиться, поскольку у искусства и у истории человечества пути развития не сходятся. Как ни велико содеянное Микеланджело, мир за последние пятьсот с лишним лет не стал от этого добрее и лучше.
Вазари, друживший с Микеланджело, начинает свои знаменитые «Жизнеописания» с утверждения, что Всевышний при виде тщетных попыток последователей Джотто достичь высшего разумения «послал на землю гения, способного во всех искусствах и в любом мастерстве показать одним своим творчеством, каким совершенным может быть искусство рисунка». Далее Вазари говорит, что присланный гений создал величайшие творения в живописи, скульптуре и архитектуре. Кроме того, он был одарён истинно нравственной философией и сладостной поэзией, чтобы мир «считал его скорее творцом небесным, нежели земным».
Со столь восторженной оценкой были согласны не все современники; для многих «божественным» был Рафаэль — этот подлинный ангел Возрождения. За Микеланджело закрепилось иное определение — terribile, «ужасный» или «устрашающий» — из-за неуживчивого мрачного характера и пугающих незавершённостью некоторых его творений. Велика была и доля зависти, отравлявшая жизнь великого мастера. При жизни нередко предпринимались попытки запятнать его честь и очернить славное имя клеветой и подозрениями, подобными «запекшимся сгусткам крови». История всё расставила по своим местам, отбросив как восторженные легенды, так и злобные клеветнические наветы.
В литературе нередко поднимается вопрос об «изолированном индивидуализме» как ахиллесовой пяте Возрождения. Стоящему особняком Микеланджело действительно были свойственны не только неповторимая индивидуальность, но и гигантомания. Как никакая другая эпоха, итальянское Возрождение изобилует именами прославленных творцов, но она не выдвинула ни одного мастера, равного по мощи Микеланджело, который ответил на вызов своего сурового века великими творениями, являющимися высочайшим проявлением заложенных в человеке созидательных сил и его способности выражать в поэтических образах страсть, боль и крутые повороты истории, чтобы поведать обо всём этом людям. По многогранности творчества, грандиозности свершений, силе их воздействия, интенсивности трагизма и космизму мироощущения трудно кого-либо поставить рядом с ним, будь то Леонардо, Рафаэль или Тициан, этот великий долгожитель в искусстве.
Метод Микеланджело далёк от идеализма — он не искал своих героев в мире идей, не стремился к абстрактному совершенству. До сих пор ведутся споры о том, каковы философские основы его творчества и в чём сказалась его приверженность платонизму. Следует ли отнести его искусство к Возрождению или к маньеризму? Чем оно дорого современному человеку? Ведутся споры и о том, что в его творчестве является определяющим: скульптура или живопись. Известно, что он неохотно брался за кисть, предпочитая иметь дело с резцом и молотом. По собственному его признанию, на что ссылаются многие биографы, любовь к камню он впитал в себя в младенческом возрасте вместе с молоком деревенской кормилицы, жены scalpellino — каменотёса. Возможно, эта легенда, передаваемая из поколения в поколение, была пущена в оборот им самим, о чём позднее он вспомнил в одном из стихотворений. Когда гуманист Бенедетто Варки обратился однажды к флорентийским мастерам, желая узнать их мнение о живописи и скульптуре, то в своём ответе Микеланджело прямо заявил, что «скульптура — светоч живописи, но обе они столь же различны между собой, как Солнце и Луна».
Нельзя не признать, что такому темпераментному творцу с необузданными страстями, каким был Микеланджело, хотелось считать своим подлинным призванием именно скульптуру, в крайнем случае архитектуру, но никак уж не живопись, которую он презрительно называл женским занятием и даже детской забавой в открытой полемике с Леонардо да Винчи, считавшим живопись первоосновой всех искусств и приравнявшим её к науке.
В работе с непокорным камнем он отсекает всё лишнее, чтобы мысль предстала обнажённой до предела. Главное и принципиальное отличие его творений от античного искусства, будь то фрески в Domus Аurea (Золотой дом) Нерона или римские копии с оригиналов древнегреческих ваятелей, заключается в том, что у Микеланджело как истинного неоплатоника над культом тела преобладает культ духа.
Не в пример своим героям, способным на самые дерзновенные деяния, Микеланджело был нерешителен в поступках и часто вынуждаем заниматься нежеланным делом, к чему душа не лежала. Свидетельством этому служит фресковая роспись огромного потолка Сикстинской капеллы в Риме, за которую он взялся с неохотой по принуждению папы Юлия II. При всей сложности композиции грандиозной росписи она кажется созданной за один приём — настолько свежи, энергичны и жизненны её образы, почерпнутые из великой Книги книг. Сикстинская фреска — это исповедь души художника и гражданина, звучащая торжественным гимном во славу человека. Уже при жизни автора фреска считалась одним из чудес света. Поражённый прославлением величия человека и его созидательного духа Гете писал: «Сейчас я так захвачен Микеланджело, что после него охладел даже к самой природе, ибо мне недостаёт его всеобъемлющего зрения».13
* * *
В своём творчестве Микеланджело столь же одинок, как и в жизни. Его искусство не поддаётся точному определению и не вписывается в рамки того или иного стиля. Имя его традиционно ставится в один ряд с другими классиками Высокого Возрождения. Но по своей натуре он менее всего классик, хотя в ватиканском дворце одновременно трудился бок о бок, стена к стене с общепризнанным кумиром — «божественным» Рафаэлем. Но между их творениями пролегла бездна. Искусство Рафаэля достигло подлинного совершенства и пленительной божественной гармонии — но сейчас речь не о нём. Микеланджело не может «нравиться» и ублажать взор, а его творения никак не служат украшением жизни. Их назначение в другом — возвысить человека, открыть ему сокровенный смысл духовных противоречий, постоянно волнующих человечество. Микеланджело вне «стиля» — его творения живут сами по себе.
В своих поздних работах он выступает как творец пограничный, постоянно пребывающий в состоянии борьбы между Богом и сатаной за души и сердца людей. Ошеломляющее впечатление производит фреска «Страшный суд», написанная в той же Сикстинской капелле тридцать лет спустя по настоянию папы Павла III. На огромной алтарной стене Микеланджело отразил трагические перемены, которые произошли в истории Италии и в жизни самого художника, когда на его глазах рушилось всё, во что он свято верил. Поражённый увиденным, он отвернулся от мира зла и несправедливости и замкнулся в себе. Ему всё чаще приходилось обращаться не к кисти и резцу, а к перу в поисках ответа на мучительный вопрос:
Найду ль я путь, подсказанный сознаньем, Когда от туч черно над головой И голоса окрест грозят бедой? (66)В такие минуты отчаяния ему самому хотелось «камнем быть», чтобы отрешиться от мира, и тогда из-под его пера появлялись стихи, написанные кровью сердца…
В отличие от жизнеутверждающей росписи потолка Сикстинской капеллы алтарная фреска — это реквием по утраченным надеждам и втоптанным в грязь гуманистическим идеалам, что так близко, понятно и конгениально людям, живущим в бурном и неспокойном XXI веке. Сама фреска звучит на удивление современно, словно написана в наше время, полное цинизма, безверия, неприкаянности, жестокости, бездушного прагматизма и пугающих апокалиптических настроений.
Последние годы жизни творца приходятся на эпоху Контрреформации с её удушающей угрюмостью, когда, казалось, время повернуло вспять и по всей Италии, обескровленной чужеземным нашествием, заполыхали костры инквизиции и началась охота на ведьм. Это были годы позорных судилищ над вероотступниками и вольнодумцами. Мечты гуманистов из круга флорентийской Платоновской академии о наступлении золотого века, который предсказывали сивиллы и поэты классической древности, века расцвета наук и искусства, земного блаженства, всеобщего согласия, веротерпимости и гармонии в идеальной общности европейской «республики учёных», о чём говорилось в диалоге Томаса Мора «Утопия», — всё это рухнуло при столкновении с европейской действительностью XVI века, сгорело в огне религиозных конфликтов, всеобщего смятения и разлада. Швейцарский искусствовед Генрих Вёльфлин, говоря о Возрождении, отметил, что «во всей истории итальянского искусства нет эпохи более тёмной, чем его золотой век».14
Но великий творец не сдаётся. Борясь с немощью, он извлекает из бренной плоти последние силы, торопясь увенчать гигантским куполом собор Святого Петра, символизирующий победу творческого духа над смертью, но успевает подготовить только деревянный макет купола в натуральную величину. Каждое утро он объезжал верхом различные стройки по его проектам, а по вечерам, словно прощаясь с жизнью и подводя итог пройденному пути, великий мастер высекал из глыбы мрамора свой последний шедевр «Пьета Ронданини» — две едва намеченные резцом фигуры, затерянные в трагическом одиночестве в бесконечности равнодушной Вселенной.
В такие минуты горького раскаяния из-под его пера рождаются стихи, написанные кровью сердца:
Мирские басни времени лишили, Чтоб с Господом побыть наедине. И я, забыв о Нём, грешил вдвойне — Настолько небылицы дух смутили, Да не в пример другим и ослепили. Уж поздно ныне каяться в вине, Но велико желание во мне Одним Тобою жить, пока я в силе. Так пособи, Господь мой дорогой, И сократи мне путь наполовину — Иного нет желанья и стремленья. Всё, что ценил я в суете земной, Перечеркну, забуду и отрину Во имя долгожданного спасенья! (288)Неприкаянная старость Микеланджело — это особая тема, ждущая своего более глубокого освещения. Он намного пережил своих великих современников. Его долгая жизнь вся без остатка была отдана искусству и обрела вечность. Незадолго до смерти он сжёг некоторые чертежи, расчёты и эскизы, не желая, чтобы его замыслы подверглись искажению в неумелых руках. Но не тронул рукописи со стихами, оставив потомкам эти бесценные свидетельства его мыслей и горения творческого духа.
Поныне над вечным Римом возвышаются два неравных по высоте, но равновеликих по значимости купола. Возводя Пантеон, древние римляне словно предчувствовали гений Рафаэля, который обрёл здесь последнее упокоение, а ясность и простота его искусства навсегда слились с величавыми формами дивного античного храма. Последнее творение гения Микеланджело, купол собора Святого Петра, — это жемчужина в архитектурном ожерелье Рима. В отличие от бесстрастного Пантеона в нём сконцентрирован сгусток колоссальной энергии, движения и порыва к разгадке извечной тайны бытия.
Глава III ГОДЫ ДЕТСТВА
Кто майской зелени не замечает,
Тому дышать весною не дано (278).
Начнём повествование, как говаривали древние римляне, ab ovo — с яйца, то есть с появления Микеланджело на свет и первых его шагов по жизни, чтобы попытаться понять эту противоречивую, ни на кого не похожую личность, оставившую потомкам великие творения, которые по прошествии пяти с лишним столетий по-прежнему волнуют нас и вызывают глубокий интерес.
В ту памятную мартовскую ночь тихий тосканский городок Капрезе в верховьях Тибра, где на Вернийской горе святой Франциск принял стигматы, мирно спал после воскресного дня беспробудным сном под убаюкивающий шум дождя. Лишь в одном из домов на холме светились все окна, несмотря на ночное время. Там на первом этаже в большой зале при зажжённых свечах ходил из угла в угол podesta — местный градоначальник мессер Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони, щуплый брюнет лет за тридцать.
Он был явно встревожен, не переставая прислушиваться к тому, что происходило в верхних покоях, в ожидании родов жены — черноокой девятнадцатилетней Франчески, дочери благородных родителей Нери Миньято дель Сера и Марии Бонды Ручеллаи.
Полтора года назад она счастливо разрешилась первенцем, наречённым Лионардо в честь покойного деда. А теперь в самое неурочное ночное время под завывание дующего с гор ветра трамонтана озабоченный муж то и дело вздрагивал от доносившихся сверху стонов роженицы, не веря в счастливый исход. Его опасения были более чем обоснованы: месяца четыре назад Франческа во время прогулки по горным тропам упала с лошади. Вызванный из Ареццо врач-акушер был скуп на слова утешения, заявив, что остаётся уповать только на Господню волю. Будучи человеком набожным, мессер Лодовико запалил лампадку перед домашним образком и истово молился.
Ближе к рассвету дождь прекратился, и сверху наконец раздался громкий детский плач — младенец родился живым! У отца отлегло от сердца, и он перекрестился. Наверху затопали и забегали служанки, гремя тазами и вёдрами с горячей водой, а повитуха, появившись на лестнице, радостно оповестила:
— Мессер Лодовико, у вас сын — поздравляю!
Но к жене наверх счастливого отца не пустили — нужно было ещё обиходить обессилевшую роженицу, которая вскоре уснула. Пока суд да дело, мессер Лодовико, любивший во всём порядок, взял с полки объёмистую домовую книгу, куда скрупулёзно записывал свои доходы и расходы, равно как и разные житейские дела. Так в ней появилась запись о том, что в понедельник 6 марта 1475 года по римскому календарю или в 1474 году по календарю флорентийскому за четыре часа до рассвета у него родился второй ребёнок — сын.
Расхождения в дате объясняются тем, что разрозненные и постоянно враждующие между собой итальянские земли в те годы придерживались каждая своего летоисчисления, что вносило путаницу в официальные документы. Позднее биографы и астрологи приняли как окончательную дату 1475 год.
Три дня спустя в местной церкви Сан Джованни, носящей имя почитаемого в округе святого, состоялось крещение новорождённого, на котором присутствовали архиепископ и вся местная знать. Младенца нарекли Микеланджело, а по флорентийскому написанию и произношению — Michelagnolo, то есть Микеланьоло. Точно так же имя старшего брата Микеланджело по-флорентийски писалось и произносилось как «Лионардо».
Как отмечает Вазари в своих «Жизнеописаниях», мальчик появился на свет, когда Меркурий и Венера благосклонно вступили в обитель Юпитера, и таким образом само Провидение предвещало величие его деяний. Правда, присутствие Венеры в тот момент мало сказалось на дальнейшей судьбе новорождённого.
Воистину достойно удивления, что два величайших гения мирового искусства уже при рождении были наречены именами, которые, как оказалось в дальнейшем, вполне отвечали их сущности. Один, подобно предводителю небесного воинства архистратигу Михаилу с карающим мечом, предстал миру апостолом правды и справедливого гнева, а другой — Рафаэль — как архангел-исцелитель с пальмовой ветвью явил собой воплощение любви и доброты, которые сопутствовали ему на протяжении всей его короткой жизни.
После трудных родов у Франчески пропало молоко. Привезённый вновь из Ареццо тот же врач объяснил причину нервным истощением и посоветовал уделить особое внимание вконец ослабевшей юной матери, здоровье которой у него вызывало серьёзное опасение. Чтобы выходить хилого новорождённого, он настоял на искусственном кормлении, так как поблизости не оказалось ни одной кормящей матери. Пришлось прибегнуть к кормлению козьим молоком, которого было вдоволь в округе, чем оправдывалось само название городка Капрезе (от capra — коза).
Однако младенец, в котором рано проявилась строптивость, наотрез отказывался от молока, выплёвывая соску рожка и требуя грудь. Пришлось полуторамесячного Микеланджело срочно отвезти в небольшое родовое поместье Сеттиньяно в трёх верстах от Флоренции и поручить заботам бабушки Лиссандры Буонарроти, сумевшей пристроить упрямого внука к груди деревенской молодухи Маргариты, только что разрешившейся третьим ребёнком. Она была замужем за местным каменотёсом, и это, как уже говорилось, стало предвестием судьбы будущего скульптора, впитавшего с молоком кормилицы навыки работы с камнем.
Годовой срок службы в должности городского головы Капрезе и соседнего Кьюзи закончился 29 марта, то есть почти две недели спустя после появления на свет Микеланджело. В ожидании нового назначения Синьории семья начала готовиться к отъезду и вскоре вернулась в свой флорентийский дом в квартале Санта Кроче, а младенец Микеланджело пока остался у бабушки в Сеттиньяно, так как мать ещё была очень слаба.
У мессера Лодовико Буонарроти Симони вскоре родились друг за другом ещё три сына — Буонаррото, Джовансимоне и Сиджисмондо. За восемь лет супружеской жизни его жена Франческа произвела на свет пятерых сыновей, чему муж не мог нарадоваться, так как у его кузенов рождались только девочки, а стало быть, нужно было загодя позаботиться о приданом, что было весьма обременительным для семейного бюджета.
Семья росла, чего не скажешь о доходах, поэтому отец семейства был занят поисками нового хлебного места. Он зачастил в Синьорию, где у него было немало знакомых, таких же достойных граждан, как он сам. Но все его надежды получить через них должность управляющего более крупным тосканским городом оказались тщетны. И мессеру Лодовико пришлось открыть нотариальную контору, чтобы хоть что-то зарабатывать, так как прежние накопления таяли на глазах. Теперь ему приходилось подолгу возиться с деловыми бумагами и засиживаться над пухлой бухгалтерской книгой, с трудом сводя дебет с кредитом, поскольку деньги счёт любят.
Чтобы не ударить перед соседями в грязь лицом, он был крайне щепетилен в вопросах соблюдения чисто внешнего лоска и всячески заботился о поддержании доброго имени своего известного в городе рода. По обычаю тех лет новорождённых в благородных семьях, как правило, поручали заботам кормилиц, выписываемых из окрестных деревень, так как городские стоили дороже. В то время считалось зазорным, чтобы жёны уважаемых граждан сами вскармливали младенцев, словно простые крестьянки. Что на это скажут люди вокруг? Да и вряд ли хрупкая Франческа была в силах выкармливать детей, ибо рожала каждые полтора года и вконец отощала — кожа да кости.
Отец Микеланджело гордился своей родовитостью, считая, как гласили семейные предания, что ведёт происхождение от древнего рода Каносса, чья представительница маркграфиня Матильда Тосканская играла в XI веке решающую роль в упорном противостоянии папского Рима и германского императора. С годами гордость знатностью рода передалась и сыновьям. В 1520 году один из отпрысков аристократического семейства, престарелый граф Алессандро Каносса, обратился с письмом к мессеру Лодовико, назвав его parente onorato — досточтимый родственник, — и выразив своё доброе расположение. Непонятно только, кому было лестно быть в родстве — обедневшему аристократу Каноссе или Лодовико Буонарроти, чей сын Микеланджело к тому времени обрёл мировую славу? Впоследствии это родство оказалось сущим блефом и плодом фантазии.
В практичной и богатой Флоренции всегда ценились не столько знатность происхождения, сколько деловые качества и достаток, чему служили наглядным примером заправилы делового мира Альбицци, Пацци, Ручеллаи, Строцци, Торнабуони и прежде всего банкиры Медичи, вышедшие из низов и со временем ставшие полновластными хозяевами города.
Во флорентийских анналах имеется упоминание о предках Буонарроти Симони начиная с XIII века. Все они верой и правдой служили родному городу, занимая видные посты в муниципальном управлении. Дед будущего художника, стряпчий Лионардо Буонарроти Симони, входил в состав двенадцати почётных граждан Флоренции — Buonomini, или «лучших имен», — но как делец оказался не на высоте и разорился из-за ряда неудачных сделок с недвижимостью.
После рождения третьего ребёнка Франческа с подросшим первенцем зачастила в Сеттиньяно, чтобы проведать с таким трудом доставшегося ей Микеланджело, который чудом выжил. Ему пошёл уже четвёртый год. Бабушка Лиссандра никак не хотела с ним расставаться, убеждая родителей, что в городе ребёнок вконец зачахнет, а здешний горный воздух полезен хворому внучонку.
Когда мать начинала целовать и ласкать тощенького Микеланджело, пятилетний Лионардо принимался хныкать, требуя к себе внимания, или просился на горшок.
— Какой же ты, право, завистливый, Лионардо! — журила его бабушка. — Дай маме побыть с братиком. Вон какой он слабенький…
В памяти Микеланджело остались только смутные воспоминания о матери, нежной и хрупкой. При рождении пятого ребёнка Франческа умерла от сильного кровотечения, о чём сердобольная бабушка ничего не сказала впечатлительному шестилетнему внуку. О своём сиротстве Микеланджело узнал позднее.
Мессер Лодовико стал вдовцом с пятью сыновьями на руках. На первых порах ему помогала по дому бездетная невестка Кассандра, жена старшего брата Франческо, которая всеми помыкала. От неё в доме было много шума, а толку мало, как и от нанятых бестолковых служанок. Промучившись с год, вдовец вновь вступил в брак, взяв в жёны крепкую дородную девицу из простой работящей семьи по имени Лукреция Убальдини. Детей у них больше не было, и новая жена по мере сил заменила сыновьям мужа мать и няньку.
Во флорентийских домах сильно было мужское начало и всеми делами заправлял глава семьи, а роль женщины низводилась лишь к поддержанию домашнего очага, продолжению потомства, и не более того. Достаток семьи и её положение в обществе — всё это было уделом мужа. На нём лежала также забота о воспитания детей, коих не возбранялось пороть розгами за непослушание, что было тогда в порядке вещей. Дети должны были обращаться к отцу на «вы» и при разговоре с ним почтительно слушать стоя.
* * *
Раннее детство Микеланджело прошло в Сеттиньяно, вдали от отца и братьев, в родовом поместье, где на холме возвышался большой просторный дом из белого камня, откуда открывался вид на долину и синеющие горы. При доме был обширный сад с вековыми маслинами, смоковницами и виноградником.
Вместо колыбельной до слуха мальчика доносились визг пилы и лязг долота по камню из ближайших штолен. Бабушка Лиссандра холила внучонка, который не отличался крепким здоровьем, и при случае лечила его своими народными средствами, в которых знала толк. Во всём остальном Микеланджело был предоставлен самому себе, самостоятельно открывая окружающий мир.
Однажды во время прогулки он попал под дождь и в поисках укрытия неожиданно оказался в чреве заброшенной каменоломни. В кромешной темноте ему вдруг послышались голоса, словно покинутая людьми хранительница зарытых в ней кладов жаловалась на свою судьбу. Из неё вырубили все ценные породы, грубо обкорнали и бросили за ненадобностью на произвол судьбы, превратив в пристанище нетопырей, змей и прочей нечисти.
Над головой мальчика что-то пролетело в темноте и ухнуло. Он в ужасе выскочил из укрытия и, несмотря на ливень, бросился бежать к дому под дождём, после чего бабушка неделю лечила внука от простуды всякими отварами и примочками.
Обитатели Сеттиньяно испокон веков занимались добычей залежей песчаника, известняка, базальта, туфа, гранита, мрамора, а также обработкой добытого камня, чьи готовые блоки спускались вниз на волах к берегу Арно и по реке поставлялись для строительных работ.
Некоторые из них выбились в люди и обрели известность, как, например, архитектор Бернардо Росселлино, скульптор Дезидерио да Сеттиньяно и его ученик, сын подёнщика Мино да Майяно родом из соседней деревни. Позднее там появился на свет современник Микеланджело скульптор Бартоломео Амманнати. Память об известных земляках была жива в округе. В своё время туда наведывались Брунеллески и Донателло для отбора в местных каменоломнях добытых по их заказу мраморных блоков. Отметим, что в Сеттиньяно обрёл упокоение известный искусствовед Бернард Беренсон, уроженец России. Долгие годы он прожил в Италии и написал там свой главный труд «Живописцы итальянского Возрождения», где немало блистательных страниц посвящено Микеланджело.
Вся Флоренция стоит на фундаменте, возведённом из местного камня, а более ценный мрамор для облицовки дворцовых фасадов город получал из каррарских каменоломен, перевозя его на плотах вверх по течению той же реки Арно. Наряду с архитекторами и скульпторами Флоренцию — эту жемчужину камнерезного искусства — строили и украшали каменотёсы и резчики Сеттиньяно, где процветал культ камня и любовь к нему передавалась из поколения в поколение. Их дома, рабочие постройки и стены, ограждающие земельные наделы, — всё было построено из местного известняка и ракушечника. Сеттиньянцы поклонялись камню и боготворили его, как в далёкие времена поступали их предшественники — первые обитатели тех мест, язычники-этруски.
Чуть ли не каждый день, спустившись вниз и перейдя вброд через ручей, Микеланджело направлялся к дому каменотёса Доменико ди Джованни Бертини по прозвищу Тополино, «мышонок», из-за невысокого роста, мужа своей молочной матери — пышнотелой рослой моны Маргариты, на плечах которой лежало большое хозяйство.
Их усадьба стояла у самого подножия высоченного, поросшего соснами утёса, из чрева которого извлекался камень. При встрече мальчик крепко обнимал и двоекратно целовал добрую Маргариту, называя её мамой. Она любила своего выкормыша-сироту и никому не позволяла его обижать.
Работа начиналась во дворе с восходом солнца, поднимая облака мраморной пыли. Куда ни глянь — всё обсыпано каменной крошкой, как сахарной пудрой. Помимо подручных каменотёсу Тополино помогали три сына: Бруно, Джильберто и Энрико, ровесник Микеланджело. Мальчики с завистью поглядывали на барчука из соседнего господского имения, который мог приходить когда ему вздумается и, посидев немного, идти на речку ловить раков. Но его примеру никто из них не смел последовать. Отец держал сыновей в чёрном теле и не давал поблажки, следуя незыблемому правилу: делу — время, потехе — час. Но добрая Маргарита, жалеючи мальчиков, вмешивалась в строгий распорядок, несмотря на ворчание мужа, и после обеда давала детям передышку. Тогда между ребятами начиналось состязание на сообразительность — нечто вроде игры в жмурки. Заводилой выступал старший из мальчиков, Бруно. Завязав глаза двум братьям и Микеланджело и удостоверившись, что никто не жульничает и не подглядывает, он давал в руки каждому кусок камня, и те должны были на ощупь определить и назвать его породу.
— Что у тебя в руке, Микеланьоло? — спрашивал Бруно.
— Травертин, — следовал ответ.
На тот же вопрос Джильберто отвечал, что держит глазковый мрамор, а Энрико — порфир.
— Все ошиблись, — объявлял Бруно, и игра начиналась сызнова, пока не выявляла победителя. Но быть проигравшим — это не в характере Микеланджело, и он упорно настаивал на продолжении состязания до победного конца.
Благодаря этой весёлой забаве Микеланджело научился распознавать на ощупь уже по срезу камня его породу, определять по прожилкам и текстуре различные сорта мрамора, отличать травертин от туфа. Тут же во дворе стояла плита-«шпаргалка», на которой были показаны образцы обработки камня: в ёлочку, рустом, скосом, перекрёстным штрихом, прямым углом… Это была азбука, которую надлежало знать любому начинающему резчику, и ею прекрасно владели сыновья Тополино, работавшие бок о бок с наёмными каменщиками.
Познал её и Микеланджело. Прислушиваясь к пояснениям Тополино, он рано научился разбираться в зернистости, качестве полировки, плотности, умел на глазок определять даже вес камня.
— Взгляните на эту глыбу, — говорил Тополино, кликнув ребят. — В ней свищ, который может испортить дело. В любом камне имеются рыхлости и пустоты. Чтобы они не привели к трещине, необходимо глыбу на ночь закрывать мешковиной. Запомните, камень любит тепло, а вот холод и особенно лёд для него сущая пагуба.
Отойдя от глыбы, Тополино добавил:
— Камень надо не только знать как самого себя, но и любить. Тогда он отблагодарит тебя сторицей.
Микеланджело с интересом следил за работой каменотёсов. На первый взгляд она казалась монотонной — удар молотом по долоту, ещё удар, за ним другой. Но в этой кажущейся монотонности существует свой ритм — раз, два, три, четыре, затем пауза, чтобы вздохнуть и перевести дух, и сызнова четырёхтактный размеренный стук.
Иногда Тополино разрешал ему испробовать силы, давая в руки резец и молоток.
— Вот тебе податливый кусок песчаника — действуй! Но помни, что после каждого четвёртого удара нужно сделать вдох-выдох, — наставлял он мальчика.
Он же научил Микеланджело правильно держать долото и бить молотком, чтобы рука меньше уставала. Для мальчика это была первая жизненная школа, в которой он узнавал от первых своих учителей каменотёсов немало полезного и нужного о природе камня и его особенностях.
Труд каменотёса во многом сродни работе ваятеля, а мечта стать скульптором уже тогда при работе с упрямым и неподатливым камнем пробудилась в его сознании. Он понял, что мрамор твёрд и холоден, но при старании становится податлив и излучает тепло, а прозрачность делает его светоносным.
Когда руки уставали, Микеланджело брал кусок угля или мела и принимался рисовать на камне, на стене и на любой плоскости то, что привлекло его внимание: фигуру человека в различных позах или кряжистое дерево. Бабушка Лиссандра не раз журила внука за «пачкотню», ворчали и соседи, чьи побелённые каменные заборы неожиданно покрывались затейливыми фигурками. Но по прошествии веков, когда имя великого творца обросло легендами, кое-кому очень хотелось обнаружить его якобы сохранившиеся детские граффити в Сеттиньяно и Флоренции.
Как-то, вернувшись домой после прогулки, как всегда, полный новых впечатлений, Микеланджело увидел отца и, поцеловав ему руку, как было заведено в семье, принялся с упоением рассказывать о камнях на рабочем дворе Тополино:
— Они все такие разные, и у каждого своя история.
При упоминании имени каменотёса мессер Лодовико брезгливо поморщился.
— Тебе не следует туда ходить, — недовольно сказал он. — Чему хорошему может научить неотёсанный мужлан-каменщик? Держись подальше от таких людей и знай цену своему имени.
— Это добрые и порядочные люди, — вступилась за Микеланджело бабушка. — Я не вижу ничего дурного в том, что мальчик ходит к ним. Ты бы посмотрел, какие фигурки из глины он вылепил!
— Маменька, ну что вы такое говорите! Ваш внук, не забывайте, — Буонарроти, не чета каким-то там, как бишь их, Тополино.
Поджав недовольно губы, синьора Лиссандра молча удалилась к себе. Как выяснилось, родитель приехал неспроста — сыну пошёл восьмой год. Прошла пора детских шалостей и надо подумать об учёбе.
— Ты засиделся в этой глуши, и бабушка тебя разбаловала. Поехали, увидишь подросших братьев. Лионардо пристроился служкой в монастырской церкви Сан Марко. Глядишь, и дослужится до духовного сана, став семье надёжной опорой — а ведь он всего на полтора года старше тебя. Теперь настал твой черёд.
Мессер Лодовико решил, что пора учить Микеланджело грамоте. Как ни прискорбно, ради этого придётся раскошелиться, чего он больше всего не любил делать. Но не отдаст же он сына в школу для бедняков! В городе ему удалось найти хорошего учителя профессора Франческо да Урбино, автора нового учебника латинской грамматики, который в своё время обучался у знаменитого мантуанского педагога Витторино да Фельтре, основавшего первую в Италии светскую школу, ставшую кузницей по подготовке и выращиванию талантов. Дети многих правителей соседних княжеств были выпускниками этой школы.
Профессор Франческо согласился за умеренную плату взяться за обучение мальчугана азам грамоты и прочим наукам.
— Пойми, мой сын, — принялся отец убеждать погрустневшего Микеланджело. — Ты Буонарроти Симони и не должен, как последний уличный бедолага, работать, а тем паче брать в руки молоток и зубило, словно безродный каменщик.
Отец долго убеждал сына, что в их древнем роду такого не было и не должно быть!
— Обучившись грамоте, станешь адвокатом или банкиром, если повезёт. У нас во Флоренции три десятка банкирских домов, и есть где развернуться. А там, чем чёрт не шутит, можно дослужиться до самой высокой должности в Синьории и стать гонфалоньером справедливости! Тут не руками надо действовать, а умом.
Мессер Лодовико был большим фантазёром в своих помыслах любыми путями разбогатеть. Он искренне надеялся, что в отличие от остальных сыновей Микеланджело, смышлёный не по годам и упрямый, как камень, сможет помочь осуществлению его мечты вернуть роду Буонарроти былое благоденствие.
Но в отличие от родителя, противника физического труда, мальчику постоянно хотелось что-то делать, и он легко находил применение своим рукам и детской фантазии.
Кончилось беззаботное детство, но полученные впечатления навсегда запали в душу ребёнка. После просторного особняка в Сеттиньяно и деревенского приволья родительский дом, зажатый другими зданиями, показался ему тесным, мрачным и неприветливым.
Братья поначалу встретили его недоверчиво и враждебно. Детям была отведена небольшая комната под самой крышей. Старший Лионардо спал на одной кровати с Джовансимоне, Микеланджело делил ложе с Буонаррото, а для меньшого Сиджисмондо на ночь выдвигалась из-под кровати низкая лежанка.
Постепенно дети попривыкли друг к другу, но согласия между ними по-прежнему не было. Каждый день начинался в тесноте с потасовки за обладание башмаками или штанами. Задиристому и несговорчивому Микеланджело нередко доставалось больше всех, когда остальные вчетвером набрасывались на него, доказывая свою правоту.
Дом просыпался рано. Первой спускалась вниз мона Лукреция, на которой держался весь дом. До завтрака она успевала наведаться на ближайший рынок. Прижимистый муж взвалил на жену обязанности служанки и стряпухи. После незатейливого завтрака — булка домашней выпечки и чашка горячего цикория с молоком (кофе заваривался только по воскресным дням) — все расходились по своим делам, если таковые имелись. Микеланджело отправлялся в частную школу грамматика Франческо да Урбино, куда детям с улицы из простых семей вход был заказан — для них были муниципальные и приходские школы. При Лоренцо Великолепном было построено много таких школ для бедняков, и Флоренция стала городом почти поголовной грамотности, где Козимо Медичи, один из столпов знаменитой династии, открыл первую в Италии публичную библиотеку.
Учение давалось Микеланджело легко, но заучивание правил склонения и спряжения вызывало у него скуку. Слова и выражения на латыни он нигде, кроме школы и церкви, не мог слышать — всюду звучал вперемежку с крепкими словечками тосканский говор, богатый народными пословицами и прибаутками. Видя, что нерадивый ученик отвлекается и рисует мелком на грифельной дощечке какие-то фигурки, учитель стал строго выговаривать:
— Учти, без знания латыни ничего путного из тебя не выйдет.
— А как же Данте? — спросил ученик. — Он же не писал на латыни, как вы сами рассказывали, да и никто нынче на ней не говорит, разве что священники.
Учитель оторопел от такой дерзости, притихли и другие школяры. Собравшись с мыслями, он начал долго объяснять, почему великий поэт, начавший писать «Божественную комедию» на латыни, отошёл от неё, но так и не убедил ученика, задавшего заковыристый вопрос. Его постоянно изумлял независимостью суждений этот бойкий чернявый ученик, и он уже махнул рукой на его художества — но однажды при встрече всё же пожаловался мессеру Лодовико на нерадивого сына.
Пришлось мальчику держать ответ перед родителем. В это время на пороге появился дядя Франческо со своим складным стулом, называемым по-итальянски banca, в котором уличные менялы держали деньги, отчего слово «банк» вскоре пошло гулять по всему белу свету.
— Мир дому сему! — весело поприветствовал дядя Франческо собравшихся за столом родичей. — Дождь прогнал меня с насиженного места.
Микеланджело хорошо знал это место перед центральным рынком и после уроков обходил его стороной, чтобы не попасться на глаза дяде — уличному меняле, большому любителю поучать и давать советы.
— Вот полюбуйся на этого оболтуса! — сказал мессер Лодовико, показывая брату тетрадь сына с рисунками. — Я за его учёбу плачу деньги, и немалые, а он развлекается, портя тетрадь и рисуя на стенах.
— Вижу, племянничек, ты совсем одичал в деревне, — поддержал отца дядя. — Чем же тебе не угодила школа?
— Я хочу рисовать, — пробурчал в ответ Микеланджело, опустив голову. — Моя мечта стать художником.
Отец отвесил ему звонкую пощёчину.
— Я из тебя вышибу эту дурь!
— Папенька, не бейте братика! — запричитал шестилетний Буонаррото, повиснув на руке отца. — Он больше не будет.
— И в кого ты такой уродился? — никак не мог успокоиться мессер Лодовико. — Видать, порча перешла от матери и её родичей Ручеллаи.
— От них все эти причуды, больше не от кого, — согласился с ним брат Франческо.
Микеланджело впервые услышал имя покойной матери, так как ни у бабушки, ни дома его никогда вслух не произносили.
— Выпороть его следует как Сидорову козу, — пригрозил отец, — чтоб не позорил наш род!
Когда на следующий день Микеланджело явился в класс с синяком под глазом, профессор Франческо да Урбино, противник физического наказания лентяев и шалунов (надо отдать ему должное), больше не обращался с жалобами к строгому родителю.
Время шло, но в доме не утихали ссоры из-за упорства Микеланджело в своём желании рисовать. Ему крепко доставалось от отца, дяди, его жены Кассандры и от братьев, которым было непонятно его увлечение. Он был непохож на других, а в мальчишеской среде такое каралось самым строгим образом. Как ни прятал он свои рисунки в укромных местах, домашние их отыскивали и со злорадным изуверством рвали в клочья и бросали в печь.
Одна только мачеха Лукреция держалась в стороне и не вмешивалась в семейные споры, за что Микеланджело был ей признателен — особенно когда она вырывала у мужа розгу. Её главной заботой было накормить и обиходить эту шумную недружную ораву.
* * *
Вечные попрёки и порка возымели действие, и мальчик с грехом пополам усвоил азы латинской грамматики, а вскоре, увлекшись, начал читать по складам тексты на латыни и перед сном пересказывать братьям прочитанные в книгах забавные истории.
После занятий по дороге домой школяр Микеланджело обычно не торопился, любуясь красотами города, который он полюбил, делая в тетради карандашом зарисовки. Флоренция своей строгой красотой пленила юное сердце. Прежде всего его интересовала скульптура, с которой он сталкивался на каждом шагу. В те годы главную колокольню, возведённую по проекту Джотто, украшали изваяния Донателло, чьи скульптуры стояли также в нишах фасада церкви Орсанмикеле.
Однажды отец взял его с собой на какой-то торжественный раут во дворец Синьории, где в одном из залов он увидел великое творение Донателло «Юдифь с отрубленной головой Олоферна», а перед скульптурой огромный венок пунцовых роз, перевитых золотыми нитями, с алой лентой, на которой было написано золотом, что правительство и граждане Флоренции чтут память великого земляка по случаю столетия его рождения.
Стоя перед любым изваянием и проводя рукой по его гладкой или шероховатой поверхности, Микеланджело всякий раз вспоминал двор каменотёса Тополино, понимая, сколько труда вкладывается в добытый в каменоломне, а затем тщательно обработанный камень, прежде чем он попадёт к ваятелю и оживёт под его умелым резцом, превратившись в скульптуру.
Особое впечатление на мальчика произвели третьи бронзовые двери с рельефами Гиберти в Баптистерии (крещальне) Сан Джованни, приземистом восьмиугольнике, облицованном цветным мрамором. В его серебряной купели был крещён Данте, родившийся неподалёку в родовом гнезде, напоминающем крепость. Микеланджело не мог помнить городок Капрезе, где появился на свет, и с гордостью считал себя истинным флорентийцем, крещённым в купели того же Баптистерия. О «милом Сан Джованни» постоянно вспоминал Данте, тоскуя в изгнании. Позже с лёгкой руки Микеланджело бронзовые двери крещальни стали называть «Райскими вратами».
В те годы фасад кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре не был ещё облицован мрамором, и видна была голая кладка из бурого замшелого кирпича. Флорентийцы считали, что каждый кирпичик положен в честь той или иной семьи. Оказываясь перед собором, Микеланджело тоже полагал, что один из кирпичей среднего ряда посвящён памяти его рода Буонарроти.
Он любил свой город с его разноголосицей и вечно о чём-то спорящими флорентийцами. Единственно, чего не хватало юнцу, чьё раннее детство прошло на приволье в деревне среди холмов, поросших лесами, — это зелени. Несмотря на название Флоренции — Firenze, город цветов, — камень в ней вытеснил всякую растительность, а сады украшали лишь окраины и внутренние дворы дворцов и монастырей.
Подросток впитывал в себя атмосферу бурлящей страстями Флоренции. Он был плоть от плоть этого шумного, неугомонного и спесивого города. Бродя по лабиринту его узких улочек с лавками ремесленников и художественными мастерскими, юнец прислушивался к доносящимся оттуда бесконечным спорам на сочном и образном тосканском говоре. Здесь не делали различия между горним и земным, между Гомером и Данте.
Флорентийцам до всего было дело, и если что не так, немедленно поднималась волна возмущения вплоть до открытых стычек со стражами порядка. Проекты гражданских или культовых сооружений, заказы на новые монументы и фресковые росписи — всё это выносилось городскими властями на обсуждение флорентийцев, обладавших, надо признать, врождённым художественным вкусом, привитым с детства.
Славящаяся по всей Европе своим богатейшим культурным наследием Флоренция была городом искусных ремесленников высочайшего класса, из чьих мастерских вышло немало талантливых архитекторов, скульпторов и художников.
Однажды после занятий мальчик забрёл в церковь Санта Мария Новелла, привлечённый её белоснежным мраморным фасадом. Там в центральном нефе он увидел группу ребят, прикладывавших большой разрисованный картон к одной из стен. На высоком табурете восседал полноватый черноволосый человек, руководивший их действиями.
— Осторожно! Не порвите картон, — командовал он. — Подвиньте чуть левее. Хорошо. А теперь немного выше.
Заметив восхищённый взгляд Микеланджело, к нему подошёл один из парней.
— Нравится? — спросил он.
Они познакомились и, отойдя в сторонку, разговорились. Франческо Граначчи, так звали нового знакомого, который был года на четыре постарше, рассказал, что скоро здесь начнётся роспись по эскизам маэстро Гирландайо.
— Приходи завтра в это время, — предложил Граначчи, — я покажу тебе свою работу. Ты сам увидишь, с чего начинается фресковая живопись. Вижу, что тебя это интересует.
Эта случайная встреча сыграла большую роль в дальнейшей судьбе отрока, влюблённого в искусство. Он долго не мог уснуть в ту ночь, вспоминая увиденное днём в светлом храме с витражами.
На следующий день учитель Франческо да Урбино, почувствовав недомогание из-за осеннего ненастья, закончил урок пораньше, и довольный Микеланджело помчался в Санта Мария Новелла. На этот раз один из картонов был прочно закреплён к стене, покрытой свежим раствором.
Стоя на сколоченных у стены мостках, подмастерья костяным шилом прокалывали картон по линии рисунка и покрывали образовавшуюся пунктирную линию тампоном, смоченным угольной пылью, чтобы она оставила отчётливый след на стене.
— Теперь картон снимут, — пояснил Граначчи, — и начнётся роспись по свежей штукатурке, на которой пунктиром закреплён рисунок.
Микеланджело притаился в углу на скамейке, не спуская глаз с нового знакомого, который поднялся на мостки и приступил к росписи. Держа палитру в левой руке, он быстрыми мазками расписывал подготовленный участок стены, то и дело бросая взгляд на лежащий рядом эскиз. Боже, как мальчик ему завидовал! Прямо на глазах глухая стена храма оживала, обретая телесность фигур и глубину.
Тем временем другие подмастерья стали покрывать свежим раствором соседний участок стены. Подошедший мастер Гирландайо внимательно следил за их работой.
— Подравняйте слой мастерком, — советовал он снизу, — чтобы не осталось ни одного бугорка и пупырышка.
Раздался звон церковного колокола, оповещавшего о часе трапезы. Сделав последний мазок, Граначчи спустился с мостков, вытер руки и подошёл к Микеланджело, всё ещё находящемуся под впечатлением увиденного.
— Пойдём во дворик, — предложил ему Граначчи. — Там и перекусим.
Он расстелил на мраморной лавочке белую тряпицу и разложил хлеб, сыр, ветчину и нарезанную ломтиками дыню, а из журчащего рядом фонтанчика набрал в кружку воды.
— Угощайся! Мать каждое утро набивает мне сумку, чтоб я не отощал, — весело объяснил он своему юному сотрапезнику. — После долгих споров родичи в концов концов смирились с моим намерением стать художником. У отца шёлкоткацкая фабрика, и я снабжаю его рисунками для тканей — пока он доволен.
— Тебе повезло, — грустно сказал Микеланджело, — а вот меня отец прочит в адвокаты.
— Не печалься. Если ты серьёзно хочешь заниматься искусством, никто и ничто не может тебе помешать. Краем глаза я заметил, как ты что-то рисовал. Покажи!
Смутившись, Микеланджело показал ему выполненный им набросок, на котором изобразил Граначчи стоящим на мостках с палитрой в руке. Тот долго рассматривал рисунок, а под конец сказал:
— И твой отец хочет зарыть этот талант под спудом конторских бумаг? Какая глупость! Мне понадобился не один год, чтобы научиться так рисовать!
Граначчи стал доказывать, что новому другу просто необходимо поступить в мастерскую Гирландайо, который ценит талантливых юнцов.
— Правда, — сказал он, — в последнее время мастер стал особенно придирчив к качеству рисунка, обращая внимание на точную прорисовку деталей. Но это дело поправимое. Я кое-что придумал.
По дороге к дому Граначчи забежал на минутку в мастерскую и вынес взятый из папки мастера один из рисунков, вручив его Микеланджело.
— Возьми это и смотри не помни! Сделай свою версию, а там посмотрим, что из этого получится.
На том и расстались. Микеланджело вернулся домой в сильном возбуждении. К счастью, отца не было. Лукреция сказала, что он задерживается в городе с каким-то важным клиентом. Отказавшись от обеда, Микеланджело сказал, что успел с товарищем перекусить после уроков, и прошел в кабинет отца, где нашёл чистый лист добротной бумаги, надеясь, что пропажа останется незамеченной. Последнее время от него прятались бумага и карандаши. Братья уже пообедали и где-то по обыкновению шатались без дела.
Он уединился у себя и принялся рассматривать эскиз Гирландайо к фреске. На нём был изображён отрок, наблюдающий за сценой коронации Девы Марии. Видимо, ему не всё пришлось по вкусу в рисунке мастера, и он сделал набросок собственной версии того же сюжета. Аккуратно сложив оба рисунка, он уложил их в ранец.
Всю ночь Микеланджело проворочался в постели, думая о своём рисунке и порываясь встать, чтобы внести исправления, пока сон не сморил его. Под утро его разбудили щелчок по стеклу брошенного камешка и свист нового друга, жившего неподалёку. Он осторожно соскользнул с кровати, стараясь не разбудить мирно посапывающего Буонаррото и не наступить на спящего в ногах на раскладушке Сиджисмондо. Быстро одевшись и взяв ранец, он спустился вниз, пройдя через кухню. Лукреции там не было — ушла спозаранку, как обычно, на рынок за провизией.
— Ну и здоров же ты спать, соня! — высказал своё недовольство Граначчи. — Верни эскиз, мне нужно успеть положить его на место до появления мастера.
Они разбежались в разные стороны — Граначчи в мастерскую Гирландайо, а Микеланджело в школу Но там образовался временный перерыв — из-за прохудившейся крыши прогнил потолок и класс залило водой.
Микеланджело решил воспользоваться отменой уроков на несколько дней, чтобы навестить бабушку Лиссандру, а заодно поразмыслить на приволье о дальнейшей своей судьбе и появившейся возможности поступить на ученье в художественную мастерскую.
Отец рано утром ушёл по делам, а братья не думали ещё вставать, болтая о всяких пустяках. Добрая Лукреция собрала ему узелок в дорогу.
— Молодец, что бабушку не забываешь! — проводила она его добрым напутствием.
Глава IV СУДЬБА КАМЕНОТЁСА
С высокой кручи гордого утёса,
Где в детстве душу с камнем породнил,
Я вниз сошёл, когда набрался сил,
Связав себя с судьбой каменотёса (275).
Дорога вела по правому берегу Арно до Ровеццано, где у причала обычно грузятся баржи с песком, щебнем и камнем. Далее дорога круто свернула влево и поползла вверх, петляя среди холмов вдоль русла пересохшей речушки. Позади осталась огороженная высокой каменной стеной с коваными воротами вилла богачей Строцци, а дальше среди сосновых боров на холмах сплошь действующие каменоломни, узнаваемые издалека по визгу пил и звенящим ударам молота о долото. К этой музыке он был приучен с детства.
Навстречу показалась спускающаяся вниз длинная повозка с впряжённой четвёркой волов, гружённая готовыми каменными блоками. Микеланджело весело поприветствовал знакомого возницу, который умело придерживал волов на спуске, покрикивая на них гортанным голосом. Всё здесь было знакомо мальчику с тех пор, когда он бродил по холмам и лесам. А вот на пригорке и родительская усадьба со сверкающим под лучами солнца домом из белого камня.
Бабушка Лиссандра была несказанно рада визиту любимого внука. Пока она охала и причитала по поводу его худобы, готовя угощение, Микеланджело спросил, почему в их доме никогда не упоминается имя его матери. И бабушка рассказала, как, оставшись с пятью сиротами на руках после смерти Франчески, его отец решил обратиться к её родичам и прямиком направился во дворец Ручеллаи. Он напомнил им о так и не полученном приданом, которое было обещано ему перед свадьбой. Но те грубо выставили его за дверь, нанеся роду Буонарроти кровную обиду. Злоба на них перекинулась и на бедную Франческу, которая была приёмной дочерью этих скупердяев.
Микеланджело прошёл в детскую, где до сих пор стояла его люлька. Но как ни старался, напрягая память, так и не смог вспомнить мать — остались только расплывчатый образ и ощущение её нежных рук, когда она, склонившись над ним, меняла подгузник.
За обедом бабушка завела разговор о том, как трудно отцу справляться с детьми, которых необходимо поставить на ноги, когда жизнь дорожает, а былые накопления с каждым днём тают.
— Его надо понять. Особенно ему не перечь. Хочешь стать художником, поступай, как тебе подсказывает сердце, но действуй по-умному. Если понадобятся деньги для платы за обучение, я помогу, но отцу об этом ни слова.
Поддержка бабушки оказалась как нельзя кстати. Чтобы развеяться, он направился по знакомой дорожке к дому каменотёса Тополино, где его тепло встретили как старого друга. Особенно ему рады были ребята, которые засыпали вопросами о житье-бытье во Флоренции, а мона Маргарита не знала, чем угостить дорогого гостя.
Младший Энрико, его ровесник, спросил, пока отца не было рядом:
— А есть у тебя девушка, Микеланьоло?
Остальные братья рассмеялись:
— Он у нас влюбился в одну девчонку, дочь соседа-каменотёса, и получает за это оплеухи от родителя.
За младшего сына вступилась мона Маргарита, сказав, что о любви говорить рано, а в дружбе с хорошей девочкой нет ничего зазорного и грешно над этим смеяться. Затем все направились на рабочий двор.
— Ну что, учение грамоте ещё не отбило у тебя охоту стать художником? — спросил Тополино, отложив в сторону молоток и зубило.
Микеланджело рассказал о своих планах поступить в мастерскую Гирландайо, но это зависит теперь от согласия отца.
— Что и говорить, Гирландайо славный живописец, — согласился тот, — у него многому можно научиться. Но камень не его стихия. А вот у нас на карьере до сих пор красуются твои рисунки на глыбах — их даже дождь не берёт, столь сильна была в тебе страсть к искусству.
— Она ещё пуще окрепла, дорогой мастер. И я бесконечно благодарен вам за полученные навыки и знания. А Гирландайо мне нужен только для того, чтобы набить руку в рисунке, прежде чем приступить к настоящей работе в мраморе.
— Кто с малолетства с камнем дружен, тот хранит ему верность до конца. Не изменяй своему призванию, тогда всё само собой образуется, — пожелал ему на прощанье добрый каменотёс, которого Микеланджело не зря назвал «мастером», ибо Тополино мог творить с камнем настоящие чудеса.
Домой он вернулся полный надежд на будущее, которое ему рисовалось в самом радужном свете. А какие ещё могут быть мечты у тринадцатилетнего отрока, одержимого желанием проявить себя в искусстве? Юнец жил и дышал только этим — а иначе для чего он родился на свет?
Наконец наступил решающий момент, и знаменитый живописец по просьбе Граначчи, которого он ценил как толкового подмастерья и к его мнению прислушивался, согласился посмотреть работы его молодого друга.
* * *
Доменико Бигорди, или Гирландайо, своим необычным прозвищем обязан отцу — золотых дел мастеру, который прославился изготовлением гирлянд из тончайших переплетений золотых и серебряных нитей, украшавших шляпки флорентийских модниц. Но сын не пошёл по стопам отца. Мастерству художника он обучался у Алессо Бальдовинетти. Это одна из самых загадочных фигур в истории флорентийской живописи, много занимавшийся научными изысканиями в различных областях и даже музыкой. Считается, что его опытами с красками интересовался начинающий Леонардо да Винчи, именно от него воспринявший так называемое sfumato, то есть лёгкую дымчатую манеру письма.
От своего учителя Гирландайо познал секреты красок и приготовления особых смесей для грунтовки, став одним из почитаемых живописцев Флоренции. Громкую славу он обрёл после поездки по приглашению папы Сикста IV в Рим, где вместе с Перуджино, Росселли, Синьорелли и Пинтуриккьо расписывал фресками боковые стены Сикстинской капеллы. Их совместная работа была высоко оценена современниками.
По возвращении на родину Гирландайо открыл свою мастерскую, которую держал вместе с младшим братом Давидом. У среднего брата Бенедетто было своё дело, и он жил отдельно. Их сестра была выдана замуж за художника Себастьяно Майнарди, который остался в мастерской двух шуринов, следя за порядком и работая с их учениками.
Гирландайо был не только монументалистом, автором больших многофигурных фресковых циклов, но и хорошим портретистом. В церкви Санта Мария Новелла на одной из фресок центральной капеллы можно увидеть его автопортрет, написанный по отражению в зеркале, а также портреты отца, брата Давида, заказчика и друга Джованни Торнабуони с женой. Там же имеется редкое и, пожалуй, единственное изображение его учителя Алессо Бальдовинетти в образе благообразного седобородого старца в красном плаще с капюшоном.
Мастерская Гирландайо мало чем отличалась от других живописных мастерских, где хозяин, ученики и подмастерья жили единой семьёй, деля вместе успехи и неудачи. Гирландайо отличался добрым покладистым характером и охотно делился знаниями с учениками и подмастерьями, которые любили его, хотя и побаивались. Над его рабочим столом на стене висел типичный тосканский пейзаж, а под ним броская надпись вроде лозунга: «Учитесь у матери-природы!»
Особую известность ему принесли многофигурные росписи во флорентийских церквях. На них наряду с библейскими персонажами горожане узнавали самих себя, своих правителей и знаменитых сограждан. На одной из фресок можно увидеть многочисленное семейство Медичи, поэтов Пульчи, Полициано и других известных флорентийцев. Например, в сцене Сретения среди девушек, сопровождавших Деву Марию и Елизавету, он написал портрет известной флорентийской сердцеедки Джиневры Бенчи, поразившей своей красотой молодого Леонардо да Винчи.
Настенные росписи Гирландайо были настоящей живописной хроникой городской жизни, как официальной, так и повседневной во всех её узнаваемых деталях. Как-то он признался в кругу друзей, что хотел бы украсить фресками и мозаикой крепостные стены Флоренции по всему периметру, чтобы прославить великих людей и славные деяния родного города. Но смерть от чумы в возрасте сорока пяти лет не позволила ему осуществить свой грандиозный замысел.
Прежде чем отправиться в мастерскую Гирландайо, новый друг, взглянув на Микеланджело, посоветовал ему одеться поприличнее:
— Надень хотя бы чистую рубаху, а то выглядишь как босяк с улицы.
— Мне важно, чтобы рисунок понравился мастеру, а моя внешность — дело десятое, — отпарировал Микеланджело.
В отличие от братьев, которые вечно спорили, кому полагаются новые башмаки или рубаха, он был равнодушен к одежде и до конца дней своих ходил в посконном одеянии и стоптанных башмаках, чем приводил в изумление своих высокопоставленных заказчиков и друзей.
Когда он переступил порог известной мастерской — просторное помещение с высоким потолком, — его поразили многолюдие и дым коромыслом. За длинным столом с десяток учеников толкли в ступках в мелкий порошок пигменты, мел и уголь, другие варили на жаровнях клеевые смеси для грунтовки или шлифовали наждаком и пемзой доски для будущих картин.
На возвышении, как на авансцене, за дощатым столом, поставленным на козлы, восседал Гирландайо, а ниже полукругом стояли мольберты с закреплёнными картонами, за которыми работали подмастерья, обмениваясь между собой последними сплетнями и шутками. До его слуха донеслось язвительное замечание из-за одного из мольбертов: «Спектакль начинается — ещё один проситель заявился».
Но Микеланджело не растерялся и, подойдя к помосту, громко представился.
— Не кричи, я не глухой, — остановил его мастер. — Мне Граначчи сказывал, что ты хотел бы поступить в мою мастерскую. А сколько тебе от роду?
— Тринадцать.
— Немного поздновато, — сказал Гирландайо. — Ко мне поступают на ученье лет с десяти. Но покажи, коли пришёл, на что ты способен.
Микеланджело вынул из-за пазухи свой вчерашний рисунок и, расправив его, положил перед мастером, с трудом дотянувшись до его стола.
— Постой-ка! — воскликнул Гирландайо с изумлением и, раскрыв папку на столе, вытащил оттуда почти тот же самый рисунок.
Он принялся сравнивать оба листа, не веря своим глазам и бормоча про себя: «Возможно ли такое сходство? Да нет, мне померещилось». Окликнув проходившего мимо брата, попросил:
— Давид, взгляни на эти рисунки. Что скажешь? Каково твоё мнение?
Тот подошел к столу и, бросив взгляд на листы, уверенно сказал:
— Этот, что справа, — он ткнул пальцем в рисунок, принесённый Микеланджело, — твой, а другой кого-то из учеников и, по-моему, тоже неплохой, но несколько статичный и вялый.
Вот тебе раз! Гирландайо не нашёлся, что ответить. По его лицу можно было видеть, что он в полном недоумении и растерянности, хотя и понял, что брат второпях, конечно же, ошибся, приняв его рисунок за ученический.
Но сходство его поразило. «Если этот парень сумел переплюнуть меня в рисунке, — рассуждал он сам с собой, — мне придётся скоро закрыть нашу лавочку».
Стоящему перед ним Микеланджело не терпелось услышать суждение мастера, так как снизу он не мог разглядеть, на какой из рисунков указал пальцем Давид. Но насторожили его слова о том, что рисунок ученика неплохой, хотя «несколько статичный и вялый».
Не такого суждения он ожидал услышать, ибо вложил в свой набросок немало усилий, добиваясь его живости и выразительности. Он порывался уже спросить, в чём выражается «вялость» рисунка, но Граначчи вовремя удержал его.
Гирландайо отвел взгляд от рисунков и спросил:
— Скажи, а почему ты изобразил отрока нагим?
— Такими нас сотворил Господь, — с готовностью ответил Микеланджело. — Одежда скрывает истинную суть человека и искажает божественный замысел.
— Где ты нахватался таких идей?
— Об этом, мастер, говорится в Писании.
Подмастерья и ученики подошли поближе, заинтересовавшись странным разговором их наставника с неизвестно откуда взявшимся пареньком небольшого роста, но языкастым — такой за словом в карман не полезет.
Всё ещё не придя в себя, Гирландайо пообещал подумать. Ему было не по себе — горло пересохло от волнения, и он попросил подать стакан воды.
«Но у кого этот сопляк учился рисунку? — старался он понять. — Вероятно, у моего соперника Росселли или у нашего баловня судьбы Боттичелли».
— Приходи в следующий раз и приноси новые рисунки, — тихо промолвил Гирландайо, дав понять, что разговор закончен.
По дороге к дому Граначчи поздравил молодого друга с удачным началом.
— Но впредь не перебарщивай в разговоре с мастером! Он этого не терпит.
— Сейчас речь о другом, — возразил Микеланджело. — Сдаётся мне, что отец не уступит. Вот если бы Гирландайо согласился платить хоть самую малость за моё обучение в его мастерской, тогда бы…
— Об этом даже не заикайся, — резко перебил его старший товарищ. — Лучше постарайся подготовить хорошие рисунки для следующей встречи.
Уже к вечеру по городу разнеслась весть о том, как Гирландайо попал впросак, беседуя с безвестным парнем. Во флорентийских мастерских и салонах эта новость обсуждалась на все лады, и впервые среди художников прозвучало имя Микеланджело, которое навеки прославило Флоренцию.
К счастью, Гирландайо не заметил подвоха и не прогнал его со скандалом, а такое могло произойти. После ухода мальчика мастер долго ещё рассматривал его рисунок, узрев в нём не свойственную живописи пластичность фигуры, что скорее характерно для скульптуры. Тогда он успокоился и забыл о странном казусе, заставившем его изрядно поволноваться.
* * *
С головой уйдя в работу, Микеланджело оттачивал рисунок, но успевал бывать и на уроках Франческо да Урбино. Тот уже понял истинное призвание юнца и на его прогулы смотрел сквозь пальцы, а при встрече в городе с мессером Лодовико ни разу не обмолвился о проказах его сына, явно покрывая ученика, который вызывал у него всё больший интерес своей ершистостью и независимостью духа.
Большую помощь мальчику на первых порах оказывал добрым советом Граначчи. Он снабжал его хорошей бумагой, карандашами и всячески поддерживал Микеланджело, к которому привязался всей душой, высоко ценя его особый дар. Объективности ради стоит сказать, что однажды уже в Риме Микеланджело несправедливо обошёлся с другом, отплатив ему чёрной неблагодарностью, что не делает ему чести. Размолвки с друзьями порой принимали у него резкие формы, причиной чему была одержимость в работе, а угрюмость и тяжелый характер, дававшие о себе знать в зрелые годы, отпугивали от него людей.
Изучая работы лучших мастеров, Микеланджело побывал в храмах Троицы и Всех Святых (Оньисанти), где сделал несколько зарисовок с фресок Гирландайо, внеся в них свои поправки. Однако самое сильное впечатление он получил в церкви Санта Мария дель Кармине на левом берегу Арно, где в капелле Бранкаччи впервые увидел гениальные фрески Мазаччо, перевернувшие его прежнее представление о живописи. Потрясение было столь велико, что у него задрожало всё внутри, а пальцы были не в силах удержать карандаш. Такого он ещё нигде не испытывал. Ему пришлось еще не единожды наведаться в храм, чтобы проникнуться глубиной великого произведения Мазаччо и осознать совершённый им переворот в живописи, о чём Микеланджело мог уже вправе судить, так как упорно изучал лучшие творения флорентийского искусства в различных храмах и часовнях от Чимабуэ и Джотто до Боттичелли и Гирландайо.
Как считает Вазари, среди итальянских живописцев Мазаччо первому удалось совершить смелый прорыв к «подражанию вещам в том виде, как они есть», и на его фресках люди наконец прочно встали на ноги. Не одно поколение художников тщетно билось над проблемой пространства, которую Мазаччо с блеском разрешил, так что изображённые им фигуры, дома и деревья обрели своё место в пространстве, чётко оправданное геометрически.
В отличие от размытых теней на фресках Джотто, которые Микеланджело видел и копировал в Санта Кроче, у Мазаччо главными формообразующими элементами на фреске являются свет и тень, которые придают объёмам материальную осязаемость, что заставило Микеланджело глубоко задуматься, ибо такого он не встречал ни у одного мастера. В сценах изгнания из рая Адама и Евы и крещения язычников апостолом Петром он увидел яркий пример нового понимания сущности нагого тела. Для Мазаччо нагота не была лишь объектом изучения, когда каждый мускул или сустав выписываются с максимальной точностью, словно их изображение служит пособием по анатомии. Такое Микеланджело позднее увидел на гравюре Антонио Поллайоло «Битва обнажённых» в богатой коллекции рисунков Гирландайо, но его не убедило и оставило равнодушным чисто поверхностное решение сражающихся бойцов.
Увидев однажды, как сын постарался незаметно прошмыгнуть к себе наверх, держа под мышкой рулон бумаги, мессер Лодовико остановил его и предложил присесть к столу, за которым уже восседали дядя Франческо с женой, а Лукреция демонстративно ушла на кухню, словно предчувствуя неладное.
— Насколько я понимаю, — начал разговор отец, — ты не оставил ещё затею с художеством и продолжаешь заниматься пачкотнёй?
— Вы совершенно правы, синьор отец, — спокойно ответил Микеланджело, не решаясь присесть. — Отныне для меня это вопрос жизни и смерти.
В его спокойном голосе слышалась непреклонная решимость, а глаза загорелись таким огнём, что Лодовико отвел взгляд и беспомощно развёл руками, глядя на брата:
— Ну что с ним, скажи на милость, прикажешь делать?
— Да он просто смеётся над нами! — возмутился дядя Франческо, вскочив с места. — Уж лучше бы он записался в цех шерстяников и мотал пряжу, чем вступать в цех аптекарей и иметь дело с красками. Хотя позора не оберёшься ни там, ни здесь и ниже опускаться уже некуда.
— Погоди, брат, не горячись! — прервал его мессер Лодовико. — Итак, ты решил, любезный сын, учиться на живописца. А кто, позволь всё же тебя спросить, будет оплачивать эту твою прихоть?
— Заверяю вас, дорогой отец, что вскоре мне удастся убедить одного известного живописца платить мне за обучение. Поверьте, что все заработанные мной деньги я буду отдавать вам, — решительно заявил Микеланджело.
Не дожидаясь, что ответит ошарашенный этой новостью родитель, и не желая нового скандала, он быстро ретировался.
Намеченную встречу с мастером Микеланджело всё откладывал, несмотря на постоянные напоминания друга Граначчи, которому он как-то признался, что испытывает внутреннюю робость.
— Пойми меня правильно, — доказывал он другу, — ведь мы совершили подлог!
— Подлога никакого не было, и ради бога, выкинь ты историю с рисунком из головы и успокойся! Это была лишь шутка, которая пошла всем на пользу: Гирландайо убедился, что его эскиз отнюдь не безупречен, а ты показал ему, на что способен. Вот и всё.
Наконец, собравшись с духом, Микеланджело отобрал вместе с другом наиболее удачные, на его взгляд, рисунки, и оба направились к Гирландайо. На сей раз мастерская была почти пуста. Лишь два ученика, вооружившись мётлами, убирали стружки под верстаками и прочий мусор.
— Всех отправил в Санта Мария Новелла, чтобы в тиши поработать над эскизом, — сказал мастер, заметив удивление на лице Граначчи. — Ну а твой юный друг чем на сей раз собирается удивить?
Микеланджело разложил перед Гирландайо пять рисунков.
— Когда же ты успел? — подивился тот, рассматривая их. — А вот и сюжет, напоминающий мой в Троицкой церкви. У тебя он выглядит недурно. Похвально! Но что я вижу?
Он приблизил к глазам один из рисунков.
— Ты решил подправить самого Мазаччо? Смело, но пока не очень убедительно. Надо ещё поработать.
Микеланджело хотел что-то сказать, но Граначчи дернул его за рукав. Гирландайо был в благодушном настроении, и рисунки произвели на него впечатление своей добротностью и, главное, любовью юного рисовальщика к предмету, чего так не хватало многим его ученикам.
— Так ты хочешь поучиться или поработать у меня в мастерской?
— И то и другое, мастер, — последовал ответ. — Только вот…
Микеланджело запнулся, бросив взгляд на Граначчи.
— Коли начал, продолжай! — потребовал Гирландайо, которому этот чернявый паренёк всё больше нравился. В нём он опытным глазом узрел редкий талант самой высшей пробы, а для продолжения начатой росписи в Санта Мария Новелла и в преддверии намечаемого грандиозного проекта, деньги на который обещала выделить городская казна, он нуждался не в заискивающих взглядах учеников и подмастерьев, не имеющих собственного мнения и во всём с ним согласных. Ему сейчас были нужны, как никогда, именно такие сорванцы с горящими глазами, способные в чём-то его переубедить, как это случилось на днях с его эскизом, когда он чуть не лишился дара речи от изумления.
— Всё дело в моём отце. Он может дать согласие на моё поступление в вашу мастерскую, если при этом мне будет вами установлена определённая плата.
Гирландайо, никак не ожидавший такого оборота разговора и удивленный смелостью парня, неожиданно расхохотался.
— Ну и наглец же ты! Такого мне ещё ни от кого не приходилось слышать! — весело заявил он и, подумав, добавил: — А может быть, и прав твой родитель. Веди меня к нему, я с ним, надеюсь, сумею договориться.
Граначчи был поражён не менее Микеланджело, который сиял от радости.
— Кто бы мог подумать, — удивился друг, — что Гирландайо примет твои условия! Это просто чудо! Меня он долго мурыжил, и если бы не отец, который с ним обо всём договорился, я бы никогда не попал в его мастерскую.
Микеланджело про себя с гордостью подумал: «А мне вот не надо было никого просить о помощи. Мой рисунок оказался самым действенным помощником».
Глава V В МАСТЕРСКОЙ ГИРЛАНДАЙО
От ветра пламя пуще полыхает.
Так и талант, дарованный нам свыше,
Не чахнет в испытаньях, а мужает (48).
В назначенный день и час Гирландайо с братом Давидом появились перед домом мессера Лодовико Буонарроти. Там их ждали, хотя хозяин дома всё ещё не мог поверить, что за обучение сына прославленный живописец, один из приближённых самого Лоренцо Великолепного, готов платить ему! Может быть, этот разгильдяй Микеланджело и впрямь чего-то стоит?
Когда гости вошли, первым, что их поразило, стало полное отсутствие даже намёка на духовную жизнь — ни книг, ни картин. Не было даже образов святых на стенах. Зато бросились в глаза ковры и массивная мебель с аляповатой отделкой и претензией на роскошь.
«Как в такой убогой и бездуховной атмосфере мог появиться столь редкий талант?» — мысленно спрашивал себя Гирландайо, оглядевшись по сторонам.
Разговора не получилось. Волнуясь, мессер Лодовико отвечал невпопад, бросая косые взгляды на скромно стоящего в сторонке сына, из-за которого разгорелся весь этот сыр-бор. К нему вернулось привычное состояние довольного собой обывателя, лишь когда он по просьбе художника подошёл к секретеру и, обмакнув перо в чернильницу, стал писать — в таких делах он знал толк:
«Год 1488, первый день апреля, — так начал мессер Лодовико, сын Лионардо ди Буонарроти Симони, договор о том, что он отдаёт своего сына Микеланджело на учёбу к Доменико и Давиду Гирландайо на три года с сего дня на следующих условиях: названный Микеланджело остаётся у своих учителей все эти три года в качестве ученика для обучения живописи; кроме того, он должен будет исполнять различные поручения хозяев. В вознаграждение за его услуги братья Гирландайо будут платить ему шесть флоринов в первый год, восемь — во второй и десять — в третий год».
— А теперь, сиятельные синьоры, — заявил мессер Лодовико, перечитав написанное, — подпишите договор и соблаговолите уплатить аванс. Вот вам моя расписка.
Выполнив всё положенное, гости покинули неприветливый дом, сопровождаемые своим новым учеником. Очутившись на улице, братья Гирландайо вздохнули с облегчением полной грудью после спёртого воздуха дома Буонарроти, где окна никогда не открывались, так как хозяин боялся сквозняков пуще нечистой силы.
Мечта сбылась, и теперь по утрам Микеланджело торопился не в надоевшую до тошноты школу грамматика Франческо да Урбино, а в мастерскую Гирландайо. А вот мессер Лодовико, несмотря на полученный аванс, долго ещё пребывал в подавленном настроении. Такого позора в собственном доме, когда ему пришлось вопреки своей воле подписать контракт, он ещё не испытывал. Сын, на которого он возлагал большие надежды, выделив среди остальных детей и не скупясь на его обучение, переупрямил, шельмец, отца. Что теперь на это скажут знакомые адвокаты, нотариусы и прочие бумагомараки? В их глазах он станет посмешищем. Прав был уважаемый в городе нотариус мессер Пьеро да Винчи, который однажды выгнал со скандалом из дома своего непутёвого сына-художника…
Обычно Микеланджело появлялся в мастерской одним из первых. Кроме него и Граначчи, остальные ученики и подмастерья были в основном сыновьями ремесленников, пекарей, портных, сапожников, брадобреев — одним словом, низших слоёв общества, что сказывалось на их поведении, повадках и речи. По-настоящему преданных делу было раз-два и обчёлся, а остальные проявляли безразличие к учёбе и при всяком удобном случае отлынивали от порученного дела.
Для многих вечно голодных парней важнее учёбы была дармовая кормёжка в мастерской, на которую хозяева не скупились. За учениками и подмастерьями присматривал Майнарди, но он был слишком мягок, у него опускались руки при столкновении с косностью и отсутствием всякого желания чему-либо научиться. Разношёрстная команда побаивались только хозяина мастерской, который при виде лености или жульничества тут же прогонял виновного на все четыре стороны.
Поначалу Микеланджело встретили настороженно, а увидев его прыть в работе и рисунки, которые нахваливал хозяин, стали за глаза посмеиваться над ним, считая, что у новичка manca un venerdi, то есть не все дома, коль скоро за гроши бедняга так надрывается. Он не обращал на них внимания и на первых порах по заданию Майнарди терпеливо переносил фигуры и детали с малых подготовительных рисунков на большой картон, разлинованный на квадраты, как это обычно делалось в любой мастерской. Но пару дней спустя Микеланджело отказался от разлиновки, доказав, что глаз у него намётан и способен запомнить мельчайшие детали. Это было расценено ученической братией как бахвальство и желание выслужиться перед мастером, но вскоре он смог утереть всем нос, доказав, что слово у него не расходится с делом.
Все видели, как новичок не гнушался толочь в мелкий порошок пигменты фарфоровым пестиком в ступке или под руководством опытного Майнарди варить на жаровне клей нужной консистенции для грунтовки досок, предназначенных для будущих картин. В работе его выводило из себя только одно — если под руку говорилась очередная глупость или язвительная шутка. Тогда приходилось прибегать к силе кулаков, чтобы отвадить шутников, а постоять за себя он умел. Особенно ему докучал своими шуточками сын булочника рыжий Якопо дель Индако, шестнадцатилетний парень с лицом грызуна, всюду что-то вынюхивающего. Но и его он сумел быстро поставить на место.
От отца, которого Микеланджело, несмотря на вечные упрёки и порку в детстве, искренне любил, ему передались брезгливое отношение к простолюдинам и кастовые предрассудки. Так, в упомянутых выше записках Кондиви, написанных под диктовку, Микеланджело утверждает, что «искусством должны заниматься благородные люди, а не плебеи». Правда, порой ему вспоминались счастливые дни, проведённые в Сеттиньяно, где он с жадным интересом, забыв обо всём, наблюдал за работой простых каменотёсов, которым многим обязан, а особенно Доменико Тополино, подлинному виртуозу в работе с камнем, несмотря на своё «низкое» происхождение.
С годами к Микеланджело пришло понимание отца, который в поисках доходного места выступал в роли просителя, обращаясь за помощью к влиятельным вельможам, но никогда не поступался достоинством, гордясь знатностью своего рода. Мессеру Лодовико не единожды приходилось сталкиваться с трудностями, но честью дворянина он всегда свято дорожил.
Следует признать, что второму сыну от отца передались многие черты характера, в том числе скаредность, ворчливость, неуживчивость и подозрительность, а также мания преследования, приводившая порой к не поддающимся никаким объяснениям странным поступкам.
Появляясь чуть не каждый день в Санта Мария Новелла, где приходилось принимать прямое или косвенное участие в росписи, он всякий раз испытывал внутренний трепет, проходя мимо капеллы Ручеллаи, воздвигнутой ещё в XIII веке, когда род Буонарроти занимал одну из высших ступеней в городской иерархии. Однако в отличие от Ручеллаи и других знатных флорентийских семейств Буонарроти так и не удосужились увековечить себя ни одной даже скромной часовенкой — то ли жадность подвела, то ли религиозность рода уже тогда была слабой. Правда, их родовой склеп находился в почитаемой церкви Санта Кроче, но он не был украшен никаким изваянием.
Микеланджело припомнились однажды оброненные бабушкой слова об отце: «Лодовико свято почитает все предписания церкви, но при необходимости легко их нарушает». Ему же от бабушки передались набожность и благоговение перед образом Пречистой Девы. До работы, стараясь остаться незамеченным во избежание ненужных расспросов, он обычно заходил ненадолго в часовню Ручеллаи, в которой его мать Франческа когда-то молилась перед мраморным изваянием Мадонны с младенцем работы Нино Пизано. Ему тогда казалось, что мать, которую он почти не помнил, благословляет его на подвижничество в искусстве.
Став учеником живописной мастерской, он думал только о живописи и рисунке. Каждый день ему давалось задание от Гирландайо, который сознавал, что кроме Граначчи и ещё двух-трёх парней, среди его учеников мало умелых рисовальщиков. Микеланджело упорно работал над любым поручением, добиваясь твёрдости руки и точности линий. Иногда в отсутствие мастера ему удавалось заглянуть в коллекцию рисунков и гравюр, которую Гирландайо собирал в течение двадцати лет и дорожил ею. Держа перед глазами тот или иной раритет, Микеланджело не мог удержаться от соблазна и лихорадочно копировал приглянувшийся ему рисунок из коллекции мастера, чувствуя раз за разом, как крепнет рука, а глаз становится зорче.
Флорентийские мастера с полным правом считали рисунок отцом трёх искусств — архитектуры, живописи и скульптуры. Не случайно именно во Флоренции по инициативе Вазари в 1563 году была образована первая в Европе Академия рисунка, а её почётным президентом стал доживающий свой век Микеланджело.
Для начинающего художника это была великая школа. Копируя работы известных мастеров, Микеланджело не только совершенствовался в рисунке, но и вносил в копии своё видение. В его руках оригиналы порой изменялись до неузнаваемости, обретая динамику и пластичность. Более того, свою копию он часто старался выдать за оригинал и с помощью нехитрых приёмов придавал рисунку обветшалый вид, натирая его землёй и вываливая в пыли, чем нередко вводил в заблуждение гостей, посещавших мастерскую Гирландайо в желании приобрести рисунок или гравюру старых мастеров.
Как он радовался, когда его подделка принималась за оригинал! Кое-что ему удавалось выгодно сбыть с рук, о чём он стеснялся говорить даже Граначчи, считая в глубине души, что такие проделки зазорны.
Главное внимание уделялось так называемой «чёрной» работе, а именно качеству раствора для фресковой росписи. И здесь особую помощь ему оказывал Граначчи, от которого он многое узнал о способах изготовления раствора и о том, как и когда покрывать им стену.
— Самое главное, — поучал друг, — стена должна быть хорошо оштукатуренной. Следи, чтобы в извёстку не попала даже малость селитры, которая съест всю твою роспись.
Граначчи научил его правильно замешивать известь и добавлять в неё песок, который должен быть речным и тщательно просеянным.
— Никак не предполагал, — сказал, смеясь, Микеланджело, — что мне придётся поработать простым каменщиком, прежде чем взяться за кисть. Представляю себе, как бы мой родитель подивился, попадись я ему на глаза в фартуке и с мастерком в руке!
Однажды он с удивлением увидел, как Граначчи, размешивая раствор, раза два испробовал его на вкус.
— Для чего ты это делаешь?
— А как иначе определить вязкость и готовность раствора? Так поступали все старые мастера.
Граначчи охотно делился знаниями и опытом, показывая также, как правильно растирать мастерком нанесённый слой раствора, чтобы поверхность стены получилась гладкой, как куриное яйцо, — только тогда можно приступить к написанию фрески.
Микеланджело был благодарен другу за науку и продолжал упорно познавать накопленные веками премудрости и секреты фресковой живописи. От Майнарди он узнал, что среди старых мастеров был обычай перед каждой новой фресковой росписью идти в баню, дабы очиститься и смыть грехи. По мнению Микеланджело, это было несусветной глупостью. Ему вспомнился совет отца никогда не мыться.
— С водой, — говаривал он, — мы выплёскиваем дарованное нам Господом здоровье.
У мессера Лодовико Буонарроти были свои житейские рецепты, позволившие ему дожить в добром здравии и рассудке до девяноста лет.
Но чем бы Микеланджело ни занимался в живописной мастерской, в нём постоянно давала о себе знать врождённая тяга к скульптуре, лучшие образцы которой во Флоренции были им досконально изучены, хотя новых достойных внимания изваяний больше не появлялось после того, как из жизни ушли Пизано, Гиберти, Донателло, Брунеллески, делла Роббиа, Верроккьо, Дезидерио да Сеттиньяно и другие славные мастера. Это вызывало у Микеланджело грусть — скульптура осиротела и ничем новым не могла порадовать влюблённого в неё юнца.
Зима в ту пору выдалась суровая. Работать от холода в Санта Мария Новелла было невозможно — стыли краски, коченели руки. Все собирались перед горящим камином в мастерской, чтобы погреться. В такие моменты вынужденной паузы многие любили порассуждать о живописи, скульптуре и превосходстве одного искусства над другим. Микеланджело предпочитал отмалчиваться, пока некоторые горячие головы спорили, перебивая друг друга. Масла в огонь подливали поклонники Леонардо да Винчи, собиравшиеся в Испанской лоджии при монастыре Санта Мария Новелла. По старой дружбе они любили зайти в мастерскую Гирландайо после того, как их кумир неожиданно отбыл в Милан на службу к герцогу Лодовико Моро. Кое-кто из них в разговоре осуждал мастера за увлечение скульптурой и трату времени на изготовление глиняного макета для гигантской конной статуи воинственного миланского герцога.
Во время таких посиделок раскрывался истинный характер флорентийцев, умеющих постоять за себя и нетерпимых к любому высказыванию собеседника, если оно шло вразрез с их мнением. Особенно горячился всегда уравновешенный Майнарди.
— Тут не о чём спорить, — заявил он однажды. — Поле деятельности скульптуры весьма ограничено. Кроме монументов, кладбищенских памятников и декоративных изваяний, на что она ещё способна?
Его поддержал Давид, брат хозяина мастерской:
— Скульптуре в отличие от живописи не дано изобразить окружающий мир во всей его первозданной красоте с мерцанием звёзд на небосклоне, сиянием солнечного дня или пурпуром заката.
— Работа скульптора скучна и однообразна, — внёс свою лепту в начавшийся разговор один из учеников Леонардо.
— Не в этом ли причина того, что у нас перевелись настоящие скульпторы? — язвительно спросил кто-то.
— А те, что остались, — добавил другой, — кроме надгробий, ни на что не способны.
Молчавший доселе Микеланджело не выдержал. Вот когда в нём сказался дух истинного флорентийца с присущей ему независимостью суждений!
— Хотя вы все ополчились на скульптуру, — сказал он, волнуясь, — но её творения со времён Фидия и Праксителя продолжают нас восхищать.
— А картины Апеллеса, — спросил кто-то, — разве они не восхищают?
Вопрос не застал Микеланджело врасплох.
— Но согласитесь, кроме легенд, сколь бы прекрасны они ни были, нам о творениях Апеллеса ничего не известно, — последовал ответ. — Недолог был их век, а изваяния живут вечно.
Со всех сторон послышались возражения, но Микеланджело не сдавался. Его словно прорвало, и отойдя от камина, он стал доказывать с мальчишеской горячностью, что живопись — это обман, который тут же вскрывается. Стоит лишь попытаться обойти кругом картину, как это делается при осмотре любой скульптуры, неизбежно упрёшься лбом в стену.
Уже уходя, он не удержался и заявил напоследок:
— Живопись — это химера, а скульптура — истина, которую отрицать невозможно, как бы вам этого ни хотелось!
Такие споры нередко разгорались и в других живописных мастерских. Гирландайо не принимал участия в подобных словесных баталиях, будучи человеком уравновешенным и давно уверовавшим в магическую силу живописи. Но его поражала убеждённость в своей правоте задиристого пятнадцатилетнего отрока.
Микеланджело понимал никчёмность таких противопоставлений и мечтал дождаться часа, когда ему удастся посрамить хулителей скульптуры, а пока он усиленно работал над рисунком. Монотонный ритм работы мастерской как-то был нарушен въехавшей на рабочий двор телегой, гружённой дровами и мешками с древесным углём для кухни и камина. Все повскакали с мест и выскочили во двор, дружно взявшись за разгрузку. Микеланджело решил увильнуть и, воспользовавшись благоприятным моментом, на тыльной стороне использованного картона набросал углём рисунок с натуры: на возвышении рабочий стол с фигурой мастера, а вокруг него полукругом сгрудившиеся мольберты, словно парусники близ маяка.
Вернувшийся из города Гирландайо с удивлением увидел сделанный на скорую руку набросок. Ему тут же бросилась в глаза безупречность динамичной композиции. Но будучи не в духе, он воздержался от похвалы или хулы ученика, пробурчав:
— Хватит заниматься пустяками — за дело!
А вот Майнарди, увидев картон с рисунком, похвалил юного рисовальщика, но указал на некоторые просчёты. Каждый день приносил Микеланджело много нового. Однажды Майнарди дал ему в руки гравюру немецкого мастера Мартина Шонгауэра на тему искушения святого Антония.
— Поработай над ней, — предложил он. — Обрати особое внимание на то, с какой тщательностью прорисованы мельчайшие детали. Немцы — непревзойдённые мастера в таких делах.
Микеланджело решил свою копию написать в цвете на доске. Памятуя о призыве «Учитесь у матери природы!» над рабочим столом Гирландайо и желая придать больше правдоподобия своей первой живописной работе, он отправился на рынок, где в рыбном ряду сделал наброски различных морских чудищ, называемых в простонародье «дарами моря», и привнёс их в картину. На ней святой отшельник в окружении восьми демонов-искусителей и других мерзких тварей, вцепившихся в него когтями и клешнями, уносится высоко в небо от скалы, на которой он молился. От работы Шонгауэра осталось лишь название, так как теперь она представляла собой стремительный порыв и полёт в неизвестность.
О новом юном самородке заговорили в художественных кругах города. Картину ученика видел и похвалил друживший с Гирландайо поэт Полициано, воспитатель детей Лоренцо Великолепного. К сожалению, эта юношеская работа не сохранилась, как и многие тогдашние рисунки, созданные в мастерской Гирландайо, о которых можно судить лишь по отрывочным описаниям современников.
Несмотря на первый шумный успех, начинающий художник продолжал упорно учиться мастерству. Как-то на полке среди фарфоровых баночек с пигментами и других склянок ему попалась в руки потрёпанная «Книга о живописи» Ченнино Ченнини. Хотя Микеланджело неплохо разбирался в латинских текстах, с которыми приходилось иметь дело в школе Франческо да Урбино, книга Ченнини заинтересовала его ещё и тем, что была написана на разговорном языке и легко читалась. В ней он нашёл множество дельных советов при работе с темперой — в те времена о существовании масляных красок мало что было известно, хотя объявившиеся во Флоренции фламандцы привезли это новшество, но держали в тайне сам способ приготовления красок. Как утверждает Вазари, первым из итальянских живописцев, начавшим писать маслом, был Антонелло да Мессина. Побывав в Брюгге, хитрый сицилианец сумел выведать секрет изготовления масляных красок у Ван Эйка. Однако большинство итальянских мастеров Кватроченто продолжали писать картины темперой, не особо доверяя завезённому новшеству и храня верность дедовским традициям, которые никогда их не подводили.
Знающий Майнарди пояснил, что автор книги Ченнини был учеником одного мастера, работавшего с Джотто. Этот труд не утратил своего значения и служил верным подспорьем любому художнику, берущемуся за фресковую роспись. Микеланджело использовал многие советы, вычитанные в книге, и проверил их на практике. Видимо, книга побывала не в одних руках, и на ее страницах было немало пометок карандашом. Его поразили некоторые рассуждения автора, как, например, совет при занятии искусством подчинить свой образ жизни строгому распорядку, как и при занятии богословием или философией — иными словами, следует есть и пить умеренно, по крайней мере дважды в день. С этой рекомендацией он полностью согласился, так как в работе часто забывал о еде. А вот утверждение Ченнини о том, что чересчур частое общение с женщиной способно вызвать у художника немощь рук, его удивило, поскольку о таком «общении» ему пока мало что было известно, если не считать каждодневной похабщины, которой козыряли друг перед другом подмастерья, рассказывая о своих вечерних похождениях.
Сквернословы особенно изощрялись в дни невыносимой жары, когда дышать было нечем, и вся мастерская гурьбой устремлялась к Троицкому мосту на Арно, чтобы смыть пот и грязь и накупаться вволю. Вот когда юнец Микеланджело мог насмотреться и наслушаться вдоволь поражающих слух и зрение непристойностей. Завидев прогуливающихся по набережной девиц, парни нагишом выскакивали из воды и отпускали на их счёт шуточки, вызывавшие у него отвращение.
Как-то он поделился своими мыслями о прочитанной книге со старшим товарищем, осторожно спросив, не будоражат ли его под утро странные сны, о которых, проснувшись, стыдно вспоминать.
— Могу тебя заверить, — рассмеялся Граначчи, — что я не чувствую пока слабости и дрожания рук, ибо памятую о совете старины Ченнини во всём соблюдать меру.
Искушения, подобные тем, каким подвергся святой Антоний, одолевали и пятнадцатилетнего юнца с повышенной чувствительностью, что более чем естественно. Дома мачеха Лукреция стала замечать, как второй её пасынок частенько поглядывал на себя в зеркало, поглаживая пробивающиеся усики и бородку.
— Микеланьоло, — как-то сказала она ему, — ты бы хоть рубаху и чулки сменил. Небось на девушек заглядываешься, а выглядишь неряхой.
Однажды Граначчи упросил друга проводить его вечером до моста Понте Веккьо, где у него было назначено свидание с дочерью известного ювелира, чья лавка находилась там же, на мосту. Микеланджело уважил просьбу друга, стеснявшегося встретиться с глазу на глаз с девицей, пленившей его воображение. Для приличия он побродил немного с ними, а затем вдруг вспомнив об одном «срочном деле», оставил парочку без него выяснять свои амурные отношения. К тому же жеманная девица изрядно надоела ему глупыми шуточками и деланным смехом. Единственно, чем она могла привлечь хоть как-то его внимание, так это пышными не по годам телесами, над которыми Микеланджело мысленно потешался.
Не прошло и недели после вечерней прогулки на мосту Понте Веккьо, как Граначчи объявился как-то в мастерской чернее тучи. Микеланджело поинтересовался: что стряслось? Тот долго отмалчивался и наконец признался, что порвал отношения с дочкой ювелира. Узнав от дочери о разрыве, разгневанный отец грозится теперь подать на парня в суд, если он не одумается и не вернётся, чтобы утешить обманутую им девицу, за которой обещано солидное приданое. То, что простой подмастерье отказался от плывущей ему в руки фортуны, особенно разозлило ювелира, и он пригрозил обратиться к его родителям, чтобы те воздействовали на сына. Но молодчина Граначчи оказался не робкого десятка и на шантаж и угрозы не обращал внимания.
— А ведь ты, хитрец, с первого взгляда всё понял и под благовидным предлогом удрал, оставив меня одного с этой набитой дурой и кривлякой.
— Не расстраивайся, дружище, и забудь её как дурной сон. Пусть тебе помогут развеяться вот эти мои вирши, — и Микеланджело, вынув из кармана, вручил другу исписанный листок.
Среди его ранних стихов имеются шуточные октавы, говорящие о том, что женский пол стал волновать его воображение, но мысли о скульптуре подавляли всё остальное, не оставляя в покое.
Лицо твоё, что маков цвет, — Круглее тыквы огородной. Румян лоснится жирный след, Блестит зубов оскал голодный — Вмиг папу слопаешь в обед. Глаза ворожеи природной, А космы, точно лук-порей. Я стражду — приголубь скорей! Не налюбуюсь красотою — Твой лик хоть в церкви малевать. Зияет рот мошной худою, Как мой карман, ни дать ни взять. Чернее сажи бровь дугою: Сирийскому клинку под стать. Рябины украшают щёчки — Точь-в-точь на сыре тмина точки. Арбузы, рвущие мешок, Едва завижу ягодицы И пару косолапых ног, Взыграет кровь и распалится, А я дрожу, как кобелёк, Хвостом виляя пред срамницей. Будь мрамор — взялся бы ваять, Тогда тебе несдобровать! (20)В этих стихах сильно влияние известного флорентийского брадобрея Доменико ди Джованни по прозвищу Буркьелло, одного из зачинателей бурлескной поэзии, получившей широкое распространение. Граначчи был вне себя от радости от такого презента, попросив автора разрешить ему прочитать стихи ребятам.
— Согласен, но обо мне ни слова!
Ему больше всего не хотелось, чтобы в мастерской узнали, что он втайне пишет стихи. Под конец обеда Граначчи поднялся из-за стола и, попросив минуту внимания, зачитал три октавы друга, высмеивающие недоделки матери-природы. Вся мастерская разразилась смехом и криками «браво!». Вопрос об авторе удалось замять, а Давид распорядился принести из погреба несколько фьясок кьянти и нарезанный ломтиками огромный переспелый арбуз, что вызвало новый взрыв веселья.
* * *
Однажды в руках одного из учеников Микеланджело увидел рисунок пером трёх женских фигур, выполненный по заданию мастера. Ему захотелось подправить рисунок, и несколькими штрихами он придал фигурам большую живость и естественность. Автор рисунка, добродушный Буджардини, был признателен за внесённые исправления, но спросил:
— Откуда тебе знать, как выглядят женщины?
— Не они меня интересуют, — последовал ответ, — а их тело, красоту которого ты, наивная душа, по недомыслию упрятал под складками одежды.
Когда Буджардини показал исправленный рисунок мастеру, тот похвалил его, сказав:
— Видишь, стоит только постараться, как всё получается. На сей раз и фигуры у тебя жизненны и пластичны, словно высеченные из камня изваяния. Молодец!
Зардевшись от такой похвалы, честный Буджардини признался, что его работу подправил Микеланджело. Ничего не сказав в ответ, Гирландайо про себя подумал: «Этот парень, кажется, лучше меня разбирается в рисунке».
В упомянутых записках Кондиви, написанных под диктовку Микеланджело, говорится, что Гирландайо завидовал ученику, с чем решительно не согласен Вазари, хотя он и не мог лично знать Гирландайо. Каким-то непонятным образом тот самый рисунок с тремя женскими фигурами оказался позже у Вазари. В своём монументальном труде он вспоминает, как в 1550 году, навестив в Риме Микеланджело, показал ему хранимую им реликвию. Престарелый мастер с удовольствием подержал в руках листок, стараясь припомнить, где и когда его нарисовал.
— Что и говорить, — признался он, — в молодости я гораздо лучше владел искусством рисунка. А теперь рука уже не та и нет былой твёрдости.
Это один из редких случаев обращения Микеланджело в рисунке к обнажённой женской натуре. В большинстве дошедших до нас рисунков он отдавал предпочтение отображению не столько красоты и гармоничной пропорциональности человеческого тела, сколько его силе и динамике, что объясняется самой его натурой и творческой сутью. Он не был склонен к пассивному созерцанию и любованию красотой, а стремился отразить её в движении. Вот почему в его рисунках преобладает мужская обнажённая натура без всякой тени чувственности, а тем паче эротики.
Вопреки мнению, высказанному Кондиви, Гирландайо всё чаще стал поручать толковому ученику разработку новых, более сложных сюжетов. Так Микеланджело получил задание на написание двух апостолов слева и ангелочка для фрески «Успение Богоматери». Граначчи была поручена правая половина изображения.
Прежде чем приступить к написанию, во дворе мастерской на одной из голых стен Микеланджело решил проверить свои навыки, памятуя о советах умницы Ченнини, в книге которого подробно описывалось, какой должна быть известь, сколько и какого добавить песка и воды и как месить раствор. Приготовив раствор нужной консистенции, он нанёс его на очищенную поверхность стены. Убедившись после первой пробы, что известковый слой намертво прирос к поверхности, он сепией наметил по свежей штукатурке расположение будущих фигур.
Лишь после предварительной работы Микеланджело приступил к написанию в церкви Санта Мария Новелла двух апостолов и ангелочка. Майнарди, наблюдавший за его работой, подивился тому, что поначалу Микеланджело изобразил апостолов обнажёнными, а уж потом облачил их, придав фигурам осязаемую телесность и пластичность. На удивлённый вопрос опытного художника ученик спокойно ответил:
— Сперва я всегда рисую фигуру в том виде, в каком Господь сотворил Адама. А как же иначе? Ведь без знания строения тела складки одежды могут исказить суть и дать неверное представление о самой фигуре.
— Ты меня почти убедил. Хвалю! — промолвил Майнарди, но по выражению его лица было видно, что он не до конца ещё осознал столь необычное нововведение в практику фресковой живописи, предложенное юным учеником.
О второй половине фрески, написанной Граначчи, он ничего не сказал. Увидев самостоятельную работу ученика, Гирландайо остался ею доволен и поручил ему подготовить эскиз для новой фрески, связанной с крещением Христа в Иордане.
Микеланджело взялся за рисунок, испытывая сильное волнение, поскольку ему не доводилось ещё обращаться к столь важному сюжету. Он видел немало изображений Спасителя. В той же церкви Санта Мария Новелла его поразили «Распятие» кисти Джотто и деревянное изваяние Брунеллески. Сильное впечатление произвело и «Распятие» Чимабуэ в церкви Санта Кроче. Но ему хотелось избежать повторов и дать что-то своё, непохожее на созданное ранее великими мастерами.
Рассматривая набросок ученика с фигурой Христа, Гирландайо похвалил его за твёрдость руки и выразительность линий, но спросил:
— Неужели тебя не смущает, что твой Христос выглядит слишком уж атлетически с этими бицепсами и натруженными мышцами живота и ног, как у простого землепашца? С кого ты его писал?
— С одного знакомого каменотёса из Сеттиньяно, где у моего родителя небольшое имение.
— Теперь понятно, почему ты наградил Спасителя такой мускулатурой.
— Но он ведь вырос в семье простого плотника, — робко заметил Микеланджело, — и с детства был приучен к труду.
Гирландайо оставил рисунок у себя, не сказав больше ни слова. Как же прав был Граначчи, когда с самого начала просил друга никогда не перечить мастеру, ибо он терпеть не может никаких пререканий!
Когда в Санта Мария Новелла была закончена роспись одной из стен капеллы Торнабуони, на ней ярким колоритом и пластичностью выделялась сцена крещения Христа. Появился сам заказчик, состоящий в близком родстве с Лоренцо Великолепным, в сопровождении жены и друзей. Все наперебой принялись поздравлять сияющего Гирландайо с успехом.
— Друг мой, ты превзошёл себя, — сказал, обняв художника, Торнабуони, — такого Христа я ещё ни у кого не видел. Сколько же в нём красоты и жизненной правды!
Довольный автор принимал поздравления, не замечая удивления на лице одного из учеников. Стоя в толпе перед новой фреской мастера, Микеланджело испытывал смешанное чувство радости и смущения. Порицая давеча его рисунок, Гирландайо в точности воспроизвёл его на фреске и написал статного Христа атлетического телосложения. Ученик не мог прийти в себя от обиды, его душили слёзы. Вне себя от радости заказчик Торнабуони пригласил всю мастерскую в соседний трактир «обмыть», как он выразился, удавшуюся фреску. Но Микеланджело не последовал за шумной компанией — он не мог простить обиду учителю, который его так легко предал.
В связи с этим вспоминается известная история о том, как Верроккьо, увидев на своей картине «Крещение Христа» златокудрого ангела, нарисованного подростком Леонардо да Винчи, был настолько поражён работой ученика, что, как пишут биографы, дал себе зарок не браться больше за кисть. С Гирландайо такого не произошло, и он продолжил трудиться над завершением фрескового цикла в церкви Санта Мария Новелла.
* * *
Работая у Гирландайо, Микеланджело пока не отдавал себе отчёта, насколько ценным окажется для него полученный опыт. Но с некоторых пор он всё чаще стал задумываться о целесообразности своего дальнейшего пребывания в мастерской. Позднее в кругу друзей он даже заявил, что проведённое там время считает попусту потерянным на приготовление красок, размешивание раствора и затирку стен. Друзья осудили его за такие слова, объяснив их издержками строптивого характера, не признававшего никаких авторитетов, кроме Мазаччо и Данте. Забегая вперёд, можно с полным правом утверждать, что без полученных у Гирландайо знаний и навыков не было бы грандиозных фресок плафона и алтарной стены в Сикстинской капелле, поразивших весь мир, но тогда ни сам Микеланджело, ни кто-либо другой не могли этого знать.
Поработав чуть более года в мастерской Гирландайо, Микеланджело заскучал и всё чаще стал поглядывать на сторону, понимая, что большего в мастерской у прославленного художника ему нечего ждать. Он ходил понурый, словно в воду опущенный. Чтобы вывести друга из подавленного состояния, Граначчи предложил развеяться и взглянуть на одну работу, вызвавшую в городе немало толков. Микеланджело не стал упираться, и они направились к церкви Сант Эджидио, куда не убывал поток горожан, дабы взглянуть на одну новинку — большой трёхчастный алтарь фламандца Хуго ван дер Гуса, выполненный маслом на дереве по заказу флорентийского купца Томмазо Портинари.
— Взгляни, Микеланьоло, на это чудо, — восхищённо сказал Граначчи. — Оно приводит всех в восторг. Если ты смог заметить, даже у Гирландайо с некоторых пор чувствуется влияние фламандца.
Подойдя поближе к триптиху, Микеланджело стал спокойно его разглядывать.
— Не разделяю твоего восторга, — сказал он. — А нашему Гирландайо могу только выразить сожаление, что он с его отменным вкусом прельстился этой сухой и статичной работой, лишённой жизни. Всё это, дружище, не по мне, и напрасно ты меня сюда затащил.
Граначчи промолчал, так как давно понял, что его младшего друга не переспорить. Но тут он увидел продирающегося сквозь толпу полноватого розовощёкого господина лет сорока с небольшим, которому люди вежливо уступали дорогу к выставленной картине. Граначчи, поздоровавшись, обратился к нему с вопросом:
— Маэстро Боттичелли, что бы вы посоветовали моему юному другу, которого в отличие от многих «Алтарь Портинари» не тронул, оставив равнодушным?
— Что вам на это ответить? Работа фламандца вполне достойная, и нельзя не порадоваться успеху собрата по искусству у нас в избалованной Флоренции, где чужаков не особенно привечают.
Подойдя ближе к алтарной картине, Боттичелли внимательно глянул на неё и, обратившись к ждущим от него ответа молодым людям, промолвил:
— Вам и вашему другу посоветовал бы почаще смотреть на живопись наших флорентийских мастеров. У них куда больше жизненной правды, нежели у ставших модными иностранцев.
Сказав это, Боттичелли проследовал дальше, сопровождаемый восхищёнными взглядами собравшихся. Микеланджело просиял — совет именитого мастера, чьи работы им высоко ценились, пришёлся ему явно по душе, и он покинул церковь вместе с погрустневшим другом.
Работа шла своим чередом. Как-то Гирландайо не было видно целый день, и только под вечер он появился в мастерской, когда многие уже собрались отправиться по домам. Он был в приподнятом настроении и слегка навеселе. Попросив всех задержаться и заняв своё место за рабочим столом на возвышении, Гирландайо объявил, придав словам загадочную торжественность:
— Сегодня наш славный правитель Лоренцо Великолепный попросил меня выделить ему для создаваемой школы ваяния в садах Сан Марко пару способных учеников. Для нас это большая честь. Так что вы на это скажете?
Поднялся гвалт — все разом заговорили и заспорили. Гирландайо неспроста устроил это народное вече. Ему хотелось лишний раз проверить, кто действительно ему предан и дорожит работой в его мастерской. Он понимал, что предложение Лоренцо может оказаться для кое-кого весьма заманчивым, и не стал говорить, что такое же предложение получил и его соперник Боттичелли, с которым у него постоянно шло негласное состязание.
Гирландайо был прав — кто не мечтал тогда войти в круг приближённых правителя Флоренции? Но не всем такое удавалось, поскольку Лоренцо был тонким ценителем искусства и умел безошибочно отличать зёрна от плевел. В разговоре с ним Гирландайо понял, что для него это тот удачный случай, когда можно по-хорошему избавить себя от напористого и набирающего силы молодого соперника, чья независимость суждений стала его изрядно раздражать. Недавно он, как малое дитя, надул губы, обидевшись, что его эскиз к крещению Христа не похвалили при всех, и ни с кем не стал разговаривать. К тому же по договору ему ещё приходится приплачивать. Заодно можно распрощаться и с его другом постарше, который в последнее время сник и не растёт как художник.
Едва услышав это, Микеланджело понял, что пробил его час. Но как быть с договором, подписанным отцом с братьями Гирландайо? Ему надлежало тянуть лямку ещё чуть больше года. Но он не вытерпит больше, да и сам воздух в мастерской казался ему затхлым и застойным. Он давно чувствовал, что ему не хватало простора, чтобы по-настоящему проявить себя.
— Я никого не неволю, — добавил Гирландайо, подождав, когда шум утихнет. — Пока могу сказать, что наиболее подходящей кандидатурой считаю Микеланьоло, хотя срок договора с ним ещё не истёк и многое зависит от согласия его родителя.
После этих слов мастерская загудела, как растревоженный осиный улей. Послышались возражения типа: «А чем он лучше меня?» и прочие недовольные возгласы. Вне себя от радостной вести, Микеланджело сумел перекричать всех:
— Благодарю вас, мастер, за оказанное доверие! Заверяю, что с отцом я сумею договориться.
— Вот и прекрасно! — ответил Гирландайо. — Хочу, чтобы тебе составил компанию Граначчи — мне известно, что он туда частенько наведывается. Так что завтра отправляйтесь-ка вдвоём в Сан Марко к мастеру Бертольдо. Все нужные документы я подпишу вечером у старшины цеха.
Последнее замечание было не лишним, так как содружество художников подчинялось уставу цеха аптекарей, в котором было чётко прописано допустимое количество учеников и на каждого требовалось разрешение.
Свершилось! Микеланджело готов был прыгать вне себя от счастья. По дороге к дому он спросил друга:
— А ты и впрямь готов распроститься с мастерской?
— По правде говоря, — признался тот, — я ещё до конца не определился. Но ты заразил меня тягой к скульптуре, а возможность войти в круг приближённых Великолепного заманчива для любого.
В отличие от него Микеланджело менее всего занимало приближение ко двору Лоренцо Великолепного, о котором он мало что знал. Для него важно одно — открылась школа ваяния для молодёжи, влюблённой в скульптуру. Только это могло его сейчас занимать, и больше ничего.
— Нам повезло! — радостно воскликнул Микеланджело по дороге к дому. — Долой мазню, да здравствует скульптура!
Как и полтора года назад, ему на помощь вновь пришёл верный друг и товарищ по цеху, готовый пойти с ним на новое испытание. Домашним он пока ничего не сказал, не зная, как ко всему этому отнесётся отец.
Глава VI САДЫ САН МАРКО И ЧЕРТОГИ МЕДИЧИ
Влеченье к красоте неодолимо.
О ней я грежу, к ней душой стремлюсь.
Она, как вера, непоколебима (38).
Утром они застали старого мастера Бертольдо в садовом павильоне за рассмотрением рисунков и представились.
— Слышал я о вас от Гирландайо. Он хвалил ваши работы. Но мне нужны не живописцы, а ребята, умеющие держать в руках резец и молоток.
Микеланджело начал сбивчиво из-за волнения рассказывать о времени, проведённом в Сеттиньяно, где он научился орудовать резцом и долотом у каменотёса Доменико ди Джованни по прозвищу Тополино.
— Мне ли не знать Тополино! Я не раз бывал с ним в каменоломнях. С его отцом был знаком сам Донателло и пользовался его услугами. Приходите, молодые люди, завтра в полдень, когда сюда наведается его светлость Лоренцо Великолепный. Тогда и поговорим.
Откланявшись, друзья обошли по дорожке журчащий фонтан, любуясь стоящими в лоджиях и на клумбах античными изваяниями, а на выходе у ворот их поприветствовал установленный на высоком пьедестале бюст Платона, который они при входе от волнения не приметили.
В своё время Лоренцо Медичи купил сады Сан Марко близ одноимённого монастыря для жены Клариче Орсини, большой любительницы экзотических растений. Овдовев, он решил в память о матери шестерых своих детей организовать здесь школу ваяния для одарённых юнцов, так как развитие этого искусства во Флоренции заглохло после ухода из жизни её великих мастеров, а Лоренцо всегда отдавал предпочтение скульптуре среди всех искусств.
Это была выдающаяся личность, оставившая неизгладимый след в итальянской истории. Политик, учёный, гуманист, поэт и меценат, прозванный уважительно современниками Великолепным (Magnifico) за свои многообразные таланты, политическую мудрость и природное обаяние, Лоренцо по примеру деда Козимо Медичи, одного из крёстных отцов итальянского Возрождения, искал смысл жизни в поучениях платоновской философии и был страстным коллекционером античных раритетов, в том числе манускриптов, собрав богатейшую библиотеку.
В те дни в богадельне при церкви Санто Спирито доживал свой век один из оставшихся в живых учеников Донателло, Бертольдо ди Джованни. Его на носилках доставили во дворец Медичи, подлечили и предложили возглавить школу ваяния для юных дарований. Ему было также поручено привести в порядок богатейшую коллекцию античных скульптур, гемм, медалей и монет, собранных не одним поколением Медичи.
В своих «Воспоминаниях» Лоренцо Великолепный среди описания бурных политических и военных событий упоминает своё участие в качестве флорентийского посла на торжествах по случаю избрания папой Сикста IV в 1471 году. Он получил от папы в дар гемму, два мраморных изображения Августа и Агриппы, а также чашу из халцедона, известную под названием «чаша Фарнезе». Эти дары воспел один поэт из круга Медичи в звучных латинских стихах:
Хвалы достоин гемму сотворивший Безвестный эллин и никто другой. Лоренцо, свой дворец обогативший, Каменья любит приласкать рукой.Все эти раритеты по распоряжению владельца коллекции предоставлялись как учебное пособие в распоряжение школы ваяния.
На первых порах Бертольдо распорядился, чтобы для учебных целей в школу были доставлены различные образцы камня, точно указав нахождение действующих каменоломен на землях Тосканы и соседних областей. На заднем дворе садов Сан Марко под навесом устроили хранилище всевозможных пород камня. Там же разместились столярная и слесарная мастерские, а также литейный цех. Видя старания старого мастера, Лоренцо твёрдо верил в будущее флорентийской школы ваяния и не жалел средств на её содержание и развитие.
В назначенный час оба юнца предстали перед Лоренцо Великолепным, появившимся с небольшой свитой. Первое, что поразило Микеланджело — несоответствие внешности и внутренней сути негласного правителя Флоренции, державшего всех в повиновении. Он был чуть выше среднего роста, из-под бархатного берета до плеч ниспадали пряди чёрных как смоль волос. Над сильно выступающим подбородком нависал длинный мясистый нос, уродующий лицо, но взгляд карих глаз излучал доброту, вызывая расположение, так что робость при встрече с ним быстро пропала.
Мастер Бертольдо представил молодых людей, присланных Гирландайо.
— Твоего отца я знаю, — сказал Лоренцо, обращаясь к Граначчи как старшему по возрасту. — Но отныне ты сам волен распоряжаться своей судьбой. А вот тебя, Микеланьоло, я попрошу прийти ко мне завтра с родителем, несущим пока за сына ответственность. Твой парафраз гравюры немца Шонгауэра мне известен. Молодец! Об этом мы ещё потолкуем.
О, радость! Кажется он понравился правителю, но как быть с отцом и удастся ли переломить его упрямство? Придётся опять пойти на хитрость, чтобы добиться родительского согласия.
Улучив удобный момент под вечер, когда отец вернулся из своей конторы в приподнятом настроении духа, что с ним бывало нечасто, и приказал жене накрывать на стол, Микеланджело начал издалека.
— Синьор отец, мне стало известно, что с вами хочет лично познакомиться его светлость Лоренцо Медичи, — и помолчав, добавил: — Вас ждут завтра во дворце.
От неожиданности мессер Лодовико поперхнулся и выронил ложку с супом.
— С чего ты взял… возможно ли такое?
— Ему нахваливал мою работу Гирландайо, и Лоренцо хотел бы видеть меня среди учеников школы ваяния в садах Сан Марко.
— А при чём тут я?
— Ему важно получить ваше согласие на мой переход из живописной мастерской в школу скульпторов. А мне туда так хочется поступить!
— Час от часу не легче! Стало быть, из маляров ты хочешь превратиться в каменщика? Опять ты, шельмец, затеял очередной позор на мою голову.
— Да какой же позор, отец! С вами как с одним из представителей знатного флорентийского рода пожелал повидаться первый гражданин города. Что же в том позорного?
Последнее замечание сына возымело действие, и мессер Лодовико задумался. «А может быть, и впрямь гордец Лоренцо вспомнил о заслугах нашего рода? Мы-то будем, чай, познатнее его, хотя и не поднаторели в банковских операциях, как он. Вот теперь я смогу утереть нос моему бывшему тестю сквалыге Ручеллаи!»
На следующий день отец с сыном направились во дворец Медичи по улице Ларга, самой широкой в городе. Проходя мимо церквушки Сан Джованни Эванджелиста, мессер Лодовико перекрестился, чего за ним ранее не наблюдалось. Он был охвачен понятным волнением — как-никак шёл на встречу с некоронованным владыкой Флоренции и её первым богачом!
У главного входа во дворец стояла стража с алебардами. Раньше такого не было, как пояснил отец сыну, и Медичи свободно появлялись на людях без всякой охраны, пока не произошло страшное кровопролитие, устроенное заговорщиками Пацци. Их тогда поддержали грозный папа Сикст IV и правитель соседнего урбинского княжества Федерико да Монтефельтро. Все они с опаской и завистью глядели на Флоренцию, её растущие богатства и влияние. Микеланджело в ту пору было три года от роду.
Их встретил дворецкий в ливрее и проводил по парадной мраморной лестнице на второй этаж в кабинет хозяина. Лоренцо поднялся из-за рабочего стола, встречая посетителей, и предложил им присесть.
Первое, что бросилось в глаза Микеланджело, это обилие книг на полках в кожаных тиснёных переплётах, мраморные изваяния на полу и на консолях, а также два великолепных профильных портрета мужчины и молодой красавицы. На всём лежала печать высокого художественного вкуса и учёности, которыми, казалось, пропитан сам воздух в кабинете.
— Рад познакомиться, — приветливо сказал Лоренцо. — Я позволил себе побеспокоить вас, досточтимый мессер Буонарроти, чтобы вы разрешили вашему сыну продолжить обучение в школе ваяния. У него большие задатки, и наш славный мастер Гирландайо высоко о нём отзывается, считая, однако, что юнец более склонен к скульптуре, нежели к живописи.
Лодовико был польщён учтивостью приёма и оказанной ему честью, но не преминул напомнить, что по договору в живописной мастерской его сыну положено денежное довольствие, которое является немалым подспорьем для семейного бюджета.
— Об этом можете не беспокоиться. А позвольте узнать, чем вы, мессер Буонарроти, занимаетесь? — последовал вопрос.
— У меня небольшая нотариальная контора, позволяющая кое-как сводить концы с концами.
— Это дело поправимое. Какую должность за свои былые заслуги вам было бы желательно занять? — спросил без обиняков Лоренцо.
Вопрос застал Лодовико врасплох. Смутившись, он через силу ответил, подбирая слова:
— Пожалуй, мне была бы по душе… ну, скажем, должность начальника таможни, которую занимал мой недавно умерший старый знакомый Марко Пуччи.
— Прекрасно, — сказал Лоренцо, удивившись столь скромной просьбе отца обласканного им юнца, а про себя подумал, усмехнувшись: «Богатым ты вряд ли когда-нибудь будешь».
Выразив признательность за визит и понимание интересующего его вопроса, правитель учтиво проводил их до двери кабинета.
По дороге к дому Микеланджело хотелось лететь как на крыльях, а его отца обуревали сомнения: «Не прогадал ли я, попросившись в таможню?» Дома их уже ждал семейный синклит, в ходе которого дядя Франческо старался ободрить погрустневшего от сомнений брата.
— Не стоит сокрушаться, — убеждал он. — Конечно, неплохо было бы заполучить должность управляющего каким-нибудь богатым городом типа Прато. Но на первых порах таможня — это очень доходное место, и с твоей сноровкой там можно жить припеваючи.
Пока взрослые рассуждали о выгоде той или иной должности, Микеланджело выпал из поля зрения, чему был рад, и тихо улизнул из дома, отправившись к другу Граначчи поделиться новостью. В доме друга царила праздничная атмосфера. Старший Граначчи повелел откупорить бутылку доброго вина и, подняв бокал, пожелал сыну и его другу успехов.
— Вы даже не подозреваете, молодые люди, какая вам выпала удача! Пред вами открываются двери в мир Лоренцо Великолепного, где при желании можно многого достигнуть в жизни.
Жизнь Микеланджело резко изменилась, и теперь каждое утро его путь лежал по улице Ларга к Сан Марко, где перед монастырём постоянно толпился народ, обсуждая после литургии последние новости. Но за воротами садов Сан Марко царила другая жизнь, куда не проникали отголоски городских страстей — здесь царствовали музы.
Появление новичка прошло незамеченным, поскольку каждый из учеников был занят своим делом. Как завсегдатай, бывавший здесь неоднократно, Граначчи познакомил друга с ребятами. Среди новых знакомых выделялся красивый статный парень лет восемнадцати, назвавшийся Пьетро Торриджани. В отличие от других он обращал на себя внимание непривычно ярким одеянием, не лишённым шика — голубая рубаха с вышитым серебряными нитями вензелем «Т» и красные чулки из-под зелёных бархатных штанов. На загорелой волосатой груди красовался на золотой цепочке амулет в виде черепа. Даже рабочий передник на нём был украшен замысловатыми узорами. Один только его внешний вид показывал, насколько парень горд и доволен самим собой.
После первого знакомства Микеланджело не спускал с него восхищённого взгляда, явно желая заручиться его расположением. Заметив это, Граначчи попросил друга особо не обольщаться. Он хорошо знал Торриджани, сына известного в городе богатого виноторговца, вздорного и кичливого парня, большого любителя пустить пыль в глаза, хотя и не лишённого таланта.
— Таких, как он, — сказал Граначчи, — у нас обычно называют sicofante — провокатор, доносчик и клеветник.
Микеланджело пропустил мимо ушей замечание друга, услышав в его словах нотки ревности.
Вокруг Торриджани всегда слышался смех. У него были неисчерпаемый запас пословиц и прибауток на всякий житейский случай и своё суждение о вещах, которое он высказывал, невзирая на лица. Около него увивался рыжий парень по имени Рустичи, следовавший за ним неотступно, как тень, и бывший у него на посылках.
Несколько в стороне держались Баччо да Монтелупо, из которого трудно было слово вытащить, словно он язык проглотил, и погружённый в дело Андреа Контуччи по прозвищу Сансовино. Здесь был и тихий Бенедетто да Ровеццано, ровесник Микеланджело. Остальные три-четыре ученика своей неотёсанностью не вызвали у него интереса.
Вскоре Бертольдо назначил Граначчи своим помощником, видя, сколь серьёзно и ответственно относится он к делу, хотя к камню, кажется, у него душа не лежала. На него была возложена обязанность как старшего по возрасту следить за порядком в школе и своевременно обеспечивать её всем необходимым материалом. Кроме того, Граначчи было поручено делать эскизы для театральных феерий и праздничных шествий, в чём ему помогали молчаливый Баччо и принятый недавно в школу знакомый по живописной мастерской толстяк Буджардини.
Поддавшись настроению красавца Торриджани, который всё больше привлекал его внимание, Микеланджело как-то подошёл к Граначчи, занятому написанием панно с райским садом и диковинными животными для очередной феерии, заказанной Лоренцо, и недовольно спросил:
— Неужели тебе не наскучило заниматься такими пустяками? Стоило ради этого покидать мастерскую старины Гирландайо?
— Тебе легко рассуждать. Ты сам говорил, что впитал любовь к камню с молоком кормилицы, жены каменотёса. А мне эта каменная пыль и крошка не по нутру. Я задыхаюсь, у меня в горле саднит и руки опускаются. И нечего меня корить! — с обидой ответил друг.
То, что Микеланджело считал пустяками, имело большое значение для Лоренцо Великолепного, большого любителя празднеств. Как умный политик, он давно принял на вооружение безотказно действующий принцип диктаторов древности «Хлеба и зрелищ», чтобы держать в повиновении вечно недовольную жизнью флорентийскую толпу. Им устраивались на площадях театральные представления, шествия и фейерверки, что заставляло народ забыть на время о невзгодах. Им был создан фонд помощи девушкам на выданье из бедных семей. Он не скупился на украшение города, привлекая лучших мастеров и выставляя их проекты на всеобщее обсуждение — народ любит и ценит проявляемые к нему знаки внимания и начинает верить, что с ним считаются, а истинный хозяин города ему доверяет. Чтобы заслужить любовь толпы, приходилось идти на немалые затраты.
Но внимание Лоренцо было постоянно обращено и к остальному миру, где работали десятки его банковских контор, контролирующих денежные потоки и при случае ссужающих кредиты нужным правителям во имя поддержания политического равновесия, а это было основной целью, которую поставил перед собой умный политик. От своих агентов он получал всю необходимую информацию о состоянии дел в Европе, не забывая при этом о возможности приобретения античных раритетов и особенно редких манускриптов, за которыми охотились повсюду его агенты для пополнения дворцовой художественной коллекции и библиотеки, считавшейся одной из лучших в Европе.
Для отдохновения от политических забот и финансовых неурядиц его любимый архитектор Джулиано Сангалло построил в 18 милях от города великолепную загородную резиденцию Поджо-а-Кайяно с портиком и элементами античного декора. На всякий случай парк окружили крепостной стеной со сторожевыми башнями, так как память о заговоре Пацци была ещё жива.
Там, где бурный Омброне несёт свои воды в Арно, вдовый Лоренцо любил уединяться с друзьями и молодыми куртизанками, предаваясь любовным утехам. Вдали от житейских перипетий и городского шума in vino veritas было девизом весёлой компании. Однако дни разгульной жизни не мешали Лоренцо плодотворно отдаваться поэзии на лоне природы, состязаясь в стихотворчестве со своим близким другом Полициано и поэтом Бенивьени. Бывали там и высоко ценимый при дворе за свой поэтический взгляд на жизнь Боттичелли, а также другие мастера.
Чаще других туда наведывался молодой философ и поэт Пико делла Мирандола, к высказываниям и советам которого Лоренцо внимательно прислушивался. Однако своих детей и двоюродных братьев Лоренцо туда не допускал. О его настроениях, навеянных природой, говорится в первых строках эклоги «Аполлон и Пан»:
На рубеже меж Западом с Востоком Пинд фессалийский гордо возвышался, Земля питалась там священным соком, На склонах вереск буйно разрастался. Куда ни кинешь взор пытливым оком, Мир в родниковых водах отражался.15Вилла в Поджо-а-Кайяно была спасительной отдушиной для него, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Там появились на свет многие его поэмы, написанные октавами или терцинами, и среди них «Амбра», «Ненча да Барберино», «Сельвы любви», в которых сильны отголоски платонических воззрений Фичино, изложенные им в труде «Книга о Любви», ставшем руководством для всех итальянских поэтов XVI века. Особенно примечательна вторая станца Лоренцо Великолепного, в которой даётся описание вожделенного «золотого века», едва ли не самое подробное в литературе того времени:
Когда Сатурн всем мудро управлял, То жизнь казалась радостной отрадой. «Моё», «твоё» — такого мир не знал. Плоды земли за труд были наградой, А люди были сыты и довольны. Животных, птиц никто не обижал. Овца и волк паслись вблизи привольно…Далее в канцоне говорится, что «конь узды не знал, а люди — железа для войны, и золота для желаний, и бронзы для памяти и шёлка для тщеславия». По мысли Лоренцо, в «золотом веке» сместились все временные различия — время остановилось, а потому не было никакой надобности в «бронзе для памяти».
Во время одного из поэтических состязаний Полициано в стихотворении «Нутриция» решил воздать должное своему великому другу, провозгласив:
Лоренцо — светоч нашего народа, И миротворец на земле Италии. Ему завидует сама природа — Его деянья вписаны в скрижали.16В кругу Лоренцо часто вспоминались слова Джован Баттисты Альберти, случайно оброненные в разговоре с друзьями: «Среди часов, отпущенных живущему, постоянно бывают потеряны те, что ты не использовал. Вчерашний день прошёл, а в завтрашнем нет уверенности. Итак, ты живёшь днём сегодняшним. Смерть — неизбежный предел для всего родившегося. Она не опасна тому, кто прожил жизнь с толком».17
Возвращаясь домой из Поджо-а-Кайяно, учредитель школы ваяния вспоминал о времени и не забывал наведаться в сады Сан Марко, живо интересуясь работой учеников. Ему не терпелось дождаться часа, когда начнут появляться на свет достойные изваяния молодых мастеров. Но вопреки его желанию наставник Бертольдо не торопил учеников, считая, что любую работу в камне надо заслужить упорным трудом, совершенствуясь в рисунке. Поэтому Лоренцо приходилось пока довольствоваться осмотром эскизов декораций, праздничных панно, карнавальных масок и размалёванных чучел из папье-маше, которые ему показывал исполнительный Граначчи.
Мастер Бертольдо с первых дней профессиональным чутьём узрел в Микеланджело недюжинное природное дарование и поразительную одержимость, которая поначалу его даже настораживала. С таким напором и необузданной энергией он встретился впервые в жизни и загорелся мечтой вырастить из юнца настоящего скульптора, которому он мог бы спокойно передать свой немалый опыт.
Каждый день он давал ему новое задание, терпеливо поясняя, что рисунок — это не самоцель и что рисунок рисунку рознь.
— У художника он должен заполнить пространство по высоте и ширине, — поучал он. — У скульптора же главная задача в рисунке — воспроизвести трёхмерность пространства во всю его глубину.
Наблюдая за работой Микеланджело над листом бумаги, Бертольдо с удивлением заметил, что ученик одинаково свободно пользуется при рисовании правой и левой рукой. Это было невероятно! Чтобы проверить своё открытие, он попросил Микеланджело обработать кусок травертина, сняв с него несколько слоев. Тот с готовностью взял в руки молоток с долотом и принялся за дело, обрабатывая камень ёлочкой, чему он научился у Тополино. Результат был тот же: юнец держал молоток, точно играючи, то в правой, то в левой руке. У других учеников Бертольдо такой аномалии не замечал. Он окончательно убедился в своих догадках о редкостном даровании ученика, выделяющем его из всех остальных ребят. При этом он вспомнил Леонардо да Винчи, который был прирождённым левшой и, при написании картины или делая пометки в рабочей тетради, всегда держал кисть и перо в левой руке, а правой пользовался только для рукопожатия.
* * *
С раннего утра Микеланджело бежал в сады Сан Марко, где до позднего вечера засиживался над работой. Домой он возвращался, когда все уже спали. Заботливая Лукреция оставляла пасынку ужин на кухне. Он любил эти ночные часы покоя, когда мог быть предоставлен самому себе наедине с одолевавшими его мыслями о своей дальнейшей судьбе и вечными сомнениями, терзавшими душу. За день он уставал от присутствия болтливых сверстников, вечно спорящих по ерунде, и только за нехитрым ужином в одиночку отходил от дневной суеты. Видимо, тогда появилось одно из первых его четверостиший, написанных на листе с рисунком лежащего на земле юноши:
Погас за горизонтом луч заката, И мир забылся беспробудным сном, Лишь я, простёртый на земле пластом, Рыдаю, а душа огнём объята (2).Тема животворного огня не случайно промелькнула уже в первых его поэтических строках, ибо он в своей одержимости горел работой, считая обретение знаний и навыков в скульптуре самым главным для себя занятием, не думая больше ни о чём. Огненный пыл души сжигал в нём все житейские мелочи и неурядицы, подавляя свойственное юности вожделение.
Несмотря на старания, ему порой крепко доставалось от Бертольдо, который относился к его рисункам придирчиво, гораздо строже, чем к работе других учеников школы. Но он не обижался на старого мастера, понимая, что тот печётся о его же собственном благе. Однажды Бертольдо поручил ему отправиться на ближнюю загородную виллу Кареджи, чтобы снять рисунок с античного бюста фавна.
— На днях туда доставили этот бюст, найденный на Сицилии близ Сиракуз, — сказал мастер. — Видевшие его наши знатоки Фичино и Ландино относят его к пятому веку до Рождества Христова. Мне нужен добротный рисунок. Пока я сам не в силах туда добраться.
Показать дорогу вызвался балагур Торриджани, которому льстило, с каким восхищением юнец глядел на него и слушал. Всю дорогу он ни на минуту не закрывал рта, потешая попутчика забавными историями и рассказами о своих амурных приключениях.
Микеланджело был рад окончанию весёлого словоблудия, когда наконец на склоне горы Монтевеккьо показалась напоминающая рыцарский замок серая громада виллы Кареджи, возведённой, как и флорентийский дворец Медичи, по проекту Микелоцци, ученика великого Гиберти. Видимо, архитектор хорошо знал сатирическую поэму Луиджи Пульчи «Морганте», и ирония поэта без труда читается в аляповатости и тяжеловесности некоторых элементов украшения фасада. По соседству расположилось имение философа Марсилио Фичино, подаренное ему дедом Лоренцо. Как пояснил Торриджани, «чудаки-чернокнижники» из Платоновской академии собираются там на свои заседания, где постоянно о чём-то спорят.
— Меня как-то направил туда Бертольдо исправить поломку одного пьедестала под античной статуей. Вот когда я вдоволь наслушался их ахинеи.
Нужный бюст фавна был обнаружен распакованным и очищенным от земли. Он красовался на деревянном постаменте среди обилия античных изваяний в одном из залов загородной резиденции. Микеланджело принялся за работу. Пока он рисовал, из соседнего зала раздавались смех Торриджани и милое щебетанье девичьего голоса.
— Вот, Микеланьоло, знакомься, — раздался вдруг голос за его спиной. — Юная хозяйка замка Контессина Медичи. Прошу любить и жаловать!
Он обернулся и увидел перед собой прелестное создание в розовом платье, стянутом на осиной талии парчовым пояском. Её головку украшал венок полевых цветов, из-под которого выбивались кудри светлых волос, а обворожительная улыбка и приветливый взгляд словно приглашали любоваться вволю их обладательницей.
— Наш наставник Полициано с восхищением рассказывал о вашей картине «Искушение святого Антония», — сказала девушка. — А где её можно увидеть?
— Она осталась в мастерской маэстро Гирландайо, — промолвил Микеланджело, смутившись от неожиданности и не смея поднять глаз на девушку.
Немного оправившись от смущения, он пояснил:
— По правде говоря, синьорина, я забыл о ней, и сейчас меня куда больше интересует эта лохматая голова фавна, привезённая из Сицилии.
Больше он ничего не смел добавить, почувствовав в груди сильное волнение.
На обратном пути Торриджани рассказал, что младшую дочь Лоренцо выделяет среди остальных детей и в ней души не чает. Даже имя ей дали со смыслом — Контессина, то есть «графинюшка».
— А ты заметил, — спросил он вдруг, — как она не сводила с меня глаз?
Микеланджело ничего такого не заметил, но переубеждать самовлюблённого товарища не стал. По возвращении он вручил Бертольдо выполненную работу. Похвалив рисунок, мастер предложил:
— У меня давно здесь лежит без дела кусок добротного каррарского мрамора. До него всё руки не доходят. Поработай с ним и докажи, насколько полезным для тебя оказались уроки Тополино и мои.
Вот оно, наконец-то долгожданное задание, чтобы доказать, на что он способен! Но прежде чем взяться за резец и молоток, Микеланджело долго рассматривал мрамор, ощупывая руками его шероховатую поверхность, и даже принюхивался, чтобы понять, как он себя поведёт, нет ли в нём пустот и будет ли он податливым.
Взяв тележку, он отвёз кусок мрамора в отдалённый угол сада, подальше от лишних глаз и отвлекающих разговоров вечно спорящих о чём-то товарищей по школе. Его всегда выводило из себя, когда что-то говорилось под руку и отвлекало от дела. Но он сдерживался, если подходил Торриджани со своими двусмысленными шуточками — ему всё прощалось, даже слишком громкий голос, заглушавший всех остальных.
Собравшись с духом, он приступил к работе. К счастью, мрамор, словно дождавшись своего часа, оказался податлив долоту и молотку, отсекавшим ненужные пласты, и стала понемногу вырисовываться форма кудлатой головы, которую он обработал троянкой, а после начал высекать резцом лицо смеющегося фавна, не переставая думать о девушке, поразившей его воображение.
Как-то по дороге к дому он рассказал Граначчи о неожиданной встрече на вилле Кареджи с очаровательной Контессиной, которая стала сниться ему по ночам. Друг молча выслушал его, но не поддержал разговор, хотя на такие темы сам любил поговорить и похвастаться своими успехами или рассказать о неудачах в амурных делах.
Дня через два во время перерыва, когда друзья уединились на скамейке у фонтана и Граначчи по заведённому обычаю разложил на салфетке приготовленное родительницей угощение, откупорив фьяску вина, Микеланджело протянул ему рукописный листок.
— Взгляни, только честно — что скажешь?
Граначчи взял листок и принялся читать, с трудом разбирая корявый почерк друга, который не отрывал от него глаз, пока он читал:
Чело прелестное слегка лаская, На кудрях золотых лежит венок, И каждый вдетый в волосы цветок Быть первым норовит, главу лобзая. Девичий стан свободно облегая, Хитон спадает складками у ног. Лебяжьей шеи и пунцовых щёк Касается наколка кружевная. Но радость большую дано познать У ворота атласной ленте гладкой: Она по нежным персям вьётся днями. Ей неприметный поясок под стать — Он к чреслам прижимается украдкой. О, что бы натворил я тут руками! (4)Прочитав, Граначчи задумался, не зная, что сказать другу.
— Мне искренне жаль тебя, Микеланьоло, — тихо вымолвил он, с трудом подбирая слова. — Пойми, это не твоего поля ягода.
— Да ты ничего не понял! — воскликнул Микеланджело в сердцах, вырвав у него из рук листок, но больше разговор на щекотливые темы с другом не затевал.
* * *
Работа над головой фавна шла своим чередом, и Микеланджело не раз просил у Бертольдо позволения посетить Кареджи для уточнения некоторых деталей оригинала. Его тянула туда неодолимая сила. Наставник с радостью его отпускал, видя, как ученик по-настоящему увлёкся делом, и любо-дорого было на него глядеть.
Но теперь он отправлялся туда по знакомой дороге один, не желая ничьей компании, дабы побыть наедине со своими мыслями. На вилле Кареджи он успел осмотреть всю богатую коллекцию антиков и по просьбе Бертольдо приступил даже к её описи, хотя все его мысли были о той, что поразила его воображение и смутила покой.
В саду вокруг виллы было немало античных изваяний, и помечая их в тетради, он наткнулся ненароком на одиноко стоящую полуразрушенную колонну, обвитую лавром. От этой незнакомки исходило сильное притяжение, словно она таила какую-то неразгаданную тайну, а обнимавшие её цепким объятием побеги лавра говорили о былой утраченной красе, безжалостно загубленной непогодой и временем. Возможно, это та самая колонна, упомянутая в одном из ранних стихотворных набросков: «Повержен столп и лавр вечнозелёный», напоминающем первую строку 269-го сонета Петрарки, чей «Canzoniere» был тогда настольной книгой юноши. Но та, ради кого он сюда стремился, так и не повстречалась ему, несмотря на поиски. В неразлучной тетради появилась ещё одна запись:
При сладостном журчаньи ручейка, Чей ключ в сени прохладной схоронился, Отрадно сердцу… (V)Сколько лучезарности в этой пейзажной зарисовке в духе поэзии Петрарки! Блуждая среди зарослей в поисках своей Эвридики, он оказался однажды в дубовой роще, где на одной из тенистых аллей из-за поворота показались два пожилых господина и с ними Контессина. Его охватил трепет, и первым желанием было свернуть в сторону.
Узнав издалека Микеланджело, Контессина окликнула его и представила как старого знакомого двум своим пожилым спутникам.
— А мы уже знакомы, — ответил один из них. — Я видел вашего «Святого Антония» в мастерской Гирландайо. Картина производит сильное впечатление. Вас можно поздравить с успехом.
Это был поэт Анджело Полициано, чьи «Стансы о турнире» и другие стихи были известны Микеланджело ещё в школе, где Франческо да Урбино любил на уроке читать и разбирать поэтические тексты, разъясняя значение того или иного образа.
В отличие от низкорослого поэта с некрасивым лицом, похожим на обезьяну, вторым оказался человек среднего роста в сутане священника с мужественным выразительным лицом — Марсилио Фичино, хозяин соседнего имения, расположенного в том же парке.
Завязался непринуждённый разговор о живописи и поэзии. Оба учёных мужа заинтересовались личностью юнца, который в поддержку своих суждений не раз ссылался на Данте и Петрарку, цитируя их наизусть, чем привёл в восторг Контессину.
— Как вам удаётся всё это запомнить? — спросила девушка.
— Вот, синьорина, — шутливо заметил Полициано, — как надобно тренировать память. — Доверьтесь поэзии, и она вам будет верной подругой по жизни.
Вернувшись из Кареджи, Микеланджело поведал Бертольдо о неожиданной встрече с двумя учёными мужами, умолчав о Контессине, чей весёлый смех продолжал звучать колокольчиком в ушах. От всезнающего Рустичи он узнал, что младшая дочь Лоренцо больна чахоткой, как и её покойная мать, и по предписанию врачей вынуждена постоянно жить в Кареджи, так как городской воздух для неё пагубен.
Это известие поразило Микеланджело, вызвав в душе волнение и страх. Ужели злая природа способна загубить этот благоуханный цветок? Страшная мысль преследовала его, не давая покоя. В рабочем альбоме, который он прятал от сторонних глаз, появились один за другим несколько рисунков с нежным женским ликом. Но ни один из них не устраивал его, и он чувствовал, что в рисунке не хватало чего-то главного. Тогда, отложив в сторону альбом, он обратился к слову, чтобы выразить в стихах охватившие его чувства тревоги за жизнь очаровательной девушки, пленившей его воображение, и вскоре на полях одного из рисунков с нежным женским профилем появился сонет, в котором слышны мотивы Петрарки:
Благословенно духа отраженье! Он поражает редкой глубиной, И лик сияет дивной красотой — Земля не знает равного творенья. Всё в мире для меня как откровенье, Едва я жажду утолил росой И подружился с негой неземной, Забыв свои былые сновиденья. А кротость, нежность и в очах мольба Вселяют веру — красота пленила. Отныне только ею буду жить! Ужели может статься, что судьба, Хвороба тяжкая иль злая сила Способны совершенство загубить? (41)Он не находил себе места, и ему хотелось как можно больше узнать о «графинюшке». Его занимало всё, что связано с ней. Поскольку Полициано считался её воспитателем, он завёл как-то о нём разговор с Бертольдо. Старый мастер рассказал, что в своё время покойная жена Лоренцо, недовольная воспитателем её детей, прогнала Полициано, и тот вынужден был переселиться в Мантую, где преуспел при княжеском дворе. По случаю бракосочетания Франческо Гонзаги с Изабеллой д’Эсте он сочинил весёлую комедию в стихах «Сказание об Орфее», имевшую большой успех. Высоко ценивший его как поэта Лоренцо настоял на возвращении Полициано во Флоренцию, где ему было поручено возглавить кафедру греко-латинской литературы в Studio, как тогда в отличие от первого в Италии болонского назывался флорентийский университет. Там же преподавал Ландино, учёный-гуманист, автор широко известных и признанных многими специалистами лучшими комментариев к «Божественной комедии» Данте.
* * *
Когда голова фавна была готова, на неё решил взглянуть сам Лоренцо, явившись в сады Сан Марко в сопровождении свиты и охраны. Волнуясь, Микеланджело сдёрнул покрывало, и взорам собравшихся предстала взлохмаченная голова бородатого смеющегося фавна. Все присутствующие наградили автора аплодисментами.
Лоренцо похвалил юнца за работу и тогда же пригласил его переехать к нему во дворец поблизости, чтобы не тратить понапрасну время на дорогу.
— Я распоряжусь, чтобы тебе там было назначено денежное довольствие, — объявил он. — Полагаю, твой родитель будет не против.
Он ещё раз обошёл бюст кругом и спросил с улыбкой:
— Но вот что мне скажи, юный ваятель: где ты видел, чтобы старики — а твой фавн отнюдь не молод — одаряли мир белоснежной улыбкой?
Все присутствующие рассмеялись. Микеланджело смутился, не зная, что ответить. Видя его растерянность и желая ободрить юнца, Лоренцо подарил ему напоследок снятый с собственного плеча синий бархатный плащ на пурпурной шёлковой подкладке, что было расценено всеми присутствующими как знак высокого расположения правителя к даровитому юноше.
Но как только Лоренцо удалился со свитой, Микеланджело взял зубило и выбил зуб у фавна, замазав дырку в десне мастикой и мраморной крошкой. Он долго не мог забыть свой промах, и стремление к совершенству стало его навязчивой идеей, которой он оставался верен до конца, за что бы ни брался.
В тот счастливый для него день, когда его первое изваяние, являющееся парафразом древнегреческой скульптуры, получило столь высокую оценку, он, сам того не ведая, нажил себе злейшего врага в лице Торриджани, который при встрече стал демонстративно отворачиваться или делать вид, что не замечает его присутствия. Микеланджело горько переживал эту метаморфозу, так как успел душой прикипеть к статному красивому парню, восхищаясь смелостью и независимостью его суждений. Зная за собой немало недостатков, он сильнее всего порицал в людях зависть.
Дня через два, увидев голову беззубого фавна, Лоренцо рассмеялся, оценив находчивость юнца, и распорядился перенести работу ученика во дворец и поставить рядом с другими античными изваяниями, что привело юного автора в неописуемое волнение. Позднее, в смутные годы, голова «Смеющегося фавна» была утрачена. О ней остались только свидетельства современников.
* * *
Лоренцо был большим любителем красоты и, словно предчувствуя скорый конец, торопился и жил днём сегодняшним, устраивая приёмы, спектакли, поэтические диспуты, карнавалы, фейерверки и увлекаясь соколиной охотой. Вокруг него постоянно царила атмосфера эпикурейства. Казалось, каждый день он воспринимал как последний и не мог им насытиться.
Об этом красноречиво говорится в его известном четверостишии, ставшем для многих молодых итальянцев чуть ли не девизом, призывающим ценить жизнь в любых проявлениях и ловить каждый её момент:
Quant'e bella giovinezza Che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto, sia. Di doman non c’e certezza.Эти строки звучат в унисон с флорентийской пословицей, что «жизнь дана для наслаждения», а среди интеллектуалов широкой известностью пользовался труд гуманиста Лоренцо Валлы «О наслаждении как истинном благе», ставший своего рода катехизисом для некоторых гуманистов и художнической богемы.
Юный Микеланджело слышал эти чеканные стихи и не мог не подпасть под их очарование, и они как неотвязная мысль прочно засели в его памяти:
Златая юности пора, Ты быстротечна, как мгновенье. Вкусим же ныне наслажденье, Не зная, что нас ждёт с утра.Но его одолевали иные мысли и настроения. Он рано почувствовал, как перед ним в туманной дымке маячит вечность, а потому его мысли были связаны только с искусством, которому он безраздельно был предан. Своё жизненное кредо, а вернее, самого себя и свою художническую сущность, он однажды предельно точно выразил в заключительных терцетах одного из сонетов:
Как сталь, в горниле жизни закалён, Ступая всюду с поднятым забралом, Страстями пламенел, но не сгорел. Я помыслами в вечность устремлён. Златые искры высекать кресалом — Таким в искусстве вижу свой удел (63).Всей своей дальнейшей жизнью он доказал, что ни разу не изменил своему кредо, несмотря на болезни, соблазны и житейские перипетии.
* * *
Подозрительный мессер Лодовико, узнав о переезде сына во дворец, ничего не сказал по этому поводу, но в глубине души узрел в поступке Микеланджело предательство. Словно прочитав мысли отца, старший брат Лионардо сказал на прощанье:
— Как бы тебе, Микеланьоло, не пришлось потом каяться всю жизнь за опрометчивый поступок — переезд в логово безбожия и порока.
Один лишь средний брат Буонаррото взялся проводить его до нового местожительства. Переехав со своим скромным скарбом в дворцовые апартаменты, где ему была выделена отдельная комната по соседству с проживающим там Бертольдо, Микеланджело стал осваивать азы дворцового этикета. Пришлось пересмотреть своё небрежное отношение к внешнему облику и смириться с тем, что уже на второй день пребывания во дворце он нашёл в своей комнате новый камзол, шёлковые рубахи, чулки и башмаки с пряжкой.
Отныне на обеде и ужине он садился за один стол с хозяином дворца на любое свободное место, как ему указал сам Лоренцо, и часто оказывался рядом с его сыновьями Пьеро, Джованни, Джулиано и с их насупленным кузеном Джулио. Среди сотрапезников были высшие сановники, иностранные послы, известные учёные и поэты. Во время застолий в сугубо мужской компании, ибо женщины допускались только по воскресным и праздничным дням, велись разговоры о политике, философии, искусстве и литературе. Микеланджело жадно прислушивался к тому, что говорилось вокруг, и часто наведывался в дворцовую библиотеку, чтобы выяснить значение того или иного понятия, о котором велись беседы за столом.
Живя во дворце, он увидел немало замечательных творений живописи и ваяния, сделав с некоторых наброски, что давно вошло у него в привычку. Особо сильное впечатление произвели на него фресковые росписи Беноццо Гоццоли в дворцовой часовне, на которых изображались три поколения Медичи, в том числе портрет юного Лоренцо на коне. Здесь же процессия волхвов, направляющихся в Вифлеем, в образах которых запечатлелись многие видные иерархи и известные деятели культуры и политики той эпохи, собравшиеся на флорентийский Вселенский собор в 1439 году. Перед столь великим собранием стояла не требующая отлагательства задача: собрать воедино все европейские силы перед исходящей с Востока смертельной угрозой христианской вере и западной цивилизации.
Собор не справился с поставленной целью — 14 лет спустя под натиском турок пал Константинополь. На Флорентийском соборе побывали также представители Русской православной церкви. Как знать, возможно на фреске Гоццоли изображён в образе одного из волхвов русский митрополит Исидор, который по возвращении на родину за свои призывы к объединению с Римской церковью был объявлен еретиком и предателем. Опасаясь расправы, он бежал в Рим, где был возведён папой Евгением IV в кардиналы.
Как-то увидев Микеланджело, рассматривающего в одном из залов мраморный бюст, Лоренцо спросил его, что он о нём думает.
— По-моему, мастер, изваявший бюст, так хорошо знал природу мрамора и обработал его с такой любовью, что он у него словно светится изнутри.
— Ты прав. Это бюст моего отца Пьеро работы нашего покойного скульптора Мино да Фьезоле. Пойдём, я покажу тебе работы его учителей Верроккьо и Дезидерио да Сеттиньяно.
Затем он провёл юношу в свою спальню, которую украшала большая картина «Мадонна дель Маньификат».
— Это работа кисти нашего славного друга Боттичелли. Но добряк Сандро явно переусердствовал, изобразив меня и покойного брата эдакими красавцами.
Микеланджело был благодарен хозяину дворца за показ прекрасного собрания скульптуры и живописи. Ему льстило, что Лоренцо с вниманием прислушивается к его мнению. Однажды, когда по заданию Бертольдо он делал рисунок с одного изваяния в кабинете Лоренцо, туда вошли хозяин и Пико делла Мирандола, который в продолжение начатого разговора предложил пригласить во Флоренцию феррарского монаха-доминиканца Савонаролу.
— Мне дважды довелось слышать его выступление на одном из богословских диспутов в Болонье, — рассказал Пико. — С такой глубиной суждений я давно не сталкивался. Его зажигательные проповеди благотворно воздействуют на прихожан, укрепляя в них веру в истинно христианские ценности.
— Лет сто с лишним назад, — заметил Лоренцо, — Флоренция уже знала одного доминиканца по имени Якопо Пассаванти, чьё сочинение «Зерцало истинного покаяния» наделало в своё время много шума. Выступая против науки, он ссылался на слова Соломона: Qui addit scientiam, addit et dolorem — «Кто умножает знания, умножает скорбь».18
Он уселся поудобнее, поглаживая больную ногу, и спросил:
— А не будет ли твой Савонарола новым изданием нашего флорентийского страстотерпца? Наш город немало повидал на своём веку лжепророков. Флорентийцев хлебом не корми, а дай им вволю пофилософствовать.
Пико стал приводить с присущей ему горячностью другие доводы в пользу феррарского проповедника, стараясь развеять сомнения Лоренцо.
— Был и другой знаменитый флорентиец, Джаноццо Манетти, — напомнил Пико, — чьи воззрения мне столь же близки, как и взгляды Савонаролы.
Микеланджело невольно стал свидетелем этого важного разговора, последствия которого оказались трагически непредсказуемыми для Флоренции.
Живя во дворце, он вскоре стал понимать неестественность своего положения. Ему трудно было чувствовать себя равным, и даже обслуга снисходительно смотрела на него как на нахлебника, что не раз порождало в нём вспышки гнева. Бертольдо не разделял его настроения и просил ученика сдерживаться.
— Не обращай внимания на мелочи, — поучал он. — Смотри на всё философски, как и подобает истинно преданному искусству человеку.
Особенно неприятны ему были колкие замечания, которые себе позволял в отсутствие отца заносчивый Пьеро. Ему подпевал некий скользкий тип по имени Бернардо Довици, будущий всесильный кардинал Биббиена. Это был factotum при дворе Медичи, мастер на все руки, особенно по улаживанию всяких щекотливых дел. Он следил за всем, что происходит во дворце, и ничто не ускользало от его внимания. Лоренцо держал его от себя на некотором расстоянии, а вот сыновья его были привязаны к Довици больше, чем к своему наставнику Полициано, который донимал их заучиванием стихов наизусть.
В отличие от высокомерного Пьеро оба его младших брата и сестра Контессина, которая стала часто бывать во дворце, относились к Микеланджело как к члену семьи. Правда, на него с непонятным подозрением поглядывал их кузен, красивый брюнет Джулио, незаконнорождённый сын погибшего Джулиано Медичи. По всей видимости, он чувствовал ущербность своего положения бастарда при дворе и ревностно относился к любому вновь появившемуся протеже в их семействе.
Медичи всегда проявляли заботу о прижитых на стороне отпрысках и воспитывали их вместе с законнорождёнными детьми. Например, Лоренцо удачно выдал сводную сестру Марию за банкира Леонетто Росси — их отпрыск Луиджи Росси стал кардиналом.
Через неделю после появления во дворце Микеланджело как-то вечером обнаружил на столике у кровати три золотых флорина. Его недоумение прояснил Бертольдо.
— Ничего удивительного, — сказал он. — Это твоё денежное довольствие за неделю, как и было обещано его светлостью Лоренцо.
В следующее воскресенье Микеланджело решил навестить отчий дом. Он долго примеривал перед зеркалом новый камзол, в который облачался только для трапезы, и не забыл набросить на плечи бархатный плащ, подаренный хозяином дворца.
Довольный собственным видом, он гордо направился к своим. По дороге ему повстречались на перекрёстке шедшие в обнимку сильно подвыпившие два Аякса — Торриджани и Рустичи.
— Что это ты вырядился как павлин? Уж не на свидание ли собрался?
— Вы ошибаетесь, — весело разуверил их Микеланджело. — Иду навестить родителя и братьев.
— Не забудь им сказать, — крикнул вдогонку громко на всю улицу Торриджани, — что из тебя получился услужливый прихлебатель!
Оба парня громко рассмеялись, а Микеланджело передёрнуло от этих слов, и его приподнятое настроение как рукой сняло. Но переступив порог родного дома, он тут же забыл про злобный выпад завистника.
Вся семья была в сборе за праздничным столом. Особенно его порадовало присутствие бабушки Лиссандры. Здесь же были дядя Франческо с женой, мачеха Лукреция и все братья.
— Наконец-то сын осчастливил нас визитом, — язвительно сказал мессер Лодовико, протягивая Микеланджело руку для поцелуя.
— Синьор отец, — промолвил сын, — простите меня, но я работал каждый день допоздна, за что вознаграждён Лоренцо его добрым ко мне расположением.
Он подошёл к столику у окна, за которым любил посидеть мессер Лодовико, наблюдая за происходящим на улице, и выложил три золотых флорина.
— Это мой недельный взнос в семейную копилку, которая, как я надеюсь, будет и впредь неизменно пополняться.
Поднялся шум, и все начали расспрашивать его наперебой о жизни во дворце, а бабушка Лиссандра, обняв его, воскликнула:
— Боже, как же ты исхудал!
Особенно возбудился дядя Франческо при виде золотых монет. У него загорелись глаза, и он тут же предложил пустить флорины в дело под хороший процент. Но его решительно осекла мачеха Лукреция:
— Тебе ли советовать давать деньги в рост! Горе-меняла, ты лучше о своих делах подумай.
За мужа горой стала воинственная Россанда, и началась обычная перепалка. Мессер Лодовико, подойдя к столику у окна, выдвинул нижний ящичек и смахнул рукой в него флорины от соблазна, подумав про себя: «Этому шалопаю платят в неделю столько, сколько я получаю за месяц работы на таможне».
Между взрослыми начался спор, а Микеланджело с братьями поднялись на мансарду под крышей, где ему долго пришлось отвечать на их вопросы и рассказывать о своём житье-бытье на новом месте. Если бы его вконец не доконал ханжа брат Лионардо с его заклинаниями подумать о вере, то он с радостью остался бы ночевать в старой детской каморке.
Ровно через неделю Микеланджело вновь посетил отчий дом и выложил перед отцом полученное недельное довольствие. Мессер Лодовико, как и в первый раз, принял деньги, не сказав ни слова — он по-прежнему был сердит на сына, пошедшего против его воли. А непокорный сын продолжал регулярно раз в неделю появляться в отчем доме, внося лепту в семейный бюджет.
* * *
Всякий раз, когда Микеланджело невзначай встречал во дворце неунывающую и полную радости жизни «графинюшку», его охватывала неимоверная радость от того, что былые его страхи за неё были напрасны, и он забывал про опасения по поводу её здоровья. Но после каждой встречи рука вновь тянулась к перу. В тетради возникали новые рисунки с милым профилем, а однажды под ними появились строки, написанные торопливым пером:
Дрожу, твой лик увидев просветлённый, Но не похож я боле на ловца И, словно рыба, клюнув на живца, Взмываю на уде, как подсечённый. Коль сердце неделимо пополам, Я целиком тебе его вверяю — Чего ещё желать отныне мне, Когда влеченью чувств отдался сам? Но ими я, увы, не управляю. Ты — мой костёр, и мне гореть в огне! (15)Она как-то появилась в садах Сан Марко, куда пришла вместе с братом Джованни, который сиял от радости и по-дружески поделился с Микеланджело новостью о том, что ему обещана кардинальская шапочка. Её отец выхлопотал у дышащего на ладан папы Иннокентия VIII — с ним Медичи породнились недавно, выдав вторую дочь Лоренцо Маддалену замуж за папского «племянника» не первой свежести Франческетто Чибо.
— Микеланьоло, напишешь мой портрет, когда я стану кардиналом? — весело спросил Джованни.
Кроме служения церкви, второй сын Лоренцо не видел для себя иной цели в жизни, хотя от отца ему передалась любовь к светским наслаждениям, особенно чревоугодию и соколиной охоте, которой он предавался, несмотря на близорукость. Джованни Медичи стал не только кардиналом, но и римским папой Львом X, первым из клана Медичи. Но Микеланджело несмотря на дружбу, связывавшую их в юности, так и не написал его портрет, поскольку любимым художником папы Льва стал молодой и более сговорчивый Рафаэль.
Один из воскресных ужинов носил особенно торжественный характер, когда за столом собралась вся семья Медичи. Микеланджело впервые увидел старших дочерей Лоренцо — поблекшую Лукрецию и толстушку Маддалену с мужьями. Рядом с отцом сидел старший сын Пьеро с женой Альфонсиной Орсини, которая при знакомстве смерила Микеланджело презрительным взглядом, словно какого-нибудь конюха.
Небольшой оркестр под руководством маэстро Кардьера, красивого жгучего брюнета-южанина, ублажал слух сотрапезников музыкой, пока слуги убирали лишнее со столов, меняли приборы и вносили новые блюда, подаваемые из кухни на лифте.
Сидевшая рядом с Микеланджело Контессина просвещала его о присутствующих на аристократическом рауте.
— Вон в чёрном камзоле, — поясняла она, — сидит ректор греческой академии, основанной моим отцом, в которой преподают многие учёные из Константинополя. Рядом с ним литератор Веспасиано да Бистичи, автор известного труда «Замечательные жизни» о мастерах искусства. Чуть дальше любимый архитектор отца Джулиано Сангалло с каноником Мариано. Здесь же иностранные послы, чьи имена мне неизвестны. А вот и моя шумливая родная тётушка Наннина Медичи с мужем-литератором Бернардо Ручеллаи.
Это имя заставило Микеланджело вздрогнуть и вспомнить о своей матери. «Как бы порадовалась мама, — подумал он, — увидев сына за одним столом с самими Медичи! Думаю, что и отцу было бы такое лестно увидеть. Ведь для него так важно сознавать, сколь знатен его дворянский род, хотя порастерявший состояние, но не утративший собственного достоинства».
Праздничная атмосфера дворца не тронула Микеланджело. Ему претили вся эта роскошь и деланое веселье, хотя и льстило присутствие рядом обожаемой Контессины, которая, как всегда, была весела и приветлива. Несмотря на её просьбы не исчезать надолго, он старался избегать воскресных застолий, предпочитая им скромный обед в родительском доме в кругу семьи, где не нужно соблюдать никакой этикет.
Мысли о Контессине не оставляли его, а она всё чаще стала появляться в садах Сан Марко, где её живо интересовало всё. В ней чувствовались унаследованная от отца любовь к искусству и тонкость вкуса, несмотря на юный возраст. Умный Бертольдо понимал, видимо, причину столь частого посещения любимицей Лоренцо школы ваяния и радовался её присутствию. Она любила наблюдать за работой Микеланджело, которому льстило её внимание, и он предложил ей однажды порисовать. Она охотно приняла его приглашение и предложенные им лист бумаги и грифель. С удивлением он увидел, что это у неё неплохо получалось.
Как же она непохожа на своих капризных и чванливых братьев! Сколько в ней врождённой простоты и благородства. Всякий раз, когда он подправлял её рисунок, она одаряла его улыбкой и с радостью принимала любую его подсказку.
— У тебя лёгкая рука, как у волшебника, — поражалась она, рассматривая свой исправленный им рисунок.
Для Микеланджело это были счастливые мгновения. Особенно ему льстило, что Контессина за советом обращалась к нему или к Бертольдо, не обращая внимания на присутствие Торриджани — тот постоянно пытался попасться ей на глаза, но, к немалой радости Микеланджело, так и не удостоился её взгляда.
О его тогдашних настроениях говорят стихи с их юношеским максимализмом, когда чувства затмевают разум, а рука с пером не в силах остановиться:
Как жить, моя отрада? Посмею ль я вдали от вас дышать, Раз не дано надежду мне питать? А вздохи или горькие рыданья, Которым предавался в дни печали, Без лишних слов вам, дева, показали, Какие я терпел от вас страданья, И коль не улыбнётся мне судьба, Готов отдать вам сердце на закланье, Чтоб вспоминали верного раба (12).Но столь откровенные излияния он тщательно прятал подальше от сторонних глаз, особенно от болтливых слуг, а потому сам застилал постель и выносил мусор. Он горел на работе в садах Сан Марко, не замечая времени, оставаясь равнодушным к жизни во дворце и раскрывшемуся перед ним миру роскоши. Для него сущей мукой было соблюдение дворцового этикета, когда приходилось напяливать на себя осточертевший камзол и обувать блестящие остроносые башмаки с пряжкой. Насколько же вольготнее ему было вместо чопорного ужина во дворце посидеть с другом Граначчи в ближайшем трактире и отвести душу! Они говорили о своём житье-бытье и о будущем, которое им, особенно Микеланджело, рисовалось в радужных тонах. Граначчи ценил, что его талантливый друг предпочитает скромную трапезу с ним пышному дворцовому застолью.
Глава VII «ПЛАТОНИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ» И ПЕРВЫЕ УТРАТЫ
С рождения пленён я красотой
И высшее в том вижу назначенье.
За кисть иль за резец берясь рукой, —
Вот цель моя и вечное стремленье (164).
Как-то в один погожий осенний день у ворот Сан Марко остановились дрожки. Полициано специально заехал за Микеланджело, чтобы с ним отправиться в Кареджи. По дороге он объяснил цель поездки:
— Его Светлость Лоренцо, почувствовав недомогание, посоветовал на заседание академии взять, Микеланьоло, именно вас для ровного счёта.
На недоумённый вопрос Микеланджело он пояснил, что заседания Платоновской академии или platonica familia — «платонической семьи», как её называют, — проводятся в узком кругу посвящённых. Обычно собираются девять человек, по числу муз, но если участников больше, то это не может не приветствоваться.
— У нас нет ни писаного устава, ни постоянного членства. В день 7 ноября, а сегодня на календаре именно эта дата, все мы, приверженцы Платона, непременно собираемся, чтобы отметить день памяти нашего наставника учёной беседой и праздничным застольем, дающим пищу уму и побуждающим к взаимной любви и дружбе.
По дороге Полициано успел поведать юному спутнику о других особенностях и традициях «платонической семьи»:
— Платон прожил 81 год, а это не что иное, как помноженное на девять магическое число муз. А число, как говаривал Платон, составляет суть каждой вещи.
Традиция неоплатоников собираться в день смерти учителя была прервана во времена Плотина и Порфирия, но спустя тысячу лет с лишним возобновилась во Флоренции в годы правления Козимо Медичи, который подружился с учёным греком Гемистием Плетоном. Как верный поклонник Платона, он был яростным критиком Аристотеля и его последователей, к которым принадлежали и церковные схоласты. Платон мечтал о создании такой мировой религии и философии, которые возвышались бы над христианством, язычеством и магометанством. Под влиянием своего греческого друга Козимо Медичи считал, что «без платоновского учения никто не может быть ни хорошим гражданином, ни добрым христианином». Эти слова любил повторять и его славный внук Лоренцо Великолепный.
Начиная с 1459 года, даты образования Платоновской академии, члены «платонической семьи» регулярно собираются на свои заседания. Благодаря Его Величеству случаю — болезни Лоренцо — обласканный им юнец попал в ареопаг мудрецов, приобщивших его к неоплатонизму
По приезде Микеланджело был представлен главе Платоновской академии Марсилио Фичино, с которым уже был шапочно знаком, и молодому поэту и философу Джованни Пико, жившему неподалёку в уединении и раздавшему неимущим земли родового графства Мирандола в области Эмилия-Романья. Здесь были также знаменитый комментатор Данте Кристофоро Ландино, поэты Джироламо Бенивьени и Джованни Нези. Имена остальных двух членов «платонической семьи» Микеланджело не упомнил, но вместе с ним и Полициано число присутствующих на заседании оказалось как раз равным девяти.
Хозяину дома было около шестидесяти. Его имя знала вся просвещённая Европа. Несмотря на преследующие его недуги, он успел перевести на латынь все труды Платона и проштудировал многих античных мыслителей, от Аристотеля до александрийцев; ему были известны работы последователей Зороастра и Конфуция. Папский Рим относился к нему как к потенциальному еретику и чуть было не отлучил от церкви за попытку канонизировать Платона, которого он считал лучшим из учеников Христа.
Перу Марсилио Фичино принадлежит фундаментальный труд «Платоновская теология», в котором получила дальнейшее обоснование мысль, высказанная Петраркой и Боккаччо — поэзия божественна по происхождению и по существу является особой формой теологии. Вот почему многие поэты приравниваются к пророкам, коим дозволено напрямую общаться с богами. Да, именно с богами — в одном из стихотворений Фичино кощунственно обращает к божествам Олимпа слова католической литургии:
Слава мудрому Аполлону! Музам слава за вдохновенье, Мир Флоренции и спасенье, Солнцу слава и небосклону!19Старшим по возрасту в академии считался Кристофоро Ландино. В своё время он был наставником правителя Флоренции Пьеро Подагрика, а затем и его сына Лоренцо Великолепного. Признанный знаток творчества Данте, он прославился блистательными комментариями к «Божественной комедии». Ему принадлежит также заслуга придания флорентийскому диалекту, к которому презрительно относились многие филологи-пуристы, статуса официального литературного языка, на который им были переведены сочинения Плиния, Горация и Вергилия. Считается, что Ландино сподвигнул Леонардо да Винчи работать над составлением толкового словаря разговорного языка — который Леонардо, впрочем, не завершил, как и большинство своих творений.
С воспитателем детей Лоренцо Анджело Полициано Микеланджело был не только знаком, но и хорошо знал его творчество. А вот с молодым красавцем Джованни Пико делла Мирандола, которому было чуть больше двадцати пяти, он уже мельком встречался, когда невольно оказался свидетелем его судьбоносного разговора с Лоренцо. Этот философ, поэт, полиглот, читающий на 22 языках, поражал современников глубокой эрудицией. В своём сочинении «900 тезисов по философии, каббалистике и теологии» Пико соединил эзотерические традиции иудаизма с элементами гностицизма, пифагорейства и неоплатонизма. Он ратовал за аллегорическое и символическое истолкование Ветхого Завета и мистическую символику чисел и букв. За свои воззрения он был объявлен еретиком, и от суда инквизиции его спасло только высокое заступничество Лоренцо, сумевшего воздействовать на папу Иннокентия VIII и добиться вызволения молодого учёного из пыточного каземата.
Заседание открыл Фичино, который продолжил чтение своих комментариев к «Пиру» Платона, затронув тему любви и красоты, которая, как подчеркнул учёный, «есть нечто божественное и владычественное, потому что она означает владычество господствующей формы и доносит победу божественного искусства и разума над материей, представляя собой очевиднейшим образом самую идею».20
Его горячо поддержал выступивший затем Ландино.
— Ты прав, Марсилио! Неоплатонический термин «идея» уже содержится у Данте в «Рае», где прямо подтверждается твоя мысль.
И он по памяти привел стих:
Всё, что умрёт, и всё, что не умрёт, — Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий Своей Любовью бытие даёт.21Затем настал черёд Пико делла Мирандола, который продолжил развивать идеи, изложенные им в «Комментарии к канцоне о любви Джироламо Бенивьени», единственном его философском сочинении не на латыни, а на обычном народном языке vulgo, в котором рассматривается двоякий характер человеческой любви и отстаивается идея свободного выбора.
— Свободная по своей природе душа человека, — заявил Пико, — способна подняться до любви небесной или опускаться до животной страсти в зависимости от того, рождается такая любовь разумом или неосознанным желанием.22
С идеей свободного выбора не согласились некоторые участники, особенно автор разбираемой канцоны.
— В твоей трактовке, дорогой Пико, — заметил, волнуясь, Бенивьени, — много привнесено из язычества, с чем не всякий христианин будет согласен.
Разгоревшаяся дискуссия вызвала большой интерес Микеланджело, а особенно поразила его оброненная Пико фраза о том, что человек сам сотворяет самого себя. Заканчивая заседание, Фичино подвёл итог:
— Наш век — воистину век золотой. Он возродил свободные искусства, которые уже почти погибли: грамматику, поэзию, ораторское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку и древние напевы Орфеевой арфы.
Подойдя к бюсту Платона, он поправил огонь в лампаде и добавил:
— В нашей Флоренции, друзья, воссиял из мрака свет платоновской мудрости, а в Германии именно в наше время были изобретены орудия для печатания книг, что явилось действенным средством для распространения знаний в самых широких кругах.
Ландино поставил последнюю точку в затянувшейся беседе, которая обернулась ложкой дёгтя. Он вдруг вспомнил, что Леонардо да Винчи холодно, если не сказать равнодушно относился к античному наследию и высмеивал его наиболее рьяных приверженцев.
— Однажды Леонардо сказал мне, что нынешние ревнители древности напоминают ему средневековых схоластов, сменивших Библию на античные тексты, дабы скрыть своё скудоумие за высокими авторитетами.
— Я с ним не был знаком, — поддержал его Пико, — но меня нисколько не удивляют столь резкие его нападки на поклонников античности, которые докучали ему постоянными ссылками на высказывания древних мыслителей, знакомые им самим лишь понаслышке.
— От нашего Леонардо и не такое можно было услышать, — добавил Фичино. — Чего стоят хотя бы его опыты с лягушками и прочими тварями!
Все направились к накрытому столу, где разговор принял непринуждённый характер. Во время трапезы Микеланджело поразило замечание Фичино о том, что Платон очень нелестно отзывался о построенном Периклом величественном афинском Парфеноне.
— Вот вам красноречивый пример непомерной гордыни и тщеславия, — заявил Фичино, — бесчувственная материя подавила дух, с чем был несогласен великий Платон. Вот послушайте, как наш великий друг Лоренцо — пожелаем ему скорейшего выздоровления! — справедливо высказался в одной из своих канцон:
Высокомерием наш ум грешит В стремлении над всеми возвышаться. Неутолённость жажды в нём кипит В желании до тайны докопаться, Которую природа-мать хранит. И каждый смертный в страстном побужденье Хотел бы блага только для себя, И нет предела в низком вожделенье. За благо скрытое идёт борьба — От жадности людской нет исцеленья. Мы часто гневаемся и скорбим, Но слепота присуща нам самим.23На этом заседании Микеланджело сделал для себя немало открытий. Особенно его поразила фигура Платона, который будто незримо присутствовал за столом. Кто-то из сотрапезников вспомнил слова Плутарха о Платоне, который, умирая, благодарил свою судьбу за то, что, во-первых, родился человеком, а не бессловесным животным, во-вторых, эллином, а не варваром, и что ему довелось жить во времена Сократа.
Вновь слово взял Фичино и заговорил о платоновском труде «Государство», зачитав из него одну выдержку: «В совершенном государстве должна быть осуществлена справедливость. То, что мы там обнаружили, перенесём на отдельного человека. Если совпадёт — очень хорошо; если же в отдельном человеке обнаружится что-то иное, мы проверим и снова обратимся к государству. Возможно, что этим сближением, словно трением двух кусков дерева друг о друга, мы заставим ярко вспыхнуть справедливость, а раз она станет явной, мы прочно утвердим её в нас самих».24 Его горячо поддержал Нези, который к платоновскому тезису о справедливости присовокупил необходимое добавление о гармонии, «которая сродни круговращениям души. Музы даровали её каждому рассудительному своему почитателю не для бессмысленного удовольствия — хотя в нём и видят нынче толк, — но как средство против разлада в круговращении души, долженствующее привести её к строю и согласованности с самим собой».25
На Микеланджело всё услышанное произвело очень сильное впечатление, хотя не всё ему было понятно. Его поразило, например, что все члены «платонической семьи» превозносили прозу Цицерона и поэзию Вергилия, считая их творения никем не превзойдёнными. Когда он поинтересовался у Полициано, почему в их речах не упоминается имя Христа, то услышал такой ответ:
— Будучи поклонниками Цицерона, в сочинениях которого нет упоминания имени Спасителя, мы стараемся не произносить его имя всуе, но он живёт в каждом из нас.
* * *
Ему пришлось ещё не раз присутствовать на заседаниях Платоновской академии. Из-за участившегося недомогания Лоренцо, которого замучила подагра, заседания проводились в его кабинете флорентийского дворца, где внимание Микеланджело вновь привлекли своей выразительностью два профильных портрета. Полициано поведал ему, что оба они кисти Боттичелли. На одном был изображён Джулиано, младший брат Лоренцо, зарезанный во время заговора Пацци, а на другом — его возлюбленная Симонетта Веспуччи, одна из первых красавиц Флоренции, воспетая многими поэтами, в том числе и самим Лоренцо, питавшим к ней возвышенные чувства. Микеланджело залюбовался её портретом, в котором особенно поражали почти графическая чёткость линий и неповторимая поэтичность образа.
— Боттичелли втайне был влюблён в Симонетту, — продолжил свой рассказ Полициано, — но не показывал вида, так и оставшись холостяком. Она присутствует на всех лучших его картинах: «Мадонна дель Маньификат», «Весна», «Рождение Венеры», «Паллада и кентавр».
Известно, что Симонетта была племянницей знаменитого мореплавателя Америго Веспуччи, чьё имя дало название двум континентам. Кстати, уместно вспомнить, что другой флорентиец, астроном и математик Паоло Тосканелли дель Поццо, друживший с Леонардо да Винчи, узнав о готовящейся экспедиции, в письме Христофору Колумбу от 25 июня 1474 года предупредил отважного генузца о сферической форме Земли задолго до Коперника и Галилея.
Царившая среди членов «платонической семьи» атмосфера дружбы и взаимоуважения сильно влияла на Микеланджело, и его непростой в общении характер стал понемногу меняться, становиться более терпимым и покладистым. Теперь он корил себя за вспыльчивость и несдержанность в отношениях с близкими и друзьями:
Чтоб к людям относиться с состраданьем, Терпимым быть и болью жить чужой, Пора бы мне умерить норов свой И ближних большим одарять вниманьем (66).Возможно, именно тогда появился рисунок пером, изображающий мудреца в тоге, с выразительным профилем, словно очерченным резцом скульптора (Вена, музей Альбертина). Увидев этот рисунок, Бертольдо похвалил ученика за выразительность светотеневых эффектов посредством штриховки и объёмность благодаря наличию фигур второго плана.
— Попробуй вылепить этот профиль, — предложил наставник. — Вот когда воочию сможешь убедиться, какими преимуществами обладает ваяние перед рисунком.
На одном из диспутов как-то зашёл разговор о поэзии и Полициано попытался доказать, что словотворчество сродни скульптуре.
— Возьмите любое изваяние, — сказал он, — и сравните его с классическим сонетом. Мы видим ту же строгую закономерность и ничего лишнего.
— Согласен, — поддержал его доселе хранивший молчание Лоренцо. — Ни прибавить, ни убавить — иначе всё развалится прямо на глазах, будь то сонет или высеченная в мраморе статуя.
— А спросим-ка нашего молодого скульптора, — предложил Ландино, — что он думает на сей счёт?
От неожиданности Микеланджело смутился, хотя у него было своё твёрдое мнение и он знал, как ответить:
— Для скульптора основное — это убрать из камня всё лишнее, чтобы обнажить до предела заложенную в нём мысль. Думаю, что и в поэзии самая главная задача — освободиться от лишних слов и повторов, мешающих понять красоту стиха.
Многое для него звучало откровением. Например, он впервые услышал незнакомый термин «гуманизм». Ему глубоко импонировало, что собравшиеся учёные мужи, принявшие его в свой круг, открыто ратовали за право человека свободно мыслить, отстаивать собственные убеждения, заниматься творчеством и ощущать себя личностью, не опутанной рабскими оковами догмы. По их глубокому мнению, именно разум должен открыть человеку единство всех верований для обретения высшего блага, которое заключается в созерцании божественного первоисточника всего сущего в мире. Но ему хотелось не только созерцать, не терпелось и самому взяться за дело, чтобы творить божественную красоту.
Микеланджело с детства были свойственны независимость суждений и желание самому докопаться до истины. Многое из того, что он слышал из уст старших товарищей, было созвучно его собственным мыслям. Желание лучше осознать высказанные в ходе бесед мысли вынуждало его чаще наведываться в дворцовую библиотеку, чему Бертольдо никогда не препятствовал. Он испытал немало незабываемых минут, когда по совету старших товарищей из «платонической семьи» углубился в чтение сочинения Боэция «Утешение философией», написанное перед казнью. В нём римский философ, прощаясь с жизнью, осуждает ничтожество земных благ. Одна мысль, высказанная им, особенно поразила Микеланджело, заставив глубоко задуматься.
«Если существует Бог, — вопрошает Боэций, — то откуда зло? И откуда добро, если Бога нет?» Эта мысль крепко засела в душе будущего скульптора, которому в то время гораздо ближе и понятнее были мысли Петрарки о жизни, о любви и о будоражащих молодёжь страстях. С годами желание найти ответ на вопрос Боэция, являющийся основополагающим для каждого христианина, всё сильнее крепло в нём, терзая его сознание до конца дней. Никому из своих собеседников он не решался задать этот мучивший его вопрос, поверяя сокровенные мысли только чистому листу бумаги, на котором однажды записал услышанное от одного мудрого человека: «Бог всеблаг, но не всесилен». Это он особенно остро осознал, когда на Италию обрушилась волна неисчислимых бедствий.
В минуты обуревавших сомнений ему служило верным подспорьем обращение к античности. Как-то в дворцовой библиотеке его внимание привлекла ода Меценату Горация, о которой он не раз слышал от Фичино и Полициано. В этой оде Гораций образно живописует разные наклонности, свойственные людям. Одни мечтают о победе в заезде колесниц на стадионе в Олимпии; другие предаются праздности и ни за какие сокровища не согласятся трудиться в поте лица, обрабатывая землю предков. Иные, наоборот, не помышляют ни о чем, кроме скромной жизни среди полей, рек и лесов. Введённый музой Полигимнией в сонм поэтов, сам Гораций не желает для себя ничего другого, как достичь божественных высот и заслужить лавровый венец — единственную достойную награду.
Как и Гораций, Микеланджело не уповал ни на что иное, когда орудовал резцом в садах Сан Марко или, оставшись наедине со своими мыслями, заносил в заветную тетрадь строки:
Себя узришь ты на моём лице; Очами отражаю твой портрет — Губителен для зренья яркий свет (XXXIV).В другом фрагменте эта мысль выражена ещё сильнее и отчётливее:
Твой дивный лик в печальной сей юдоли, Как небо, мне дарит то свет, то тьму (XXXV).Однажды после ужина во дворце Медичи, где разговор с философской темы перешёл на поэзию, а Ландино и Бенивьени, разгорячённые выпитым, затеяли спор по поводу интерпретации одного трудного места из «Божественной комедии», Микеланджело подошёл к Полициано, с которым у него установились особо доверительные отношения, несмотря на разницу в возрасте, и набравшись смелости, протянул исписанный листок:
— Взгляните на досуге на эту вещицу, сочинённую под впечатлением всего услышанного здесь и в Кареджи. Если из рук вон плохо, порвите и дело с концом — я нисколько не обижусь.
Полициано нацепил окуляры на нос и приблизил листок к глазам.
— Зачем же так мрачно смотреть на вещи, мой друг? Правда, после застолья голова не та, а завтра утречком почитаю с удовольствием.
Приведём эти стихи, прежде чем добряк Полициано прочтёт их поутру на свежую голову:
Был счастлив, избежав коварства чар И заглушив в себе порывы страсти. Но сызнова я стражду от напасти — Рассудку вопреки в груди пожар. В надежде подавить любви угар Я проклинал жестокость женской власти И рвал уловок хитроумных снасти, За что в отместку получил удар. Порхал я всюду, как птенец, бывало, И беззаботно жил день ото дня. Но угодил, о донны, в ваши сети. Пора моя на воле миновала — Захлопнулась Амура западня, И мне свободы не видать на свете (3).Дня через два Полициано вернул юному автору рукописный листок. Видя, с каким нетерпением тот ждёт его суждение, именитый поэт сказал:
— Весьма недурно. Но скажу вам без всякой утайки. Покамест вы, мой друг, помимо своей воли попали в сети Петрарки и его образов. Не огорчайтесь — не вы первый, не вы последний.
Увидев погрустневшее лицо Микеланджело, он постарался ободрить юношу:
— Вся наша поэзия находится в тенетах петраркизма, и все мы отдали дань уважения великому певцу Лауры. Но мне сдаётся, что вашей стремительной натуре куда более созвучны так называемые «каменные» канцоны Данте.
Услышав мнение поэта, Микеланджело задумался. Он сам чувствовал сильное влияние Петрарки, чьи лирические откровения часто уводили в неведомые миры, столь далёкие от реальной жизни. Умница Полициано верно указал ему на противоядие, способное излечить от излишнего расплёскивания чувств, словесной вязи и убаюкивающей кантиленности звучания. Нет, ритм стиха должен напоминать размеренные удары молота, а рифма оставаться грубой и шероховатой, как поверхность камня. И только тогда в слове можно выразить не только волнующие сознание мысли, но и будоражащие чувства.
* * *
Будучи во власти мыслей о божественном и прекрасном, Микеланджело не переставал думать о сюжете, отвечающем его настроению. После смеющегося фавна ему хотелось сотворить нечто иное, более значительное. Но душа не лежала вновь обращаться к античной мифологии — подобных статуй и так было в избытке в садах Сан Марко. Окружающая жизнь с её радостями и печалями занимала его куда больше мифологии.
Однажды его мысли были нарушены грустной вестью, которую принёс прибывший из Сеттиньяно друг детства Бруно: скоропостижно умерла мона Маргарита.
— Никто не ожидал конца, — рассказал Бруно. — Мама скрывала свой недуг, чтоб нас не расстраивать. На отца невозможно смотреть — он сник и никого не хочет видеть.
В память о моне Маргарите, которую он звал мамой и питал к ней нежные сыновьи чувства, Микеланджело создал небольшой мраморный рельеф «Мадонна у лестницы» (Флоренция, дом Буонарроти, 55,5 х 40 см). В том, что он взялся за рельеф, во многом сказались обретённые ранее живописные навыки. Жанр рельефа в скульптуре наиболее близок к живописи, когда предварительный рисунок легче, чем в скульптуре, переходит в лепку, а затем к работе резцом по камню. Здесь самое главное — чётко разработанный передний план. В то же время рельеф позволяет воспроизводить свойственные живописи эффекты перспективы, недоступные скульптуре.
Он вспомнил, как в одной из церквей увидел потемневший от времени алтарный образ «Мадонна Ручеллаи», написанный Дуччо да Буонинсенья в конце XIII века. Ему захотелось сотворить образ Девы Марии, который стал бы называться «Мадонна Буонарроти» в память о матери, родившей его, и столь же дорогой моны Маргариты, его вскормившей.
Немало времени было потрачено им на поиск нужного куска мрамора, который он внимательно изучал, поворачивая под разным углом к свету и стараясь понять его скрытую натуру.
Внимательно наблюдая за учеником, Бертольдо предупредил его:
— Начинай рубить камень, только когда будешь уверен, что тебе известна каждая жилка мрамора, каждый его кристалл. Нужно всегда наперёд знать, как мрамор себя поведёт в работе.
Микеланджело не ошибся в выборе мрамора, когда взял в руки молоток и зубило. Камень оказался твёрд и податлив, и юный скульптор проникся к нему любовью как к живому существу, с которым он нашёл общий язык и понимание. Вслед за зубилом в ход был пущен шпунт, который осторожно углублялся в тело камня, извлекая оттуда крошку и осколки, а затем зубчатая троянка, словно твёрдая ладонь скульптора, сглаживала все шероховатости, оставленные шпунтом.
Вызволенные из толщи мрамора с помощью резца и скальпеля фигуры Марии и младенца Христа на переднем плане создают целостный пластический объём, подчёркиваемый каменным кубом, на котором сидит Дева Мария, кормящая младенца.
В качестве модели он решил использовать тонкий профиль Контессины Медичи, который мог точно воспроизвести по памяти. Мягкие складки её одеяния и головного платка придают удивительную выразительность образу. Для усиления динамики Микеланджело слегка изменяет масштаб фигур, создавая ощущение сжатости пространства и монументальности самой композиции. Фон разработан им в виде уходящей вверх и вглубь лестницы с голыми объёмами маршей. На ступенях играют три крепыша-путти. Напомним, что мона Маргарита была матерью троих сыновей и вскормила грудью самого Микеланджело.
Мастера Кватроченто любили писать кормящую Мадонну (Madonna del latte), излучающую изящество и кротость. В отличие от них, как справедливо отметил немецкий философ Шеллинг, Микеланджело в своей ученической работе раскрывает энергию крепкого тела матери и силу мускулистой спины сына, тянущегося к груди, которая целомудренно сокрыта автором. Его больше всего занимает не изящество, а рельефный показ заключённой в камне силы, пробуждающейся под воздействием резца. Он явно опережает своё время, предвосхищая наступление нового века с его стилистикой, столь отличной от духа Кватроченто. Его Мария выступает как провидица своей трагической судьбы. Она занята кормлением ребёнка, а сама погружена в тяжёлую думу о том, что ожидает в жизни её сына.
Увидев окончательную стадию работы, Бертольдо попросил лишь об одном — не переусердствовать с полировкой, не «зализывать» мрамор во избежание сентиментальной слащавости. Но его опасения были напрасны, так как любой сентиментализм был чужд натуре Микеланджело, которого всегда привлекала грубая, неприкрашенная фактура.
Теперь необходимо было вынести работу из-под навеса. На свету мрамор вдруг засверкал, выявив неровности и шероховатости. Пришлось взять кусочек пемзы и пройтись по всей поверхности рельефа, а затем немного поработать резцом и под конец промыть мыльной водой, пока мрамор на ощупь не сделался гладким и бархатистым.
Выразив в рельефе то главное, что его волновало, он оставил работу незавершённой. Но в ней уже чувствуется уверенная рука скульптора, хорошо знающего природу мрамора. Ему, безусловно, был знаком известный барельеф Донателло «Мадонна Пацци», находящийся ныне в Берлине, и при работе над рельефом он не раз мысленно обращался к изваянию прославленного мастера. Чтобы избежать повтора, композиция у него меняется на 180 градусов — кормящая Мадонна повёрнута теперь влево. В отличие от «Мадонны Пацци» младенец у Микеланджело повернут спиной к зрителю, опершись правой ручкой о колено матери.
Начинающий скульптор смело вступил на равных в диалог с великим мастером, доказав свою независимость и высокую творческую зрелость, что не мог не отметить Бертольдо, ученик Донателло. Рассматривая первый рельеф Микеланджело, наставник вспомнил однажды услышанное суждение Леонардо да Винчи о том, что плох тот ученик, кто не превосходит учителя. Ему самому так и не удалось превзойти своего учителя Донателло или хотя бы близко подойти к его великому творению — конной статуе кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Рассказывая ученикам о силе воздействия скульптуры, Бертольдо в качестве примера часто ссылался на конную статую своего наставника.
— Падуанцы до сих пор не смеют поднять глаз на Гаттамелату. Их страшит один только грозный взгляд полководца на коне, гневно взирающего на житейскую суету вокруг.
Он распорядился перенести «Мадонну у лестницы» во дворец, поместив её на высоком деревянном постаменте, обтянутом чёрным бархатом, на фоне которого мрамор засверкал ещё больше. Увидев изваяние, Лоренцо пригласил друзей взглянуть на новинку. Скульптура вызвала общее восхищение, но суждения о его работе ошеломили Микеланджело. Он никак не ожидал, что в «Мадонне у лестницы» проявились аттические черты, как выразился Полициано. А Пико делла Мирандола и вовсе заявил, что при взгляде на рельеф создаётся впечатление, что не было тысячелетия христианства — это подлинно древнегреческое изваяние с его непостижимой возвышенностью духа.
— Я чувствую, Микеланьоло, — сказал Фичино, — что ты привнёс дух Акрополя во Флоренцию.
Заметив растерянность Микеланджело, не ожидавшего такого оборота разговора и не понимавшего толком, хула ли это или хвала, Лоренцо ласково сказал:
— Думаю, что настала пора переходить к более крупным изваяниям. От природы тебе многое дано, а потому и многое спросится. Мы все возлагаем на тебя большие надежды и ждём новых работ.
Микеланджело был вне себя от радости и думал только о том, как оправдать надежды Лоренцо, которого он боготворил. Теперь все его мысли были направлены на поиски достойного сюжета для новой скульптуры.
* * *
Из дома пришла грустная весть о смерти бабушки Лиссандры, тихо скончавшейся в Сеттиньяно. Его раннее детство прошло с ней, от бабушки он научился первым молитвам и чтению по складам. Она была его первым пестуном в познании мира, природных явлений, жизни растений и животных. Он потерял бесконечно дорогого ему человека.
На похоронах присутствовала вся семья. Пришли и сыновья каменотёса Тополино, которые заверили Микеланджело, что поставят надгробие из добротного мрамора, чтобы достойно увековечить память его любимой бабушки. Он давно не виделся с друзьями детства и был рад встрече с ними, хотя поводом для неё снова послужила смерть.
Зайдя с ними в их старый дом, где многое изменилось, Микеланджело увидел постаревшего Тополино, который после смерти жены так и не пришёл в себя и проводил время, сидя на завалинке, погружённый в свои стариковские думы. Его отрешённый взгляд поразил Микеланджело, и позднее он вспомнил о старике, сидящем на солнцепёке, в одной из своих поэм.
— Мне пришлось жениться, — сказал Бруно, — так как без женского догляда дом сирота. А вот мои влюбчивые братья никак не определятся, хотя время не терпит и можно опоздать.
На том и расстались. Вид скромного сельского кладбища произвёл на Микеланджело тягостное впечатление, и в его тетради появились такие строки:
Родившись, мы обречены — Недолог век в земной юдоли. Все будем в прах обращены, Как выжженный сорняк на поле. Не избежать нам смертной доли, И наши предки ведь не боле, Чем по ветру гонимый дым. Пред ними скорбно мы стоим: Они любили и страдали, Но от былых страстей, печали Одни лишь холмики видны И солнцем злым опалены. Их очи любовались миром. А ныне полые глазницы Страшны в оцепененье сиром — От бега времени не скрыться (21).Трудно поверить, что столь мрачные строки родились у юнца, которого посетило чувство любви к обворожительной девушке.
* * *
Пока он был занят поиском сюжета, старина Бертольдо весьма некстати дал задание ученикам школы направиться в Санта Мария дель Кармине для снятия рисунков с фресок Мазаччо. Микеланджело уже не раз бывал там, а идти туда целой компанией ему не хотелось. Но он не стал перечить мастеру и пошёл вместе со всеми, оставив приглянувшийся ему кусок мрамора под навесом.
По дороге к церкви Торриджани, чувствуя себя вожаком группы по возрасту и силе, сыпал шутками, задевая прохожих и явно нарываясь на скандал. Уже на подходе к церкви он вдруг выпалил, словно впервые заметив присутствие Микеланджело:
— Ты бы хоть оделся поприличней, идя в храм. Неужели любимчика двора лишили обносков с барского плеча?
Микеланджело вспыхнул, но сдержался и не стал отвечать наглому задире. Но в самой церкви произошло непоправимое. Пока он рисовал, Торриджани не переставал отпускать шуточки в его сторону, указывая на него пальцем остальным ребятам. Наконец, не выдержав издёвок, Микеланджело бросил наглецу прямо в лицо всё, что накипело у него внутри в последнее время:
— Знай же, жалкий паяц, что твои рисунки годятся только для отхожего места!
В ответ последовал прямой удар кулаком в лицо. Он был столь силён, что Микеланджело упал навзничь, ослепнув от крови, залившей глаза, и только чудом, зацепившись за скамейку, не расшиб себе голову о каменный пол. Не исключено, что в кулаке у обидчика была свинчатка — таков был обычай флорентийского сброда, с которым Торриджани водил знакомство. Подбежавшие ребята подняли Микеланджело с пола, приложили платок к кровоточащей ране и отвезли его на извозчике во дворец, где перепуганный Бертольдо тут же вызвал медика.
Узнав о случившемся, разгневанный Лоренцо с позором изгнал Торриджани из Флоренции, приказав забыть дорогу обратно. Такой же приговор ему вынесли многие собратья по искусству, возмущённые его диким поступком. Имя художника-неудачника осталось в истории лишь благодаря тому меткому удару. Он мотался по свету в поисках работы, а оказавшись в Испании, попал в тюрьму за акт вандализма — разбил скульптуру святого. Там он, по одной из версий, и закончил жизнь, наложив на себя руки.
Лет двадцать спустя после инцидента с Микеланджело Торриджани похвалялся в разговоре с Бенвенуто Челлини: «Я размахнулся и с такой силой хватил его по носу, что почувствовал, как кости и хрящ сплющились у меня под рукой, словно вафли со сливками. На всю жизнь я оставил ему свою метку». Эти слова, как пишет тот же Челлини, «возбудили во мне такую к нему ненависть, что я не только не принял его предложение ехать с ним в Англию, но даже не мог его больше видеть».26
Не на шутку обеспокоенный случившимся, мессер Лодовико направил к раненому Микеланджело своего старшего сына Лионардо. Тот появился во дворце в монашеской сутане доминиканского ордена и, поднявшись по боковой служебной лестнице наверх, предстал перед младшим братом, лицо которого было сплошь забинтовано — видны были только щёлки грустных глаз подранка, ставшего жертвой злобной силы.
— Вот видишь, — сказал Лионардо, — как судьба тебя покарала за житьё в этом вертепе разврата, фарисейства и богохульства! Покайся и вернись домой, пока не поздно!
Микеланджело ничего не ответил, резко отвернувшись к стене, и монах ушёл ни с чем. Каждый вечер к нему заходил Бертольдо. В разговоре с ним Микеланджело посетовал на свои излишне резкие слова, брошенные сгоряча в лицо обидчику.
— Это хорошо, что ты признаёшь ошибки, — ласково сказал старый мастер. — Впредь будь терпимее к недостаткам ближнего и научись сдерживать себя. Но не залёживайся — ты мне нужен.
Микеланджело ещё не раз приходилось испытывать в жизни горечь разочарования, когда преклонение перед чисто внешней красотой, как это произошло в случае с Торриджани, скрывало от него подлинную суть предмета обожания, который на поверку оказывался мелкой душонкой или того хуже — подонком и предателем.
Голова была как чугунная и болела при малейшем движении, опухоль лица не спадала. Сломанная переносица придала Микеланджело вид кулачного бойца, готового к новым битвам. Но в зеркало над умывальником он старался не смотреть — настолько его пугал непривычный вид лица. Днём он не решался показываться на люди, боясь попасться на глаза знакомым с обезображенным лицом. Для молодого человека с влюбчивой натурой, ценителя красоты это была катастрофа, оставившая след на всю жизнь. Больше всего он боялся повстречаться во дворце с обворожительной Контессиной. Одна только мысль, что девушка увидит его уродство, приводила в ужас, и ему становился немил весь белый свет.
Навестивший его Граначчи вёл себя странно и чего-то недоговаривал.
— Ну что ты мнёшься, как кисейная барышня? — спросил Микеланджело. — Говори, не мямли!
Тогда друг осторожно, подбирая слова, сообщил ему новость о том, что Контессину прочат в жёны богачу Пьеро Ридольфи. Эта весть ошеломила Микеланджело, заставив окончательно смириться со своим новым обличьем и распрощаться с лелеемой втайне надеждой, в которой он даже самому себе боялся признаться.
— Но ведь ей всего четырнадцать лет, — с трудом выдавил он из себя, чтобы нарушить наступившее тягостное молчание.
— А ты забыл, что Данте влюбился в Беатриче, когда ей было девять лет от роду? — напомнил Граначчи.
«Но почему меня это так больно задело?» — мысленно задавался он вопросом после ухода друга. Ему вспомнилось, как когда-то тот же Граначчи после прочтения одного сонета откровенно сказал, что предмет его пылких воздыханий — «не его поля ягода». Он промучился всю ночь, настолько глубоко его ранило, что скоро дорогая его сердцу «графинюшка» пойдёт под венец с немилым ей мужчиной по приказу отца, во имя клановых интересов.
Но не слишком ли он возгордился, живя во дворце самого Лоренцо Великолепного и сидя за одним столом с его детьми? Хотя, если здраво рассудить, его старинный и почитаемый во Флоренции род Буонарроти не чета этим выскочкам Медичи, кичащимся своим богатством, нажитым отнюдь не праведным путём…
Чтобы успокоиться, он подошёл к рукомойнику, стараясь не глядеть в зеркало, и подставил голову под холодную струю воды. Нет, сдаваться он не намерен и готов был побороться, чтобы всем доказать, что искусство превыше всех земных богатств. Посмотрим тогда, в ком больше истинного благородства и достоинства! Он долго терзался мыслью о своём неравном положении в обществе, где так много зла и несправедливости, и в его тетради появились строки, полные горечи и отчаяния:
Бегите прочь, юнцы, от искушенья! Огонь опасен и смертельно жжёт — В согласии с ним разум не живёт, И от сетей коварных нет спасенья. Бегите от любви без промедленья! Стрела без промаха по цели бьёт. Влюблённых участь — знаю наперёд — Стать жертвой злой игры и наважденья. Бегите от любовного огня! Глупец, я тщился сохранить свободу, А ныне весь горю, судьбу кляня (27).* * *
Когда однажды к нему на огонёк зашёл Полициано, он подумал, взглянув на его сморщенное по-обезьяньи личико: «Отныне мы с ним сравнялись в уродстве». Ему вспомнилось, как злые языки говорили, что Лоренцо специально держал в своём окружении Полициано, чтобы в его присутствии выглядеть ещё красивее.
Гость пришёл не только справиться о здоровье полюбившегося ему юнца:
— Вчера я читал Лоренцо мой перевод «Метаморфоз» Овидия, и вот что сказал наш просвещённый покровитель: «Предложи сюжет битвы кентавров с лапифами нашему юному другу». Что вы на это скажете?
Едва Полициано принялся с жаром говорить об Овидии, как его подслеповатые глазки расширились, а лицо озарилось внутренним светом. Даже голос зазвучал по-мальчишески звонко.
«Вот она, сила вдохновения!» — подумал Микеланджело, любуясь поэтом и уже не замечая его некрасивого лица. На какое-то время он забыл о собственном уродстве, будучи поражён произошедшим прямо на глазах чудесным перевоплощением.
На прощанье Полициано сказал:
— Поверьте моему слову, юный друг: этот миф с его героическим началом создан Овидием будто специально для вас. Думаю, что и Лоренцо согласится со мной.
Микеланджело поблагодарил его за визит, пообещав серьёзно поразмыслить над этой идеей. На тему битвы кентавров у него уже был до этого разговор с Бертольдо, который его навещал, справляясь каждый день о здоровье и заботясь о нём как о родном сыне.
Идея, предложенная поэтом и скульптором, была заманчива, и он мысленно рвался в бой. В дворцовой библиотеке он нашёл томик Полициано с переводами из Овидия и принялся читать миф о Кентавромахии в горах древней Эллады, где племя лапифов испокон веков проживало по соседству с буйными кентаврами. Это были полулюди и полукони, которые крали у людей женщин.
Миф о битве с кентаврами имел основополагающее значение для культуры античной Греции, утверждая победу разума над животными инстинктами и тем самым открывая путь человеку к цивилизации. Он имел широкое распространение и в Древнем Риме. Достаточно вспомнить миф о похищении римлянами пышнотелых сабинянок из соседней провинции для продолжения рода, нашедший отражение в живописи и скульптуре.
Не осталась в стороне и Флоренция, считавшая себя законной наследницей Афин и Рима. Правда, самого Микеланджело занимала не столько мифология, сколько возможность выразить в камне динамику обнажённого тела и показать противоборство антагонистических начал, представленных разумными людьми и существами, подчиняющимися инстинкту.
Ему удалось на заднем дворе школы найти подходящий кусок добротного мрамора. Но взяться за него помешала внезапно обострившаяся болезнь Бертольдо, измотанного непрекращающимся кашлем, а без него он не решался приступать к делу. По совету врачей Лоренцо распорядился отвезти больного на природу и разместить на вилле Кареджи в надежде, что смена обстановки и горный воздух окажут благотворное воздействие на старика. Однако горный воздух не помог, и славного Бертольдо не стало, что болью отозвалось в душе Микеланджело.
Среди оставшихся после мастера статуэток ему попался в руки небольшой бронзовый барельеф, где изображалось сражение между пешими воинами и всадниками. Он поразил его невероятной динамичностью. Возможно, этот барельеф и стал отправной точкой при работе над «Битвой кентавров» (Флоренция, дом Буонарроти), посвящённой светлой памяти учителя. Квадратный барельеф (90,5 х 90,5 см) вмещает более двух десятков фигур и впечатляет не только смелыми ракурсами, но и сложным переплетением обнажённых тел. Изображая фигуры в разнообразных позах, начинающий скульптор раскрывает красоту классических пропорций и необузданную энергию стихийных сил природы, чей неукротимый нрав пробивается сквозь толщу сопротивляющейся косной материи.
Оставленный необработанным фон цепко удерживает обнажённые тела, охваченные отчаянной борьбой, не давая им вырваться наружу. В центре композиции выделяется фигура воина с высоко поднятой правой рукой, задающая тон спиралевидному движению сплетённых, корчащихся в борьбе тел. В этом живом месиве трудно сразу разобрать, где здесь люди, а где кентавры. Поражает разнообразие приёмов в работе над рельефом. Тщательная проработка торсов и конечностей соседствует с едва намеченными резцом лицами персонажей, а динамичная светотень усиливает драматизм изображения. Такого напряжения и скрытой динамики не добивался никто другой, даже Поллайоло, рисуя ставшую хрестоматийной схватку своих обнажённых героев. Образ неведомой энергии — будь она назревающей, вырвавшейся наружу или даже угасающей — станет по сути основной темой творчества Микеланджело.
Тогда же он изваял небольшой барельеф-тондо «Аполлон и Марсий», который в дальнейшем был утрачен. Не случайно молодой скульптор, находящийся под сильным воздействием неоплатонизма, уже в своих первых работах обращается к античной мифологии. В старости, когда в его сознании всё чаще вспыхивали в памяти проблески и отзвуки юношеских лет, он вспомнил при написании фрески «Страшный суд» центральную фигуру «Битвы кентавров» с грозно поднятой рукой, сделав её осью вихреобразного движения праведников и грешников. При работе над той же фреской ему пришёл на память миф о фригийском сатире Марсии, с которого была содрана кожа за дерзкое состязание с самим Аполлоном. Так на фреске «Страшный суд» появилось лицо-маска с содранной кожей и чертами, словно отражёнными на подёрнутой рябью водной глади.
Это единственный автопортрет, который написал Микеланджело, противник портретного жанра. Он поражает своей необычностью и трагизмом. В истории мировой живописи, пожалуй, не встретишь более откровенного самоуничижения и самобичевания за те прегрешения, о которых знал только сам автор.
Сады Сан Марко осиротели с уходом из жизни их главного садовника. Лоренцо Великолепный, учредивший школу ваяния, утратил к ней интерес. Не до скульптуры ему было, так как Флоренция бурлила и постоянно роптала. Около четверти века он негласно правил в городе всем и всеми. Лучшие живописцы прославили его род на многочисленных фресках, украшающих флорентийские храмы. С его славным именем было связано процветание Флоренции, ставшей общепризнанным центром европейской культуры, науки и искусства. Но теперь горожане, казалось, забыли об этом и всё громче выражали недовольство властью Медичи, требуя перемен.
Глава VIII МЕДИЧИ И САВОНАРОЛА
Напасть любую, гнев и злую силу
Мы одолеем с помощью любви (29).
Смирившись с безраздельной властью Медичи, флорентийцы были обеспокоены происками врагов внутренних и внешних, покушавшихся на их республиканские свободы, которыми они свято дорожили. Угрозы шли отовсюду: из Рима, Неаполя, Милана, из-за Альп. Кто только не зарился на процветающую Флоренцию с её банками, ремёслами, шёлкоткацкими мануфактурами и несметными художественными богатствами! Узнав о тяжёлой болезни Лоренцо Великолепного, подняли голову скрытые противники его авторитарного правления, сея в городе смуту.
Так получилось, что Микеланджело трудился и жил при дворе Лоренцо, в непосредственной близости от монастыря Сан Марко, где доминиканский проповедник Савонарола смело обличал пороки своего времени, невзирая на лица. С каждым днём росло число его сторонников, и на проповеди доминиканца стекалась паства из соседних приходов, что вызывало беспокойство высшего духовенства и властей. Но никакие увещевания и запреты не могли воспрепятствовать людям слушать проповеди Савонаролы.
В литературе либерального толка Савонарола нередко преподносится как мракобес, стремившийся превратить Флоренцию из центра культуры и искусства в оплот средневекового мракобесия. На самом деле его высказывания по вопросам философии и эстетики во многом совпадают с позицией флорентийских гуманистов. В своём теологическом труде «О смирении и милосердии» он превозносит разум человека и на его основе возводит здание христианской веры. В его мощной, противоречивой личности отразились как светлые, так и теневые стороны итальянского Возрождения.
Джироламо Савонарола родился в 1452 году в Ферраре, где его дед и отец были придворными медиками. Будущий философ и богослов получил блестящее домашнее образование, но не пошёл по стопам отца, увлекшись поэзией и музыкой. В юности он пережил душевную драму неразделённой любви и проникся презрением к плотским наслаждениям, приняв монашеский постриг. Около семи лет Савонарола провёл в доминиканском монастыре в Болонье, где, по собственному признанию, зачитывался в монастырской тиши «Энеидой» Вергилия, мечтая вслед за поэтом: Неu fuge crudeles terras, fuge litus avarum (III, 44) — «не знаться с миром богачей и скряг». Как и Вергилий, он остался верен своим убеждениям. Обретя с годами громкую известность народного трибуна, он никогда не домогался личных благ, что особенно ценилось его многочисленными сторонниками и порицалось за глаза высшим духовенством.
Став известным богословом, Савонарола проявил глубокие познания во многих областях, как это явствует из его фундаментального труда «Разделение и достоинства всех наук», в котором он ратует за обновление церкви, чистоту её рядов и восстановление истинно христианских апостольских ценностей. В нём рано проявились незаурядные способности страстного и бескомпромиссного полемиста, когда по заданию руководства доминиканского ордена он разъезжал по итальянским епархиям с проповедями, снискавшими ему широкую известность.
Будучи глубоко верующим человеком, он скорбел о царивших при папском дворе симонии, непотизме, пьянстве и разврате, сочинив в стихотворной форме молитву «О разрушении церкви». За этот дерзкий опус Савонарола получил нагоняй от Римской курии, но дело удалось как-то замять, хотя там были такие резкие слова:
Не дай, Господь, погибнуть вере, И защити нас от мздоимцев, Надевших рясы проходимцев — Закрой пред ними в храмы двери!27Как уже говорилось, философ Пико делла Мирандола уговорил своего друга и покровителя Лоренцо Медичи пригласить доминиканского проповедника во Флоренцию. Фра Джироламо оказался в городе почти одновременно с переселением юного Микеланджело во дворец Медичи. Однажды утром, зайдя перед работой в монастырь Сан Марко, Микеланджело впервые увидел Савонаролу, о котором уже был наслышан. Поначалу щуплый рыжеволосый монах с петушиным профилем не произвёл на него впечатления — пока он, обращаясь к пастве, не заговорил мощным зычным голосом, срывающимся на фальцет. Особенно поражал пронзительный взгляд его горящих глаз, проникающих, казалось, в самую глубину души.
Говоря в проповеди об «умной молитве», монах страстно ратовал за молитву бессловесную, произносимую в состоянии духовного экстаза, когда всё мирское изгоняется и предаётся забвению. Заканчивая проповедь, он заявил, что «умная молитва» сильнее смерти и спасительна для любого искренне верующего человека. В его словах Микеланджело услышал немало того, над чем сам часто задумывался, живя при дворе Лоренцо Великолепного и во многом не разделяя царившие там нравы. Его подавляла чрезмерная показная роскошь, не имеющая ничего общего с подлинной красотой, будоражившей воображение.
С тех пор он старался не пропускать проповедей доминиканца. В одной из них Савонарола обратился к прихожанам, среди которых было немало художников, с риторическим вопросом:
— В чём состоит красота? В красках — нет. В линиях — скажете вы? Тоже нет. Красота — это форма, в которой гармонично сочетаются все её части, все её краски…
В словах тщедушного монаха Микеланджело ощутил необыкновенную лёгкость, озарённость и сугубо интимный земной характер понимания красоты. После проповеди к монаху подошёл один прихожанин за разъяснением. Выслушав его, Савонарола ответил, обращаясь не столько к собеседнику, сколько к остальным людям, тесно обступившим их:
— Ты ведь не назовёшь женщину красивой только потому, что у неё правильный нос или красивые руки? Она красива, когда в ней всё пропорционально. А откуда проистекает её красота? Задумайся, и ты увидишь — из души.
Он оглядел стоящих прихожан и продолжил свою мысль:
— Поставьте рядом двух женщин одинаковой красоты. Одна из них добра, непорочна и чиста, другая — блудница. Вы увидите, что первая вся светится как святая, и на неё обратятся взоры всех, не исключая даже людей, жаждущих только плотских наслаждений! Прекрасная душа сопричастна красоте божественной и отражает свою небесную прелесть в теле любого человека.
Такое Микеланджело уже приходилось слышать из уст Фичино и Полициано, часто ссылавшихся на Платона. Ему было непонятно, в чём различие позиции его старших друзей из «платонической семьи» и высказываний доминиканского проповедника. Ведь все они ратуют за красоту духовную, не забывая при этом о красоте телесной; для них материя вторична, а дух владычествует над ней.
Микеланджело захотелось тоже подойти к Савонароле и задать ему несколько волнующих его вопросов, но помешала врождённая застенчивость. Прислушиваясь к высказываниям проповедника, он стал записывать их, находя много созвучного собственным мыслям и чувствуя в нём родственную душу.
В одной из проповедей фра Джироламо заявил:
— Хочу напомнить вам слова одного из почитаемых учителей церкви святого Иеронима: «Poenitentia est secunda tabula naufragium» — «Покаяние есть вторая доска после кораблекрушения». В нашем житейском море на каждом шагу нас подстерегают роковые волны соблазна, мирские и плотские испытания. Только та самая спасительная доска, а именно покаяние поможет нам не сгинуть во время бури и спасти наши грешные души.
«А как бы ответил Савонарола, — подумал Микеланджело, — на вопрос казненного римского философа Боэция?» Но такого ответа он не услышал ни в одной из проповедей монаха.
Однажды он увидел, как в монастырской церкви Сан Марко появился со свитой Лоренцо Великолепный. Прихожане почтительно расступились, чтобы пропустить вперёд первого гражданина города, но тот остался в глубине и простоял до конца мессы, хотя ему не раз предлагали присесть, освобождая место.
После мессы, взойдя на амвон, Савонарола обратился к пастве с обычной проповедью, в которой, как всегда, гневно выступил против деспотизма правления, продажности чиновников, непомерного налогового бремени.
— А тем временем просвещённая часть общества, — продолжил он, — делает вид, что не замечает бедствий униженного народа, лишённого всех прав и живущего в условиях тиранического режима. Доколе же терпеть произвол и беззаконие?
Микеланджело заметил, как лицо стоящего рядом Лоренцо вспыхнуло от гнева, исказившись судорогой, и он спешно вышел из храма, не дослушав проповедь до конца.
* * *
В 1491 году Савонарола был избран настоятелем монастыря Сан Марко, а вскоре стал приором Тосканской конгрегации доминиканского ордена. Несмотря на продвижение по иерархической лестнице и широкую известность, он вёл спартанский образ жизни, довольствуясь малым; постоянно постился, ходил в поношенной сутане и спал на соломе.
По традиции новый назначенец должен был нанести визит вежливости негласному правителю города. Но Савонарола нарушил традицию и не пошёл во дворец с поклоном. Стерпев обиду, Лоренцо сам отправился к монаху в Сан Марко. Отслужив мессу, Савонарола так и не вышел к ожидавшему его правителю и не принял оставленные им пожертвования для церкви.
— Церковь не может принять пожертвование из нечистых рук, — заявил Савонарола. — Раздайте ваши иудины сребреники нищим!
Это была новая пощёчина всесильному Медичи, отозвавшаяся радостным эхом среди городской голытьбы. Зайдя после дерзкой выходки Савонаролы в сады Сан Марко, Лоренцо подошёл к работающему над рисунком Микеланджело.
— Пройдёмся до Сан Лоренцо, — предложил он. — Я тебе хочу кое-что показать.
Они вышли на улицу Ларга и пошли медленно, так как Лоренцо слегка прихрамывал. По дороге он хранил молчание, но лицо его выражало глубокую озабоченность. Казалось, каждый шаг давался Лоренцо с трудом, но он не сдавался и продолжал идти вперёд с гордо поднятой головой, отвечая на приветствия прохожих. Люди останавливались при виде владыки, запросто идущего по улице в сопровождении незнакомого юнца.
— Здесь царит совсем другая атмосфера, — промолвил он, когда они оказались перед Сан Лоренцо с его голым замшелым фасадом из бурого кирпича, не облицованного мрамором.
Это была семейная церковь Медичи, возведённая Брунеллески на месте старой романской базилики.
— Вопиющая нагота фасада, — с болью в голосе сказал Лоренцо, — это моя боль и неоплатный долг перед памятью близких и перед всеми флорентийцами.
Они вошли в храм, где около бронзовой кафедры, отлитой Бертольдо, был погребён Козимо Медичи.
— Мой дед Козимо дружил с Донателло и пожелал найти здесь упокоение рядом со своим другом.
Пройдя через левый неф, они оказались в так называемой Sagrestia Vecchia — Старой ризнице, квадратной часовне, увенчанной куполом. Здесь царила завораживающая тишина, где взору Микеланджело впервые предстало творение Брунеллески и Верроккьо. Он высоко оценил этот впечатляющий гармоничный сплав архитектуры и скульптуры. Здесь находились надгробие с останками Джованни ди Биччи, удачливого родоначальника семейства Медичи, вышедшего из низов, и мощный порфировый саркофаг Пьеро Подагрика, отца Лоренцо Великолепного.
Лоренцо запалил свечу перед надгробием родителя.
— Доступ сюда ограничен. Но при желании здесь многому можно научиться.
Больше он ничего не сказал, и они вернулись во дворец, где их уже ждали к обеду. Врач Леони спросил, где правитель так долго задержался.
— Мне хотелось показать молодому скульптору нашу часовню в Сан Лоренцо. Надеюсь, что для него это будет полезно.
Но о посещении монастыря Сан Марко он не обмолвился ни словом. Видимо, боль от полученной обиды ещё не прошла. Неожиданное приглашение посетить Сан Лоренцо показалось тогда Микеланджело странным, хотя и заставило о многом подумать. Два десятка лет спустя он вспомнил об этом, вернувшись в родной город, и подумал — не предчувствовал ли Лоренцо, приглашая его в семейную усыпальницу, что ему придётся здесь потрудиться?
В городе разнеслась молва о реформах, проведённых настоятелем Сан Марко. Им был восстановлен обет нищеты и введён строгий монастырский устав, запрещающий роскошь и мздоимство, предписывающий монахам заниматься трудом. При монастыре была устроена школа, обучающая братию богословию, философии, а также разным видам ремёсел. В программу монастырской школы было введено изучение греческого, еврейского и других восточных языков для более глубокого освоения текстов Священного Писания, что было одной из неустанных забот Савонаролы. Все эти нововведения стоили ему неимоверных усилий — пришлось одолевать сопротивление высшего духовенства, с подозрением относящегося к любым новшествам. Но его решительные действия стяжали ему громкую славу, вызвав понимание и поддержку самых различных слоёв общества.
Простому люду особенно нравилась тощая фигура настоятеля Сан Марко, измождённого постами, молитвами и праведными трудами. Савонарола был воплощением истинного пастыря, наделённого неукротимой внутренней энергией, не в пример дородным священнослужителям, лоснящимся от жира, чьи толстые пальцы были украшены дорогими перстнями.
Многим, включая Микеланджело, импонировали непримиримость фра Джироламо к разврату и резкие нападки на содомитов, для которых он требовал сожжения на костре. По злой иронии судьбы сам он будет вскоре сожжён, а хворост в его костер станут подбрасывать те же содомиты, которых в Италии всегда хватало. О их диких оргиях Микеланджело слышал ещё от пресловутого Торриджани, который не раз в его присутствии рассказывал взахлёб о так называемых «мальчишниках» золотой молодёжи. Ему претили такие рассказы — в нём давно укрепилась почти пуританская чистота, удерживающая от соблазнительных в юном возрасте любовных утех и способствовавшая формированию аскетического мировосприятия, которому он хранил верность до конца своих дней.
В вопросах морали Микеланджело находил опору во взглядах Савонаролы, внимая его проповедям. Стоит заметить, что некоторые его современники, например историки Макиавелли и Гвиччардини, открыто свидетельствуют о мужеложестве среди молодых состоятельных флорентийцев, что тогда было в порядке вещей. Эту тему в своих произведениях не обходили вниманием поэты и художники, что вызывало резкую критику официальных церковных кругов. Один из видных живописцев того времени, Джован Антонио Бацци, за свою склонность к оргиям получил прозвище Содома, которое закрепилось за ним в истории искусства.
* * *
По просьбе отца Микеланджело направился однажды в монастырь Сан Марко навестить заболевшего брата Лионардо, который в усердии неофита довёл себя строгими постами до такого состояния, что не в силах был подняться с постели. Еле двигая языком, он сызнова принялся увещевать младшего брата.
— Сожги рисунки, — бормотал Лионардо, — и разбей свои изваяния. Умоляю тебя, вернись в лоно Христовой церкви, пока не поздно.
Разговор его утомил, и он вскоре задремал. Выйдя от него, Микеланджело в одном из коридоров увидел открытую дверь в келью, где перед мольбертом сидел художник с палитрой и кистью в руке. Так он познакомился с фра Бартоломео делла Порта, занятым написанием портрета монаха, в котором легко узнавался Савонарола. Именно таким, с характерным профилем и горящим взглядом, Микеланджело не раз видел доминиканца, проповедовавшего с амвона.
— Это святой человек, — сказал фра Бартоломео. — Нам по неверию не дано сие понять. Если бы люди вняли ему, мир преобразился. Тороплюсь закончить портрет для потомков, но больше к кисти не притронусь.
Новый знакомый был года на три постарше, и они быстро перешли на «ты».
— Мне немало рассказал о тебе брат Лионардо. Он страшится за твою судьбу и близость к Медичи. Последуй его совету, не упрямься.
— Как, — удивился Микеланджело, — ты предлагаешь мне бросить искусство? Я, как и ты, обучен ремеслу художника и не собираюсь сворачивать с избранного пути. Мне не раз приходилось слушать проповеди вашего духового наставника, а он призывает быть стойкими и не сдаваться в отстаивании своих убеждений.
Фра Бартоломео ничего не сказал, уставив взгляд в узкое оконце кельи, за которым проглядывал солнечный денёк. Но когда Микеланджело попросил показать кое-что из прислонённых к стене картонов и досок, монах смутился и наотрез отказался выполнить просьбу.
— Не обижайся! Там сплошное богохульство, написанное мной, грешником, по наущению дьявола. Это всё хлам, и место ему на площади в костре.
Микеланджело передёрнуло от таких слов. Допустимо ли так поступать истинному художнику? Ведь его новый знакомый был учеником знаменитого Козимо Росселли. Нет, Микеланджело никак не мог уйти, не сказав, что тот глубоко заблуждается.
— О каком наущении дьявола ты говоришь? Не гневи Бога! Нам с тобой, художникам, дан особый дар свыше. Так береги же его, не предавай!
Взволнованный увиденным и услышанным, вернулся он из монастыря во дворец. За ужином зашёл разговор о том, как фанатичные приверженцы Савонаролы тащат на площадь Санта Кроче все предметы светской роскоши, что им удаётся изъять в домах зажиточных горожан. Напуганные обыватели отдают всё, что те считают богохульным. В полыхающий на площади огонь, называемый «костром тщеславия», вместе с женскими нарядами и украшениями летели «богомерзкие» книги и картины.
— Видимо, я ошибся, пригласив Савонаролу, — с грустью вымолвил Лоренцо.
— Что и говорить, — поддержал его Ландино. — Доминиканские монахи вполне оправдывают само название своего ордена Domini canis — «псы Господа», вынюхивая всюду ересь и крамолу. Не зря их эмблема — собака с горящим факелом в зубах.
Разговор продолжил Пико делла Мирандола, заявив, что оголтелые сторонники доминиканского проповедника позорят излишним рвением своего предводителя. Но сам Савонарола настолько последователен в отстаивании истинно христианских идеалов, что нет основания усомниться в его искренности. Но с Пико не согласились другие участники беседы, считая монаха подстрекателем, играющим с огнём во имя собственных эгоистических интересов.
— Он взрастил плевелы вместо зёрен и породил в людях, сам того не подозревая, самые низменные страсти, — заметил Полициано. — У нас сегодня жизнь соткана из столь резких крайностей, что даже любовь и религиозность становятся жестокими.
Флоренция менялась прямо на глазах. Ещё совсем недавно она считалась в Европе центром гуманизма и светочем культуры и искусства, привлекавшим к себе все богатства человеческого духа. Отовсюду сюда стекались ценные манускрипты, чей поток особенно возрос после падения Константинополя. Здесь осели многие византийские учёные, и среди них ровесник Микеланджело Михаил Триволис — наш российский Максим Грек, публицист, писатель и переводчик, который слушал проповеди Савонаролы, подпав под сильное его влияние. Художественная сокровищница флорентийского искусства веками пополнялась великими творениями зодчих, ваятелей, живописцев и притягивала к себе всю Европу. Но накалившаяся обстановка сделала город неузнаваемым, ввергнутым в бездну страхов, сомнений и безумия, как перед светопреставлением.
На днях стало известно, что под улюлюканье толпы некоторые художники, а среди них Боттичелли, Козимо Росселли, Лоренцо ди Креди, Пьеро ди Козимо, Филиппино Липпи, фра Бартоломео и другие мастера добровольно побросали в костёр свои работы, посчитав их «сатанинским искушением». В огне безвозвратно погибло немало изображений томных мадонн, смахивающих на возлюбленных самих художников или на городских шлюх, к услугам которых не брезговали прибегать мастера кисти. Вокруг «костра тщеславия» обезумевшие фанатики устраивали дикие хороводы и исступлённые пляски.
Наблюдавший за разгулом страстей и истерии один венецианский купец предложил беснующимся погромщикам две тысячи флоринов за картины, предназначенные к сожжению, но его предложение было с гневом отвергнуто.
Сторонники Савонаролы создали из мальчиков и девочек из бедных семей «святое воинство». Дети помогали выискивать крамолу и нести в «костры тщеславия» предназначенные к сожжению книги, картины и предметы роскоши, распевая звонкими голосами «Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis Israel» — «Свет к просвещению языков, ко славе народа Израилева». В их ангельских голосах звучали такие искренние вера и мольба, что напуганные художники не могли устоять и сами отдавали в руки юных защитников веры свои «богохульные» работы.
Узнав о новом безобразном шабаше на площади Санта Кроче, Лоренцо задумчиво молвил:
— Никак не ожидал такой глупости от поэтически настроенного и тонко чувствующего красоту Боттичелли.
Он подумал немного и добавил:
— Одно лишь радует, что к наивным глупцам не примкнул рассудительный Гирландайо.
С ним Микеланджело был полностью согласен. Мастера, которые уничтожают свои творения в угоду настроениям толпы, меняющимся как флюгер в зависимости от направления ветра, совершают непростительную глупость. Уж коли считаешь, что ошибся, то не топчи и не бросай в костёр свой труд, а исправь. Дело это многотрудное, но лёгких решений, устраивающих всех, в искусстве не бывает.
При содействии фра Бартоломео, к которому Микеланджело часто наведывался, чтобы заодно навестить больного брата, ему удалось как-то побывать на вечернем бдении, которое Савонарола регулярно устраивал в монастырской трапезной с монашеской братией для повышения её общей культуры, так как у многих монахов, особенно новичков, были серьёзные пробелы в знаниях.
Он присел на скамью в уголочке и огляделся. За длинным столом восседали монахи во главе с настоятелем. Стены трапезной украшали фрески легко узнаваемого Беато Анджелико, бывшего насельника монастыря Сан Марко, одного из самых искренних и чистых душой живописцев. Его «Благовещение» здесь же, в Сан Марко, — одно из самых проникновенных и поэтичных творений в истории флорентийской живописи Кватроченто.
В полумраке выделялось освещённое стоящим на столе канделябром с зажжёнными свечами одухотворённое лицо Савонаролы, который вёл беседу с монахами о высоком предназначении поэзии.
— Некоторые хотели бы ограничить поэзию только лишь формой, — заявил он. — Они жестоко ошибаются, ибо сущность поэзии в философии, в мысли, без которой не может быть истинного поэта.
Кто-то из приглашённых гостей попытался возразить, напомнив о лирической поэзии с её любовными мотивами. Но Савонарола, сверкнув очами, пропустил это замечание мимо ушей.
— Если кто думает, что всё дело в дактилях и спондеях, долгих и коротких слогах, он впадает в грубейшую ошибку, в чём скоро сам убедится.
Говоря о поэзии, Савонарола настолько увлёкся, что, кажется, забыл о внимающей ему братии и скорее спорил с самим собой, приводя всё новые доводы и тут же их опровергая:
— Мы видим в Писании, как Господь восхотел дать нам истинную поэзию мудрости, не останавливая наше внимание на словах, а вознося дух и дивным образом питая наш ум, свободный от земной суеты.
Словно впервые заметив среди присутствующих поэтов Бенивьени и Нези, появившихся с опозданием, он закончил свой монолог тирадой:
— Есть люди, претендующие на звание поэтов, но не умеющие делать ничего другого, как только следовать грекам и римлянам, повторяя их идеи и образы. Они подражают формам и размерам их стихов. Это ущербное стихотворство и губительная язва для молодёжи, которая падка на так называемые «новинки». Опыт как единственный учитель жизни доказал вред такой поэзии.
Он покинул монастырь вместе с обоими поэтами, которым так и не дали высказаться, хотя они порывались вставить слово.
— Савонарола стал просто невыносим и никого не желает слушать! А ведь в юности, говорят, писал неплохие стихи, — сказал Бенивьени. — Нет, больше к нему я не ходок.
Нези не поддержал товарища и промолчал.
Вернувшись домой, Микеланджело вытащил из сундучка тетрадь со стихами и вырвал из неё откровенно чувственные излияния. Но вспомнив Контессину, решил сохранить те, которые так или иначе связаны с ней, — ведь расстаться с ними означало бы отказаться от собственного «я».
* * *
Во Флоренции образовались два антагонистических духовных центра. Одним был собор Санта Мария дель Фьоре, где по определённым дням велеречивый монах Мариано из ордена августинцев-отшельников ублажал слух прихожан льющимися из его уст поучительными притчами о благочестии и божественной благодати, ниспосылаемой каждому истинному христианину и законопослушному гражданину. Его проповеди со ссылками на Цицерона и Вергилия пользовались особым успехом у просвещённой части аристократии и в кругах интеллектуалов, желавших услышать от проповедника не только слова утешения, но и что-то другое, способное дать ответ на вопросы, выдвигаемые жизнью. Прелат Мариано стал частым гостем во дворце Медичи, где Лоренцо не раз уединялся с ним в своём кабинете.
Совсем иные настроения царили в монастырской церкви Сан Марко, где назревал взрыв народного возмущения. Отныне, прежде чем приступить к работе в садах, Микеланджело обязательно заходил в церковь на службу. Постепенно аудитория августинца Мариано стала редеть, и большая часть его почитателей переметнулась к Савонароле, одержавшему верх в негласном состязании со ставленником правящих кругов, который называл своего противника-доминиканца «юродивым во Христе». Услышав такое, Микеланджело решил про себя, что велеречивым Мариано двигала зависть, и потерял всякий интерес к его фигуре.
Власть в городе из слабеющих рук Лоренцо постепенно переходила к Савонароле, который свои выступления перед народом всё чаще стал переносить в более вместительный кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, окончательно вытеснив оттуда августинца Мариано. На Великий пост в присутствии всего клана Медичи и других почётных граждан, занявших места в первых рядах, Савонарола выступил с резкими нападками на негласного правителя Флоренции, обвинив его в забвении интересов граждан и бессмысленной трате общественных средств. Он припомнил ему пьяные оргии на вилле Поджо-а-Кайяно, за которые всех Медичи ожидает неминуемая Божья кара — никакими подачками и пожертвованиями им не искупить своей вины перед народом.
Присутствовавший в соборе Микеланджело никак не ожидал прямого выпада против своего покровителя и друга, и его охватили недобрые предчувствия. Не такие слова он хотел услышать от проповедника, не гневные обвинения, а призывы к христианской любви и всеобщему согласию.
На следующий день после грозной филиппики Савонаролы к нему в Сан Марко была направлена депутацию самых влиятельных и уважаемых в городе граждан, предупредивших дерзкого обличителя, что за свои антиправительственные высказывания он может быть выдворен из Флоренции, несмотря на его высокий монашеский чин.
Не моргнув глазом Савонарола ответил:
— Передайте тому, кто вас послал, что я здесь — пришелец, а он — гражданин. Но я останусь, а он уйдёт. Скоро Господь призовёт его к себе на суд.
Эти слова грозного предсказания разнеслись по городу, вызвав у одних радость, а других ввергнув в глубокую печаль. Но Савонарола не успокоился и вскоре заявил, что сочтены дни и папы римского, и неаполитанского короля, угрожавшего Флоренции, и вообще весь мир переживает канун Апокалипсиса.
Флорентийцы впали в уныние в ожидании самых страшных бедствий. В городе началось невообразимое смятение, он напоминал растревоженный муравейник. Люди в ужасе метались по улицам, не находя успокоения, а кое-кто от отчаяния даже наложил на себя руки. Церкви были переполнены, служба в них не прерывалась, и здравомыслящие священнослужители призывали прихожан успокоиться, не верить шарлатанам и не поддаваться панике.
Городские власти никак не реагировали на происходящее, пребывая в растерянности. Унаследованная от отца Пьеро Подагрика тяжёлая болезнь вконец извела Лоренцо, и он порой без посторонней помощи шагу не мог ступить. Его личный врач и друг Пьеро Леони перепробовал все возможные средства, приглашая на консилиум лучших лекарей, но состояние больного ухудшалось с каждым днём.
По распоряжению Лоренцо два мраморных барельефа Микеланджело были перенесены к нему в рабочий кабинет, а Граначчи было предписано держать на запоре ворота в сады Сан Марко и усилить охрану находящихся там античных изваяний и других ценностей. Принятые меры предосторожности не были излишни, так как многие горячие головы готовы были на крайние меры после страстных проповедей Савонаролы. Своим мощным голосом он метал громы и молнии против погрязших в роскоши и разврате флорентийских толстосумов, что приносило ему всё новых сторонников среди простых граждан.
Лоренцо не терял надежды на скорое выздоровление, чтобы дать бой зарвавшемуся монаху. Он собрал воедино своих сторонников и получил поддержку со стороны соседних итальянских государств, которых пугала фигура монаха-обличителя. Главным, на что Лоренцо рассчитывал, были его собственные богатства и мощное влияние разветвлённой сети его банков — ведь деньги, как везде, решают всё. Ему даже удалось уговорить высшие круги духовенства на время поста отправить Савонаролу в один из дальних приходов Тосканы. Но это была временная мера, и по возвращении доминиканец снова принялся за своё, хотя у него по-прежнему не было ничего, кроме протёртого до дыр плаща на плечах да кучки фанатичных приверженцев.
Тем временем Лоренцо совсем сдал и уже не покидал дворец. Отправляя среднего сына Джованни в Рим на благословение к престарелому Иннокентию VIII, он напутствовал юнца, как ему вести себя с папой, во всём соглашаясь с ним, и не дай бог ни в чём не перечить:
— Помни всегда, что советует наш мудрый друг и твой крёстный отец Марсилио Фичино: питаться простой пищей и постоянно упражняться телесно, чтобы избежать любой болезни.
Джованни со скучающим видом слушал наставления отца, а сам думал о предстоящей поездке в Рим, куда давно мечтал попасть.
— Вставать надо пораньше, — продолжал наставлять сына Лоренцо, — дабы успеть исполнить все дневные дела: молитвы, чтение священных текстов и приём посетителей. Только тогда ты оправдаешь высокое кардинальское звание.
* * *
Вопреки расчетам Лоренцо события в городе развивались бурно и непредсказуемо. Под конец одной проповеди в переполненном соборе Санта Мария дель Фьоре неистовый доминиканец вновь потребовал изгнания из Флоренции всех Медичи и иже с ними. Срывающимся голосом он прокричал с амвона в истеричном запале:
— Покайтесь, христопродавцы, и одумайтесь! Иначе я залью водами потопа всю грешную землю!
Последние слова с угрозой были взяты им из Библии — «Ессе adducam aquam diluvii super terram». Они ошеломили всех присутствующих в храме, вызвав панику. Люди в ужасе стали проталкиваться к выходу, сокрушая всё на пути. Сидевший в первом ряду Пико делла Мирандола побледнел и чуть не потерял сознание то ли от нервного потрясения, то ли от давки и духоты. Находившийся рядом Боттичелли разрыдался, как ребёнок, повторяя сквозь всхлипывания: «Свят, свят!» Его старался как-то успокоить перепуганный не на шутку Лоренцо ди Креди.
Выйдя с толпой из собора, Микеланджело готов был бежать хоть на край света, услышав, что его покровителю грозит изгнание, а стало быть, и ему не избежать кары.
Для Флоренции наступили тяжёлые времена. С каждым днём в душах горожан росли смятение и страх. Всем женщинам отныне предписывалось появляться в церкви во всём чёрном. Несмотря на волнения в городе, члены «платонической семьи» решили собраться в кабинете Лоренцо, чтобы обсудить создавшееся положение, идущее вразрез с их философскими взглядами на жизнь. Первым решил высказаться Пико делла Мирандола.
— Даже наши куртизанки облачились в чёрное, что не мешает им по-прежнему предаваться любовным утехам. Хотя порок стыдливо прячут, но покрывало или вуаль служат лишь для более надёжного укрытия от посторонних глаз.
— Монах заблуждается, — поддержал его Полициано. — Ему не менее нас известно, что человек по своей натуре остаётся самим собой, а порок питает его животную похоть, как вода и хлеб утоляют жажду и голод, на чём стоял и стоит мир.
Один лишь присутствовавший при разговоре Нези отмолчался.
Прислушиваясь к суждениям старших товарищей, Микеланджело всё более убеждался в правоте Савонаролы. Его не раз смущал вид женщин, свободно разгуливающих по улице в фривольных платьях с обнажёнными плечами и бросающих манящие взгляды на прохожих. Он старался отводить взгляд в сторону, испытывая внутреннее возбуждение, которое часто навещало его по ночам, а наутро в тетради появлялись покаянные стихи, звучащие как исповедь перед причастием:
Грешно живу, погибель приближая. Добро от неба, зло — в моих страстях. Утратив волю, я погряз в грехах И только им принадлежу, страдая (32).Он вспомнил недавнюю проповедь Савонаролы в кафедральном соборе в праздник Благовещения. Центральный неф был переполнен, и многие прослушали всю службу, стоя в боковых нефах, где не было сидячих мест. Его тогда поразили слова проповедника, обращённые к присутствующим там художникам, многих из которых он хорошо знал:
— Вы, живописцы, поступаете дурно, привнося в церковь всякую суету. Вы думаете, что Дева Мария была разукрашена так, как вы её изображаете? А я вам говорю, что она одевалась, как самая бедная девушка.
Микеланджело заметил, как многие собратья по искусству низко опустили головы, пряча лица. Он видел их картины с изображением Мадонны. Все они были прекрасно написаны, но в них не было божественной одухотворённости, что вызывало справедливый гнев Савонаролы, с которым Микеланджело был полностью согласен.
— Пусть рисуют себе на здоровье своих возлюбленных, — посетовал он в разговоре с Граначчи, — со всеми их прелестями напоказ. Но при чём здесь, скажи мне, Дева Мария?
Фигура Савонаролы продолжала его занимать. Недавно ему пришлось присутствовать при обсуждении сочинения «Пророчество о новом веке», принадлежащего перу Нези. Поэт считал Савонаролу «феррарским Сократом» и усматривал своё родство с ним в совместном стремлении к новой религиозности. Для Нези — это «учёная религия», не берущая в расчёт внешние проявления культа и ратующая за эмоциональное постижение Бога. Для Савонаролы же — очищение от позднейших догматических наслоений римского христианства. Оба они, философ-гуманист и монах-проповедник, одержимы поиском обновления и духовного переустройства жизни, но действуют по-разному. Нези в религиозных поисках сохраняет верность гуманистическим идеалам и смело вводит философские принципы в теологическую проблематику, а Савонарола ревностно отстаивает теологический базис веры, рассматривая с этих позиций вопрос о земном предназначении человека.28 Позднее его взгляды нашли понимание Фичино, Ландино, Пико и Полициано, что не могло не радовать Микеланджело.
Глава IX СМЕРТЬ ЛОРЕНЦО ВЕЛИКОЛЕПНОГО
На смену бегу безмятежных лет
Приходят разом горечь и сомнения.
Для всех живущих неизбежно тление —
Хоть трижды знатен будь, пощады нет (1).
Пришла весть о визите во Флоренцию новоиспечённого кардинала двадцатилетнего Джованни Медичи. 18 марта весь город украсился праздничными гирляндами, и народ, несмотря на дождь, высыпал на улицы приветствовать молодого кардинала. Среди встречающих были в основном palleschi (от palle — шары), то есть сторонники Медичи. К ним присоединились arabbiati — «бешеные», представители знати и имущих слоёв, а вот piagnoni — «плаксы» — предпочли наблюдать за происходящим со стороны. Их предводитель Савонарола демонстративно не принял участие в городских торжествах, уединившись в своей келье монастыря Сан Марко.
В церкви Благовещения прошла благодарственная служба, кардинал посетил дворец Синьории и был принят гонфалоньером, а затем направился во дворец Медичи к ожидавшему его отцу. Повидав близких, друзей и шутливо напомнив Микеланджело за ужином о портрете, кардинал Джованни Медичи через пару дней отбыл в Рим.
Состояние Лоренцо между тем продолжало ухудшаться, и 21 марта врачи настояли на его переезде в Кареджи, куда перебрался и весь двор. Погода стояла дождливая, и окрестные холмы были окутаны густым туманом. Весна запаздывала, словно в отместку за отсутствие в городе мира и согласия.
Предчувствуя близкую развязку в неравной борьбе с недугом, Лоренцо явно торопился с устройством последних дел. Особенно его беспокоила судьба родной Флоренции, раздираемой глубокими противоречиями. По его убеждению, власть над городом должна была перейти в руки старшего сына, хотя ни в одном документе не была оговорена передача власти по наследству. Между тем на неё претендовали многие влиятельные лица, в том числе и представители другой ветви клана Медичи, недовольные тем, что вся полнота власти оказалась в руках их двоюродного брата.
Он понимал, что его сыну Пьеро не хватает гибкости в общении с людьми. Его негативные черты — заносчивость и грубость — ещё сильнее обострились после женитьбы под влиянием его взбалмошной супруги Альфонсины Орсини, кичившейся знатностью своего римского рода.
Оставшись со старшим сыном с глазу на глаз, Лоренцо с трудом оторвал голову от подушки и тихо промолвил:
— Пьеро, тебе предстоит править Флоренцией, и моя непосильная ноша ляжет на твои плечи. Уверен, что граждане признают тебя моим преемником.
Помолчав немного, он тихо добавил:
— Непростое дело — управлять республикой, где сколько голов, столько и умов. Всем угодить невозможно, а потому действуй с умом, честно и по совести. Отныне твой долг — не только защитить Флоренцию от недругов, а их вокруг немало, но и не посрамить честь Медичи.
В те ненастные дни, когда солнце редко проглядывало сквозь тучи, он по примеру своего великого деда Козимо, встретившего последний час в Кареджи, просил друзей, не отходивших от него и считавших за счастье исполнить любое его желание, почитать что-нибудь из Платона, находя в нём единственное утешение. Закрыв глаза, он слушал из уст друга и единомышленника Фичино чеканные латинские фразы: «Deus est in nobis… Pulchritido divina per omnia splendet et amatur in omnibus» — «Бог находится в нас… Божественная красота во всём сияет и во всём является предметом любви».29 Если бы произошло чудо, то сколько бы ещё он мог совершить, воплотив дерзновенные планы, оставшиеся неосуществлёнными в роковые дни, переживаемые Италией…
За четверть века правления ему всегда удавалось умело сглаживать острые углы и проводить гибкую внешнюю политику. Своих внутренних противников он усмирял подачками и посулами. Когда же те пошли напролом, ему пришлось железной рукой восстановить порядок и равновесие, жестоко покарав заговорщиков. Теперь его тревожила одна лишь мысль — сумеет ли старший сын хоть в малой степени унаследовать его качества?
После отъезда двора в Кареджи Микеланджело покинул опустевший дворец Медичи и переехал в отчий дом к удивлению отца и братьев.
— Что, и там не ужился? — недовольно спросил отец, а братья с радостью приняли его в своей каморке, где ему снова пришлось делить ложе с подросшим Буонаррото.
В садах Сан Марко у него были незаконченные дела. Он загорелся идеей изваять статую Геракла, который импонировал его бойцовской натуре, истосковавшейся по героическим подвигам. Ему не терпелось поскорее внести весомый вклад в искусство — а иначе зачем он родился на свет? Пока что удалось вылепить в глине фигуру чуть выше роста человека. Но что-то его в ней не устраивало, и он продолжал вносить исправления. Однако дальнейшую работу пришлось, к сожалению, отложить из-за одного непредвиденного обстоятельства, которое всполошило весь город.
5 апреля 1492 года в три часа ночи разразилась гроза, от удара молнии рухнул фонарь купола Санта Мария дель Фьоре, разбросав мраморные обломки, а у ближайших домов сорвало черепицу с крыш и повыбивало стёкла. Когда Лоренцо доложили о случившемся, он прежде всего поинтересовался, в какую сторону упали обломки фонаря. В последнее время он стал верить в приметы и составляемые врачом Леони гороскопы. Оказалось, что обломки упали в сторону дворца на улице Ларга, где был повреждён герб Медичи на фасаде. Это было дурным предзнаменованием, а тут ещё два льва, живших в саду в одной клетке, не поделили добычу, и один загрыз другого.
— Это смерть за мной пришла, — еле слышно промолвил Лоренцо.
Всё это напугало доктора Леони, хотя он был уверен, что по гороскопу его великому другу ничто не угрожало, и в последние дни потчевал своего пациента особой микстурой из ценнейшего порошка размельчённых жемчужин, веря в её чудодейственную силу.
— Горечь лекарства, — любил он повторять слова мудреца Галена, давая приготовленное снадобье больному, — приносит сладость выздоровления.
Доктор-астролог свято верил, что жемчужины как отражение небесного света способны помочь организму справиться с недугом. После первой апрельской грозы и обильного дождя, смывшего накопившийся за зиму сор, весна окончательно вступила в свои права. Вилла Кареджи утопала в распустившейся за ночь благоухающей зелени, а всю округу оглашал радостный свист носящихся в небе стрижей и ласточек, возвратившихся в родные края после зимовки в южных краях. Под лучами ласкового апрельского солнца всё оживало вокруг, наливаясь жизненными соками. Казалось, сама природа не соглашалась с увяданием того, кто в своих дивных стихах прославил её гармонию и красоту.
Ближе к закату в Кареджи примчался Микеланджело, чтобы повидаться с Лоренцо и справиться о его здоровье. В опочивальне он застал Фичино и Полициано. Рядом с Лоренцо на низкой скамеечке сидела погрустневшая Контессина, держа вяло повисшую руку отца. Его поразил понимающий взгляд Лоренцо, который, с трудом улыбнувшись, словно извиняясь за свою немощь, приветствовал Микеланджело.
Фичино продолжил прерванное чтение о страстях Господних из Евангелия. Лоренцо повторял за чтецом слова, еле шевеля губами. Его просветлённый лик отражал спокойствие и смирение духа. Приняв лекарство из рук Леони, он знаком повелел пригласить слуг, вероятно, чтобы попросить у них прощения, но не смог вымолвить ни слова, и те, пятясь, вышли в печали и недоумении. Жизнь правителя угасала прямо на глазах, что было видно по его измученному лицу. Тут за дверью послышался шум. Вошедший дворецкий объявил о прибытии Пико делла Мирандола с важным посетителем. На вопрос, кто прибыл с другом Пико, прозвучал ответ:
— С ним преподобный Савонарола.
Все вышли, кроме Полициано, поправлявшего подушку в изголовье больному.
— Ты звал меня, Лоренцо? — спросил монах.
— Хочу причаститься, — еле слышно ответил тот.
От Полициано, единственного свидетеля встречи двух непримиримых врагов, стало известно, что прежде чем приступить к отпущению грехов, Савонарола, нагнувшись к лежащему Лоренцо, спросил властным голосом, держа в руке крест:
— Ответь мне, как на духу: подтверждаешь ли ты веру в Бога, готов ли раскаяться в грехах и без страха предстать пред ликом смерти?
На все его требования Лоренцо смог ответить лишь кивком головы, после чего суровый монах прочёл отходную молитву. Благословив умирающего, Савонарола стремительно вышел и уехал прочь, ни с кем не попрощавшись, что выглядело более чем странно, ибо собравшиеся с нетерпением ждали от монаха слов утешения и поддержки.
Когда все бросились к Лоренцо, его душа уже отлетела вместе с последним вздохом. Это произошло ночью в воскресенье 8 апреля 1492 года. Лоренцо Великолепному было сорок два года. Рыдающий Полициано опустил ему веки, а врач Леони накрыл лицо простынёй.
Позднее сподвижники Савонаролы представили сцену последних минут жизни Лоренцо Великолепного в совершенно ином ключе. Согласно этой версии, монах после отказа Лоренцо предоставить полную свободу своим подданным в гневе покинул его нераскаянным. Такое вряд ли могло произойти, поскольку истинный священнослужитель, каким и был Савонарола, никак не мог отказать в отпущении грехов умирающему, сколь бы ни велика была его неприязнь к Медичи.
Обезумевший от горя Микеланджело убежал в парк. Он впервые в жизни столкнулся со смертью, унесшей прямо на глазах жизнь дорогого ему человека, которого он любил больше, чем родного отца. Всё померкло перед глазами, и невозможно было поверить в свершившееся. Всю ночь он провёл в парке и, ослепнув от слёз, бродил, натыкаясь на деревья, пока от усталости не свалился и не уснул распростёртым на земле.
Первые лучи солнца разбудили Микеланджело. Он подошёл к колодцу, чтобы обмыть заплаканное и перемазанное землёй лицо. Но заглянув вниз, он в ужасе отпрянул, увидев там мёртвое тело, и убежал прочь, призывая людей на помощь. Когда из колодца вынули утопленника, им оказался врач Леони. Видимо, бедняга винил себя за то, что неверно лечил обожаемого Лоренцо, и поверив в свой гороскоп, по которому ему было суждено умереть в воде, покончил с собой столь странным образом. Правда, была ещё одна версия гибели врача, в которой фигурирует имя Пьеро Медичи, отомстившего якобы за смерть отца лекарю, что вполне возможно, учитывая злобную натуру старшего сына Лоренцо.
Ранним апрельским утром вереница карет, обитых чёрным крепом, двинулась за катафалком с телом усопшего в сторону Флоренции под скорбный гул колоколов окрестных церквей. На всём пути следования траурной процессии вокруг бурлила жизнь. Крестьяне, радуясь погожему дню, трудились на полях, распустившиеся деревья наливались соком, и печальная вереница карет выглядела чем-то противоестественным на фоне природы, пробудившейся после зимней спячки.
В одном из экипажей сопровождения рядом с Пико делла Мирандола и Полициано сидел, сжавшись в комок, Микеланджело. Он всё ещё не мог прийти в себя и осознать до конца случившееся.
Тело Лоренцо было установлено в церкви Сан Лоренцо, куда устремились тысячи флорентийцев проститься с правителем. Но отпевание прошло в кругу родных и близких, как того пожелал покойный.
С уходом из жизни Лоренцо Великолепного закрылась одна из славных страниц в истории Италии. Он появился на стыке двух эпох — умирающего Средневековья и набирающего силу Возрождения, оставив о себе в памяти народа образ мудрого успешного правителя и благодетеля страны, давшего мощный импульс развитию искусства и культуры. Лоренцо сумел освободить собственную жизнь от политического честолюбия, дворцовых интриг, мелочной суеты и следовать путём истины, добра и любви, иными словами — путём Христа и Платона. За годы его правления Флоренция ещё больше укрепила своё положение общепризнанного центра гуманизма, передовой культуры и благосостояния. Как негасимый источник света и разума, она привлекала к себе все богатства человеческого духа.
На третий день после смерти Великолепного Синьория и Большой совет попросили Пьеро Медичи занять место покойного отца. Тогда же был обнародован декрет с выражением глубокой благодарности и признательности Лоренцо от имени всех флорентийцев. В нём перечислялись его великие заслуги как мудрого правителя, пекущегося о благе подданных.
Весть о смерти Лоренцо Великолепного потрясла мир. Узнав о его кончине, хворый папа Иннокентий VIII, стремившийся к упрочению союза Рима с Флоренцией, воскликнул: «Погибла надежда на мир в Италии!» Вторя ему, неаполитанский король Фердинанд заявил: «Для себя он прожил достаточно, а для блага Италии слишком мало». Волна соболезнований прокатилась по всей Европе. Во многих городах Италии именем Лоренцо и сегодня названы улицы. В Санкт-Петербурге герб Медичи украшает здание на углу Невского и улицы Гоголя — бывший банк Вавельберга, возведённый по образцу флорентийского дворца Медичи. В Москве на Петровке фасад доходного дома 17, построенного в конце XIX века, тоже украшен фамильным гербом Медичи с шестью шарами.
* * *
Со смертью Лоренцо, который первым предугадал в обласканном им юнце гения, для Микеланджело умерла великая эпоха, которой он восхищался, считая себя её детищем, и по примеру своих мудрых наставников пытался примирить разум с плотью, чтобы не быть рабом чувственных вожделений, целиком отдаваясь творчеству. Не расставаясь с «Божественной комедией», он находил в ней живое воплощение красоты слова, а в проповедях Савонаролы слышал подтверждение своим мыслям о том, что красота тела зависит от красоты души.
Пророчества Савонаролы стали сбываться одно за другим: умер папа Иннокентий VIII, и новым понтификом благодаря подкупу ряда кардиналов на конклаве стал испанец Александр VI Борджиа, одна из самых одиозных фигур в истории папства. Его пребывание в Ватикане совпало с волной страшных бедствий, обрушившихся на Италию. Спустя два года умер неаполитанский король Фердинанд I. Понесла потери и «платоническая семья» — не стало Кристофоро Ландино, не выдержавшего потрясения в связи с кончиной Лоренцо. Перед смертью он принял монашеский постриг.
После ухода из жизни Великолепного Савонарола громогласно заявил:
— Прислушайся, Флоренция, к моим словам, которые мне внушил сам Господь. От тебя исходит обновление, которое должно затронуть всю Италию. На вас, флорентийцы, возлагается эта великая миссия. Так будьте же её достойны!
Идея обновления и очищения от скверны церкви и общества была краеугольным камнем его деяний. Подвергая резкой критике увязнувшее в пороках папство, он не помышлял о создании новой церкви, к чему позднее призовёт Мартин Лютер. Его целью было укрепление республиканского правления на сугубо христианской основе.
Для Микеланджело наступили тяжёлые дни. В садах Сан Марко его ждал незаконченный слепок фигуры Геракла, чей образ так импонировал его натуре. Но теперь от возникших сомнений у него опускались руки, и не с кем было посоветоваться. Полициано и Пико делла Мирандола не показывались на люди, укрывшись где-то в своих загородных имениях. Глава поредевшей Платоновской академии Фичино вспомнил вдруг о своём сане каноника и, отложив в сторону редактуру фундаментального труда «Платоновская теология о бессмертии души», предался мистическому созерцанию и больше не написал ни строчки.
Прошло недели две после похорон Лоренцо. Обуреваемый сомнениями и нуждаясь в поддержке, Микеланджело решил навестить Фичино, хотя отныне поездка в Кареджи была для него болезненно мучительной, напоминая о былом. Но ему как никогда был нужен дружеский совет при работе над статуей Геракла, одного из любимых героев покойного Лоренцо, чьи великие деяния были сродни подвигам мифологического героя.
— Каким же мне его изобразить? — задавался вопросом Микеланджело, рассказывая Фичино о своём замысле.
— Вполне земным, уязвимым для яда кентавра Несса, каким был и наш друг Лоренцо, ставший жертвой зла и неизлечимого недуга. Помни — любая болезнь даётся, чтобы приблизить нас ко Всевышнему.
— Но скульптура обнажённого героя должна быть предельно точна в каждой детали тела, чтобы малейшая жилка, сустав или мышца выглядели правдоподобно…
Убеждая Фичино в своей правоте, он осторожно подвёл его к мысли о необходимости поработать с трупами, памятуя о том, что отец учёного был медиком, а стало быть, он должен его понять и поддержать. Но не тут-то было — Фичино понял, куда клонит собеседник.
— Об этом даже и не думай! Недавно глава испанской инквизиции доминиканец Торквемада пригрозил смертной казнью всем гробокопателям.
В те времена анатомирование трупов считалось тяжким преступлением. Фичино подошёл к книжному шкафу и вынул небольшой том в кожаном переплёте, сразу же открыв в нём нужное место.
— Это трактат по медицине великого врача античности Галена, услугами которого пользовался Марк Аврелий. Послушай одну из его заповедей, которой он ни разу не изменил: «Нельзя касаться скальпелем священного тела человека, созданного по образу и подобию Творца всего сущего».
Поставив книгу обратно на полку, Фичино сказал напоследок:
— Заруби себе на носу слова мудрого Галена.
Но откуда было знать Фичино, что не пройдёт и четверти века, как все запреты рухнут, а французский врач и писатель Рабле начнёт устраивать показательные сеансы анатомирования трупов, особенно женских, которые пользовались успехом у публики? Вскоре и в Италии в университетских аудиториях анатомирование в учебных целях станет вполне привычным делом.
Чтобы не волновать старого учёного, Микеланджело больше не затрагивал этот глубоко интересовавший его вопрос. Он вспомнил, как однажды вызвал своим вопросом такой же протест у покойного Бертольдо, но тот был скульптором, подверженным мистическим страхам, поэтому он и обратился за советом к учёному мужу, далёкому от предрассудков.
Когда гость был уже на пороге, Фичино крикнул вслед:
— Помни, что даже великому Леонардо власти не простили анатомирование трупов, и он вынужден был надолго покинуть Флоренцию!
Микеланджело вернулся домой ни с чем.
Пришло распоряжение от нового хозяина Флоренции очистить сады Сан Марко от хозяйственных построек и прочего мусора, чтобы разместить на освободившейся территории новую конюшню, поскольку старая при дворце стала мала. Отныне в садах не было места античным статуям, с такой любовью собираемых Лоренцо Великолепным, чьи старания не нужны больше его наследнику. Неблагодарная работа по переделке садов под конюшни легла на плечи бедняги Граначчи, а Микеланджело принялся искать новое место под мастерскую.
В своих поисках он однажды оказался на левом берегу Арно перед церковью Санто Спирито, настоятелем которой был Никколо Бикьеллини, высокообразованный прелат. С ним Микеланджело впервые познакомился на одном из заседаний Платоновской академии в Кареджи, а позднее не раз встречал его во дворце Медичи, где прелат принимал участие в диспутах «платонической семьи», отличаясь сдержанностью и взвешенностью своих суждений. Бикьеллини ласково принял его и разрешил пользоваться богатой монастырской библиотекой, где Микеланджело нашёл несколько старинных анатомических атласов, которые могли служить ценным пособием для любого врача, но не для скульптора, стремящегося понять, как сокращается каждая мыщца. Для этого было необходимо самому коснуться рукой внутренних органов тела и понять поведение мускулов, суставов и сухожилий.
Слушая рассказ Микеланджело о трудностях в работе над изваянием Геракла, умный Бикьеллини понял, чего недостаёт пытливому молодому скульптору для достижения стоящей перед ним задачи. Ради искусства и вопреки своим убеждениям истинного христианина он совершил поступок, за который мог жестоко поплатиться. Придя однажды в монастырскую библиотеку, Микеланджело обнаружил в анатомическом атласе в качестве закладки между страницами кованый ключ. Ему стало понятно происхождение неожиданной находки. В тот же день, зайдя в монастырскую больницу для бедняков, где палаты запирались на засов, он понял, что ключ отпирает дверь скудельни, или мертвецкой, приземистого строения с часовенкой за воротами монастыря, куда складывали трупы бродяг, самоубийц и неопознанных лиц, найденных на улице. Туда же помещали умерших пациентов больницы.
Прежде чем попытаться вставить ключ в скважину висячего замка, Микеланджело проверил все подходы к больнице и скудельне. Он определил время, когда больничные санитары выносят умерших, а могильщики забирают трупы из скудельни для погребения на монастырском кладбище. Было также установлено время, когда metronotte, ночной сторож, с фонарём обходит свою территорию и бьёт в колотушку. Опасность, которой он подвергал себя, была велика, а заодно он мог накликать беду и на доброго настоятеля. Но отступать было поздно. Подготовив необходимый инструмент, ночной светильник, перчатки, марлю и пахучую эссенцию, купленную загодя у аптекаря, Микеланджело проник в мертвецкую.
Когда замок был открыт, в него пахнуло таким нестерпимым зловонием, что на время дверь осталась распахнутой для проветривания помещения. Трупный запах забивал гортань, и пришлось обвязать нос и рот толстым слоем марли, смоченной пахучей жидкостью. Затем он зажёг масляный светильник, предварительно занавесив узкую щель окна тряпицей, принесённой с собой, чтобы свет не был виден снаружи.
Больших усилий стоило подавить страх и отвращение, прежде чем приступить к делу. Поначалу его интересовали мыщцы и расположение сосудов спины и конечностей. Перевернув труп животом вниз, он принялся орудовать скальпелем. Из-за неловкой попытки придать трупу вертикальное положение горящий светильник упал со стола и погас. В кромешной тьме Микеланджело оказался придавленным упавшим на него мертвецом. Кое-как освободившись от навалившегося на него тяжёлого трупа, он долго не мог отрешиться от леденящего душу страха. На рассвете он, никем не замеченный, покинул смердящую скудельню, глубоко вдохнув полной грудью свежего воздуха. Придя домой, он долго отмывал руки мылом и карболкой. Увидев столь непривычную тягу пасынка к чистоте, мачеха поинтересовалась:
— Где же ты ночью так извазюкался?
— На строительном дворе. Там свалили какую-то дрянь, и я нечаянно замарался.
Когда он появился в спальне, братья принялись чертыхаться от запаха карболки. Ему ничего не оставалось, как молча слушать их ворчание, пока сон не сморил его.
С наступлением темноты он не одну неделю тайно провёл в мертвецкой, куда наведывался через день, чтобы дать себе возможность отоспаться. О своих тайных посещениях скудельни он решил поведать Граначчи, чтобы вместе там поработать.
— Да ты с ума сошёл! — в ужасе воскликнул тот. — Я боюсь даже близко подойти к мертвецкой. Заклинаю тебя всеми святыми, оставь эту опасную затею!
— Да я вовсе не прошу тебя помогать мне вскрывать трупы. Мне бы хотелось, чтобы ты покараулил во дворе, пока я работаю в мертвецкой, чтобы в любой момент оповестить об опасности.
Уговорить друга не получилось, пришлось одному завершать начатое. Всякий раз, берясь за скальпель, он закрывал простынёй лица покойников, чтобы они, не дай бог, не запечатлелись в памяти и не снились по ночам. Постепенно ему удалось побороть страх, но не тошноту, из-за которой он после подолгу не мог притронуться к пище. У него начались голодные обмороки. Очнувшись как-то после очередного обморока в зловонной мертвецкой, он дал себе зарок не появляться там больше натощак, заставляя себя съесть хотя бы кусок хлеба. Ему сыграли на руку наступившие осенние холода, подавлявшие свежестью въедливый трупный запах. Придавая различные позы мёртвому телу, он изучал, каково при этом положение мускулов, суставов и сухожилий, фиксируя свои наблюдения в рисунках. После каждого ночного сеанса приходилось тщательно укладывать труп на место в лежачем положении, скрывая следы ночной работы. По дороге к дому он заходил в церковь и зажигал свечу за упокой души потревоженного им безымянного бедняги.
Наконец кошмары ночных бдений остались позади, и Микеланджело смог по-настоящему оценить, сколь живителен каждый глоток свежего воздуха. Он одержал победу над страхом, предрассудками и над самим собой, проявив редкостное упорство и волю. Помогли молодость и неудержимое желание во что бы то ни стало добиться своего, к каким бы последствиям такие действия ни привели.
Полученный бесценный опыт сослужил в дальнейшем добрую службу, когда Микеланджело было достаточно одного взгляда, чтобы безошибочно отразить в рисунке, живописи или скульптуре разнообразие движения мускулов и суставов, словно он обладал способностью видеть, что творится под кожей человека в движении или в состоянии покоя.
На строительном дворе позади собора Санта Мария дель Фьоре, где после работы Брунеллески над куполом остались складские помещения, Микеланджело по договоренности со смотрителем приспособил одно из них под мастерскую и продолжил работу над статуей Геракла, приобретя по дешёвке одну из валявшихся на стройке без дела колонн.
К первой годовщине со дня смерти Лоренцо Великолепного статуя обнажённого мифологического героя была готова и стояла под навесом большого сарая. Купленная старая колонна была узковата для широкоплечего Геракла, но молодой скульптор сумел подчинить её своему замыслу, опустив немного вниз правое плечо героя, нагнувшегося, чтобы удержать в руке тяжёлую палицу.
Готовый к новым подвигам Геракл вызвал восторг почитателей прекрасного, и Микеланджело жалел только об одном, что новую его работу не видит Лоренцо, который оценил бы скульптуру по достоинству. Её наверняка оценила бы и Контессина, память о которой постоянно давала о себе знать. Но ему ничего не было известно о её судьбе.
Молва о новом изваянии разнеслась по всей Флоренции. От желающих увидеть творение молодого скульптора не было отбоя, что заставило Микеланджело вынести изваяние из сарая и разместить на открытой площадке рабочего двора для лучшего обозрения. Он втайне надеялся, что на скульптуру обратит внимание кто-нибудь из меценатов и предложит за неё хорошую цену.
Однажды на площадке неожиданно появился мессер Лодовико с тремя младшими сыновьями, дабы те увидели воочию, чем занят их брат. Те начали глупо хихикать при виде обнажённого Геракла, но отец цыкнул на них, и они умолкли. Обойдя скульптуру и потрогав рукой мрамор, он ничего не сказал, мысленно подсчитывая, сколько денег может принести новая работа сына. Лодовико не изменял своей натуре человека практичного и знающего цену произведениям, высеченным в мраморе.
Микеланджело с нетерпением ждал, когда наследник Лоренцо придёт взглянуть на Геракла. Но искусство меньше всего занимало надменного Пьеро Медичи, упивавшегося свалившимися на него властью и богатством. В итоге Геракла приобрёл богач Строцци, поместив скульптуру во внутреннем дворике своего недавно возведённого великолепного дворца. В 1529 году её купил французский король Франциск I, и Геракл украшал сады Фонтенбло, пока в XVII веке не исчез бесследно. Об этой скульптуре сегодня можно судить только по сохранившемуся слепку (Флоренция, Барджелло), говорящему о том, что это была всего лишь прелюдия, предваряющая появление гениального «Давида».
Микеланджело сознавал, что новыми знаниями анатомии человека он в значительной мере обязан настоятелю Бикьеллини, который предоставил ему редкую, сопряжённую с большим риском возможность поработать в монастырской скудельне, где он мог быть каждую минуту схвачен на месте преступления. В знак благодарности Бикьеллини ему захотелось изготовить статую Христа для церкви Санто Спирито. После раздумий над рисунком он остановил свой выбор на добротном куске ствола столетней липы, так как после вручения отцу денег за проданного Геракла у него не хватало средств на приобретение хорошего каррарского мрамора. Липовый чурбан ему уступил за бесценок хозяин соседней столярной мастерской, так как прочное дерево оказалось неподатливым для его поделок.
В сцене Распятия его занимало главное — каким должен выглядеть Христос? После работы в мастерской Гирландайо это было второе обращение Микеланджело к образу Спасителя. Его не убедили ни изваяние Брунеллески в Санта Мария Новелла, ни распятый Христос, выполненный Донателло для Санта Кроче, где Спаситель принимает смерть безропотно и как будто даже безмятежно. У Донателло он словно говорит: «Я был заранее готов к мукам и смиренно принял свою судьбу, которая была предрешена».
Но по складу характера Микеланджело не устраивал такой взгляд на библейский сюжет. Как примирить Божью заповедь о любви с насильственной смертью? Его Христос страдает не от мук, а от одолевающих его сомнений простого смертного, какие одолевали непрестанно самого Микеланджело. У него распятый Спаситель намного ближе к человеку, нежели к божеству — потому он лишён любых примет святости вроде нимба. В нём выражена великая внутренняя сила, которая позволила преодолеть муки в трагический момент и остаться непобеждённым.
К кресту Ты палачами пригвождён В венце терновом. Но не осужденье Лик скорбный шлёт нам, а прощенье. К Тебе наш мир в надежде обращён (29).Для усиления трагизма скульптор повернул склонённую голову и колени приговорённого к казни в противоположные стороны, усилив контрастной пластикой мучительную борьбу двух начал — жизни и смерти.
Но в каком виде представить Распятие? Ему вспомнились слова Фичино, что «желание одеть в земное Того, кто облачён божественным светом небесной истины, — это всё равно что закрыть чистый свет густой тенью облаков, а истину не скрыть никакими художественными ухищрениями».30
Предварительно вложив одолженный ключ от скудельни на прежнее место между страницами анатомического атласа в монастырской библиотеке, он нанял извозчика и доставил деревянное изваяние в рост человека в ризницу церкви Санто Спирито. Настоятель с радостью принял дар молодого мастера, о котором вскоре заговорила вся Флоренция.
Деревянное Распятие отличается поразительно точной анатомической достоверностью. Впечатляет низко склонённая голова Христа с правильными чертами лица, сомкнутыми веками и ртом, не искажённым болью. Над Распятием укреплена табличка с надписью на еврейском, греческом и латыни, воспроизводящая известную формулу «titulus crucis», которая связана с реликвией, найденной в одной из римских катакомб в 1492 году, а ныне хранящейся в Иерусалиме.
Пока Микеланджело трудился над Распятием, в том же году при монастырской типографии Сан Марко была напечатана небольшая книжица «Трактат о любви к Иисусу Христу», написанная Савонаролой с его собственноручным рисунком, изображающим Спасителя, каким он виделся фанатичному проповеднику. В один из зимних дней в сопровождении многочисленной толпы сторонников Савонарола посетил Санто Спирито, чтобы взглянуть на Распятие, вызвавшее большой интерес у флорентийцев. Увидев Христа беззащитным и уязвимым, каким он выглядел и на его собственном рисунке, Савонарола громко заявил, обращаясь к толпе прихожан и священнослужителям:
— Христос не был распят обнажённым, о чём никому не следует забывать! — и покинул церковь, не пожелав далее распространяться на эту тему.
Микеланджело не успел остановить фра Джироламо, а ему так хотелось поговорить с ним, тем более что смиренный образ Христа, как он почувствовал, смягчил суровость непримиримого монаха. После его ухода настоятель Бикьеллини распорядился прикрыть наготу тряпицей, чтобы успокоить ревностных блюстителей чистоты веры.
Долгое время Распятие являлось гордостью церкви Санто Спирито. В XVIII-XIX веках изваяние подверглось реставрации, его прежняя основа — крест из липы был заменён на новый из более прочного дерева. Однако нынешнее Распятие во флорентийской церкви вызывает серьёзные сомнения в его принадлежности резцу Микеланджело.
На этом история не заканчивается. В начале нашего века произошла сенсация, когда в одном частном собрании было обнаружено малое деревянное Распятие (32-42 см высоты), приписываемое раннему Микеланджело. Небольшие Распятия для домашнего пользования вырезали Бенедетто да Майяно и Дезидерио да Сеттиньяно, предшественники Микеланджело, и их можно встретить в различных музеях. Но нынешняя находка породила волну самых разноречивых суждений искусствоведов от полного отрицания до безоговорочного признания. Под давлением общественного мнения и из опасения, что деревянное изваяние уплывёт за границу, — щупальцы рынка уже жадно тянулись к так называемому «Распятию Микеланджело», — правительство Италии 20 ноября 2008 года приобрело этот спорный шедевр, заплатив свыше трёх миллионов евро, и изваяние стало государственной собственностью. На окончательное решение высокопоставленных правительственных чиновников повлияло возобладавшее среди искусствоведов мнение, что «если это не Микеланджело, то Распятие сотворил сам Господь Бог».31 Против такого категоричного мнения ни у кого не хватило смелости выступить.
Последнее время в Италии участились подобные казусы с творениями великих мастеров. То вдруг находятся доселе неизвестная картина и рисунки Караваджо, то подвергается сомнению подлинность картины Рафаэля в одном из знаменитых флорентийских музеев, как это произошло в мае 2010 года с известной его картиной «Видение Иезекииля». Причина таких «открытий» часто кроется в сугубо коммерческих интересах, которые то и дело оборачиваются очередной сенсацией.
* * *
Радуясь успеху сына, мессер Лодовико смирился с его жизненным выбором. Видя его только по утрам, так как тот допоздна пропадал в мастерской, он стал проявлять непривычную заботу о его здоровье, памятуя о словах брата Франческо, что Микеланджело для всего семейства Буонарроти — это курица, несущая золотые яйца, о которой надо заботиться, всячески оберегать и холить. На деньги сына практичный отец прикупил землю в Сеттиньяно и значительно расширил родовое имение, куда направил трудиться остальных сыновей-лоботрясов. Со временем поместье стало приносить немалый доход.
Работая поблизости от кафедрального собора, Микеланджело старался не пропускать проповеди Савонаролы, который в Сан Марко появлялся только на ночлег, окончательно закрепившись в Санта Мария дель Фьоре, где собирал на свои проповеди тысячные толпы. Микеланджело не раз видел, как в соборе рядом с ним оказывались некоторые члены «платонической семьи», что не вызывало у него особого удивления. После кончины Лоренцо Великолепного и пережитого потрясения Полициано и Пико делла Мирандола наряду со многими интеллектуалами отказались от своих прежних убеждений, окончательно подпав под влияние нового властителя дум, чья власть над Флоренцией крепла с каждым днём, пока новый правитель предавался развлечениям и бездумно растрачивал отцовские богатства на пиры, карнавалы и пополнение своей конюшни дорогими породистыми скакунами.
Однажды в доме Буонарроти появился нарочный с предписанием Микеланджело срочно явиться во дворец для важного разговора.
— Наконец-то Медичи вспомнили о тебе! — радостно воскликнул мессер Лодовико, которого стал тяготить неприкаянный вид сына, вечно склонённого над непонятно кому нужными рисунками.
Микеланджело, словно ждавший этого зова, побежал к себе наверх переодеться.
— Не забывай только, — напутствовал его отец, — что ты Буонарроти!
Его встретил как старого знакомого стоящий в зале у окна Пьеро Медичи, любовавшийся видом двора, засыпанного снегом. В тот год зима выдалась суровая и снежная, от сверкающего на солнце белого покрова слепило глаза.
— Ты совсем нас забыл, гордец, — шутливо приветствовал правитель вошедшего Микеланджело. — Заждалась тебя и твоя комната. Там скучают в шкафу оставленные тобой камзол и плащ, подарок покойного родителя.
Он подвёл его к окну
— Ты только взгляни, какая красота! Постарайся вылепить нам из снега Геракла. Пусть не один только зазнавшийся Строцци любуется твоим изваянием в мраморе. Потешь нас своим новым творением, но на сей раз снежным.
Микеланджело не стал возражать, заранее зная, что это бесполезно. Но столь неожиданный и непривычный заказ поразил его заведомой глупостью. Не раздумывая, он вышел во двор и, взяв в подмогу двух крепких парней из дворцовой обслуги, приступил к делу. Снег был подмокший, липкий и оказался превосходным материалом для лепки.
Вскоре во дворе стала расти прямо на глазах фигура снежного героя. За работой Микеланджело с любопытством наблюдали придворные, облепившие окна дворца. Когда снеговик был почти готов и его украсила кудлатая голова, из окон послышались крики одобрения «браво!». Разозлившись ещё больше, Микеланджело в отместку придал с помощью мастерка голове статуи черты сумасбродного заказчика, что вызвало ещё больший восторг придворных, принявших издёвку за лесть.
По команде юркого фактотума Довици оркестр сыграл туш, и все направились к накрытым по такому поводу столам. Шумное застолье продолжалось до ночи, и Микеланджело пришлось выслушать немало восторженных слов, а его снеговик как сказочное видение гордо возвышался во дворе на ночном холоде, освещённый горящими факелами. В разгар пьяного кутежа супруга хозяина дворца Альфонсина пожелала быть изображённой во весь рост рядом со снежным Гераклом. Но исполнению каприза взбалмошной заказчицы помешала природа. Уже с утра яркое солнце стало по-летнему припекать, и статуя начала таять — к закату от неё осталась только лужа. Вместе с нею растаяли и надежды Микеланджело заполучить от Медичи хоть какой-нибудь стоящий заказ.
Покамест он решил остаться во дворце, где, как заявил правитель, его заждалась выделенная ему комната. Он не хотел своим возвращением расстраивать отца, который возлагал на его приглашение к Медичи большие надежды. Живя при дворе, Микеланджело воочию видел ту пропасть, что отделяла великого Лоренцо Великолепного от его старшего отпрыска. Вместо бесед о философии, литературе и искусстве во время нынешних застолий разговор шёл в основном о светских развлечениях и сплетнях. Новый хозяин дворца был высок и красив, унаследовав от матери-римлянки из рода Орсини вместе со статью грубость и надменность. Будучи учеником замечательного наставника Полициано, он знал греческий и латынь, обучался музыке, но от отца ему не передались ни любовь к прекрасному, ни мудрость, ни обаяние.
Микеланджело услышал случайно, как в разговоре с друзьями Пьеро похвалялся, что в его доме живут великий мастер, способный из снега сотворить чудо, и конюх, который в беге не уступит любому скакуну. Такое сравнение его покоробило, и он еле сдержался, чтобы не высказать хозяину дворца всё, что о нём думает. Если Лоренцо Великолепный сравнивал его с Фичино и Донателло, то Пьеро уравнял творца с обычным конюхом. Такова была разница между великим отцом и посредственным сыном.
Не преуспел Пьеро Медичи и на государственном поприще. Как правитель он не сумел завоевать доверие народных масс, хотя к этому и не стремился, считая народ быдлом. В политике он явно уступал Савонароле, который всё больше становился народным предводителем, и люди шли за ним, видя в нём не только страстного проповедника, осуждающего чрезмерную роскошь и разврат, но и защитника своих кровных интересов.
Как-то Микеланджело навестил во дворце любимый брат Буонаррото, посланный отцом, который был обеспокоен здоровьем сына, не подающим о себе весточки.
— Передай родителю, — сказал он брату, — что скоро я вернусь домой, так как делать здесь мне больше нечего.
Чтобы окончательно успокоить отца, Микеланджело передал с братом немного флоринов, зная, что для родителя это будет самой приятной весточкой от него.
Как-то поутру к Микеланджело постучался музыкант Кардьере. Он был страшно взволнован и, извинившись за столь ранний визит, поведал о странном сне. Ночью ему явился Лоренцо в рубище, попросивший передать сыну Пьеро, что дни его сочтены и он скоро будет изгнан из Флоренции.
— Теперь не знаю, как мне поступить, — закончил он свой сбивчивый рассказ.
Видя его взволнованное лицо и трясущиеся руки, Микеланджело посоветовал ему успокоиться и забыть про сон. Прошла неделя, и музыкант снова предстал перед ним ещё более подавленным и смущённым. Оказывается, Лоренцо вновь явился ему во сне и за ослушание, что тот не выполнил поручение, наградил его пощёчиной.
По совету Микеланджело бедняга Кардьере отправился в Кареджи, где Пьеро любил пировать с куртизанками подальше от глаз ревнивой супруги, чтобы передать ему услышанное во сне. Как потом рассказывал сам Кардьере, на полпути туда ему повстречалась шумная кавалькада — Пьеро с друзьями возвращался домой во Флоренцию. Кардьере бросился на колени перед ним, умоляя выслушать его, и передал слова покойного Лоренцо. Пьеро принял его за помешанного и, хлестнув плёткой коня, поскакал дальше, обдав беднягу дорожной пылью. Его секретарь Довици, рассмеявшись, сказал опечаленному музыканту:
— Ну и глуп же ты, братец! Неужели ты думаешь, что Великолепный тебя любит больше, чем собственного сына? Ему он скорее бы сказал то, о чём ты по своей дурости всюду болтаешь языком.
Эта история произвела сильное впечатление на Микеланджело, заставив задуматься о положении дел во Флоренции, где почва с каждым днём все больше уходила из-под ног нового правителя. Множились передаваемые из уст в уста самые невероятные слухи и предсказания астрологов, ворожей и шарлатанов, коих развелось неимоверное количество. В городе на каждом углу не утихали разговоры о грядущих бедствиях. Несусветная летняя жара ещё сильнее накалила паническую обстановку. Прискакавший во дворец посыльный передал Микеланджело просьбу Полициано срочно приехать к нему. Почуяв неладное, он помчался к загородному дому поэта, где бывал не раз.
Полициано трудно было узнать, настолько его изменила болезнь. Он был облачён в рясу доминиканского монаха — как пояснила приставленная к больному сиделка, поэт ещё до болезни принял монашество.
Узнав склонившегося над ним Микеланджело, Полициано тихо молвил:
— Прошу лишь об одном — похоронить меня в монастыре Сан Марко.
Слушая его бессвязную речь, Микеланджело с трудом сдерживал слёзы. Этот добрейшей души человек и замечательный поэт много для него значил. Последняя воля Полициано была свято исполнена друзьями. Поскольку у него не осталось родных и близких, его имение и богатейшая библиотека отошли тому же доминиканскому монастырю Сан Марко, где Полициано обрёл последнее упокоение.
Беда одна не ходит: вскоре безвременно скончался Доменико Гирландайо, заразившийся чумой во время рабочей поездки по Тоскане, где от неимоверной жары в некоторых городах вспыхнула смертоносная эпидемия, косившая всех подряд. Это была невосполнимая утрата для итальянского искусства. Ушёл из жизни великий летописец истории и культуры Флоренции, сумевший, как никто другой, запечатлеть на фресках её быт и нравы, а для Микеланджело — первый учитель, поверивший в его редкое дарование.
Трагическим выдалось лето 1494 года для Микеланджело, потерявшего близких друзей и лишившегося своего главного покровителя. Он метался, не находя себе покоя и, самое главное, не зная, чем заняться, что было для него невыносимо. Дома он постоянно ощущал на себе взгляд отца, словно вопрошающий: «Что ты собираешься делать дальше?», — и слушал его набившие оскомину советы, кому кланяться и у кого искать милости.
Не унимался и Савонарола, нагнетая напряжение. Недавно он поведал собравшимся в соборе прихожанам о явившемся ему видении руки, начертавшей в небе огненную надпись: «Меч Божий над землёй стремителен и скор». Среди собравшихся прихожан поднялся тревожный ропот.
— Нам не дано знать час и минуту конца, — возвестил проповедник и закончил речь на надрыве: — Но грядёт расплата, а потому молитесь, грешники, и кайтесь!
Сбылось ещё одно из мрачных пророчеств Савонаролы о чужеземном нашествии — он словно в воду глядел. Воспользовавшись постоянной враждой между итальянскими княжествами, молодой французский король Карл VIII во главе двадцатитысячного войска пересёк Альпы в начале сентября и, обойдя стороной сильное Миланское княжество, двинулся на завоевание Неаполя, чтобы вернуть себе анжуйское наследство, оспариваемое Испанией и Францией. Заодно он оповестил мир о своём намерении из Неаполя направиться морем до Палестины и освободить Святую землю от неверных, чтобы завершить великое дело, начатое крестоносцами.
Первой пала Генуя, не выдержав осады превосходящих сил противника. Подвергнув разграблению прибрежный город Рапалло, французы захватили Пьяченцу, откуда король двинул ударный отряд под командованием генерала д’Обиньи вдоль побережья Адриатики, а сам во главе остального войска направился по дороге, огибающей западные склоны Апеннинского хребта. На захваченных землях французские мародёры бесчинствовали и творили произвол. По циничному признанию одного из высокопоставленных участников похода, «наши не считали итальянцев за людей»,32 а потому вели себя как хозяева на чужой территории. Жители городов и деревень в ужасе покидали свои дома, спасаясь бегством от распоясавшейся французской солдатни.
Ступив на землю Тосканы, Карл VIII получил свободный проход от строптивой Пизы, вечно враждовавшей с Флоренцией и встретившей французов как союзников в борьбе против Медичи. Но далее неприятельское войско неожиданно натолкнулось на цепь оборонительных крепостей вдоль Арно, возведённых в своё время предусмотрительным Лоренцо Великолепным. Под огнём вражеской артиллерии пала крепость Сардзана, и путь на Флоренцию был открыт. Приближение неприятеля вызвало в городе ещё большие беспорядки и заставило покинуть родину многих флорентийцев, среди которых оказался и наш герой.
Глава Х ПАНИЧЕСКОЕ БЕГСТВО
Моя свобода, как служанка злая,
Вновь отвернулась. Мною движет страх.
Ужель рождён я, чтобы жить впотьмах? (32)
Три всадника, пришпоривая коней, неслись в неизвестность, не смея оглянуться назад, словно за ними гнались злые духи. Оставив позади Флоренцию, они вынуждены были умерить прыть и с опаской пробираться крадучись через горные перевалы, чтобы не угодить в лапы рыскающих всюду разбойников, и объезжать выставленные на дорогах сторожевые посты французов, тоже промышлявших грабежами.
После изнурительного пути в объезд Болоньи и с трудом переправившись через полноводные реки По, Адидасе и Бренту, беглецы наконец добрались до Венеции. «Царица Адриатики» принимала тогда без разбора всех, кто, спасаясь от преследования, нуждался в убежище. Инакомыслящие, еретики различных мастей, беженцы с захваченных турками земель — все находили приют в венецианской лагуне, пополняя разноголосицу богатого торгового города. К вторжению французов и к набиравшим силу туркам Венеция оставалась безучастной и на призывы соседей к объединению сил перед угрозой всему христианскому миру цинично отвечала: «Мы прежде всего венецианцы, а затем уж христиане». Она целиком полагалась на собственную армию и мощный флот.
Микеланджело впервые увидел море и сказочный город, всплывший из морской пучины, как тритон. Его поразили дворцы с ажурными фасадами из мрамора, а среди этого великолепия — белокаменная громада Дворца дожей, опирающегося на колонны как на сваи. Но куда больше его заинтересовал примыкающий к дворцу многокупольный собор Святого Марка. Особенно поразила мозаика с её золотистым мерцанием. Мощный портик собора украшен античной квадригой, привезённой дожем Дандоло в 1204 году после разграбления крестоносцами Константинополя. Только в Венеции можно увидеть, чтобы фасад храма украшали морды взнузданных лошадей, отлитых в бронзе в древней Элладе. При виде этой скачущей квадриги в будущее Микеланджело почувствовал, как на него пахнуло языческим духом древней цивилизации, не утратившей воздействия на потомков.
Как же этот город непохож на Флоренцию! Крепостей и сторожевых башен здесь нет и в помине. Всё, кажется, создано для того, чтобы люди спокойно жили и честно трудились. Но под сваями домов и набережных зловеще плещутся волны. Кинжал — привычное оружие для сведения счётов, о котором молчат воды лагуны, уносящие в открытое море следы кровавой расправы.
Немало былей и небылиц рассказывают здесь. Только вот венецианскую речь не сразу поймёшь — у мужчин сплошь грубые, словно простуженные, гортанные голоса, а у женщин нежное птичье щебетанье. Почти все венецианцы не выговаривают, как бы съедая, звук «эр», что, по-видимому, объясняется влажностью лагунного воздуха. В отличие от резкого флорентийского говора в их речи слышна кантиленная распевность, словно плавное скольжение гондол по Большому каналу.
Перед Микеланджело предстал мир едва уловимых нежных цветовых переходов и перламутровых переливов. Город часто окутывают туманы, поглощающие на время все его дивные формы. Но с первыми лучами солнца Венеция как призрак, сбросивший подвенечную фату или белый саван, вновь выплывает из туманной дымки во всём своём неповторимом великолепии. Кроме собора Сан Марко, Микеланджело не заглянул ни в одну из церквей, хотя хорошо был осведомлён о венецианской школе живописи. Подавленное состояние сделало его слепым и глухим к восприятию красоты, и он чувствовал себя в полной отрешённости от окружающего мира.
Слоняясь бесцельно по лабиринту узких улочек, пересекаемых каналами и мостами, Микеланджело находился в некой прострации, не понимая, где он и почему здесь оказался. Однажды ему послышалось, как из проплывающей мимо гондолы с весёлой поющей компанией под звуки мандолины раздался серебристый смех Контессины. Он бросился вслед по набережной, но гондола скрылась за поворотом как призрачное видение. Этот смех словно наваждение ещё долго звучал в ушах, бередя душу.
Его не покидало странное ощущение, что всё здесь перевёрнуто с ног на голову. Опрокинутое небо плещется в водах бесчисленных каналов, а в зеркале из вод город безмятежно любуется собственным отражением. Море и небо, слившись воедино, готовы задушить любого, оказавшегося в их цепких объятиях. Он не чувствовал под собой тверди, и вся окружающая красота казалась ему зыбкой, как наваждение.
Два его спутника оказались обычными шалопаями, которых занимали только еда и женщины. Любители злачных мест, они быстро нашли квартал красных фонарей, где проматывали последние деньги. Светловолосые полногрудые девицы принимали там всех без разбора, но в кредит не обслуживали, как в трактире. После ночного загула оба оболтуса обычно напевали весёлую песенку с припевом:
Узкая улочка Сан Самуэль, Ты нам мила, как весёлый бордель.Теперь два бездельника без гроша в кармане оказались на его шее. Однажды за полночь его разбудил один из них.
— Микеланьоло, будь другом, выручай! Я до мерзавки даже пальцем не дотронулся, а она…
Оказывается, этот любитель борделей зашёл, чтобы только послушать музыку. Но с него потребовали заплатить два сольдо, иначе пригрозили выпустить кишки. Пришлось раскошелиться и спасать дурака.
Скоро праздное безделье в Венеции вконец наскучило Микеланджело. Он жестоко корил себя за бегство, малодушие и трусость. Поняв окончательно бесцельность дальнейшего пребывания в Венеции, где у него не было никого, кто смог бы замолвить за него словечко и свести с заказчиком, он покинул лагуну с одним только желанием вернуться поскорее во Флоренцию. С ним отправились в обратный путь и два попутчика. Снова был небезопасный переход через горные перевалы, хотя теперь встреча с разбойниками ничем не грозила, так как их карманы были пусты. На горизонте показались крепостные башни Болоньи, некоторые были кривыми, наподобие падающей Пизанской колокольни.
Незаметно прошмыгнув через таможенный пост, они решили после дороги перекусить. «Жирная» Болонья, как её называл ещё Петрарка, возникла на месте бывшей столицы этрусков Фельсины и славилась своим хлебосольством. Когда половой, приняв заказ, удалился на кухню, в трактир нагрянули стражи порядка. Приглядевшись к сотрапезникам, они обнаружили, что у трёх чужестранцев на ногте большого пальца отсутствовала сургучная печать, проставляемая всем приезжим после уплаты пошлины на таможне. Этот порядок для пополнения казны был заведён местным тираном Бентиволья. Так, несолоно хлебавши нарушители закона под конвоем были препровождены в ближайшую тюрьму.
К счастью, в тюремной канцелярии объявился обходительный синьор Джан Франческо Альдовранди, член Совета шестнадцати, в чьи обязанности входило осуществление контроля за работой пенитенциарных заведений. Он быстро уладил вопрос с таможенной пошлиной и предложил путникам отдохнуть с дороги в его доме. Напуганный арестом Микеланджело с радостью принял приглашение болонца, а его товарищи, которым он отдал последнюю мелочь, проследовали дальше.
Особняк Альдовранди в центре Болоньи — это, конечно, не дворец Медичи, но вполне достойный дом с цветущим садом, где гостю была выделена удобная комната для жилья. Великодушный жест местного вельможи не был столь уж бескорыстным. Во время процедуры дознания синьор Альдовранди услышал, как, отвечая на вопросы начальника тюрьмы, Микеланджело сообщил, что он скульптор и работал на покойного Лоренцо Великолепного и что среди его друзей есть известные литераторы из Платоновской академии. Этого было достаточно, чтобы ценитель искусства и изящной словесности Альдовранди принял живейшее участие в судьбе оказавшегося в трудном положении молодого человека и заполучил почти даром «столичную штучку» для украшения своего салона, где собиралась местная элита.
Вскоре, придя в себя, Микеланджело понял, что оказался приманкой для салона Альдовранди, что в какой-то мере ему льстило. Уже при первом его появлении перед гостями хозяин дома завёл с ним разговор о Данте и о том, как он завидует семейству Маласпина из Луниджаны, приютившему в 1306 году великого скитальца, изгнанного родной Флоренцией, о чём говорится в Восьмой песне «Чистилища». Забегая вперёд можно с полным правом утверждать, что Альдовранди незачем было завидовать Маласпина. Его имя тоже вошло в историю лишь потому, что в трудную минуту он оказал гостеприимство гению и выхлопотал для него важный заказ.
Но Микеланджело пришёлся не по нутру выпад против родного города, и он, вступив в спор с хозяином дома, прочёл по памяти несколько терцин, посвящённых Данте родной Флоренции, где поэт впервые повстречал Беатриче. В его голосе звучала искренность, а глаза горели таким огнём, что присутствующие наградили юного флорентийца бурными аплодисментами.
Прошедший вечер вызвал немало восторженных откликов среди местной знати и интеллектуалов. Посыпались приглашения из других знатных домов, где Микеланджело тоже оказывался в центре внимания, особенно у представительниц слабого пола, несмотря на свою неказистую внешность.
— Попрошу вас, Буонарроти, только об одном, — обратился к нему Альдовранди после очередного светского раута. — Снимите, пожалуйста, кожаную куртку, пугающую людей. Мой портной сшил для вас камзол, который вы найдёте в вашей комнате, как и всё остальное.
«Сдалась ему моя куртка», — недовольно подумал про себя Микеланджело, но всё же внял просьбе хозяина дома. Гостю пришлось заодно подставить голову под ловкие руки присланного хозяином домашнего цирюльника, который быстро привёл в порядок его непослушную гриву. Сидя в кресле брадобрея и видя, как преображается его облик, Микеланджело подумал, что было бы неплохо вот так же приводить людям в порядок мозги, очищая их от порочных мыслей.
Вскоре у любителя словесности Альдовранди, гордившегося своим необыкновенным гостем, стало входить в привычку открывать томик Данте на любой странице и просить юного гостя продолжить по памяти чтение стихов вслух, что всегда вызывало восхищение слушателей. Микеланджело делал это с большим удовольствием, так как на чужбине особенно остро чувствовал в Данте родственную душу.
На первых порах эта светская игра забавляла молодого флорентийца. К тому времени он выучил «Божественную комедию» наизусть, разбираясь в сложностях её структуры и в иерархии множества персонажей. Знанием тонкостей и особенностей великого творения Данте он прежде всего был обязан друзьям из Платоновской академии, которые приняли его когда-то как ровню в свой круг, оценив любознательность и независимость суждений талантливого юнца.
Гостей Альдовранди его молодой постоялец поражал своей феноменальной памятью и проникновенным прочтением дантовых терцин. Переполненный впечатлениями первых дней пребывания в Болонье и неожиданным успехом, особенно у дам и девиц, требовавших у него автограф в свои альбомы, Микеланджело всё чаще стал обращаться к своей заветной тетради, а свободного времени у него было хоть отбавляй. Обходительный хозяин дома тянул время, отделываясь общими словами и обещаниями скорого заказа.
Однажды в его доме объявился молодой племянник Марко Альдовранди с очаровательной подружкой, которая представилась Микеланджело странным именем или прозвищем Бруна — «темнокудрая». Ему сразу понравились милое личико девушки, её точёная фигурка и подкупающая простота поведения.
— Неужто ты и впрямь скульптор? — удивилась она при первом же знакомстве. — Тогда вылепи мой бюст или хотя бы нарисуй.
— Попробуй, Буонарроти, — поддержал её ухажёр. — Мы за ценой не постоим.
Поморщившись от такой бравады, Микеланджело отрезал:
— Не бросайся деньгами, любезнейший, они тебе ещё пригодятся.
А девушке, ожидавшей его ответа, спокойно сказал:
— Природа прекрасно поработала, сотворив тебя. Поверь мне как знатоку — любой повтор будет намного хуже оригинала.
Он был искренен в своём ответе. У него рука не поднялась бы, чтобы поспорить с природой или улучшить её дивное творение. Ему было приятно проводить время с милой Бруной, слушая её милое щебетание, пока ухажёр просиживал часами за карточным столом или же, хватив лишку, засыпал в кресле.
Однажды прекрасным солнечным утром, когда Марко Альдовранди уехал с дружками на охоту, она предложила прокатиться вместе за город и подышать свежим воздухом на берегу тенистого Рено.
Было жарко, и Бруна предложила искупаться. Он отказался, не смея признаться, что с детства не любил воду и не умел плавать. Махнув досадливо рукой, она быстро разделась и вошла в воду. Его ослепили то ли блики солнца от воды, то ли её восхитительная нагота. Ему впервые пришлось увидеть так близко вызывающе притягательное женское обнажённое тело. В нём было что-то порочное и соблазнительное. Почувствовав внутреннюю неловкость, он отвернулся, а милая хохотушка продолжала весело плескаться в воде, стараясь его обрызгать. От охватившего его непонятного зуда в теле он перевернулся на живот, чтобы унять волнение, украдкой бросая взоры на расшалившуюся не на шутку наяду-соблазнительницу, которая то и дело выскакивала из воды, дразня его наготой.
Эта романтическая поездка, принесшая обоим много счастливых минут, осталась в тайне. Но однажды девушка заявила, зайдя вечером к нему в комнату:
— Если позовёшь, пойду за тобой хоть на край света!
Он смутился, не зная, что ей ответить, и отделался шуткой, сказав, что она, мол, перегрелась на солнце и ей нужен холодный душ. А что он мог ещё сказать, оказавшись в чужом городе без денег и без работы?
— Ничего-то ты не понял, а ещё скульптор! — в сердцах бросила она и выскочила из комнаты.
Почуяв неладное, племянник Альдовранди увёз вскоре свою пассию от греха подальше — уж больно заметен стал её растущий интерес к флорентийцу. На том и закончилась, так по существу и не начавшись, болонская амурная страница в жизни гения.
Микеланджело корил себя за проявленную слабость и за то, что вскружил доверчивой Бруне голову, сам того не желая, когда от безделья затеял с ней нелепую любовную игру. Видимо, вспомнив флорентийского брадобрея острослова Буркьелло, он разразился шутливыми стансами, в которых ирония соседствует с вполне искренними чувствами, которые вызвала в нём очаровательная девушка:
Едва завижу милые черты, Моя душа от счастья петь готова. Но если вдруг о чём-то спросишь ты, Я весь дрожу от сладостного зова И нахожусь во власти немоты. Язык не в силах вымолвить ни слова. Стою окаменев, как истукан, Кружится голова — в глазах туман. Готов я воспарить над облаками, Когда касаюсь до тебя слегка. Как жаль, что я не наделён крылами, Чтоб обозреть земное свысока. Мне трудно мысли выразить словами, Хоть страсть снедающая велика. В ком полыхают истинные чувства, Тому в речах недостаёт искусства. Нередко думаю о прежних днях, Когда я жил на свете одиноко. Никто не ведал о моих страстях, И не парил душой я так высоко. Да разве помышлял я о стихах, Чтоб слова волшебство постичь глубоко? Обрёл себе я место в жизни сам — Известен ныне не одним камням. Твой бесподобный образ во плоти, Проникнув в душу, ослепил мне очи, И нет ему обратного пути! Так мячик надувают что есть мочи, А клапан воздуху не даст уйти. В игре на выдумку мы все охочи. Как посланный ударом ловким мяч, И я от радости пускаюсь вскачь… (54)Неоконченные стансы он упрятал подальше в дорожный баул, ибо давно зарёкся показывать стихи знакомым. Иное дело — покойный старина Полициано, сумевший подсказать ему верный путь избавления от зависимости и выработки собственного стиля. Совет Полициано глубоко запал ему в душу, да и мысли о Данте не оставляли в покое. Он увидел сходство своей участи с судьбой великого поэта, ставшего жертвой борьбы между гвельфами и гибеллинами. Вот и ему пришлось бежать из Флоренции из-за ожесточившейся борьбы между сторонниками и противниками Савонаролы.
После каждого литературного вечера он делал на память для хозяина дома несколько рисунков, иллюстрирующих тот или иной прочитанный эпизод из «Божественной комедии». Они приводили Альдовранди в восхищение. Как и великий поэт, Микеланджело оказался на чужбине, где многое было непривычно ему, и вынужден потворствовать прихотям власть имущих.
Но однажды он не выдержал, когда в ходе очередного раута, устроенного Альдовранди, местные умники принялись рассуждать о Данте, укоряя его в излишне суровом осуждении своих политических противников, что противоречит христианской морали. Такого Микеланджело стерпеть не мог. Его словно кто-то подтолкнул, и он, сдерживая охватившее его волнение, вмешался в общий разговор.
— Мы не должны забывать, — сказал он, обращаясь к участникам диспута, — что Данте был также великим гражданином, болевшим душою за Италию, погрязшую в междоусобных распрях. К сожалению, такой мы её видим и сегодня.
Светская жизнь стала докучать ему, и однажды Микеланджело прямо дал понять своему благодетелю, что остался в Болонье вовсе не для потехи его гостей, а с желанием поработать. Но всякий раз, когда он порывался вернуться домой, Альдовранди тут же принимался стращать его вестями одна хлеще другой, приходившими из Флоренции.
* * *
После падения крепости Сардзана обеспокоенный Пьеро Медичи помчался в ставку французского короля, чтобы вступить с ним в открытый торг, пообещав в обмен на сохранение своей власти открыть французам свободный проход через Тоскану на Рим. Увидев трясущиеся руки флорентийского правителя, Карл VIII выдвинул свои условия: сдача всех оборонительных крепостей и выплата контрибуции в размере 200 тысяч флоринов, иначе город будет отдан на разграбление наёмникам. Перепуганный Пьеро подписал навязанный пакт о капитуляции. Узнав о предательском сговоре за их спиной, флорентийцы, подстрекаемые Савонаролой, восстали все как один. На площади Синьории гонфалоньер зачитал указ об изгнании Медичи из города и объявлении их вне закона. Более того, за их головы новое правительство республики назначило крупный выкуп.
Пьеро Медичи тайно покинул город вместе с братом Джулиано и кузеном Джулио в сопровождении фактотума Довици. Опасаясь народного возмездия, беглецы укрылись на время в умбрийском городе-крепости Читта ди Кастелло. Другой их брат, кардинал Джованни Медичи, остался в Риме, где ему ничто не угрожало, а сестра Контессина после свадьбы отправилась с мужем в Венецию. Остальные Медичи успели срочно сменить родовую фамилию с помощью подкупленной нотариальной службы и стали впредь именоваться Пополани (от popolo — народ), что позволило им сохранить свои дома и загородные поместья от разграбления.
Обеспокоенный волнениями в городе, французский король ждал, чем закончатся беспорядки. В его ставку была направлена делегация во главе с почётным гражданином Пьеро Каппони, который, прежде чем вступить в переговоры, демонстративно порвал позорный пакт, подписанный низложенным Пьеро Медичи, заявив французскому королю:
— Пока вы трубите в ваши фанфары, мы ударим в наши колокола!
Эта фраза, ставшая исторической, вызвала в народе небывалый всплеск патриотических чувств, подъём духа и желание отстоять любой ценой республиканские свободы, несмотря на многотысячное вражеское войско у стен города. Перед лицом такого энтузиазма и стойкости флорентийцев король умерил аппетит, отказавшись от крепостей вдоль Арно и урезав вдвое затребованную контрибуцию.
Изгнав Медичи и получив полноту власти, члены Большого совета, где большинство составляли сторонники Савонаролы, дали согласие на прохождение французов через Тоскану на Рим. 7 ноября Карл VIII вступил во Флоренцию. Его головной отряд был встречен молчащей толпой с озлоблёнными лицами, стоявшей на обочине дороги, по которой двигался французский эскорт, а над городом раздавался заунывный гул набатного колокола, оповещавший обычно об обрушившемся на город несчастье.
Король со свитой остановился во дворце Медичи на пару дней, а войско проследовало дальше. Карл VIII не стал задерживаться в городе на пути к главной цели, недовольный столь недружелюбным приёмом флорентийцев, готовых по малейшему поводу ввязаться в драку. Но прежде чем покинуть признанную столицу искусства, французский король дал приказ своим эмиссарам приступить к конфискации всего, что плохо лежит, в счёт установленной контрибуции. Это коснулось и роскошного дворца Медичи, оставленного впопыхах сбежавшими хозяевами.
Перед походом в Италию Карл VIII затеял строительство новой королевской резиденции в Амбуазе. Во Францию потянулись первые обозы, доверху гружённые конфискованным добром, включая живопись, скульптуру, гобелены, мебель, ювелирные изделия — всё, чем славилась Италия. Это было началом не прекращавшегося в течение почти четырёх веков повального грабежа, в результате которого музеи и частные собрания Европы и Америки обогатились лучшими образцами итальянского изобразительного и прикладного искусства.
* * *
За всё время пребывания в Болонье Микеланджело не написал домой ни одного письма, так как пока порадовать домашних ему было нечем, а вдаваться в подробности своего неожиданного бегства не хотелось, хотя в душе он жестоко корил себя за малодушие. Страдая на чужбине, он всякий раз порывался вернуться домой, пусть даже с пустой мошной, но из-за эпидемии чумы повсюду были выставлены санитарные кордоны. Альдовранди тем временем продолжал кормить его обещаниями скорого заказа, как только обстановка немного прояснится.
Свою грусть и тоску по дому Микеланджело выразил в двух четверостишиях:
Коль вырвать древо из земли с корнями, Оно увянет — жизнь заглохнет в нём. А то, что было кроной и стволом, Истлеет и развеется ветрами. И сердце, вырвав из груди руками, Его убьём разлукой с очагом. Оно питаемо души огнём, Как дерево — земными родниками (26).Наконец Альдовранди внял желанию своего молодого гостя, и вскоре при его содействии попечительский совет доминиканского монастыря, в котором когда-то жил Савонарола, поручил Микеланджело завершить оформление раки святого Петрония в церкви Сан Доменико. Над сооружением надгробия в виде арки начал трудиться в XIII веке Никколо Пизано, а продолжил работу недавно скончавшийся скульптор, известный под именем мастер делл’Арка, уроженец Бари.
Согласно подписанному договору Микеланджело надлежало изваять три полуметровые фигуры святых Петрония, Прокла и коленопреклонённого ангела с канделябром в пару к уже имеющемуся ангелу работы мастера делл’Арка. После флорентийского Геракла в человеческий рост заказанные изваяния были восприняты Микеланджело как статуэтки, но такова была воля заказчика, а с ним не поспоришь.
На рабочем дворе остались куски добротного мрамора, заготовленные покойным мастером. Там же была и его бывшая мастерская с верстаком и аккуратно разложенным набором молотков, резцов, шпунтов, троянок, скальпелей и прочих инструментов для обработки камня. Её и занял Микеланджело, но найденные там же подготовительные рисунки его не заинтересовали, так как после осмотра часовни с ракой святого у него возникла своя идея.
Прежде чем взяться за исполнение заказа, он решил поближе познакомиться с работой местных мастеров. Ему не раз пришлось проделать путь от дома Альдовранди к церкви Сан Доменико мимо впечатляющей мрачной громады дворца Подеста, построенного Аристотелем Фиораванти перед его отъездом в 1470 году в Московию по приглашению царя Ивана III. В Первой Софийской летописи говорится, что на Пасху 1473 года русский посол Толбузин привёз в Москву архитектора Фиораванти, приступившего вскоре к строительству Успенского собора в Кремле.33
Как истинный флорентиец, воспитанный на лучших образцах зодчества родного города, Микеланджело был невысокого мнения о работах болонских архитекторов, казавшихся ему грубоватыми, как, впрочем, и кухня болонцев, к которой он никак не мог привыкнуть во дворце Альдовранди, отличавшемся чрезмерным хлебосольством. Зато самое сильное впечатление на него произвёл портал кафедрального собора Сан Петронио, украшенный рельефами из истрийского камня работы скульптора Якопо делла Кверча. Этому сиенскому мастеру, чьи работы он видел во Флоренции, удалось придать жизненную достоверность и одухотворённость ветхозаветным героям, едва проступающим на плоской поверхности. Фигуры грубоваты, но очень достоверны, движения их свободны и натуральны. Особенно хороша сцена, на которой изображён Адам, копающий землю, а рядом Ева, занятая пряжей; её ногу обхватили два пухлых нагих младенца. Убедительны изображения Каина и Авеля, старика Ноя с сыновьями. Все рельефы преисполнены внутренней динамики и отмечены глубиной чувств. Известно, что Якопо делла Кверча в 1400 году принял участие в конкурсе на создание бронзовых врат флорентийского Баптистерия. Уступив победу Гиберти, он уехал в Болонью, где изваял десять барельефов, до сих пор украшающих фасад собора.
Микеланджело провёл немало времени, копируя изваяния делла Кверча, который сумел на удивление органично соединить естественную пластику античности с трепетным изяществом поздней готики и новыми объёмно-пространственными решениями искусства Возрождения. Этот гармоничный сплав найдёт отражение в стилистике Микеланджело, а о болонских рисунках он вспомнит, когда приступит к росписи плафона Сикстинской капеллы в Риме.
На одном из вечеров в салоне Альдовранди его познакомили с живописцем Франческо Райболини по прозвищу Франча и его сыновьями Джакомо и Джулио, славными парнями, работающими в мастерской отца. Микеланджело немало узнал от них о нравах местной художественной среды, где не утихали склоки и любого пришлого мастера встречали с неприкрытой враждебностью.
— Местничество у нас сильно, — признал Франча. — Помню, какие поклёпы сыпались на голову бедняги делла Кверча, когда он взялся за оформление портала кафедрального собора, в каких только грехах его не обвиняли. А ведь он сотворил подлинное чудо!
Хотя Болонья по праву гордится своим первым в Европе знаменитым университетом, ей так и не удалось стать признанным центром искусства наподобие соседних Феррары или Мантуи, не говоря уж о Флоренции.
Вскоре Микеланджело испытал на себе враждебность местных собратьев по искусству, когда в мастерскую, где он обосновался, неожиданно нагрянули два типа, назвавшиеся скульпторами, чьи имена или прозвища он тут же выбросил из головы, ибо сам вид и бесцеремонность незнакомцев ему были глубоко неприятны.
— Ты чужестранец, а потому должен отказаться от заказа, — с угрозой заявил один из них. — Это наше дело, и мы собирались за него взяться сразу после смерти мастера делл’Арка.
— Прошло более полугода, как его не стало, но почему-то попечительский совет не поручил вам продолжить работу в церкви Сан Доменико, — спокойно ответил Микеланджело незваным гостям.
— А всё потому, что твою кандидатуру выдвинул член Совета шестнадцати Альдовранди!
— Так чего же вы хотите от меня? Сами выясняйте причину вашего провала, — сухо отрезал Микеланджело, дав понять наглецам, что разговор с ними закончен и отступать он не намерен.
— Мы ещё поглядим, чья взяла, — пообещали наглые посетители и, чертыхаясь, вынуждены были убраться восвояси. До Микеланджело ещё не раз доходили угрозы, и он постоянно ощущал враждебное отношение к себе со стороны местной художнической братии.
Он начал работу с ангела, держащего большой подсвечник. Его фигура отличается мощной пластикой, не имеющей ничего общего со своим визави, выполненным в стиле утончённой поздней готики. Моделью послужил симпатичный белобрысый церковный служка, который проявлял большой интерес к работе скульптора и терпеливо позировал.
Для образа святого Петрония он выбрал в качестве модели одного из завсегдатаев салона Альдовранди, отличавшегося сдержанностью и проникновенным взглядом. Святой изображён держащим в руках макет Болоньи, чьим небесным покровителем он считается. Его образ отличается одухотворённостью, а динамичные тени, создаваемые складками длинной тоги, создают ощущение величия и внутренней взволнованности. Третьей статуе молодого Прокла в лёгкой тунике выше колен и тяжёлом плаще, перекинутом через плечо, свойственны динамичность позы и пронзительность гневного взгляда. По всей видимости, в правой руке воинственный Прокл держал ныне утерянную стрелу.
В отличие от многих современных ему художников и скульпторов, включая его главного соперника Рафаэля, Микеланджело в юности не оставил ни одного автопортрета, считая этот жанр не оправданным ничем тщеславием. Правда, можно предположить, что в образе юного Прокла он изобразил себя с горящим взором, выражающим неповторимую неистовость своей натуры. Сама поза воинственного отрока показывает, что он готов в любую минуту ринуться в бой и постоять за себя, от кого бы ни исходила угроза — хотя бы от тех незваных гостей, что нагрянули недавно к нему в мастерскую.
По окончании работы в Сан Доменико, где были установлены три изваяния, пожаловал игумен монастыря, который долго рассматривал фигуры подслеповатыми глазами, проводя рукой по гладко отшлифованной поверхности мрамора. Он остался доволен увиденным и предложил скульптору готовиться к торжественному освящению арки в ближайший церковный праздник.
— Моё дело ваять, ваше преосвященство, — последовал ответ. — В вопросах ваших традиций я профан.
— Зато своим Проклом вам удалось точно отразить целеустремлённость и решимость нашего доминиканского ордена в борьбе за чистоту христианской веры, с чем вас и поздравляю! — заявил игумен.
Микеланджело никак не ожидал услышать такую оценку из уст высокопоставленного прелата. «А что сказал бы о скульптуре Савонарола, — подумал он, — увидев мою работу?» Для него было бы важно знать мнение возмутителя спокойствия родной Флоренции. Его самого законченная работа не слишком впечатляла, и он лелеял мысль о скорейшем возвращении домой, откуда не было никаких вестей.
Получив по контракту гонорар, он почувствовал себя свободным от обязательств. Самое время покинуть наскучившую Болонью, поскольку здесь не было больше никакой перспективы и на каждом шагу приходилось сталкиваться с нескрываемой враждебностью завистливой и злобной местной камарильи.
Прошёл почти год, который, как ему казалось, был попусту потерянным временем. Его друг и покровитель Альдовранди прилагал немало усилий, чтобы удержать юношу, к которому привязался всей душой. Придя попрощаться с добрым игуменом, Микеланджело узнал от него скорбную весть о безвременной кончине 17 ноября 1494 года «славного нашего брата», как выразился монах, Джованни Пико делла Мирандола. Он рассказал, что на гражданской панихиде и отпевании в Сан Марко присутствовали приор Тосканской конгрегации доминиканского ордена Савонарола и каноник Фичино, который неожиданно почувствовал себя настолько плохо, что не смог проводить друга в последний путь до Мирандолы, небольшого городка в Эмилии, где тело усопшего было захоронено в фамильном склепе.
Известие потрясло Микеланджело. Пока он был в бегах, свершилось непоправимое, и ему не удалось даже проститься с великим другом. «Возможно ли, что не стало Пико, — мысленно задавался он вопросом, — этого истинного гения, поражавшего всех своей эрудицией и не прожившего даже тридцати лет? Как могла смерть так беспощадно расправиться с тем, кого по праву звали Fenice degli ingegni — Фениксом гениев!
Весть широко обсуждалась в Болонье. Выражая сожаление в связи с безвременной кончиной Пико делла Мирандола, многие завсегдатаи салона Альдовранди сетовали тогда, что молодой учёный так легко поддался апокалиптическим предсказаниям неистового Савонаролы — именно это, как они полагали, свело его в могилу в расцвете лет. Подавленный случившимся Микеланджело не проронил ни слова. Как бесценную реликвию он хранил первое издание труда Пико «Речь о достоинстве человека» с дарственной надписью автора. Эта работа и другие произведения друга произвели в сознании Микеланджело подлинный переворот.
* * *
В те дни в Болонье объявился с небольшим отрядом сторонников Пьеро Медичи, готовый во что бы то ни стало вернуть утраченную власть над Флоренцией. По такому случаю Совет шестнадцати устроил приём в честь именитого гостя, на котором побывал и Микеланджело.
Выступивший на приёме Альдовранди обратился к Пьеро с вопросом:
— Не разумнее ли, ваша светлость, дождаться, когда флорентийцы сами вас призовут, как это произошло однажды без пролития крови после первого изгнания с вашим мудрым дедом Козимо Медичи?
— Я не столь терпелив и наивен, как мой дед, доверившийся чернокнижникам, далёким от жизни. Нутром чую, что флорентийцы ждут моего возвращения. Единственная загвоздка — безумец Савонарола и козни моих кузенов-предателей, которых я повешу на первом суку.
Как показали дальнейшие события, осторожные болонцы, испытывавшие сильное давление Римской курии, которая косо смотрела на вольнолюбивую Флоренцию, не решились ввязаться в распри и предпочли остаться в стороне, вежливо отказав в предоставлении военной помощи, что вызвало гнев низложенного правителя Флоренции. С тяжёлым сердцем покидая Болонью, он предложил своему бывшему подданному присоединиться к его отряду и доказать свою верность роду Медичи на поле брани.
— Хватит киснуть в провинциальной Болонье! Ты нужен мне для возведения стенобитных машин, чтобы изгнать из Флоренции нечисть и наказать бунтарей и послушное им быдло.
Микеланджело никак не ожидал такого предложения, прозвучавшего почти как приказ. Верный своим республиканским взглядам, он твёрдо ответил:
— Ваша светлость, я верой и правдой служил вашему славному родителю, но мои убеждения и вера не позволяют мне выступить с оружием против братьев флорентийцев.
— Ты ещё пожалеешь, что не пошёл за мной! — зло ответил ему Пьеро Медичи. — Забыл, кто тебя приютил и дал возможность проявить себя?
В его глазах было столько злобы, что Микеланджело долго не мог забыть этот взгляд, не суливший ему ничего хорошего. После отъезда Пьеро он тоже решил покинуть Болонью, где делать было нечего, хотя Альдовранди уговаривал его остаться.
Прежде чем уехать, он попросил бравых сыновей Франчи проводить его до городка Мирандола, которым семейство графов Пико владело свыше четырёх столетий, пока последний их отпрыск граф Джованни не отказался от всех феодальных владений, раздав их крестьянам, что вызвало изумление всей округи и породило разноречивые суждения. В местной церкви Сан Франческо, где обрёл упокоение незабвенный Пико, Микеланджело заказал поминальную службу. Возможно, в те скорбные дни им был написан сонет, посвящённый светлой памяти друга:
Ушёл властитель дум, моих мечтаний. Посрамлена природа на сей раз — Достоинствами был он выше нас, И потому мне не унять рыданий. Злодейству нет отныне оправданий. Напрасно смерть ликует в скорбный час — Всевышний праведную душу спас, Призвав к Себе, избавил от страданий. Хотя его натуры честной суть И добрых смелых мыслей злая сила Хотела б разом всё перечеркнуть, Чтоб имя славное молва чернила. Нам памятен проделанный им путь, И вечной славе не страшна могила (47).Преисполненный грустных мыслей, он распрощался с Болоньей и отправился во Флоренцию. Трясясь в почтовом дилижансе, он мысленно пересмотрел последние месяцы пребывания в этом месте, где хлебнул и плохого, и хорошего. Сам город показался бы ему серым и мрачным, если бы не яркие мгновения, оставившие у него добрые воспоминания, и новые друзья. Среди них была и та девушка, с которой у него так много осталось недосказанным — они так и не простились, и он мысленно добавил отношения с ней к цепи разлук, которая с годами становилась все длиннее.
Глава XI ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
В той лёгкости изменчивой сокрыт
Источник бед моих и огорчений (16).
Он вернулся в отчий дом в декабре 1495 года, под самое Рождество. После годичной разлуки встреча с родными была радостной и шумной.
— Да тебя просто не узнать! — дивились домашние, разглядывая его. — Усы и бородка тебе к лицу.
Как в былые времена, Микеланджело подошёл к столику у окна и первым делом выложил кожаный мешочек с деньгами, заработанными в Болонье, что глубоко тронуло отца.
— Рад, что на чужбине ты не забывал о семье, — сказал мессер Лодовико, пряча деньги в ящичек стола.
После изгнания Медичи он потерял место на таможне и выглядел поникшим и обескураженным.
— Новая власть не оценила мой честный труд, — грустно сказал он. — Пусть это останется на её совести.
Старший брат Лионардо по-прежнему не покидал монастырь Сан Марко, а остальные братья пока не нашли себе должного занятия и бездельничали, кроме меньшого Сиджисмондо, который совсем отбился от дома и жил у кого-то из дружков, таких же шалопаев, как он сам.
— Наш Сиджисмондо, — пояснил дядя Франческо, — дни напролёт пропадает с парнями и девчонками, возомнившими себя стражами христианской веры.
Вечером всё семейство Буонарроти во главе с мессером Лодовико побывало на рождественской мессе в Санта Мария дель Фьоре. Слушая праздничное пение хора мальчиков и кастратов, Микеланджело проникся чувством глубокой радости от сознания, что наконец он дома со своими родными и близкими. После службы к нему подходили с поздравлениями и добрыми пожеланиями друзья и знакомые, интересуясь его ближайшими планами.
Дома было разговенье рождественским куличом panettone и прочими вкусными яствами, загодя приготовленными Лукрецией. После блужданий на чужбине родные стены придали ему уверенность в своих силах и будущее рисовалось ему в радужном свете. Дня через два он встретился с другом Граначчи, который вернулся в мастерскую Гирландайо. Теперь её возглавляли братья Давид и Джованни, а рядом с ними набирался опыта смазливый подросток Ридольфо, сын покойного Доменико. Ему было тринадцать, как и Микеланджело, когда он поступил в мастерскую к его отцу. На прежнее место вернулся и добродушный Буджардини. Пришёл повидаться со старым другом и молчун Баччо да Монтелупо, у которого теперь была своя небольшая мастерская.
Встреча с друзьями была радушной, по такому случаю откупорили фьяску доброго кьянти. Микеланджело огляделся вокруг. Ничего здесь не изменилось — всё те же мольберты, верстаки, жаровня, наборы кистей, склянки с пигментами… Вот только на возвышении пустовал стол покойного мастера с призывом на стене: «Учитесь у матери-природы!»
Он вспомнил, как стремился всеми средствами попасть сюда, а через год с небольшим уже мечтал вырваться отсюда. Подойдя к одному из мольбертов, накрытому белой тряпицей, он спросил, что там. Граначчи сдёрнул покрывало.
— Эту вещицу я писал с натуры, — сказал он. — Мне хотелось здесь столкнуть две противоборствующие силы в тот злополучный ноябрьский день, когда во Флоренцию вступило войско французов.
Микеланджело похвалил друга и посоветовал с помощью световых контрастов усилить противостояние.
— Попробуй высветить правую сторону улицы Ларга, а левую оставь в тени. Вот тогда и получишь искомое противостояние.
Позже Граначчи внял совету друга, и картина сразу же преобразилась, а он лишний раз убедился, насколько Микеланджело превосходит всех, кто работает в мастерской Гирландайо.
— А помнишь, Микеланьоло, — весело вспомнил Давид, — как мы с тобой ввели в заблуждение моего брата? Я-то сразу смекнул, какой из двух рисунков был твой. Но мне захотелось тогда подшутить над Доменико. Что греха таить, уж больно он любил прихвастнуть своим намётанным глазом и умением безошибочно определять авторство любого рисунка.
— Но я тогда, как и бедняга Доменико, поверил в твою проделку, — признался Микеланджело. — Мне снизу не было видно, на какой рисунок ты, хитрец, указал пальцем.
— Мне не хотелось говорить тебе об этом, чтобы ты не очень-то задирал нос.
Еще Давид рассказал, как прошлым летом Доменико вместе с Майнарди отправился по делам в Вольтерру — там Гирландайо хотел повидать и запечатлеть сохранившиеся остатки этрусской культуры. От нестерпимой жары в округе вспыхнула чума, скосившая художника. Майнарди чудом остался жив, но заразил жену и теперь живёт бобылём неподалёку, ни с кем не общаясь.
Перебирая в памяти события из прошлого, когда жизнь била ключом и от заказчиков не было отбоя, братья Гирландайо с грустью поведали, что нынешняя Флоренция стала неузнаваемой. Куда ни глянь, всюду пасмурные лица. Город разделён на два враждующих лагеря. Сторонники Савонаролы за свои причитания и пение хором заунывных псалмов получили в народе прозвище piagnoni — «плаксы». Они устраивают массовые шествия с хоругвями, выкрикивая угрозы всем вероотступникам, чьи дома помечают углём или мелом подростки. Их целая армия, и ими, как пешками, играет свою игру Савонарола.
Покинув мастерскую, Микеланджело решил прогуляться с Граначчи по городу. По дороге близ рынка им повстречался Сандро Боттичелли, неспешно идущий с холщёвой сумкой через плечо. Старый холостяк жил один и сам себя обихаживал. Они с почтением его поприветствовали. Художник охотно остановился, чтобы отдышаться.
— Приходится самому ходить за провизией, — сказал он, словно извиняясь за поклажу.
— Это Микеланьоло, маэстро, бывший ученик Гирландайо.
— Хотя мы не были знакомы, — сказал Боттичелли, — но мне о вас рассказывал покойный Лоренцо. Царство ему небесное! Желаю вам успеха, молодые люди, а нас, стариков, в это неспокойное время только солнышко может порадовать.
Он проследовал дальше, а Микеланджело хотелось с ним поговорить, но вновь помешала природная робость, о чём впоследствии он горько сожалел.
Друзья вскоре оказались на площади Синьории, где Микеланджело бросилась в глаза новинка — перед дворцом была установлена Юдифь с отрубленной головой Олоферна, отлитая в бронзе Донателло. Он вспомнил, как впервые увидел её с отцом в детстве.
— Отныне это символ наших республиканских свобод, — пояснил Граначчи. — Так решил Большой совет, распорядившийся вынести скульптуру из дворца на площадь, чтобы всем она была видна.
— Сдаётся мне, — задумчиво сказал Микеланджело, рассматривая скульптуру, — что в этом символе сильно женское начало, которое вряд ли способно защитить республиканские свободы. Для символа нужен более сильный образ.
Большой совет как высший законодательный орган был учреждён Лоренцо Великолепным в 1480 году. Теперь он стал ареной постоянных баталий между «плаксами» и «бешеными». Стычки между ними шли с переменным успехом, что сказывалось на разгуле не утихающих в городе страстей.
«Вот она, неукротимая сила народного гнева, — подумал Микеланджело, рассматривая скульптуру Донателло. — Она способна рубить головы всем подряд. Как бы и мне не попасть под её горячую руку!»
Уже в первые дни по возвращении Микеланджело увидел, сколько бед может породить политическая нетерпимость вкупе с религиозным фанатизмом, подогреваемым Савонаролой. Дворец Медичи был дочиста разграблен, собранные там художественные ценности попали в руки французских мародёров и местных любителей прибрать чужое. Правда, Савонарола, надо воздать ему должное, не допустил разграбления богатейшей библиотеки Медичи, выкупив её с помощью полученного кредита и продажи ряда монастырских угодий. Теперь по его распоряжению ценнейшие манускрипты, инкунабулы и другие редкие издания разместились в надёжном месте — в обители Сан Марко.
Думал ли Микеланджело найти сады Сан Марко в столь ужасном состоянии! Только бесчувственные вандалы могли разбить вдребезги многие античные статуи, а остальные повалить на землю. Горько было видеть эту картину опустошения там, где прошли счастливые годы познания азов мастерства под руководством незабвенного Бертольдо.
Он не узнавал земляков-флорентийцев, в которых было генетически заложено чувство прекрасного, и они всегда гордились окружавшими их творениями прославленных мастеров. Но с ними произошло не поддающееся объяснению перерождение, словно в их души вселились злые демоны. Страшному разграблению подверглись многие дома ставленников Медичи. Если хозяевам не удавалось вовремя скрыться, их убивали на месте как врагов народа. Бесчинства и разнузданные страсти ещё не улеглись и кое-где давали о себе знать.
Отойти от грустных мыслей ему помог Граначчи.
— Узнав о твоём возвращении, — сказал он, — братья Пополани попросили меня познакомить их с тобой.
— Кто это такие?
— Разве ты не знаешь? Это кузены Лоренцо Великолепного, сменившие родовую фамилию, когда была объявлена охота на Медичи.
— К чему ты о них мне рассказываешь?
— Насколько мне известно, они хотели бы заказать тебе изваяние.
— Так бы и сказал. А как зовут заказчика и кто он, меня мало занимает.
Договорились завтра отправиться к Пополани. Фасад их Дворца был украшен новым гербом, которым был срочно заменён прежний медицейский с шарами. Хозяева радушно встретили их и провели в просторную гостиную.
Микеланджело поразило обилие прекрасных картин и изваяний, которые ещё недавно украшали дворец Медичи.
— Всё это куплено на аукционе, — поспешил пояснить младший из братьев, Лоренцо ди Пьерфранческо, заметив недоумение на его лице. — Наш долг был спасти семейные реликвии, чтоб они не попали в руки полуграмотных нуворишей. Кое-что мы спрятали в загородном родовом поместье Кастелло.
— Место надёжное, — поддержал его брат Джованни. — Там хранятся известные работы Боттичелли «Весна», «Рождение Венеры» и «Мадонна дель Маньификат».
Но подробности спасения картин не интересовали Микеланджело, и он попросил перейти к делу. Братья Пополани в один голос, перебивая друг друга, выразили желание, чтобы он изваял обетную фигуру мальчика Иоанна Крестителя. По их глубокому убеждению, этот святой спас их от неминуемой смерти в трагические дни расправы черни над Медичи.
В их рассказе было столько искренности и веры в свершившееся чудо, что он, не раздумывая, согласился взяться за этот заказ. Для работы над статуей в его распоряжение выделялась просторная крытая галерея с выходом в сад, а для проживания ему на время работы над заказом были отведены покои. Он вежливо отклонил приглашение переселиться к ним, памятуя о своём пребывании в другом дворце неподалёку, пустующем ныне с выбитыми стёклами после варварского разграбления. Там он ещё юнцом осознал двусмысленность своего положения нахлебника в чуждом ему мире богатства и тщеславия, в котором испокон веку сильны сословные предрассудки.
Большую часть выданного аванса Микеланджело вручил отцу, чтобы поднять его подавленное состояние духа, а оставшиеся деньги пошли на покупку каррарского мрамора. Но ему не давала покоя одна мысль. Почему оба заказчика столь упорно настаивают, что Иоанн — мальчик? Дома он ещё раз перечитал строки из Евангелия от Луки, посвящённые Предтече: «И тот стал обходить земли вдоль Иордана, призывая людей обратиться к Богу и в знак этого совершить омовение, чтобы получить прощение грехов». При чём же здесь мальчик? Ведь известно, что язычников и иудеев крестил в Иордане не отрок, а вполне взрослый муж, за которым шли несметные толпы страждущих приобщиться к божественной благодати. Даже сам Иисус сказал о нём: «Истинно говорю вам, нет никого во всём роде человеческом, кто был бы выше Иоанна».
Что бы ни говорилось в Писании, в искусстве, прежде всего в скульптуре, сложилась давняя традиция представлять Крестителя хрупким отроком. У Донателло мальчик Иоанн держит в руке большой крест, как бы предвосхищая земные муки Спасителя. Но Микеланджело, далеко смотрящему вперёд, не хотелось слепо следовать имеющимся образцам, лишь бы потрафить заказчику. Он решительно ломает укоренившуюся в эпоху Кватроченто традицию и даёт своё понимание образа Предтечи в полном соответствии с собственной натурой искателя и борца с догмами, что позже даст о себе знать с невероятной силой при создании легендарного «Давида».
То ли его рука стала более умелой и напористой, то ли купленный мрамор оказался на удивление податлив, но вскоре работа над скульптурой Иоанна Крестителя была завершена. По всей видимости, своей необычностью изваяние вызвало у заказчиков замешательство, ставшее причиной его установки не в церкви Сан Лоренцо, усыпальнице Медичи, а в нише каменной стены дворцового сада. На недоумённый вопрос Микеланджело заказчик смущённо признал:
— Вы должны понять, мой друг, что от деда, дружившего с Донателло, нам с братом Джованни с детства были привиты определённые вкусы. Вот почему этот Иоанн, как и стоящий во дворце Строцци ваш обнажённый Геракл, вызвал у нас оторопь.
Микеланджело ничего не ответил, но слова заказчика задели его за живое. Однако переубеждать или доказывать собственную правоту он счёл ниже своего достоинства, хотя, работая над скульптурой, лелеял мечту, что его юный Иоанн Креститель, преисполненный глубокой веры и стойкости, окажется в церкви Сан Лоренцо, фамильной усыпальнице Медичи, над украшением которой трудились великие Брунеллески, Верроккьо и Донателло, а также его наставник, незабвенный Бертольдо. Именно это его желание стало для него главным стимулом в работе над скульптурой. Он вспомнил, что в эту церковь его впервые привёл Лоренцо Великолепный, как бы дав ему понять, насколько дорого ему и свято это место. Микеланджело хотелось, чтобы и его работа, созданная на одном дыхании после углублённого прочтения Евангелия от Луки, оказалась в Сан Лоренцо.
Но его мечтам не суждено было осуществиться из-за трусости филистеров Пополани. Как же мелки и пугливы эти двоюродные братья, как им недостает величия и благородства Лоренцо Великолепного! О самой скульптуре, названной «Джованнино», можно судить только понаслышке, так как она бесследно исчезла и даже предварительный рисунок не сохранился. О ней мельком упоминает в «Жизнеописаниях» Вазари, который вряд ли мог её видеть. Было несколько сенсационных «открытий» утерянного «Джованнино», но ни одно не было подтверждено научной экспертизой. Например, много писалось о приписываемом Микеланджело юном Иоанне Крестителе из Берлинского музея. Однако исследователи относят появление этой скульптуры анонимного автора к середине XVI века. Так куда же подевался загадочный «Джованнино»? Вопрос до сих пор остаётся открытым.
* * *
Знакомство с семейством Пополани не только помогло Микеланджело упрочить материальную независимость, но и сподвигло на новое дело. Однажды за обедом у Пополани он познакомился с прибывшим из Рима торговцем произведениями искусства по имени Бальдассаре Миланези. Гость рассказал о повальном увлечении римской знати и высшего духовенства античностью — в Риме на каждом шагу из-под земли извлекаются поражающие красотой изваяния и фрагменты архитектурного декора.
— Даже за мелкие мраморные фрагменты помешавшиеся на античности колллекционеры готовы выложить кругленькую сумму, — поведал говорливый гость.
Его рассказ заинтересовал Микеланджело. В памяти тут же всплыло воспоминание о том, как в мастерской Гирландайо ему удавалось при помощи нехитрых манипуляций «состарить» гравюру или рисунок, вводя в заблуждение знатоков. А не попробовать ли самому изваять нечто необычное, чтобы привлечь внимание любителей античности? Чем чёрт не шутит, может и получится.
Неудивительно, что в качестве сюжета для нового изваяния им был выбран Купидон, которого часто изображали древние ваятели. С его стороны это был явный вызов тем истеричным сторонникам Савонаролы, что с пеной у рта выступали против пагубного влияния античного искусства на души верующих. Поэтому придётся действовать с особой осторожностью, чтобы не навлечь на себя гнев бесноватых защитников чистоты нравов.
Удачно купив небольшую глыбу мрамора, он взялся на свой страх и риск высекать юного Купидона или Амура, бога любви, соответствовавшего древнегреческому Эроту. Не зная пока, что из этой затеи получится, он на всякий случай заставил Купидона забыться сном на небольшом мраморном пьедестале. Ему вспомнилось, как старшие товарищи из «платонической семьи» трактовали наготу как символ «духовной природы». Кроме того, ему хотелось доказать гостеприимным хозяевам дворца, где он работал над новым изваянием, что «мальчиком» мог быть только Купидон, а отнюдь не смутивший их своим видом Иоанн Креститель.
У спящего на спине Купидона рот полураскрыт, волосы разметались, одна рука прижата к груди, другая свисает вниз, ноги полусогнуты: всё говорит о тревожащих его кошмарах, которые не так давно мучили и самого скульптора, когда, поддавшись общей панике, он пустился в бега.
Спящий в неспокойной позе Купидон привёл в восторг Лоренцо ди Пьерфранческо.
— Поздравляю вас! Но при всем желании, дорогой Буонарроти, — с горечью заявил он, — мы не сможем приобрести это мраморное чудо, иначе накличем на себя и на вас беду. Вы же сами видите, что нынче творится во Флоренции и как беснуется чернь.
Он предложил показать работу торговцу Миланези. Пользуясь благоприятным моментом, тот скупал потихоньку произведения искусства, считающиеся «богомерзкими» и осуждённые к сожжению на «кострах тщеславия». На следующий день перекупщик не замедлил явиться и внимательно осмотрел со всех сторон спящего Купидона.
— Работа стоящая, — заявил Миланези. — Но надо состарить мрамор веков эдак на пятнадцать, чтобы он приобрёл подлинно античный вид. Тогда можно будет спокойно предложить его коллекционерам.
Услышав суждение опытного торговца-ловкача, Микеланджело понял, что нужно предпринять. Он тут же заполнил глиняный горшок калом из выгребной ямы, добавил гнили и всё залил скисшимся молоком; затем размельчив ступкой содержимое горшка, полученной жидкой кашицей тщательно обмазал фигуру Купидона. Дав изваянию немного пообсохнуть на солнце, он захоронил его в вырытой в саду яме.
Недели через три операция была завершена. Извлеченный из земли Купидон был неузнаваем — мрамор потемнел, покрывшись «вековой» патиной.
— Вот теперь то, что нужно, — заявил довольный Миланези, вернувшийся по договоренности специально из Рима и оценивший старание скульптора.
Обойдя изваяние, он заметил:
— Должен сказать, что вы немного перестарались, мастер. Уж больно ваш Купидон напряжён в отличие от безмятежных античных изваяний. Но как знать, быть может, его неспокойная поза вызовет ещё больший интерес?
Заплатив автору 30 дукатов, он увёз изваяние в Рим. Видевший произошедшую с Купидоном метаморфозу Лоренцо ди Пьерфранческо воскликнул:
— В вас, Буонарроти, проснулся новый Фидий! Вы не побоялись бросить вызов античным ваятелям.
— Не боги горшки обжигают, — ответил Микеланджело, явно польщённый столь лестными словами.
Однако о хитрой уловке с Купидоном ему никому не хотелось рассказывать. Он понимал, что ради денег уподобился ловкачам, способным любую patacca (пустышку) выдать за подлинное искусство. Ещё в школе ваяния в садах Сан Марко ему не раз приходилось видеть, как старина Бертольдо с возмущением отбрасывал поддельные геммы и монеты, которые наловчились изготовлять местные жуликоватые умельцы.
— Креста на них нет! — возмущался Бертольдо. — Ради денег готовы душу дьяволу продать.
Получив от сына очередную порцию денег, отец молча упрятал их в стол, даже не поинтересовавшись, за что они были получены. Это было немного обидно, поскольку деньги доставались ему с большим трудом — из-за них пришлось даже пойти на сделку с совестью, не говоря уже о тошнотворной возне с нечистотами. Зато в доме воцарились достаток и относительный покой, нарушаемый лишь младшими братьями, которые докучали отцу постоянным требованием денег. Наверху в каморке под крышей в его распоряжении была теперь отдельная кровать, так как Буонаррото делил ложе с Джовансимоне, Сиджисмондо появлялся редко, а старший брат Лионардо вконец забыл дорогу к отчему дому, живя в монастыре Сан Марко.
Прогуливаясь как-то с Граначчи по неспокойной Флоренции, он услышал от друга, как тот на днях побывал по делам во дворце Ридольфи, где встретился с Контессиной.
— Узнав, что ты вернулся, она попросила меня передать тебе привет. Если хочешь, зайдём к ней.
Они как раз остановились перед дворцом Ридольфи. Микеланджело смутился. Ему вспомнилось, как когда-то Граначчи попросил его поприсутствовать при его свидании с девушкой на мосту Понте Веккьо, а теперь настал его черёд отплатить ему той же услугой и стать третьим лишним. Он был в полной нерешительности, не зная, как поступить.
— Ну что тебя смущает? — спросил Граначчи. — Выглядишь ты отменно, а бородка и усы придали тебе облик настоящего rubacuori — сердцееда.
Микеланджело рассмешило такое сравнение, и он смело вошёл с другом во дворец. Их проводили во внутренний дворик, где в беседке сидела Контессина, склонившись над книгой. После долгой разлуки у него защемило сердце. Когда она поднялась, приветствуя их, он взял себя в руки и успокоился.
Контессина была на сносях, и произошло непоправимое — исчезла её осиная талия, лицо подурнело. Она стала похожа на гусыню. Как же природа уродует будущих матерей!
— Рада тебя видеть! — приветливо сказала она. — Ты изменился, я наслышана о твоих успехах. Видишь, как судьба нас снова сблизила и стала для обоих общей: тебе плодить изваяния, а мне — детей.
В её словах он услышал мудрость Лоренцо Великолепного. Как же дочь по духу похожа на отца! Прощаясь с Контессиной, он подумал о существующей между ними разнице — он сам сделал свой выбор, а её выбор был навязан клановыми предрассудками, которым она не смогла противиться. После этой неожиданной встречи он долго не мог прийти в себя, но желание вновь повидать её отпало. Ему не хотелось испытывать разочарование, да и гордость не позволила. Тогдашнее смятение чувств нашло отражение в катрене:
Что ждёт её, Амур, в потоке дней, Коль красота с годами увядает? Лишь память? Но она же улетает — Бескрылый не угонится за ней (50).Позже он узнал, что у Контессины родился сын, наречённый Луиджи, и что она снова в интересном положении. На его вопрос, что представляет собой супруг Контессины, Граначчи ответил:
— О нём мало что известно в деловых кругах. Пьеро Ридольфи — личность скрытная, звёзд с неба не хватает и держится в тени, не выпячивая своей связи с Медичи. Но умеет зарабатывать деньги и плодить наследников.
Милая «графинюшка» была верна своему назначению, а вот Микеланджело пока не мог похвастаться никаким новым изваянием. Купидона он не брал в расчёт и старался о нём не вспоминать, чувствуя неловкость. Если мальчишкой он мог себе позволить махинации по старению рисунков, будучи учеником живописной мастерской, то теперь подобные «художества» ему явно не к лицу.
В дальнейшем он не искал больше встреч с Контессиной, понимая, что его появление в доме Ридольфи может смутить её покой жены и матери, да и прежние чувства угасли, оставшись дорогим воспоминанием юности. Для него мать — это святое, и кроме благоговейного уважения она не должна вызывать в душе никаких других чувств и желаний.
Он ещё пару раз видел её на вернисажах. Она была с мужем, невыразительным типом с надменным взглядом и брюшком на тонких паучьих ножках. Не было никакого желания подойти к ним и представиться. Годы сказались и на самой Контессине-графинюшке, которая всё больше стала походить на Контессу-графиню, мало чем выделяясь среди остальных светских дам, которые никогда не вызывали у него интереса.
* * *
По примеру «платонической семьи» флорентийские художники создали свою корпорацию, дав ей шутливое название Клуб Горшка, на заседаниях которого, а вернее застольях, напоминавших лукулловские пиры, собирались люди, связанные общностью идей, вкусов и интересов. Граначчи не раз безуспешно приглашал Микеланджело на весёлые сборища, где участники изощрялись в изобретении кулинарных изысков, дав волю буйной фантазии. Одна только мысль, что следует не только справиться с обилием блюд, но ещё изощряться в их оценке, отпугивала его от подобных сборищ, чуждых его пуританской натуре.
В один из жарких июньских дней в доме Буонарроти появился нарочный от Пополани с просьбой прибыть во дворец для важной встречи. Когда Микеланджело появился там, ему представили светловолосого широколобого синьора лет тридцати приятной наружности, одетого по последней моде в камлотовый камзол и остроносые башмаки на каблуках с серебряной пряжкой.
— Я приехал из Рима, — заявил он, назвавшись Лео Бальони, — по поручению моего патрона, его преосвященства кардинала Риарио, большого знатока скульптуры.
Гость заявил, что побывал уже в некоторых мастерских и ему было бы желательно увидеть работы молодого скульптора, о котором много хорошего говорится в городе. Польщённый его словами, Микеланджело предложил спуститься в сад, где установлена одна из его последних работ. Увидев Иоанна Крестителя, Бальони потрогал мрамор и попросил показать рисунки других работ.
— Тогда пройдёмте в крытую галерею, временно ставшую моей мастерской.
Он раскрыл перед посетителем рабочую папку с рисунками, и тот принялся внимательно их рассматривать. «Сдаётся, что он хочет предложить мне заказ, — подумал Микеланджело. — Это было бы как нельзя более кстати». Но Бальони, отложив в сторону просмотренные рисунки и не найдя, видимо, то, что искал, обратился с несколько странной просьбой.
— Если вас не затруднит, уважаемый Буонарроти, нарисуйте мне руку ребёнка.
«Что за блажь?» — подумал в недоумении Микеланджело и на оборотной стороне одного из рисунков карандашом нарисовал кисть детской руки, всё ещё теша себя надеждой, что вот-вот начнётся прямой разговор о заказе.
— Очень похоже, — промычал про себя Бальони, рассматривая рисунок кисти руки.
На вопрос Микеланджело, о каком сходстве идёт речь, Бальони, хитро улыбнувшись, ответил без обиняков:
— Рисунок очень похож на руку спящего Купидона, которого недавно приобрёл мой патрон. По всему видать, это ваша работа?
Вопрос застал Микеланджело впросак.
«Так вот в чём дело! — смутился он. — Стало быть, тайна “античного” Купидона раскрыта. Как же быть?»
И хотя улыбающийся собеседник не вызывал у него доверия, он не без гордости рассказал, как ему удалось ввести в заблуждение римского торговца Миланези, придав спящему Купидону вид античного изваяния.
— Мне хотелось утереть нос почитателям античности и подшутить над ними, — признался он. — Пусть знают, что и я могу создать нечто не менее достойное, получив за это от Миланези тридцать дукатов.
— Только тридцать? Так знайте, что мой патрон выложил за вашего Купидона целых двести.
— Как? Значит, этот плут и ворюга посмел нас обоих оставить с носом!
— Думаю, что узнав об обмане, кардинал кое-кого призовёт к ответу. Он очень щепетилен в таких делах и непримирим к обману.
Последние слова Бальони разозлили Микеланджело. Вот оно что! Значит, когда Купидон был куплен как древнее произведение, он вызывал восхищение. А теперь, видите ли, нынешний его хозяин, считающийся знатоком античности, готов поднять шум, узнав о подвохе, и хочет вернуть уплаченные деньги.
— Так кто, скажите мне, виноват? — запальчиво спросил Микеланджело. — Скорее всего, ваш кардинал, и ему надо винить себя самого, что он с такой лёгкостью поддался на мистификацию. Но я дела так не оставлю и отправлюсь в Рим, чтобы наказать ворюгу!
Его трясло от негодования, и он никак не мог смириться с тем, что его так нагло надули, заплатив ничтожно мало. А ведь работа над Купидоном отняла у него столько сил и времени. Одна только возня с дерьмом чего стоила!
Он уже собирался послать куда подальше прислужника капризного кардинала, но понял, успокоившись, что виноват сам, связавшись с проходимцем и дав себя втянуть в сомнительную и в буквальном смысле дурно пахнущую историю.
— Не принимайте это так близко к сердцу, — постарался его успокоить Бальони. — Поверьте мне, Буонарроти, мы всё уладим миром. В Риме вас ждут новые заказы, куда более значительные, чем этот злополучный Купидон.
Ему удалось успокоить Микеланджело и уговорить его поехать в Рим, где с его талантом перед ним откроются двери в аристократические дома коллекционеров и ценителей искусства.
Перед отъездом у Микеланджело произошёл неприятный разговор с отцом.
— Это гордыня заставляет тебя срываться с места, — недовольно сказал мессер Лодовико, вспомнив его прошлогоднее бегство.
Возможно, он был в чём-то прав. Но Микеланджело всегда считал, что если хочешь добиться чего-то значительного в жизни, надобно быть честолюбивым, иначе будешь осуждён на жалкое прозябание.
— Скажите мне, синьор отец, почему остальные ваши сыновья ничего не хотят добиваться? Им бы не помешало проявить хоть раз в жизни эту гордыню, как вы говорите, и перестать клянчить у вас деньги. Пора научиться самим добывать хлеб насущный.
Мессер Лодовико обиделся и ничего не ответил, поняв, что сына уже не удержать.
Глава XII ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РИМОМ
Я начал свой нелёгкий долгий путь,
Гонимый злыми, буйными ветрами (70).
Братья Пополани снабдили Микеланджело в дорогу рекомендательными письмами, без которых молодому человеку без связей шагу нельзя ступить. На рассвете Микеланджело и Бальони отправились вместе в путь и 26 июня 1496 года прибыли в Рим.
После бурлящей Флоренции папский Рим показался ему сонным городом, утопающим в горах мусора, из которого торчали то полуразрушенная колонна, то рука мраморного изваяния, взывающая к небу о помощи. На первый взгляд Рим своей грязью и неустроенностью покоробил Микеланджело, истого флорентийца и ценителя прекрасного. Представший пред ним город, лежащий на семи холмах, никак не походил на caput mundi — столицу мира — с его немощёными улицами, кривыми переулками, полуразрушенными дворцами, разбросанными повсюду обломками античных статуй и громадой пустующего Колизея.
На следующий день Бальони представил его своему патрону. Кардинал Рафаэль Риарио ди Сан Джорджо был двоюродным внуком папы Сикста IV, ярого противника Медичи. Став кардиналом в возрасте восемнадцати лет, Риарио вместе со старшим братом Джироламо принял прямое участие в заговоре Пацци против Медичи, устроенном его дедом-понтификом. Проводя службу в соборе Санта Мария дель Фьоре, именно он подал знак, подняв вверх Святые Дары, к началу резни, в ходе которой был заколот Джулиано Медичи, а его брат Лоренцо чудом остался жив, получив ножевое ранение в шею. Во время начавшейся расправы над заговорщиками, которых флорентийцы не поддержали, братьям Риарио удалось скрыться. Но через пять лет старшего из них, Джироламо Риарио, ставшего благодаря папе правителем Имолы и Форли, настигла расплата.
Ныне кардинал занимал видное положение в римском обществе, хотя как пастырь ничем особо не прославился. В отличие от своего дяди кардинала Джулиано делла Ровере, смело выступившего вместе с шестнадцатью кардиналами против царивших при папском дворе симонии, непотизма и разврата, его племянник кардинал Риарио поддержал папу Борджиа в трудный для того момент. В благодарность папа смотрел сквозь пальцы на отнюдь не пастырскую деятельность кардинала Риарио, который сумел обзавестись собственным флотом, занимался торговлей тканями и восточными пряностями и был владельцем нескольких доходных домов в Риме. Жил он на широкую ногу в одном из великолепных римских дворцов, раза в два превосходящем флорентийский дворец Медичи и получившем позже название Palazzo della Cancelleria, так как долгое время там размещались службы ватиканской канцелярии. Его возведение началось в 1485 году на средства, как говорит молва, выигранные Риарио в кости. На этом месте было древнеримское капище, затем на его руинах построили церковь Сан Лоренцо ин Домазо с использованием мощных римских колонн, а после реконструкции церкви те же колонны пошли на украшение внутреннего двора нового дворца. Его строительство было завершено знаменитым зодчим Браманте.
Пройдя по анфиладе залов, украшенных античными изваяниями, Микеланджело миновал просторную приёмную, где целая армия писцов сидела за рабочими столами, склонившись над деловыми бумагами. Микеланджело подивился, и ему показалось, что он неожиданно оказался в торговой или банковской конторе. Его проводили в рабочий кабинет хозяина дворца, уставленный скульптурами. Он низко поклонился и вручил кардиналу рекомендательное письмо от братьев Пополани.
— Вас рекомендуют как прекрасного скульптора, — сказал Риарио, прочитав письмо.
Он стал в упор разглядывать небрежно одетого молодого просителя.
— Ваш Купидон и так хорош, — сказал он, — но вам, Буонарроти, захотелось выдать его за антик. Так знайте наперёд — меня на пустышке не проведёшь. Мне пришлось вернуть скульптуру перекупщику, ибо в моём дворце место только оригиналам.
В конце аудиенции он посоветовал прежде всего осмотреть его коллекцию и походить по Риму, чтобы проникнуться истинным духом античности. Но о заказе кардинал пока ни словом не обмолвился.
Начало было не слишком многообещающим, хотя, если разобраться, кардинал, мнивший себя знатоком с рафинированным вкусом, сам легко, как мальчишка, поддался на приманку и теперь задним числом попытался оправдаться за это. Микеланджело сдержал себя, понимая, что от Риарио сейчас зависит многое в его судьбе.
С помощью Лео Бальони он начал своё первое знакомство с великим миром античности, в который органично вплетались лучшие образцы зодчества христианского Средневековья и Возрождения. Бальони сводил его на Латеранский холм, увенчанный величественной конной статуей императора Марка Аврелия, которую противники «варварского» искусства по незнанию сочли за изображение императора Константина, принявшего христианство, что спасло бронзовую скульптуру от переплавки.
Правда, Бальони дал этой истории свою версию:
— Если бы вы знали, Буонарроти, скольких трудов стоило нам, истинным ценителям античности, отстоять это чудо и вырвать его из рук особо рьяных ревнителей чистоты веры, наподобие сторонников вашего Савонаролы! А сколько бесценных мраморных изваяний было варварски превращено в известь!
Потом они долго бродили среди руин имперских форумов, где Бальони проявил себя знающим гидом. На следующий день он привёл Микеланджело к церкви Сан Пьетро ин Винколи на Эсквилинском холме.
— Почётным настоятелем церкви является двоюродный дядя моего патрона, кардинал Джулиано делла Ровере. Ныне он в опале, отправлен нунцием в Париж. Это большой знаток древнего искусства. Ему, например, удалось спасти от уничтожения вот это мраморное изваяние Аполлона.
Микеланджело чуть не потерял дар речи при виде подлинного шедевра, установленного в церковном саду. Он несколько раз обошёл вокруг скульптуры, не в силах сдержать охватившее его волнение. Ничего более совершенного он не мог себе представить. Нет, ему надобно было побыть одному и собраться с мыслями. Разговоры и пояснения Бальони наскучили ему и стали раздражать. Ему удалось под благовидным предлогом отвязаться от него.
Рассматривая скульптуру, он вспомнил старину Бертольдо и свои работы в садах Сан Марко, которые теперь выглядели в его глазах жалкими потугами, так как Аполлон в его сознании затмил всё. Затем он долго бродил среди руин терм Каракаллы и базилики Максенция, поражающих циклопическими размерами развалин. Его внимание привлекло былое великолепие полуразрушенных дворцов патрициев на Палатинском холме, превращённых ныне в ночлежки для бродяг и бандитские притоны. Картина повсеместной разрухи и опустошения действовала на Микеланджело отрезвляюще, возвращая из мира былого величия и блеска к неприглядной картине нынешней убогости.
В дни первого знакомства с Вечным городом Бальони представил ему своего друга Франческо Бальдуччи, весёлого флорентийца лет двадцати пяти, работающего счетоводом в банке своего дяди Бальдассаре Бальдуччи, услугами которого пользовался кардинал Риарио.
Переполненный впечатлениями первых дней Микеланджело засел за написание письма домой. Будучи в бегах, он не удосужился написать о себе ни одной строчки из Венеции и из Болоньи, о чём было сказано выше. В целом же его эпистолярное наследие содержит около пятисот писем, записок, деловых посланий. По сравнению с поэтическими откровениями письма Микеланджело грешат обыденностью, безликостью и нередко написаны сухим языком. Порой они многословны, когда он берётся поучать братьев и племянника, и мелочны, если речь идёт о покупке земельных наделов или расчётах за выполненные заказы. Но о себе он не хочет говорить ни с кем, кроме отца. В письмах отсутствует оценка своих работ и произведений современников, хотя среди его адресатов немало известных личностей.
И всё же из его переписки можно многое почерпнуть о столь сложной и противоречивой личности, каким был Микеланджело, целиком подвластный своему гению, который требовал от него полного себе подчинения. В письмах и стихах, которые то и дело появлялись из-под его пера, можно найти объяснение странностям его характера и не поддающимся объяснению диким поступкам, которые с годами стали всё чаще давать о себе знать. Это замечали родственники и друзья, стараясь его успокоить. Он и сам понимал свойственную его натуре несдержанность, за что жестоко себя корил в одном из сонетов:
В ком сердце — порох и из пакли — плоть, А весь костяк подобен сухостою, Кто не знаком ни с мерой, ни с уздою И блажь свою не в силах побороть, Того умом не одарил Господь, Чтоб с толком управлять самим собою. Тот вмиг сгорит копеечной свечою, И незачем судьбе глаза колоть. Кто свыше одарён, его творенья Саму природу смогут поразить, Хотя печать её руки на всём. К искусству я не слеп, не глух с рожденья И в муках буду век ему служить — Повинен тот, кто породнил с огнём (97).Уже в молодые годы он понял, что служение искусству — это не самолюбование, а мученическое подвижничество, когда ни на что другое не остаётся ни времени, ни сил. В мемуарах хорошо знавших его Вазари, Кондиви и Челлини образ Микеланджело обретает черты полубога, которому чужды даже самые малые человеческие недостатки и слабости — настолько велико было их преклонение перед ним. На деле, конечно, все обстояло иначе.
Вот перед нами первое из его римских писем от 2 июля 1496 года. На конверте письма помечено: Флоренция, Сандро Боттичелли. В целях конспирации, поскольку письма на почте подвергались перлюстрации, он не стал рисковать и подвергать опасности своего адресата из клана Медичи, объявленного вне закона, и послал письмо на имя известного всему городу живописца, поддерживавшего связи с домом Пополани.
Приведём с небольшими купюрами это письмо. Желая сделать приятное человеку, принявшему живое участие в его судьбе, он обращается к Лоренцо ди Пьерфранческо, называя его Великолепным (Magnifico), как звали великого кузена. Возможно, здесь заключены доля иронии и тоска по великим временам, канувшим в Лету:
«Сообщаю Вам, что в прошлую субботу мы благополучно прибыли и тотчас посетили кардинала Риарио Сан Джорджо, которому я передал Ваше письмо. Он, казалось, был рад меня видеть и пожелал, чтобы я осмотрел несколько статуй, что помешало мне отнести другие Ваши письма. В воскресенье кардинал велел позвать меня, чтобы узнать, что я думаю о статуях, которые видел. Я ему высказал своё мнение, так как статуи и впрямь прекрасны. Затем кардинал спросил меня, чувствую ли я в себе силы создать что-либо выдающееся, прекрасное. Я ответил, что не имею столь больших притязаний, но он увидит, что я смогу сделать. Мы купили глыбу мрамора для статуи в натуральную величину, и в следующий понедельник я начну работать. В прошлый понедельник я передал другие Ваши письма Паоло Ручеллаи, предложившему мне деньги, которые могут понадобиться, а также Бальдассаре Миланези и просил его возвратить мне Купидона, сказав, что я, в свою очередь, верну ему его 30 дукатов. Он ответил мне очень грубо, сказав, что скорее разобьёт этот мрамор на сотню кусков, чем отдаст его мне; купив его, он считает скульптуру своей собственностью и может даже представить бумаги, доказывающие, что он удовлетворил истцов, а стало быть, не должен ничего возвращать… Оставив его, я попросил кое-кого из наших флорентийцев быть посредниками между нами, но они ничего не сделали. Теперь я хочу действовать через посредство кардинала, как мне советует Бальдассаре Бальдуччи. Буду сообщать Вам о моих делах. Больше мне нечего добавить к сказанному Выражаю Вам моё почтение. Да хранит Вас Бог! Ваш Микеланьоло из Рима».34
Если бы под письмом не стояла подпись, трудно было бы поверить, что оно написано гением, впервые оказавшимся в Риме, где перед ним открылся мир античности, о котором он столько слышал от старших товарищей и мечтал увидеть, когда стал членом «платонической семьи» и присутствовал на философских диспутах, где набирался ума-разума и много читал. Но проза жизни и тяжба с пройдохой-перекупщиком настроили его на деловой тон, когда рука бесстрастно и тоскливо водит пером по бумаге, не особо заботясь о стиле и подборе нужных слов, в чём он сам признаётся в одном из сонетов:
Беря перо с чернилами, порой Мы пишем низким иль высоким слогом. И образ в камне говорит о многом: Горел творец иль был объят тоской. Когда, мой властный гений, ты со мной, Я на твоём лице читаю строгом: Ведёшь ты дружбу с дьяволом иль с Богом? Но вдохновляюсь родственной чертой. Кто сеет распри, клевету и склоку, Идя у прихоти на поводу, Изменчивой, как ветер в непогоду, Тот всё решает сгоряча, с наскоку. Не с добрым чувством он живёт в ладу, А только с ненавистью злу в угоду (84).Надежда на поддержку кардинала оказалась тщетной. Риарио заставил мошенника вернуть ему деньги, но не стал настаивать на возврате самой скульптуры, опасаясь, что Миланези может в отместку растрезвонить на весь Рим, как ему удалось ловко надуть «знатока» античности. Спор вокруг Купидона постепенно заглох, так как вовлечённые в него стороны не предпринимали больше никаких шагов, а сама статуя оказалась перепроданной в другие руки и в итоге затерялась.
Можно, однако, предположить, что сотню лет спустя её видел тёзка Буонарроти — художник Микеланджело Меризи по прозвищу Караваджо, который благоговел перед памятью великого творца, плодотворно работая в Риме. Среди его картин напоминанием об утраченном Купидоне служит «Спящий Амур», написанный на Мальте, куда художник сбежал после вынесенного ему смертного приговора за убийство в уличной драке.35 Но вместо античной красоты спящего Купидона на картине Караваджо изображен не слишком привлекательный Амур со вздутым животом. Он то ли спит с полуоткрытым ртом, то ли почил вечным сном, являя собой насмешку над античным божеством. Но таков уж был бунтарь Караваджо, для которого важна была правда жизни даже в самом неприглядном её виде, да и времена слепого подражания античности давно миновали.
Шло время, но кардинал Риарио медлил с заказом. Купленный мрамор лежал во дворе под навесом. Когда Микеланджело собрался было его немного обтесать, Бальони отговорил от этой затеи, сказав, что на то должно последовать прямое указание кардинала.
Биограф Кондиви отмечает, что в первые дни пребывания в Риме Микеланджело был обласкан кардиналом, предложившим ему поселиться в его дворце. Скульптор принял приглашение в надежде на заказ, хотя о самом кардинале был весьма невысокого мнения как человеке несведущем и чванливом, в чьих рассуждениях об искусстве чувствовался дилетант. Да и само имя кардинала Риарио осталось на слуху только благодаря истории, связанной с приобретением им «античного» Купидона.
Оказавшийся не у дел Микеланджело продолжал своё знакомство с Вечным городом. Каждый день ему открывались новые памятники античного искусства. Как любил повторять Эразм Роттердамский, даже стены в Риме могут поведать много того, о чём даже не догадываются люди, живущие по ту сторону Альп. Особенно поражало обилие обнажённых женских и мужских скульптур, пронизанных пьянящим дионисийским духом. Все эти мраморные изваяния, созданные более тысячи лет назад, выглядели настолько жизненно, что не могли не волновать воображение молодого человека своей откровенно плотской красотой. Он вспомнил, с каким азартом в мастерской Гирландайо горячо спорил с хулителями скульптуры, считавшими только живопись первейшим из искусств.
Продолжая изучать античные памятники, он захотел познакомиться с нынешними местными скульпторами, и друзья проводили его к самому плодовитому ваятелю по имени Андреа Бреньо. Уроженцу Ломбардии было за семьдесят. В основном он обрёл известность как автор надгробий в римских церквах. Ему принадлежит также оформление певческой трибуны в Сикстинской капелле. Но его рисунки и изваяния не воодушевили Микеланджело, а от надгробий на него пахнуло такой мертвечиной, что ему стало не по себе. В памяти сразу всплыли связанные с риском для жизни ночные часы, проведённые в монастырской скудельне Санто Спирито и позволившие ему познать тонкости анатомии человека, знания которой явно недоставало старине Бреньо.
Однажды он попросил друзей проводить его в Ватикан, где познакомился с работавшим при папском дворе живописцем Бернардино ди Бетто по прозвищу Пинтуриккьо, то есть «коротышка», из-за малого роста. К прозвищу он привык и не обижался. В своё время он был призван папой Сикстом IV вместе с другими художниками для росписи боковых стен в Сикстинской капелле, да так и осел в Риме. Теперь с целой оравой подмастерьев он расписывал в ватиканском дворце так называемые апартаменты Борджиа.
Свою склонность к вычурности Пинтуриккьо ловко подчинил прославлению нелюбимого римлянами папы Александра Борджиа, который принудил всех придворных и челядь говорить только по-испански, чем оскорблял национальные чувства итальянцев. Ублажая порфироносного заказчика, Пинтуриккьо наляпал в каждом зале орнаменты с позолотой и прочую мишуру. Всюду были портреты папской родни, в том числе родившей понтифику троих сыновей и дочь римской куртизанки Ванноццы Катанеи. Со временем красота её поблекла, и место бывшей любовницы заняла новая пассия — восемнадцатилетняя Джулия Фарнезе из знатного княжеского рода, любительница роскоши и развлечений. В одном из залов красуется портрет и этой светской львицы.
Среди остальных работ художника Микеланджело выделил профильный портрет самого папы, коленопреклонённого и молитвенно сложившего руки перед сценой воскрешения Христа. Он пару раз издали видел Александра VI во время торжественных процессий и шествий, когда благословляющего толпу папу несли в паланкине. Его портрет на фреске привлёк внимание своим удивительным правдоподобием без прикрас. Трудно было заподозрить Пинтуриккьо в антипатии к понтифику, которым он был обласкан.
— Скажите, Пинтуриккьо, — спросил он художника, — как вам удалось уговорить Его Святейшество позировать?
— А мне это не понадобилось, — прозвучал ответ. — Я привык полагаться на собственную память.
Следует признать, что память не подвела художника, написавшего помимо воли вполне реалистичный портрет папы Борджиа с его хищным профилем стервятника и натурой лицемера-развратника. Но излишне яркая палитра Пинтуриккьо с тщательно прописанными деревцами, тучками и цветочками воспринималась Микеланджело как безвкусица.
— Живопись должна быть лишена украшательства, — говорил он, — и выглядеть обнажённой, как выжженная земля.
Как и римская скульптура, живопись также оставила его равнодушным. Побывав в Сикстинской капелле, которая на первый взгляд показалась ему огромным сараем без какого-либо намёка на архитектуру, он увидел, что фресковые росписи боковых стен капеллы сковала вялость, словно писавшие их мастера были глубокими старцами, коротавшими долгие зимние вечера, борясь с дремотой. Даже фрески Гирландайо, чьими рабочими рисунками он когда-то восхищался, не вызвали у него интереса. Одна лишь фреска Боттичелли «Моисей перед Неопалимой купиной» привлекла его внимание.
На вопрос Бальони о его мнении он прямо ответил:
— Единственное, что меня здесь удручает — это немощь воображения. Где же былые смелость и живость, что отличали флорентийскую школу живописи со времён Мазаччо?
В одном из залов его внимание привлекла превосходная фреска Мелоццо да Форли «Открытие Ватиканской библиотеки», на которой изображён её основатель папа Сикст IV и назначенный им директором библиотеки известный гуманист Бартоломео Сакки по прозвищу Платина, автор первой светской истории Римской католической церкви «Liber de vita Christi ас omnium pontiflcum», изданной в 1474 году.
В остальном посещение Ватикана оставило его равнодушным, а жизнь в Риме производила удручающее впечатление. Не было даже намёка на те страстные споры и кипучую деятельность, отличавшие колыбель искусства Возрождения во времена Лоренцо Великолепного. Сравнивая дремлющий среди античных руин Рим с сегодняшней бурлящей страстями Флоренцией, где всё стало дыбом из-за непримиримой борьбы враждующих партий, родной город представлялся ему куда привлекательнее и милее в сравнении с коварной папской столицей, погрязшей в праздности и разврате.
Пока кардинал Риарио тянул с обещанным заказом, Микеланджело был предоставлен самому себе, скучая без дела, что было для него невыносимой мукой. Куда бы ни бросал он свой взгляд, перед глазами были одни только сутаны, бесчисленные церкви и часовни. Но не с кем обмолвиться словом или о чём-то поспорить. Люди здесь не разъединены непримиримыми разногласиями, как во Флоренции. Они, как сомнамбулы, равнодушно взирают на жизнь и, кажется, лишены каких бы то ни было мыслей или собственных суждений. Да и откуда таковым взяться при здешней бесцветной жизни, которая течёт сама по себе без крутых поворотов под привычный звон колоколов?
За высокими стенами Ватикана была своя жизнь, охраняемая рослыми как на подбор швейцарскими гвардейцами, откуда порой просачивались слухи о пирах и диких оргиях при дворе, ставших притчей во языцех. Как говорит молва, особым бесстыдством отличалась дочь понтифика Лукреция Борджиа, меняющая мужей как перчатки. Не отставали от неё и ненавидевшие друг друга братья Чезаре и Джованни Борджиа, наводящие ужас на Рим своими безобразными выходками. Их младший брат Джофре, опасаясь за свою жизнь, укрылся подальше от милого семейства на берегу Ионического моря.
Соперничавшие друг с другом братья Борджиа взяли моду устраивать гонки быков по римским улицам от площади Венеция по длинной улице Корсо до ворот Порта дель Пополо. Но самое дикое, что в этой «корриде» силой принуждали участвовать обитателей еврейского гетто, людей законопослушных и тихих, занятых делом в своих небольших лавочках и мастерских рядом с площадью Кампо дель Фьоре. На позорное зрелище римляне были вынуждены молча взирать, опасаясь высказываться вслух.
Микеланджело не мог без гнева говорить об этом. Как же можно приравнять людей к скоту и устраивать эти дикие гонки, в которых принуждают участвовать уважаемых отцов семейств? У него было немало добрых знакомых в гетто, где позднее он будет подбирать натурщиков с выразительной внешностью библейских персонажей. Случайно Микеланджело оказался очевидцем бегущих бородатых мужчин с пейсами в длинных чёрных поддёвках, которые под улюлюканье погонщиков с хлыстами с риском для жизни уворачивались от разъярённых быков. Зрелище вызвало у него омерзение. Но как пояснил Бальдуччи, оба папских выродка полагали, что тем самым иудеи искупают свои былые прегрешения перед христианством, хотя, по упорным слухам, их порфироносный родитель сам был выкрестом.
* * *
Как-то утром по городу разнеслась весть, что в Тибре был выловлен труп с девятью ножевыми ранами и связанными руками. Утопленником оказался герцог Джованни Борджиа. Сыщики тайной полиции поставили на ноги весь Рим в поисках убийц, но всё было тщетно. Поговаривали, что убийц подослал старший братец Чезаре, не выносивший соперничества ни с чьей стороны. Высказывалось также мнение, что Чезаре приревновал брата к сестре Лукреции, с которой оба давно уже состояли в кровосмесительной связи. Но вслух свои догадки никто не высказывал из-за боязни оказаться в подземных казематах замка Святого Ангела, откуда редко кому удавалось выбраться живым.
Воинственный папский отпрыск бросал жадные взгляды на Феррару, Мантую, Урбино и другие независимые княжества. Девиз Чезаре был «Aut Caesar, aut nihil» — «Или Цезарь, или ничто». Благодаря пребыванию на папском престоле отца, которого он в грош не ставил и глубоко презирал за лицемерие, пьянство и разврат, этот душегуб вознамерился стать королём Италии. Собрав отряд наёмных убийц и грабителей, он после ухода французов стал прибирать к рукам земли в Романье и Умбрии, сметая всех, кто вставал на пути. Им было пролито море крови мирных граждан. Действовал он, как разъярённый бык, чьё изображение украшало фамильный герб Борджиа. При одном его появлении с отрядом головорезов люди покидали свои жилища и в ужасе бежали, как перед явлением Антихриста.
Его личностью заинтересовался один из самых светлых умов эпохи Возрождения — флорентиец Никколо Макиавелли, разуверившийся в способности папского Рима справиться с исторически выстраданной задачей воссоединения всех разрозненных итальянских земель в единое национальное государство, о чём когда-то мечтал Петрарка. Макиавелли считал папство главным виновником раздробленности и слабости страны, что и явилось причиной бед, обрушившихся на Италию. Вопреки своим гуманистическим взглядам и глубоким познаниям во многих областях он увидел в лице отъявленного негодяя Чезаре Борджиа прообраз сильного государя, для которого поставленная цель оправдывала любые средства во имя её достижения, вплоть до убийства.
Однако удивляться особенно не приходится, если принять во внимание, что в стане злодея оказался и другой величайший ум эпохи — Леонардо да Винчи, неожиданно оставивший Милан и незаконченную там работу, поскольку его познания в области инженерного искусства и строительства оборонительных сооружений оказались востребованы узурпатором Чезаре, возомнившим себя спасителем Италии.
Эта весть потрясла многих ценителей искусства, в том числе и Микеланджело. Он недоумевал, не находя ответа на вопрос — как мог его знаменитый земляк, о котором рассказываются легенды, оказаться в стане душегуба и отпетого злодея?
* * *
Дремлющий Рим неожиданно удивила своими капризами двадцатилетняя Лукреция Борджиа. По наущению старшего братца она избавилась от двух первых мужей, и в Ватикане состоялось её третье бракосочетание с правителем Феррары герцогом Альфонсо д’Эсте. Никто из приглашённых на свадьбу гостей из-за боязни накликать на свою голову беду не осмелился даже намекнуть, что подоплёкой нового брачного союза являлся циничный политический расчёт — благодаря этой сделке богатая Феррара становилась вассалом папского государства. Местные рифмоплёты принялись наперебой петь дифирамбы «божественной диве» Лукреции, а поэт Бембо посвятил ей свой трактат о возвышенной любви «Азоланские беседы».
Отдавая должное её тонкому стану, Микеланджело узрел в очах красавицы цинизм и жадность ненасытной самки. Ему было искренне жаль эту молодую женщину, положившую дарованную ей природой красоту на плаху похоти. Стоящий рядом с ним Бальдуччи шутливо предупредил его:
— Не особенно заглядывайся, не то попадешь в её сети, откуда нет возврата на волю.
Он же поведал, что первым, кто развратил юную Лукрецию, был родной отец, а затем она стала поочерёдно любовницей двух братьев. Греховное кровосмешение, грязь и мерзость, царившие в семействе Борджиа, не были чем-то из ряда вон выходящим, ибо почти все древние тираны, даже те, что были мудры, как Соломон, кончали необузданным развратом. И как ни странно, все мерзости Борджиа творились в те достопамятные времена, когда лучшие художники и поэты воспевали гармонию и божественную красоту, а гуманисты в один голос предрекали наступление «золотого века».
Если не считать громкого события, связанного со свадьбой Лукреции и заставившего римлян встряхнуться, во всём остальном жизнь в Риме настолько оскудела, что превратилась в некое жалкое монотонное существование. А в церквях проповедники без устали поучали паству, что на земле мы всего лишь временные странники, а посему незачем роптать и нужно только молиться о спасении души.
Даже открытая борьба между папой и Савонаролой мало занимала римлян, ибо всякий посягнувший на власть понтифика, кто бы он ни был, подлежал смерти на земле и вечному наказанию в потустороннем мире. Приглашённый папой из Флоренции проповедник-августинец Мариано, обвинявший Савонаролу во всех смертных грехах, не смог расшевелить паству, а тем паче породить истерию и вызвать в душах переполох. Здешнее общество предпочло остаться в стороне, считая, что с Савонаролой должны разобраться сами флорентийцы, призвавшие его когда-то к себе на свою голову.
Живя во дворце кардинала Риарио и посещая дома других вельмож, Микеланджело воочию видел, что высшее духовенство и местная знать меньше всего задумывались о спасении души и проводили жизнь в праздности, стараясь не упустить ни один миг мирских наслаждений, к чему когда-то призывал Лоренцо Великолепный. Его тянуло к своим землякам, у которых можно было узнать новости из родного города. Поэтому он любил проводить время в кругу флорентийского землячества, где видную роль играл успешный финансист Паоло Ручеллаи, связанный узами родства не только с Медичи, но и с родом Миньято, к которому принадлежала мать скульптора. При встрече с ним Микеланджело всякий раз вспоминал об этом, но так и не решился напомнить о родстве.
— У нас тут свои неписаные законы и обычаи, — пояснил Ручеллаи. — Мы обустроили наш флорентийский оплот на берегах Тибра, чтобы защищать интересы оказавшихся здесь земляков. Мы ни от кого не зависим и никому не подчиняемся.
Ручеллаи был прав — недаром их квартал называли малой Флоренцией. В Риме было немало других землячеств, но флорентийское — самое многочисленное и влиятельное. С ним вынуждена была считаться местная власть, так как своими налогами флорентийцы пополняли городскую казну. Здесь обосновались бежавшие от смуты и погромов Альбицци, Кавальканти, Пацци, Савиати, Строцци, Торнабуони, составлявшие подлинный цвет флорентийской аристократии. У них здесь были свои банковские конторы, гостиницы, мастерские, мануфактуры, рынки, свой причал в порту Рипетта на Тибре, через который было налажено снабжение зерном и мрамором, а также квасцами, столь нужными текстильным мануфактурам; лес шёл из Адриатики, а пряности с Ближнего Востока. Была даже своя охранная служба, оберегающая по ночам покой жителей. Улицы в этом квартале были вымощены и содержались в чистоте, в отличие от грязи и неустроенности остальной части города.
* * *
Микеланджело не переставал думать о доме, где дела у отца не складывались, и он нуждался в помощи сына. В одном из писем он сообщил отцу, что его посетил старший брат Лионардо, попавший в беду под Витербо, где его ограбили разбойники. Его направил с инспекционной миссией сам Савонарола для наведения порядка в соседних епархиях, заражённых ересью. Пришлось выдать Лионардо на обратный путь золотой дукат, умолчав в письме об очередной ссоре между ними. В разговоре с братом Микеланджело лишний раз убедился, что тот стал ещё более фанатичным, озлобленным и нетерпимым, восприняв от своего наставника самые худшие его качества, но отнюдь не ум и красноречие.
Однажды во флорентийском трактире, славящемся на весь Рим своими непомерных размеров кровавыми бифштексами, Микеланджело повстречал старого знакомого — архитектора Джулиано Сангалло, друга покойного Лоренцо. Он прибыл в Рим в поисках работы, оставив дома жену с сыном.
— В обезумевшей ныне Флоренции, — сказал он, — работу днём с огнём не сыщешь. Закончилась пора созидания, наступили тяжёлые времена для всех.
После обеда Сангалло предложил пройтись до Пантеона, чтобы показать молодому другу одно из величайших чудес, тайну которого, как он считает, первым сумел раскрыть Брунеллески.
— Прошло полторы тысячи лет, — пояснил Сангалло, — и только наш Брунеллески сумел обнаружить в Пантеоне не один, а два купола, органично вплетённых друг в друга, что явилось величайшим нововведением римлян в области сводчатых конструкций, которое они держали в секрете. Творец этого чуда Аполлодор Дамасский унёс с собой в могилу эту тайну.
Филиппо Брунеллески использовал опыт древних строителей, воздвигая над собором Санта Мария дель Фьоре купол, имеющий внешнюю и внутреннюю кладку по методу рыбьей чешуи. Флоренция переняла опыт римлян и обогатила его новым содержанием. Позднее Микеланджело вспомнил опыт древнеримских строителей, когда напрямую приступил к проектированию грандиозного купола над собором Святого Петра.
Затем они взобрались на Капитолийский холм, откуда открывался вид на Римский форум, колонну Траяна и арки Тита и Константина. По каждому памятнику античности Сангалло мог дать исчерпывающие пояснения. Он рассказал, как Брунеллески с другом Донателло так долго и тщательно изучали искусство античного Рима, делая замеры архитектурных элементов и рисунки скульптур, что это насторожило папских чиновников, принявших обоих флорентийцев за кладоискателей.
Время, проведённое в компании старины Сангалло, открыло Микеланджело глаза на многое, и по примеру великих мастеров прошлого он принялся за более глубокое изучение античного наследия, делая множество рисунков с натуры.
Среди обосновывавшихся в Вечном городе флорентийцев были сильны антиримские и антипапские настроения. Достаточно было послушать остряка Бальдуччи, считавшего римлян тупицами, ничего не смыслящими в делах. Как это ни покажется странным, но симпатии многих здешних флорентийцев были на стороне борца с папством Савонаролы, хотя все они оказались здесь по его милости из-за порождённой им же смуты.
— Знаешь, — спросил однажды Бальдуччи, — как мы расшифровываем на гербе Рима аббревиатуру S.P.Q.R.? Sono Porci Questi Romani — свиньи эти римляне! Не правда ли, хлёстко?
Истины ради стоит заметить, что римляне не остались в долгу и называли флорентийцев ещё похлеще.
Доходившие из Флоренции вести живо интересовали Микеланджело. Ему были по душе смелость и непреклонность Савонаролы, хотя некоторые высказывания монаха об искусстве вызывали у него улыбку. Будь его воля, Микеланджело посоветовал бы неугомонному проповеднику отказаться от роли народного глашатая и обличителя зла и, уединившись от мира в тихой келье, заняться написанием новых книг. Этим он принёс бы куда больше пользы людям, нежели своими страстными проповедями, пробуждающими в душах вместо любви и согласия только озлобленность и вражду.
Глава XIII КОНЕЦ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ СМУТЫ
Я жизнью отрезвлён сполна.
Прочь ослепленье — спала пелена! (22)
Над Флоренцией сгущались грозовые тучи. Ходили слухи, что ряды сторонников Савонаролы значительно поредели. Флорентийцы за прошедшие годы устали от его апокалиптических предсказаний и призывов к аскезе и покаянию. Но монах через преданных ему людей держал пока город под своим жёстким контролем, и без его ведома власти не могли ступить ни шагу. Однако возникшие перебои с продовольствием из-за засухи и недорода усугубили напряжённую обстановку. Опасаясь взрыва народного возмущения, Савонарола понимал, что угроза голода вызывает у людей страх, который может сподвигнуть их на самые решительные действия, и молитвами их не насытишь. Он вынужден был умерить свой пыл, и в его проповедях всё чаще стали звучать призывы к милосердию и согласию.
— Только мир, — вещал он, — приблизит всех к Богу, иначе нас ждёт погибель.
Но к прожигателям жизни и вероотступникам у него по-прежнему не было снисхождения.
Недавно стало известно, что папа Александр VI предписал Савонароле срочно прибыть в Рим для консультаций и выяснения ряда теологических вопросов. Флорентийская диаспора призадумалась и замерла в ожидании. Как поступит Савонарола? Высказывались самые различные предположения. Одни считали, что не следует доверять папе-двурушнику, и приезд преподобного в Рим может для него закончиться плачевно; другие полагали, что монах должен показать свою верность христианскому миру и смело принять вызов.
Но неистовый доминиканец, провозгласивший князем Флоренции самого Христа, вскоре дал ответ, не лишённый логики: «Все благонамеренные и благоразумные флорентийцы усматривают в моём отъезде большую опасность для себя… Я уверен, что ради возложенной на меня высокой миссии всё, что препятствует моему отъезду в Рим, возникло по воле Божьей, и, стало быть, подчиняясь Всевышнему, я не вправе покинуть своё место».36
Дерзкий отказ вызвал ликование среди сторонников Савонаролы и возмущение Рима, откуда последовала угроза отлучения проповедника от церкви, что ещё пуще накалило страсти. На защиту своего предводителя стали стеной его фанатичные приверженцы. Обстановка в городе всё более накалялась и грозила выйти из-под контроля, когда разгорячённых сторонников и противников неуступчивого монаха ничем уже не удастся сдержать.
В один прекрасный день у ворот монастыря Сан Марко остановилась карета с римскими вензелями. Сидевший с кучером на облучке юркий слуга в ливрее спрыгнул на землю, открыл дверцу кареты и выдвинул подножку. Из кареты вышел статный синьор лет тридцати, облачённый в атласный камзол фиалкового цвета с откидными венецианскими рукавами и кружевными обшлагами. Через плечо был перекинут бархатный плащ с опушкой из лисьего чернобурого меха, а голову прикрывала шляпа с золотой пряжкой и страусовым пером. Судя по одеянию и манере держаться, приезжий был птицей высокого полёта, распространяя вокруг аромат мускусной амбры.
Монахи препроводили его к настоятелю, который расположился во внутреннем дворике в тени под вековой смоковницей. Савонарола сидел за рабочим столиком, обложенным книгами, и что-то записывал в тетрадь. Представившись, гость назвался главным скриптором папской канцелярии Риккардо Бекки. Он испросил благословение и, изогнув спину, приложился к костлявой руке преподобного. Цель своего визита он начал излагать с длинной витиеватой преамбулы по-латыни, процитировав даже Цицерона из первой книги «О природе Богов» и заявив, сколь важно для христианского мира крепить единство и решать любые разногласия путём переговоров.
— Должен заметить, — заявил он, — что святейший отец опечалился вашим отказом прибыть к его двору, чтобы снять все возникшие шероховатости между Флоренцией и Римом, идущие на пользу только нашим общим врагам.
Насупившись, Савонарола хранил молчание. Тогда велеречивый посланец заявил, что святой отец готов ему простить все былые прегрешения и, в случае прилюдного покаяния, возвести монаха в сан кардинала. Прервав его разглагольствования, Савонарола вдруг спросил в упор:
— Ответьте мне, как на духу: верит ли в Бога сам святой отец?
Гость сделал вид, что не расслышал вопроса, и открыто намекнул: или раскаяние, или отлучение от церкви.
— Я не торгую совестью, — ответил Савонарола, резко поднявшись из-за стола и дав понять, что разговор окончен. — Ступайте, любезнейший, и передайте вашему папе-антихристу, что скоро я сам его отлучу от церкви за совершённые им тяжкие преступления перед Церковью и Богом!
— Надеюсь, что наша встреча, — промолвил растерявшийся папский писарь, — сохранит свою конфиденциальность и не выйдет за стены вашей обители?
— Мне ни к чему таиться, вся братия разделяет мои убеждения, — ответил Савонарола.
Услышав, что разговор пошёл на повышенных тонах, монахи подошли ближе и сгрудились вокруг настоятеля. Незваному гостю при виде решительно настроенных здоровяков ничего не оставалось, как убраться подобру-поздорову
Весть о визите папского посланника разнеслась по Риму, вызвав разноречивые суждения. О ней стало известно и Микеланджело, которому Бальдуччи, друживший с папским писарем Бекки, рассказал в лицах, чем закончилась эта встреча. Он вновь поразился стойкости и последовательности, с какими Савонарола смело отстаивает свои взгляды. Его переполняло чувство гордости за родную Флоренцию, не склонившую голову перед грубым диктатом папского Рима.
Ему снова вспомнился вопрос, поставленный перед смертью римским философом Боэцием. «А как бы ответил на него Савонарола?» — подумал Микеланджело, поскольку терзавший его душу вопрос так и остался без ответа, и ему не представился случай поговорить с самим преподобным.
Вскоре он с горечью стал замечать, что настроения внутри флорентийской диаспоры резко изменились после того, как папа Александр VI выдвинул ультиматум: или конфискация всего принадлежавшего ей в Риме имущества, или выдача Савонаролы и доставка его в Рим для суда над ним. Кто же откажется от своего состояния, нажитого пусть даже не всегда праведными трудами? Флорентийская знать, осевшая в Риме, вынуждена была давить на Синьорию, потребовав от неё выдачи Савонаролы.
Пока доминиканский монах метал громы и молнии, папский Рим терпеливо сносил его филиппики. Но недавно было перехвачено письмо Савонаролы к французскому королю с требованием созыва Вселенского собора для низложения папы Александра VI, превратившего Рим в «богомерзкий вертеп разврата и наживы», где накануне юбилейного 1500 года нагло ведётся торговля индульгенциями, обладателям которых отпускаются все самые тяжкие грехи вплоть до смертоубийства. Такого папа стерпеть не смог, и дерзкий монах был официально отлучён от церкви. В папской булле Савонарола был назван носителем погибели всему верующему люду и ничтожным насекомым — nequissimus omnipedo.
Эта весть взбудоражила всю Флоренцию. Большой совет был переизбран, и из него изгнали всех сторонников отлучённого от церкви доминиканского проповедника. Савонаролу стали покидать даже самые преданные ему люди. Для восстановления нарушенного смутой городского хозяйства новое правительство города крайне нуждалось в трёхпроцентном налоге на церковное имущество, на что папа пообещал дать согласие в обмен на выдачу Савонаролы. Со всех церковных амвонов зазвучала анафема монаху, и с каждым днём росло число его противников.
Во время одной из проповедей в соборе Савонароле под ноги бросили провонявшую ослиную шкуру, на которую зачинщики кощунства справили нужду. Для него настали тяжёлые времена. Тысячи горожан, ещё недавно внимавшие каждому его слову, теперь безумствовали, требуя суда над ним и расправы. Фра Джироламо испытал на себе горькую справедливость старой пословицы, что ненависть слепа, как и любовь. Его защищала от расправы лишь дюжина сохранивших ему верность монахов. Вооружённые дрекольем, они яростно отбивали атаки дикой толпы.
Против Савонаролы выступил влиятельный орден францисканцев, усомнившийся в его праведности и потребовавший прибегнуть к испытанию огнём, чтобы доказать виновность или невиновность доминиканского проповедника. В его защиту выступил преданный своему наставнику молодой фра Доменико, объявивший о готовности пройти через огонь, чтобы доказать божественность посыла, полученного преподобным. Будучи глубоко уверенным в своей правоте, Савонарола не стал особо возражать против желания ученика принести себя в жертву.
Конец марта выдался дождливым. На площади перед церковью Санта Кроче, где ещё недавно полыхали «костры тщеславия», были заготовлены угли и дрова для костра. Собралась нетерпеливая толпа в ожидании начала испытания. Первыми показались доминиканские монахи во главе с фра Доменико. Но вызвавшие их на испытание огнём францисканцы не явились, испугавшись разгорячённой толпы, собравшейся на площади.
Несмотря на усилившийся дождь, люди не расходились, требуя начать объявленное испытание огнём. Однако появившийся на площади глашатай объявил, что Синьория запретила проводить дикие противоправные действия, призвав враждующие стороны полюбовно решить свои теологические споры. Промокшая под дождём озлобленная толпа была недовольна таким оборотом дела. Науськиваемые врагами Савонаролы наиболее оголтелые граждане отправились громить монастырь Сан Марко. Силы были неравны, и настоятеля схватили вместе с его верными помощниками — фра Доменико да Пешиа и фра Сильвестро Маруффи. Им скрутили руки и как преступников повели на расправу. По дороге к тюрьме беснующаяся толпа выкрикивала угрозы и забрасывала их камнями. Пробираясь сквозь узкий коридор орущих людей с искажёнными злобой лицами, трое монахов осеняли себя и своих врагов крестным знамением.
С кровоподтёками на лице, в порванной ветхой сутане Савонарола шёл на свою Голгофу, не узнавая беснующихся флорентийцев, к которым ещё недавно он обращался с проповедями, призывая к добру и любви к ближнему. Но в их души вселились демоны. Флоренция, которую он объявил обителью Христа, предала его. К новому ниспосланному ему испытанию он был внутренне готов и стойко держался, подбадривая своих молодых товарищей: «Мужайтесь, братья, — с нами Бог!»
Вскоре прибыли посланцы папы Борджиа. На въезде в город их встретила толпа, выкрикивающая: «Смерть Савонароле!» Судьба народного трибуна была предрешена. Синьория назначила комиссию из 17 членов для проведения следствия и получения от Савонаролы признания вины. В ходе следствия с применением жестоких пыток дознавателям не удалось добиться нужного результата. Фра Джироламо стойко переносил муки, ни от чего не отрёкся и не стал оговаривать ни себя, ни своих товарищей ради предлагаемого палачами снисхождения. Римские эмиссары торопили следствие, требуя выбить из упрямого монаха признание вины. Последние дни жизни Савонаролы были невыносимы. Официальный палач сбежал, опасаясь Божьей кары, а нанятые добровольцы оказались неумехами, и подвешиваемый на дыбу монах дважды срывался, когда палачи начинали жечь ему пятки раскалёнными прутьями. Почти лишившись рассудка из-за нестерпимой боли, в полном беспамятстве он поставил нетвёрдой рукой подпись под написанным за него признанием вины перед церковью. Но дознавателей эта бумага не удовлетворила, и его вновь подвергли пытке. Не выдержав нового истязания, он подписал со второй попытки составленное нотариусом признание вины.
Суд присяжных обвинил троих доминиканских монахов в ереси и приговорил к смерти через повешение. В тот же день папа Александр VI подписал буллу с разрешением Флоренции взимать трёхпроцентный налог с церковного имущества. Правители города приняли эту подачку как тридцать сребреников и отправили на Голгофу народного трибуна.
На площади перед дворцом Синьории был сооружён высокий помост из просмолённых брёвен с дощатым покрытием и тремя виселицами, а на дворцовых ступенях установлен алтарь. С раннего утра 23 мая 1498 года флорентийский люд стал стекаться на площадь, оцепив тесным кольцом место казни. День был пасмурный. Члены Большого совета, судьи и папские посланцы расположились на скамьях в лоджии Ланци, откуда был хорошо виден длинный помост с виселицами и загодя разложенные вокруг поленницы дров и кучи смолистого хвороста. Под вооружённым конвоем на площадь вывели троих смертников. Обессилевшему Савонароле помогли взобраться на помост фра Доменико и фра Сильвестро. Пока босые монахи шли по дощатому настилу, те же самые мальчишки из Армии спасения веры втыкали гвозди между досками на их пути — большее изуверство трудно себе представить.
Палачи сорвали с осуждённых рясы, оставив их в одном исподнем, и заставили стать на колени перед алтарём. По знаку из лоджии Ланцы, где расположились судьи и папские эмиссары, священник начал читать заупокойную молитву, а приговорённые к казни обнялись напоследок друг с другом. На каждого была накинута петля. Из-за туч робко выглянуло солнце, словно призывая собравшихся на площади одуматься и прекратить позорную расправу. Фра Джироламо с удавкой на шее успел произнести несколько слов молитвы «Верую», устремив прощальный взор к небу.
Через минуту три тела уже раскачивались под порывами весеннего ветерка. Савонароле было 47 лет, безраздельно отданных служению Богу.
— За что? — вдруг прозвучал над площадью одиночный выкрик, вырвавшийся из толпы, и тяжело повис в воздухе.
Словно по команде, подручные палачей с факелами в руках подожгли с разных сторон хворост. Тут же вспыхнул огромный костёр, и нашлось немало доброхотов из толпы, взявшихся в сатанинском порыве подбрасывать в огонь охапки хвороста и дрова, чтобы пламя на ветру ещё пуще разгоралось. Как тут не вспомнить предсмертные слова Яна Гуса — «О святая простота!» — когда он увидел, как одна старушка подбрасывает дрова в костёр, на котором ему, осуждённому за ересь, предстояло сгореть…
Вскоре чёрный смолистый дым, пропахший палёным мясом, окутал всю площадь, прогнав из лоджии Ланци высокопоставленных наблюдателей, которые второпях покинули задымлённую площадь. В толпе слышны были крики проклятия вперемежку с рыданиями.
Объятый пламенем помост с виселицами затрещал и рухнул, превратившись в сплошную стену огня. Дым постепенно стал рассеиваться. Толпа молча расходилась, а подручные принялись разгребать тлеющие головешки, извлекая из пепла обгоревшие останки казнённых. По приказу властей собранную дымящуюся кучу погрузили в повозку и, доставив на мост Понте Веккьо, сбросили в Арно, дабы ничто не попало в руки фанатичных приверженцев казнённого монаха.
В тот же день закончил своё существование другой враг папы. Как повествует молва, в погоне за юной куртизанкой по тёмным коридорам строящегося дворца в Амбуазе похотливый король Карл VIII ударился на бегу лбом о дверной косяк и был таков. Недаром говорится, что Бог шельму метит.
* * *
Среди сторонников казнённого проповедника было немало художников, которые не поверили в вину Савонаролы и долго не могли успокоиться, оплакивая его смерть. Находясь в последние годы под сильным влиянием доминиканского проповедника, Боттичелли вместе с другими собратьями по искусству оказался в тот страшный день на площади Синьории, чтобы проститься с монахом, по наущению которого бросил когда-то в «костёр тщеславия» свои работы. Его вера в Савонаролу ещё более утвердилась и окрепла, когда он воочию увидел, с каким мужеством и спокойствием тот встретил свой последний час.
Сохранилось свидетельство его младшего брата Симоне Филипепи, который вспоминает, как вместе с братом Сандро повстречался с бывшим главным дознавателем по делу казнённых монахов Доффо Спини, оказавшимся затем не у дел. В своём дневнике Филипепи записал разговор с ним, имевший место 2 ноября 1499 года.37
Когда Боттичелли попросил Спини рассказать, за какие такие смертные грехи монах Савонарола был предан позорной смерти, тот ответил:
— Хочешь знать правду, Сандро? Мы у него не обнаружили не только смертных грехов, но и вообще никаких, даже самых малых.
— Почему же тогда, — спросил Боттичелли, — вы так жестоко с ним расправились?
Припёртый к стене прямым вопросом, Доффо был вынужден признать:
— Если бы проповедник и его друзья не были умерщвлены, восставший народ отдал бы нас им на расправу. Пойми меня, Сандро! Дело зашло слишком далеко, и на карту была поставлены наша жизнь и судьбы многих граждан. Тогда мы решили, что во имя нашего спасения и сохранения спокойствия в городе лучше умереть им.
Это была страшная правда, когда людей обуял страх, и чтобы спасти свою шкуру, они оказались перед трагическим выбором — «мы или он».
После той встречи Боттичелли окончательно замкнулся и ушёл в себя. Тогда же появилось одно из самых загадочных и трагических произведений итальянской живописи — картина Боттичелли «Покинутая» (Рим, собрание Паллавичини). Высказывались самые различные предположения относительно изображённой на картине одинокой женщины, сидящей перед запертыми вратами, как в каменном мешке. Но в тот период Боттичелли мог изобразить только попранную Справедливость, оплакивающую смерть Савонаролы. Многие деятели культуры пережили тогда глубокую духовную драму.
Год спустя не стало главы Платоновской академии Марсилио Фичино, окончательно порвавшего с официальной церковью после жестокой расправы над Савонаролой. Признанный властитель дум, энтузиаст-неоплатоник, ревностный служитель культа дружбы, страстный исследователь, призывавший к слиянию великой языческой философии и современной ему христианской доктрины, Фичино был ценителем красоты природы. Он воспринимал Вселенную как цельное гармоничное строение, все части которого наподобие лиры производят полный аккорд с его консонансами и диссонансами. Его вполне можно рассматривать как певца одушевлённой Вселенной, предтечу изобретённой впоследствии теории ноосферы.
В то время во Флоренции была в ходу легенда об имевшей место договорённости между Марсилио Фичино и его другом Микеле Меркати: тот из них, кто умрёт раньше, даст знать оставшемуся в живых, бессмертна ли душа или нет. Вопрос о бессмертии души был основополагающим для Фичино. Но не менее важной была для философа этическая сторона дела: возможна ли человеческая нравственность без посмертного воздаяния? Не приводит ли отрицание бессмертия к нравственному разложению? Не станет ли зло безнаказанным, коль скоро отсутствует награда за добродетель и нет загробной жизни?
Говорят, однажды утром Меркати проснулся от стука копыт за окном и услышал радостный возглас друга: «Микеле, это правда!» В это самое мгновение Фичино скончался.38
Из дома не было никаких вестей. Ничего не было известно о судьбе старшего брата Лионардо, который мог оказаться в самом пекле кровавых событий, когда на сторонников Савонаролы была объявлена охота. Их отлавливали как зверей и жестоко расправлялись без суда.
Как ни велико было желание повидать родных и друзей, Микеланджело решил не соваться во флорентийское пекло, пока страсти там не утихнут. Его удерживало двоякое чувство: страх и ощущение того, что в Риме его ждут дела, и немалые. Он доверился своему внутреннему голосу, продолжая изучать античное искусство.
Когда года два назад он покидал родной город, его не оставляло предчувствие, что разбушевавшиеся в народе страсти добром не кончатся и приведут к самым тяжким последствиям. Последние призывы Савонаролы к миру, эхом отозвавшиеся в Риме, были с радостью им восприняты. Но ожидания не оправдались — ящик Пандоры был уже открыт…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОДЫ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ
Глава XIV НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ
О, дивная пора для всех сердец,
Как после стужи вешнее цветенье!
Я полон вновь истомы и волненья —
Мой скорбный дух воспрянул наконец (38).
В дальнейшей судьбе Микеланджело большую роль сыграл римский аристократ Якопо Галли, с которым его познакомил кардинал Риарио. Уже за одно это Микеланджело был благодарен лукавому монсиньору, простив ему надменность, менторский тон и нудные рассуждения об античной скульптуре, в которой он мало что смыслил. Столь резкое суждение о кардинале Микеланджело выскажет позднее, когда примется диктовать мемуары Кондиви, а пока он пользовался его гостеприимством, живя во дворце Канчеллерия. Благодаря знакомству с Галли жизнь молодого флорентийца, оказавшегося в Риме, вышла на новый виток.
Галли, лет сорока с небольшим, был страстным коллекционером и заядлым книжником, читающим в подлиннике великих поэтов и мыслителей античности. Он получил блестящее образование в римской Академии, основанной в 1465 году недавно скончавшимся эрудитом Джулио Помпонио Лето, бедным отпрыском всесильного салернитанского клана Сансеверино. Юнцом он пришёл пешком с котомкой, набитой редкими рукописями, в Вечный город, где обрёл известность как выдающийся толкователь древних текстов.
Гуманитарное образование не помешало Галли успешно заниматься финансовой деятельностью, как и его другу кардиналу Риарио, и исподволь вести свои коммерческие дела. Испокон веков деньги правили миром и на них покупалось всё: честь, достоинство, благополучие, истина, дружба. Власть золотого тельца была решающей социальной силой, управлявшей политикой, экономикой, религией, церковью и делающей человека счастливым или несчастным. В те годы в ходу была прибаутка: «Если нет ни серебра, ни злата, жизнь твоя не больно торовата».
Но дома у Галли, что делает ему честь, в кругу семьи царил запрет на деловые разговоры, равно как на обсуждение вестей из Ватикана. При первой встрече с ним Микеланджело поразили высоченный, почти двухметровый рост Галли и добрый взгляд голубых очей на полноватом лице. Эстету и знатоку античности сразу пришёлся по душе молодой флорентиец, с воодушевлением делившийся своими впечатлениями от пребывания в Риме и мечтавший сотворить что-то своё, достойное того, что он здесь увидел.
В отличие от нерешительного кардинала банкир Галли вскоре после знакомства поручил Микеланджело подумать над образом какого-нибудь мифологического персонажа, например Вакха, и тут же выдал аванс на покупку мрамора.
— Попробуйте изваять Амура или Диониса, бога плодоносящих сил, растений, виноградарства и виноделия. Что вы на это скажете?
— Благодарю вас! Тема очень заманчивая. Только я вовсе не любитель Бахуса, как зовут его римляне.
Ответ молодого человека понравился заказчику, и он пригласил его переселиться на житьё в его дом, где пристройка в саду могла быть приспособлена для работы. Микеланджело с лёгким сердцем оставил помпезный дворец кардинала с неприветливой нагловатой челядью, поглядывавшей на него как на приживала, что часто выводило его из себя. Он понял, что кардинал, погрязший в своих коммерческих делах, так и не соберётся поговорить с ним о давно обещанном заказе. Риарио не был человеком слова, несмотря на свой высокий духовный сан, а таких Микеланджело недолюбливал, называя их «людьми с двойным дном».
В который раз ему пришлось переезжать на новое место жительства со своим нехитрым скарбом. Теперь он устроился в доме Галли, где ему была выделена удобная комната с выходом в тенистый сад с вековыми кедрами и прыгающими белками, напомнивший ему тенистый сад у бабушки в Сеттиньяно. Здесь за кустами боярышника и жимолости стоял приземистый сарай с земляным полом и светом, льющимся из слухового окна на двускатной крыше, вполне пригодный для мастерской.
Первым делом он занялся поиском нужного ему мрамора, отправившись в район Трастевере на правом берегу Тибра, заселённый мастеровыми, лавочниками, пекарями, сапожниками и прочим работящим людом. Он быстро нашёл главный склад различных сортов камня, привозимого отовсюду на барках по Тибру, или из каменоломен окрестных гор, именуемых Castelli romani — Римские замки, — богатых залежами травертина и известняка.
Приобретённая им глыба оказалась негодной, что сразу вскрылось в процессе работы над ней, хотя продавец божился и клялся здоровьем своих детей, что мрамор хорош, без сучка и задоринки. Деньги были выброшены на ветер. За недогляд и непростительную оплошность он жестоко корил себя самого. Ему было стыдно перед заказчиком, но тратиться снова, к счастью, не пришлось, так как Галли, видя расстройство своего молодого постояльца, уговорил своего друга Риарио уступить ему лежавшую без надобности трёхаршинную колонну, к которой кардинал утратил интерес и охотно расстался с ней, вернув ранее затраченные на неё деньги. Глыба превосходного каррарского мрамора покинула внутренний двор кардинальского дворца, где её не оценили по достоинству, и заняла место в сарае у дома Галли.
Встреча с банкиром стала подарком судьбы и настоящей удачей для Микеланджело, впервые за долгое время вызвавшей в нём подъём духа, чему способствовала царившая в доме заказчика атмосфера доброжелательности и любви к литературе и искусству. Частыми гостями дома были учёные и поэты. Особенно запомнился Микеланджело весёлый остроумный неаполитанец Якопо Саннадзаро, чей пасторальный роман «Аркадия», появлявшийся в печати отдельными отрывками, пользовался широкой известностью в литературных кругах.
По вечерам после ужина Галли любил поговорить о древних рукописях, которых было немало в его коллекции. Особую его гордость составляла недавно приобретённая небольшая речь Цицерона, обнаруженная в середине века флорентийским гуманистом и литератором Поджо Браччолини, автором «Фацетий» — забавных новелл фривольного и антиклерикального содержания.
Как-то в разговоре о своём наставнике эрудите Лето, чьи лекции пользовались шумным успехом у студентов, Галли вспомнил, как беднягу пытала инквизиция за распространение крамольных идей, что подорвало его здоровье.
— Вот вашей Платоновской академии повезло больше, и до неё не дотянулись щупальцы римской инквизиции, — сказал он, — не то угодили бы на костёр Марсилио Фичино и иже с ним.
«Увы, — подумал про себя Микеланджело, — зато на костёр угодил преподобный Савонарола, чьи идеи в последние годы разделяли многие его старшие товарищи-неоплатоники». Но поделиться мыслями о казнённом проповеднике он ни с кем не решался, так как в Риме это имя было предано остракизму.
В работе над изваянием Вакха высотой 2,03 метра, включая основание (Флоренция, Барджелло), Микеланджело испытал сильное влияние древнегреческой скульптуры, чьи римские копии в Вечном городе можно было встретить повсюду. Его Вакх стоит особняком, являя собой редкое исключение в многогранном творчестве мастера. Это единственная, пожалуй, работа, в которой зримы столь не свойственные мрачной натуре Микеланджело нотки юмора.
Получив заказ, он засел за рисунки, но ему была нужна живая натура. На эту роль никак не годился Бальдуччи, с которым он виделся чуть не каждый день, с трудом перенося бесконечные разговоры о женщинах. От сытой беспечной жизни у друга появилось брюшко, да и по возрасту он мало походил на Вакха. Микеланджело поделился с ним мыслями о необходимости заполучить обнажённую натуру. Но где здесь отыскать такую?
— Во Флоренции эти вещи под строгим запретом, — сказал он. — А как у вас? Можно ли найти красивого молодого натурщика, который за умеренную плату согласился бы мне позировать обнажённым?
— Проще простого, — ответил Бальдуччи и предложил отправиться в городские термы, где можно помыться и вдоволь насмотреться на голых ребят.
Неподалёку на берегу Тибра имелась прекрасная баня по образцу древних терм с мраморным бассейном и тепидарием, то есть парилкой. Как пояснил присоединившийся к ним Бальони, баня принадлежала кардиналу Риарио, хорошо знающему, во что выгодно вкладывать средства. Это была уменьшенная копия роскошных античных терм, где римляне по традиции проводили немало времени. Посещение терм было неотъемлемой частью жизни древних обитателей всех сословий Вечного города. Чего стоят хотя бы впечатляющие своими колоссальными размерами руины терм Каракаллы, где одновременно могли мыться до трёх тысяч любителей водных процедур и приятного времяпрепровождения за дружеской беседой и игрой в кости. Там же заключались торговые сделки, продавались всевозможные товары, а проститутки обоего пола подстерегали клиентов.
Пока друзья плескались в бассейне, встретив немало знакомых молодых людей своего круга, Микеланджело, расположившись с альбомом в тени под пальмой, делал быстрые наброски карандашом плавающих и ныряющих купальщиков. Главное для него было схватить момент движения и запечатлеть напряжение мускулов и игру света на крепких обнажённых телах с помощью смелых линий и штрихов, а в этом деле он знал толк.
— В следующий раз, — предложил Бальони, — отправимся в общие бани, где вместе моются мужчины и женщины. Там можно увидеть много курьёзного. Они принадлежат богатым куртизанкам.
— Но меня интересуют только мужские формы, особенно в движении, — заметил Микеланджело. — Женская фигура хороша лишь в состоянии покоя.
— Глубоко ошибаешься, дружище, — возразил Бальдуччи. — Ты попробуй взглянуть на женщину вожделенным взглядом, когда она обнажена и полна истомы, а тебя распирают страсти.
Он не стал возражать, поскольку неожиданно в памяти всплыло воспоминание о мгновениях тайных встреч с прекрасной девушкой из Болоньи, но теперь всё это представлялось ему лишь далёким сном. А были ли такие встречи на самом деле, или это только плод его воображения, когда сознание выдавало желаемое за действительное?
Поход в термы с друзьями принёс ему немало рисунков запечатлённой натуры в различных ракурсах. Изучая римские копии с оригиналов Праксителя и Лисиппа, он находил в них мощную поддержку своей тяге к масштабной монументальности, проявившейся ещё в его ранних работах. Однако в отличие от статичности греческих изваяний для него было принципиально важным изобразить своего героя в движении. Поначалу в работе над рисунком его мало занимала точность деталей тела — переходя к лепке трёхмерной модели в глине или воске, он легко убирал лишнее или что-то добавлял. Предпочтение им отдавалось лепке в воске, так как на ощупь он напоминает мрамор и обладает светоносностью. В рисовании и лепке отражался образный ход его мыслей, а подлинная натура творца проявлялась в умелых и энергичных действиях резца, вгрызающегося в мрамор и полностью подчиняющегося воле мастера.
Вскоре из-под резца Микеланджело вышел изрядно захмелевший бог вина с помутневшим взглядом, которому трудно устоять на месте. Он ещё неопытен, и от одного пригубленного из чаши глотка вина голова у него пошла кругом. Юный Вакх пошатывается, не понимая причины такого головокружения.
Согласно правилу хиазма или крестообразного расположения, известному ещё античным ваятелям, Вакх твёрдо опирается на левую опорную ногу, на которую перенесена вся тяжесть тела, из-за чего поднятому бедру соответствует опущенное плечо. Ступня правой ноги только пальцами касается опоры. Поэтому другому опущенному бедру соответствует приподнятое плечо фигуры.
Главную свою задачу Микеланджело видел в правильном распределении объёмов и подчинении частей целому во имя достижения общей гармонии. Увитая плющом и виноградными гроздьями голова Вакха наклонена вперёд, а торс чуть откинут назад, из-за чего масса мрамора как бы стекает к животу и тянет всё тело к тазу.
Фигуру нетвёрдо стоящего на ногах Вакха связывают с находящимся позади маленьким сатиром шкура тигра и виноградная гроздь в левой руке бога вина. В неё жадно вцепился козлоногий сатир, хитро выглядывающий из-за спины Вакха и пытающийся вырвать у него шкуру и гроздь, лишив его опоры. Если бы сзади не было этого удобно примостившегося на пеньке вороватого сатира, лакомящегося виноградом, хвативший лишку Вакх рухнул бы навзничь.
При обходе скульптуры кругом нетрудно заметить, как правое колено рифмуется с левым плечом, а поднятая чаша в правой руке — с копытцем сатира. Поражает искусная тонкость обработки мрамора, доведённая до совершенства, благодаря чему в нём дышит и пульсирует живая плоть во всей полноте и удовлетворённости чувств и желаний. Льющийся свет скользит по идеально отполированному торсу с женоподобными животом, чреслам и ягодицам, а затем по рукам и ногам, подчёркивая поразительную жизненность изваяния. Здесь уместно сослаться на высказывание Родена по поводу роли светотени в скульптуре: «Разве это не чудесная симфония белого и чёрного? Каким бы парадоксом это ни казалось, но великие скульпторы — такие же колористы, как и лучшие живописцы, или, вернее, как лучшие гравёры».39
Как свидетельствует Вазари, прежде чем взяться за мрамор, Микеланджело лепил фигуру из глины или воска, а затем закреплял её на вращающемся станке или помещал в сосуд с водой, которая при убывании открывала постепенно весь слепок, что позволяло скульптору выразить компактное состояние массы в движении, а заодно и убрать лишнее.
По завершении работы над Вакхом Галли устроил приём, и вскоре в Риме заговорили о чуде, сотворённом молодым флорентийским мастером, чья скульптура не уступает лучшим античным образцам. Желающих взглянуть на подвыпившего Вакха было так много, что Галли пришлось устроить в саду площадку для установки статуи.
Как свидетельствует Кондиви, при переносе Вакха из мастерской в сад у него была сломана правая рука, и он выглядел как только что обнаруженное и выкопанное из земли античное изваяние. Гости Галли никак не могли поверить, что автором является его протеже — молодой флорентиец. Вскоре изъян был устранён. В дошедшей до нашего времени скульптуре отсутствует пенис, но всё остальное сохранилось в целости.
Среди флорентийцев, осевших в Риме, Микеланджело снискал себе почёт и уважение. Дом Галли часто навещали друзья и знакомые, чтобы взглянуть на «Вакха». Особенно лестным для автора скульптуры было мнение, высказанное однажды стариной Сангалло.
— Это настоящая архитектура, — отметил он, — где между всеми элементами царит гармония. Вот главное достоинство, Микеланьоло, твоего изваяния.
Высказывались и другие мнения, основная мысль которых сводилась к тому, что молодой флорентиец изваял скульптуру, придав ей движение и жизненность, в чём превзошёл античных мастеров с их статуарными фигурами.
Кардинал Риарио, присутствовавший на приёме по случаю представления «Вакха», видимо, пожалел, что уступил мрамор и не стал владельцем прекрасного изваяния. Наблюдая за растущей славой пригретого им на первых порах молодого скульптора, кардинал любил показать себя покровителем нового гения, появившегося на римском небосклоне. Видимо, его стараниями в некоторых публикациях утвердилось мнение, что «Вакх» был выполнен по его заказу, а затем отвергнут, так как Риарио, истинного знатока античной скульптуры, не удовлетворила фигура захмелевшего бога. Будучи невысокого о нём мнения, Микеланджело заявил в мемуарах, написанных под его диктовку Кондиви, что никогда не работал на Риарио, если не считать приобретённого кардиналом через посредника-пройдоху «Спящего Купидона».
Живя в Риме, Микеланджело до сих пор ни разу не повстречал кардинала Джованни Медичи. Даже во дворце Риарио среди частых гостей в пурпурных сутанах свидеться с товарищем юношеской поры не пришлось. С ним, его братьями и незабвенной Контессиной он прожил не один год во дворце Медичи, и их многое тогда связывало. Зато в Риме неожиданно объявился неугомонный Пьеро Медичи, прибывший повидаться с женой Альфонсиной и двумя малолетними детьми. На приёме, устроенном во дворце Орсини, Микеланджело после долгой разлуки встретил-таки Джованни Медичи, но подойдя к располневшему не по годам кардиналу со словами приветствия, натолкнулся на стену холодного отчуждения.
— Наслышан о твоих успехах, с чем и поздравляю, — сухо сказал тот. — Но никак не могу порадоваться твоей дружбе с врагом нашей семьи Риарио. Лучше бы ты остался во Флоренции с безумным монахом Савонаролой, чем оказался здесь среди наших недругов.
Микеланджело было горько услышать такое, но он ничего не стал объяснять бывшему товарищу юношеских лет, ибо ему не в чем было оправдываться, да и политика, во многом обусловленная клановыми интересами, занимала его меньше всего.
Это был последний раз, когда на приёме он увидел свергнутого правителя Флоренции, которого за глаза прозвали «неудачником». Но тот сделал вид, что не узнал среди гостей своего бывшего подданного, не забыв нанесённое ему в Болонье оскорбление — отказ последовать за ним. Но и Микеланджело не горел желанием подойти к нему, не простив ему снежной скульптуры, которую он счёл насмешкой над собой и своим даром.
Вскоре Пьеро Медичи, примкнувший к французскому войску в надежде с его помощью вернуть себе потерянную власть, бесславно закончил свою карьеру, утонув при переправе через реку Гариньяно под Неаполем — его подвела любовь к блестящим, но тяжёлым стальным латам.
* * *
Якопо Галли высоко ценил искусство молодого мастера и однажды за ужином завёл разговор о новой работе.
— Вижу, ты заскучал, — сказал он. — У меня на примете есть заманчивая идея. А пока попробуй сотворить ещё одно изваяние в духе античной скульптуры.
Подбадриваемый заказчиком Микеланджело взялся высекать новую скульптуру, получившую название «Амур Лучник». От Риарио так и не поступало ни одного заказа, и он обращался к Микеланджело только за консультацией по поводу того или иного античного раритета, но проявлял живой интерес к работам по заказу Галли.
Однажды во время осмотра почти готового Амура разговор зашёл о различии между римской и греческой скульптурой. Прервав себя на полуслове, Галли вдруг спросил:
— Извини меня, Микеланджело, но почему ты постоянно так неряшливо одет? У нас считается, что флорентийцы всегда были законодателями моды.
Его поддержал кардинал Риарио, всё ещё мнивший себя покровителем молодого скульптора:
— Вижу, что вас, мой друг, успела задеть стрела Амура, и вам давно пора жениться. Кстати, у меня на примете имеется для вас прелестная скромная девушка, племянница одного моего друга-епископа.
Микеланджело никак не ожидал такого поворота разговора и, подумав, ответил:
— Благодарю вас, монсиньор, за отеческую заботу. Но, увы, сердце моё давно пленено моим кумиром — искусством, ревностно оберегающим меня от всех посторонних соблазнов, и я храню ему верность.
Но после того разговора ему пришлось раскошелиться и несколько обновить свой гардероб. Как говорится, noblesse oblige.
Мало что известно о судьбе «Амура Лучника», о котором говорил кардинал Риарио. Долгое время он считался пропавшим, пока в конце прошлого века не было установлено, что значительно повреждённая фигура коленопреклонённого Амура со стрелой, украшающая фонтан в нью-йоркском Центре культурных связей при посольстве Франции, является той самой утраченной статуей работы раннего Микеланджело, хотя по этому поводу среди искусствоведов до сих пор нет единого мнения.
Глава XV ПЬЕТА
Питают душу страсти — не покой.
Лишь тот достоин вечного признанья,
Кто разменял на добрые деянья
Монету; но чеканки неземной (238).
В ожидании нового заказа Микеланджело вспомнилось былое, когда в мастерской Гирландайо им были созданы первые живописные работы. Поклонение античности не смогло погасить в нём христианского духа. Приобретя в столярной мастерской две небольшие доски из выдержанного тополя для задуманных картин, он загрунтовал их и приступил к написанию темперой первой работы, получившей название «Манчестерская Мадонна». На ней изображены Дева Мария с сыном, который тянется к книге в руках матери. Рядом стоит, задумавшись, мальчик Иоанн Креститель, чьё тело прикрыто звериной шкурой. С каждой стороны от центральной группы помещены по два ангела, лишённые крыльев. Они скорее смахивают на обычных римских подростков лет четырнадцати. Одни рассматривают какой-то непонятный предмет, другие лишь слегка намечены кистью. Картина делится на три части, как триптих.
Вторая картина «Снятие с креста» также осталась незаконченной. По поводу этих двух работ (Лондон, Национальная галерея) среди искусствоведов высказываются различные суждения, и нет единого мнения о их принадлежности кисти Микеланджело. Но отмеченная в своё время ещё Гирландайо склонность Микеланджело к чётко, словно резцом, очерченным линиям заметна и в этих работах.
Пока он трудился над двумя темперными картинами, частым гостем Галли был престарелый аббат Жан Бильгерес-Лаграулас, представлявший интересы французского короля при Ватикане. В кардиналы его произвёл лично, минуя ненавистного папу Борджиа, покойный король Карл VIII. Вместе с кардинальской шапочкой Бильгерес-Лаграулас получил почётный титул Сен-Дени. Загадочно улыбаясь, Галли как-то посоветовал Микеланджело поближе присмотреться к французскому кардиналу. Помимо деловых интересов француза связывала с Галли общность художественных вкусов.
Как-то за ужином в привычной семейной обстановке, на котором присутствовал, как всегда, Микеланджело, кардинал, воздав должное доброму вину «Лакрима Кристи», порозовел и неожиданно разоткровенничался, заявив, что в знак любви к Риму мечтал бы оставить в память о Франции, её короле и собственной скромной персоне какое-нибудь достойное творение. И он поделился радостной новостью о согласии папы на водружение будущего изваяния в базилике Святого Петра, где издавна существует часовня французских королей.
— Теперь передо мной одна лишь задача, и не из лёгких — где найти мастера, способного достойно справиться с такой работой?
Галли с хитрецой взглянул на Микеланджело.
— Зачем далеко ходить, Ваше преосвященство? — весело спросил он, подняв бокал. — Перед вами тот, кому по плечу любой заказ, сколь сложным бы он ни был.
Микеланджело зарделся от неожиданности и чуть не поперхнулся глотком вина.
— Согласен, — ответил кардинал. — Тем более что намедни мне довелось с одной миссией посетить Флоренцию, где мой давний приятель настоятель Санто Спирито епископ Бикьеллини показал мне деревянное Распятие работы нашего молодого друга. Оно особенно впечатляет неожиданной трактовкой образа Христа. Поздравляю вас, Буонарроти!
Возможно ли такое? От волнения он потерял дар речи и не смог вымолвить слова благодарности доброму другу Галли, так ловко сосватавшему ему новый заказ. Неужели ему улыбнулась судьба и его работа может появиться в главной базилике христианства? В это трудно было поверить.
Всю ночь он не мог сомкнуть глаз, а наутро помчался в базилику Святого Петра, где без труда нашёл довольно тесную часовню французских королей, слабо освещённую тусклым светом, льющимся сверху из окна. Сделав нужные замеры, он вернулся в мастерскую.
На мольберте стояла заждавшаяся его Мадонна. Он подправил слегка правую руку сына, тянущегося к книге, и оставил картину незавершённой, сняв с мольберта и прислонив доску лицевой стороной к стене. По всей видимости, как ему казалось, волновавшая его идея полностью выражена. Будучи во власти нового замысла, он ни о чём другом не в силах был думать.
Два дня спустя разговор о заказе кардинала Сен-Дени продолжился в том же составе. Волнуясь, старый прелат стал излагать своё видение будущей скульптуры. Микеланджело вежливо слушал вполуха его соображения о том, каким должно быть изваяние, а сам думал о другом, выбросив из головы всё сказанное велеречивым кардиналом. У него возникла своя идея, захватившая его целиком. Лет пять назад он изваял Мадонну с младенцем, а позже — деревянное Распятие. Теперь у него созрело твёрдое решение создать для базилики Pieta — Оплакивание Христа. Только такое изваяние, по его глубокому убеждению, могло достойно украсить главную святыню христианства.
На следующий день он изложил свои соображения кардиналу и Галли, которые горячо его поддержали. Воодушевлённый поддержкой, Микеланджело отправился на поиски добротного мрамора для задуманной скульптуры. На камнебитном рынке в Трастевере ему не приглянулась ни одна глыба. Допустив однажды промах, он с особой придирчивостью рассматривал каждый блок мрамора, стараясь понять его структуру и увидеть возможные изъяны. Ему были памятны рассказы Тополино и старины Бертольдо о том, что лучший мрамор залегает только на вершинах гор, поскольку камень там не испытывает давление верхних слоёв, а стало быть, в нем не образовываются свищи и другие изъяны. После таяния снегов влага наверху не задерживается, а именно она, как говорил Тополино, сущая пагуба для мрамора.
Сгорая от нетерпения, он купил коня и помчался по древней Аврелиевой дороге вдоль моря в сторону лысых Апуанских Альп, голубеющих вдали. Конечным пунктом изнурительной скачки была столица каменотёсов Каррара, природная кладовая ценнейших пород мрамора, где его добыча ведётся с незапамятных времён. В долине реки Каррионе расположены главные каменоломни — их не менее тысячи, больших и малых. Такого количества разработок камня он не видел ранее даже в Сеттиньяно.
Зима выдалась на редкость морозная, и горы были укутаны пушистым снежным покрывалом, а на склонах всюду зияли тёмные пятна, где в глубине штолен велись работы и откуда доносились лязг пил и удары молота. Горные спуски обледенели, что затрудняло доставку добытого мрамора в ложбину. Он пару раз видел, как добытые блоки срывались с лебедки и с грохотом устремлялись вниз, круша всё на своём пути. Знающие люди советовали подождать до весны, когда начнётся таяние снегов. Но Микеланджело не мог ждать, памятуя о преклонном возрасте заказчика.
Две недели пребывания в Апуанских Альпах были для него отличной школой, несмотря на холод и снежную пургу, когда из-за сплошной белой мглы ничего не было видно вокруг. Живя в горах, он чувствовал себя в родной стихии и ощущал такой прилив небывалой энергии, что готов был сдвинуть скалы в поисках нужного блока мрамора. Ему помогал в рискованном лазаньи по обледеневшим горам нанятый проводник, знаток своего дела.
Мороз крепчал, и сильный ветер затруднял поиск, но Микеланджело не сдавался. Вскоре он научился безошибочно распознавать всё многообразие сортов каррарского мрамора: bardiglio (с белыми и голубоватыми прожилками), breccia violetta medicea (брекчия из спресованных мелких угловатых обломков фиолетового оттенка для флорентийской мозаики), cipollino (со слоистыми прожилками, как у луковицы), fiordipesco (персикового цвета), paonazzo (тёмно-лиловый), statuario (пригодный для любого ваяния). Но главную ценность представлял собой ариапо, или каррарский белый мрамор, обретающий под воздействием света различные оттенки.
Перед ним стояла задача найти мелкозернистый белый и блестящий мрамор, легко поддающийся полировке, посредством которой выявляются всё его тональное богатство и светоносность. Близ вершины горы Сагро он облюбовал нужный блок мрамора. Договорившись с хозяином о цене, он вместе с рабочими начал вгрызаться в породу, орудуя кувалдой. Когда с помощью вбитых шунтов был выделен блок нужных габаритов, каменотёсы приступили к его выемке. Но предстояло самое главное — доставка глыбы с помощью канатных блоков вниз по обледеневшему склону, что было сопряжено с большой опасностью, если канат не выдерживал тяжести. Но всё прошло благополучно, и блок был спущен в ложбину. Не доверяя грузчикам, он лично проследил, чтобы от глыбы не откололся ни один кусок, когда по смазанным маслом бревенчатым каткам камень волокли до ближнего причала порта Марина ди Каррара, где его ждал зафрахтованный парусник. Такелажники осторожно погрузили мраморную глыбу на борт покачивающейся на волнах фелюги, которая снялась с якоря и вышла в море.
Уставший, но довольный сделанным Микеланджело вернулся из Каррары, решив тут же взяться за рисунки и поиск натурщиков. Но что-то не переставало его беспокоить — и кошмары тревожили по ночам, когда, просыпаясь весь в поту, он ждал рассвета…
Мы погоняем ночь, как скакуна, Надеясь днём вкусить отдохновенье. Надежда на покой обречена — Его сулит нам только сновиденье… (53)Настало время подумать о собственном жилье и мастерской. Он столь многим был обязан Галли, что чувствовал себя не вправе злоупотреблять далее его гостеприимством. У него были семья, повзрослевшие дети и свой домашний распорядок жизни, который придётся нарушать монотонным стуком молотка. Узнав о его желании съехать, хозяин дома не стал возражать, понимая, что если его молодой друг что-либо решил, переубедить упрямца невозможно.
— Знай только одно, Микеланджело, — сказал на прощанье Галли, — двери моего дома всегда для тебя открыты.
Дня три ушло на поиск нового жилища. Представилась прекрасная возможность снять домик или нижний этаж во флорентийском квартале, но цены там кусались. Свой выбор он остановил на предложенных ему двух комнатушках с отдельным входом в старом доходном доме, который, видимо, из-за ветхости был предназначен на слом, а потому и цена оказалась умеренной, что его особенно прельстило. Кроме того, заселённый простым людом район бывшего Сатро di Marte — Марсова поля, — где находилась снятая им развалюха, находился рядом с портом Рипетта на Тибре, куда был доставлен блок мрамора из Каррары. Там же он снял по дешёвке пустой сарай под мастерскую.
Пока он был занят обустройством нового жилища, в чём ему помогал, а вернее мешал своей болтовнёй Бальдуччи, в Риме неожиданно объявился брат Буонаррото, который привёз грустную весть: умерла Лукреция Убальдини. Микеланджело с болью воспринял смерть мачехи, которая в детские годы часто брала его под свою защиту, когда отец с братьями набрасывались на него из-за пристрастия к рисованию и лепке. Он никогда не называл её мамой и ни разу не поинтересовался, кто она, откуда родом и как оказалась в их доме. Лукреция была вечно занята по хозяйству и молчалива, а в их доме слышался только скрипучий поучающий голос всезнающего родителя.
— Отец сник совсем, — рассказал брат, — и не перестаёт себя корить, что взвалил на её плечи, кроме заботы о нас, все дела по хозяйству. Мы хотим подыскать ему новую женщину, так как он боится оставаться один в спальне.
Буонаррото прибыл в надежде, что старший брат через своих заказчиков и знакомых поможет ему найти приличное место работы. Он никак не ожидал, что ставший знаменитым брат живёт в жалкой конуре с чуланом, забитым картонами и рисунками. При виде столь убогого, почти нищенского жилища Буонаррото засомневался, что брат сможет для него что-либо сделать, коль скоро и для себя не смог найти более достойного пристанища и обустроить свою жизнь так, как подобает человеку, обретшему известность.
Микеланджело был рад приезду любимого брата, но в доме хоть шаром покати, и он повёл Буонаррото перекусить с дороги в ближайший трактир, а на ночлег устроил там же, где на втором этаже сдавались комнаты под жильё.
— Отдохни после дороги, — предложил он брату, — утро вечера мудренее. Завтра поговорим.
Утром Буонаррото долго не решался высказать свою просьбу. Ведь он, как и остальные братья, не был обучен никакому ремеслу. Микеланджело спросил, что слышно о старшем брате монахе Лионардо.
— После казни Савонаролы, — ответил Буонаррото, — Лионардо исчез, и правильно сделал. У нас до сих пор идёт облава на сторонников преподобного, с ними не церемонятся и расправляются на месте.
Наконец, собравшись с духом, он попросил брата пристроить его хотя бы конюхом к Галли или к кардиналу Риарио. Просьба обескуражила Микеланджело.
— Да понимаешь ли ты, о чём просишь? — удивился он. — Мне ли, представителю старинного флорентийского рода, выклянчивать у своих римских заказчиков место подёнщика или слуги для родного брата!
Бедность его не тяготила, и он к ней привык, приучив себя довольствоваться малым. Но поступаться собственным достоинством — это было свыше его сил. Ему никогда не приходилось изменять себе, что являлось предметом его гордости. В разговоре с братом о своём житье-бытье в Риме ему пришла на ум старинная пословица, которую он не раз слышал из уст отца, ревнителя чести и семейных традиций.
— Вот что я тебе скажу, Буонаррото. Если в дверь стучится нужда, никогда не поступайся своим достоинством и не выбрасывай его в окно. Приучи себя придерживаться этого мудрого правила.
Он долго убеждал брата, что счастье не в деньгах, а в постоянном труде, сколь тяжёл бы он ни был. Но именно честный труд приносит удовлетворение. Слушая его, Буонаррото умолчал о том, что ему полюбилась одна девушка-бесприданница, а ради создания своей семьи он был согласен на любую работу и меньше всего думал о достоинстве и чести их старинного рода.
Рассуждения Микеланджело не убедили Буонаррото, и он уехал из Рима недовольный. Микеланджело отдал ему всё, что сумел взять в долг у банкира Бальдуччи в счёт будущих гонораров. К Галли он постеснялся обращаться за помощью, так как давно успел понять, что дома это гостеприимный и радушный человек, а в своей конторе он преображается, как хамелеон, становясь чёрствым бездушным скрягой, трясущимся над каждым сольдо.
«Напрасно домашние считают, что я здесь гребу дукаты лопатой», — думал он, проводив брата. Семья для него была святыней, и он по-своему любил своих близких, особенно отца. Но отказывая себе во всём, ему пока не удавалось полностью удовлетворять растущие запросы родных, что настраивало его на грустный лад. Так, в одном из писем отцу он писал, что ради благополучия семьи и достатка в доме «готов продать себя в рабство».
Видимо, рассказ Буонаррото о поездке в Рим, куда он отправился, подрядившись погонщиком стада мулов, взволновал мессера Лодовико, и зимой пришло письмо, в котором говорилось: «Буонаррото поведал мне, как бережливо и даже скупо ты там живёшь. Бережливость — дело похвальное, а вот скупость — это порок, порицаемый Богом и людьми. Она вредна телу и душе. Пока ты молод, это, быть может, и не скажется, а вот к старости нездоровый образ жизни даст о себе знать, и тебя станут одолевать болезни и недуги. Живи умеренно и не истощай себя. Главное, остерегайся подорвать здоровье, ибо если станешь, не дай Бог, слаб и немощен в своём деле, считай тогда себя пропащим человеком. Не изнуряй себя чрезмерным трудом. Держи голову в умеренном тепле и никогда не мойся, а только обтирайся».
Конечно, у мессера Лодовико Буонарроти были свои понятия о гигиене и здоровье. Но во многом отец был прав, ибо жажда деятельности настолько распирала Микеланджело, что стала своего рода болезнью и манией, заставляя его постоянно трудиться в полной отрешённости от мира, который его страшил, вызывая в нём боль и отчаяние. Он сам признаёт в одном из писем, что его не покидает постоянная меланхолия, часто граничащая с безумием:
Я сам не свой. Мечусь. Но отчего же? О Боже, Боже, Боже! Живу я, как в неволе, — Собой не правлю боле. Но что так властно помыкать мной может? О Боже, Боже, Боже! Я чем-то наполняюсь через очи, И на сердце отрава, Амур, терпеть нет мочи! Знай, я иного нрава: Когда внутри вулкан мой заклокочет, То выплеснется лава (8).Не дожидаясь подписания договора, зимой 1497 года Микеланджело приступил к работе над блоком каррарского мрамора. Знаменательно, что примерно в то же время в Милане Леонардо да Винчи начал писать фреску «Тайная вечеря» в трапезной церкви Санта Мария делле Грацие. В этом совпадении скрыт глубокий смысл — только Флоренция, в отличие от остальных мировых центров культуры, смогла одновременно породить двух гениев, чьи творения стали знаковыми и определили дальнейшее развитие мировой живописи и скульптуры.
27 августа 1498 года был подписан договор, по которому скульптор был обязан выполнить работу в течение года за 450 дукатов. По тем временам это была солидная сумма, равная примерно нынешним 30 тысячам евро, а по современным меркам она смехотворна. В договоре Микеланджело впервые назван «мастером». Горячо поддержав идею французского кардинала, Галли приложил к договору своё личное поручительство, в котором заверил заказчика, что это будет самая прекрасная из всех выполненных в мраморе работ, имеющихся в Риме. Она будет такого высочайшего качества, что ни один современный мастер не сможет сотворить ничего лучше.
Прочитав приписку, кардинал Сен-Дени признал:
— Для меня ваше слово, дорогой Галли, самая большая гарантия, и я теперь спокоен, что моя мечта осуществится, и я смогу вернуться со спокойной совестью домой доживать свой век.
Приложенное к договору ручательство Галли, написанное сухим канцелярским языком, оказалось пророческим, и мировое искусство обогатилось величайшим творением. Мощным импульсом для его появления явились ошеломившие современников своей жестокостью события во Флоренции, оставившие глубокий след в душе Микеланджело. Гибель Савонаролы была им воспринята как личная трагедия. Но живя в папском Риме, где процветало доносительство и были в ходу подмётные письма, он ни с кем словом не обмолвился о потрясшей его смерти преподобного, храня скорбное молчание. Боль, закравшаяся в его душу, нашла отражение в «Пьета».
Ещё летом он нашёл натурщицу. Его внимание привлекла одна девица, продававшая цветы на площади Навона. Он купил у неё букетик фиалок и разговорился с ней, поражённый грустным выражением её милого лица. Оказывается, она потеряла любимого человека, который предательски сбежал накануне объявленной помолвки. Девушка согласилась позировать, чтобы немного забыться. Джулия, так звали славную цветочницу, жила с родителями, имевшими небольшую оранжерею недалеко от его мастерской.
Всю осень он проработал над моделью в глине и до наступления зимних холодов успел её закончить. Джулия оказалась послушной и терпеливой натурщицей, так что работа шла спокойно и споро. Ему удалось схватить главное, что его волновало в фигуре и выражении лица Девы Марии. После прочтения страниц Евангелия, описывающих последние мгновения жизни Христа и снятие тела с креста, он решил высечь в мраморе убитую горем мать с мёртвым сыном на коленях наедине с бесстрастно молчащей и равнодушной к человеческому горю в своём космическом оцепенении Вселенной.
Рубить мрамор он принялся зимой, когда холод проникал через все щели мастерской. Единственным спасением была горящая жаровня, над которой приходилось отогревать окоченевшие от стужи руки. Работая в исступлении день и ночь, он признаёт в одном из писем: «Я едва успеваю проглотить кусок… Не хватает времени даже поесть… Вот уже сколько лет, как я изнуряю своё тело непосильным трудом, нуждаясь в самом необходимом… У меня ни гроша за душой, я разут, раздет и терплю всяческие лишения». Последнее признание звучит несколько преувеличенно. Но он был таков — сын своего отца, унаследовавший от родителя чрезмерную скупость.
К весне стал вырисовываться общий план композиции в форме объёмного треугольника с гармоничным сочетанием горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей. Толщина мраморной глыбы составляла не более метра, и Микеланджело проявил невиданное доселе мастерство. Трудно даже вообразить, как ему удалось вызволить из узкой по толщине глыбы две объёмные фигуры, преисполненные монументальности и вызывающие ощущение их трёхмерности.
Богоматерь представлена сидящей на возвышении, символизирующем Голгофу. Лежащее у неё на коленях снятое с креста бездыханное тело Христа мягко и естественно повторяет изгибы хитона и ниспадающие крупные складки её плаща. Правой рукой она поддерживает тело Сына, а левую руку Девы Марии Микеланджело изваял в указующем жесте раскрытой ладони, повёрнутой вверх, словно посылающей Небу немой вопрос с горестным укором: зачем понадобилась такая жертва?
Обе фигуры, совершенные по исполнению, представляют собой два человеческих существа, посланных Богом на страдания за грехи людского рода. Микеланджело решительно порывает со стереотипным образом Mater Dolorosa у Донателло, Гиберти, Мантеньи, Боттичелли и других мастеров Кватроченто. Вместо истерзанной страданиями старой женщины с искривлённым от рыданий ртом и растрёпанными волосами он изваял прекрасную юную деву, чей благородный облик со скорбно склонённой головой и опущенными веками выражает чувство отчаяния и тихую беззвучную печаль.
Телесная красота Христа сродни красоте Аполлона, которым так восхищался Микеланджело. Распростёртое на коленях Богоматери бездыханное тело не искажено предсмертной судорогой, словно это тело спящего человека. Молодой скульптор настолько хорошо знал природу мрамора, что под его чудодейственным резцом камень преобразился, утратив свою материальность, и стал неким метафизическим веществом.
По поводу обилия складок хитона и плаща Девы Марии немало было написано. Кто-то считал их предвестницами нового стиля барокко, а совсем недавно один из высокопоставленных ватиканских прелатов выдвинул гипотезу, что резко изогнутая складка плаща Богоматери за плечом Христа напоминает хобот и что тем самым скульптор воздал должное одному из своих подручных по прозвищу Elefante — «Слон». Среди помощников Микеланджело упоминается парень с таким прозвищем, данным за неуклюжесть. Но узреть в правой складке плаща изображение хобота можно лишь с большой натяжкой и при крайне обострённом воображении.
* * *
Работая над «Пьета», Микеланджело не переносил присутствия посторонних, держа на запоре дверь мастерской на окраине Марсова поля. Бальдуччи попытался было зайти, заинтересовавшись милой натурщицей, но получил от ворот поворот и больше не появлялся. Единственными, кому было дозволено войти, были заказчик и друг Галли. Оба часто наведывались в сарай, и на их глазах оживала вызволенная из мраморной глыбы скорбная фигура Богоматери.
— Извините меня, дорогой Буонарроти, — не удержался как-то кардинал Сен Дени. — Не кажется ли вам странным, что мать выглядит моложе сына?
— Вы совершенно правы, Ваше преосвященство. Так и должно быть, поскольку Мария была девственница.
Неизвестно, насколько ответ удовлетворил старого кардинала и присутствовавшего при этом разговоре Галли, который всецело доверял чутью и вкусу молодого скульптора. Позднее, когда Микеланджело диктовал Кондиви свои мемуары, появилось более пространное объяснение, поскольку юный биограф тоже никак не мог взять в толк, почему Мария изображена столь молодой:
— Неужто ты не знаешь, Асканио,что чистота помыслов лучше всего сохраняет свежесть тела и что скромным женщинам долго присущи красота и молодость лица? Другое дело — её Сын. Он воплотился в образе человека, а потому подвержен всему, как любой смертный, кроме греховности. Вот почему Иисус должен выглядеть старше того возраста, в каком принял мученическую смерть. Опыт и страдания состарили его преждевременно.
Он ещё долго объяснял, как вспоминает Кондиви, что у Богоматери неувядающая молодость вызвана особой божественной благодатью. Все его весьма путаные теолого-физиологические объяснения, основанные на догмате о Непорочном зачатии, говорят лишь об одном — вопреки официальным канонам Микеланджело внёс в евангельскую историю дух античной культуры и тем самым вознёс сугубо христианский сюжет на невиданную ранее высоту, ибо его «Пьета» стала неподвластна времени и смерти, и в этом её глубокий философско-этический смысл и величайшее художественное достоинство.
Работа приближалась к завершению. Однажды, когда в мастерской находился кардинал Сен-Дени, наблюдавший с интересом, как Микеланджело резцом поправлял свисающую правую руку Христа, подчёркивая её безжизненность, ему вдруг послышалось, как мастер, отойдя шага на два в сторону от изваяния, тихо промолвил:
— Вот так же Савонарола принял смерть во имя спасения людей.
Кардинал вздрогнул от неожиданности и чуть не упал с табурета.
— Ради всего святого, не продолжайте! — взмолился он, оглядываясь по сторонам. — У стен есть уши.
Он так разволновался, что ему стало нехорошо, и Микеланджело вынужден был осторожно довести его до стоящей неподалёку кареты со слугой. Бедняга кардинал так и не дождался окончания работы. В то лето стояла сильная жара, и сердце престарелого прелата не выдержало. 6 августа 1499 года кардинала Сен-Дени не стало. Благодаря помощи верного друга Галли все возникшие трудности из-за смерти заказчика были безболезненно разрешены с его наследниками.
В дни Великого поста скульптуру ночью перенесли в базилику Святого Петра. Наняв повозку с впряжённой четвёркой волов, Микеланджело сам руководил погрузкой и доставкой статуи, освещая факелом дорогу и помогая миновать ямы и колдобины.
Торжественное освящение «Пьета» состоялось в Рождественский сочельник. Базилика была переполнена верующими. Папа Александр VI лично окропил скульптуру святой водой, под сводами храма раздались мощные аккорды органа и смешанный хор грянул праздничную «Аллилуйя».
Потрясённый увиденным и услышанным Микеланджело не выдержал, его душили слёзы. Стоявший рядом Галли обнял его и по-отечески прижал к груди.
— Мужайся, мой друг, — тихо произнёс он. — Тебе придётся ещё немало испытать на своём веку таких светлых минут высшего откровения.
К ним подошёл Пинтуриккьо, который передал личное приглашение папы после службы присутствовать на праздничном ужине во дворце. Взволнованный Микеланджело буркнул что-то невнятное в ответ. Ему хотелось побыть одному со своими мыслями, а идти во дворец на приём — это было слишком. Поняв его состояние, Галли сказал:
— Ступай, друг. Я всё улажу.
После торжественного освящения «Пьета» поток желающих взглянуть на чудо не убывал. Особенно умножилось число паломников со всей Европы в канун юбилейного года, который отныне стал отмечаться каждые четверть века для пополнения казны от продажи индульгенций, хотя ещё недавно такие празднества устраивались лишь раз в столетие.
Сомнения не покидали Микеланджело, и он часто заходил в базилику Святого Петра, где завершались работы в часовне для установки статуи. Однажды там появилась Джулия с родителями, которые поставили перед статуей большую корзину алых роз и белых лилий. Девушка расплакалась и начала истово молиться, пока отец с матерью не увели её из храма.
Покамест «Пьета» стояла почти в центре базилики, что давало редкую возможность для её кругового обозрения. Однако наплыв толпы представлял собой опасность для хрупкой скульптуры, поэтому Микеланджело настоял на её скорейшем переносе в нишу часовни французских королей.
Его живо интересовала реакция публики, и он жадно прислушивался к высказываниям зрителей. Однажды, когда он стоял в толпе ломбардских паломников перед изваянием, ему вдруг послышалось, как один синьор, считавший себя знатоком, с гордостью сказал:
— Такое чудо мог сотворить только наш прославленный миланский мастер Кристофоро Солари по прозвищу Gobbo — Горбун.
Слова незнакомца задели за живое. Нет, такого он стерпеть не смог! В тот же день после всенощной вернувшись в храм со светильником и резцом, он выбил на скульптуре надпись: «Michael Angelus Bonarotus Florent Faciebat» («Флорентиец Микеланджело Буонарроти сделал»), но не в углу, как это обычно принято, а на самом видном месте поперёк груди Богоматери на поясе её хитона — настолько он был горд своей скульптурой, вызывающей восхищение людей, которые преклоняли перед ней колени и истово молились.
Это был единственный случай, когда он дал вырваться наружу собственному тщеславию. В дальнейшем он никогда не подписывал свои работы, будучи уверен, что его почерк узнаваем без автографа, и был прав. Его творения с их впечатляющей пластикой были неповторимы, породив целое поколение эпигонов с их безукоризненно выполненными формальными приёмами, которые бесконечно варьировались виртуозами маньеризма с их мастерством, постепенно превращаемым в рутину.
Завершая в «Жизнеописаниях» рассказ о «Пьета», Вазари приводит терцины анонимного автора. Делалось немало предположений относительно имени их создателя, хотя Вазари сообщает, что стихи сочинены «прекраснейшим» поэтом, чьё имя он по непонятной причине не назвал. Поэтому можно рассматривать приведённые терцины как сочинение самого Вазари, который перед Микеланджело-поэтом постеснялся признать своё авторство.
Сколь ни прекрасно это изваянье, Но скорбь не может мрамор оживить. Напрасны наши громкие рыданья, И тело мёртвого не воскресить. Его сподвигла боль и человечность Пойти на крест, чтоб грех наш искупить, Он умер, для себя обретши вечность, Но жив для всех Господь наш и поныне, И безутешно мать скорбит о сыне.40* * *
Наступило 31 декабря — День святого Сильвестра, когда римляне по старой традиции в канун Нового года стараются освободиться от всей накопившейся ненужной рухляди. В ночь на 1 января ходить по римским улицам по сию пору небезопасно — того и гляди на голову из окна свалится колченогий стул или продавленный матрац.
Микеланджело решил остаться дома, хотя Галли усиленно приглашал его к себе на ужин по случаю наступающего Нового года. Сидя за рабочим столом с зажжённой свечой, он приводил в порядок листы с рисунками. В дверь раздался стук. Микеланджело поднялся и пошёл узнать, кого там принесло к нему в поздний час.
На пороге стояла миловидная женщина из соседнего подъезда, чьё имя было ему незнакомо.
— Маэстро, — робко промолвила она. — Мы только что вернулись из храма, где видели ваше творение. Не откажете нам в любезности отметить вместе с нами по-соседски наступление Нового года?
Поражённый такой просьбой и подкупающей искренностью в голосе просительницы, он охотно согласился. В отличие от его холостяцкого жилища квартира соседей по дому была ухожена, посреди гостиной красовался накрытый стол со множеством яств… Хозяином дома оказался приветливый человек лет сорока, назвавшийся Джованни, владелец столярной мастерской. Тут же были двое сыновей-подростков, пятилетняя дочка и пожилые родители жены Марии.
Время, проведённое за дружеской трапезой, пролетело незаметно. Хозяева радушно потчевали дорогого гостя, а когда настенные часы пробили полночь, раздалось чоканье бокалов с шипучим вином «Спуманте».
— Ваша «Пьета», уважаемый маэстро, — сказала осмелевшая Мария после пригубленного ею бокала, — очищает душу и вселяет надежду…
Домой он вернулся далеко за полночь в самом приподнятом настроении от приятного знакомства с удивительно приятным и добрым семейством соседей. В ту ночь он необычно крепко заснул и улыбка не покидала его лица.
Двадцатичетырёхлетний Микеланджело с триумфом вступил в новое XVI столетие, а его автограф на «Пьета» означает прежде всего, что в отличие от всех прежних произведений, не лишённых заимствований и вызывающих порой сомнения у специалистов, на свет появился совершенно новый творец со своим особым видением мира и неповторимым художественным почерком, который отныне стал безошибочно узнаваем и без авторской подписи.
Как было сказано выше, одновременно другой великий флорентиец, Леонардо да Винчи, завершил работу над фреской в Милане. Оба эти произведения — «Пьета» и «Тайная вечеря» — открыли новую страницу в истории мирового искусства накануне трагических потрясений, которые довелось пережить Италии.
Слава о «Пьета» разнеслась по свету, и заказы посыпались один за другим. Друг Галли познакомил Микеланджело с двумя фламандскими купцами братьями Мускрон, которых римляне окрестили Маскерони. Их продукция, английское сукно, пользовалась большим спросом. Не остыв ещё от «Пьета», он довольно быстро справился с эскизом, пообещав фламандцам, предложившим солидный гонорар, исполнить их заказ дома во Флоренции, куда он торопился вернуться.
В XVII веке «Пьета» была перенесена в первую правую от входа часовню заново отстроенного собора Святого Петра. В своё время она была задумана и установлена в нише гораздо меньшей высоты и ширины. На новом месте статуя несколько утратила свою монументальность, будучи установленной на высоком пьедестале в большей по размеру капелле. Несмотря на это, она продолжала вызывать священный трепет и благоговение у любого человека, который переступает порог величественного собора, и первое, что он видит справа в первой капелле, — это скорбная фигура Девы Марии, держащей на коленях бездыханное тело Христа. В этой композиции всё предельно просто и жизненно, а сама скульптура проникнута глубокой человечностью и столь понятным каждому неутешным горем матери, принесшей сына в жертву людям.
Но оказалось, что не у всех «Пьета» вызывала чувство благоговения и восторга. 21 мая 1972 года в праздник Pentecoste — Троицына дня произошло неслыханное святотатство, когда один австралийский турист, венгр по происхождению, с криком, что он «новый Христос», набросился на скульптуру с ледорубом и нанёс ей серьёзное увечье, особенно сильно повредив лицо Девы Марии. Эта весть всколыхнула весь цивилизованный мир. Отныне после реставрации скульптура защищена пуленепробиваемым стеклом, что несколько затрудняет её осмотр.
Перед отъездом Микеланджело флорентийское землячество устроило праздничное застолье в его честь, во время которого ему было высказано много лестных слов. Все выступавшие особенно подчёркивали, что скульптуру «Пьета» — это подлинное совершенство — мог сотворить только флорентиец, познавший с детства, что такое красота и гармония.
Тогда же Микеланджело стало известно, что вокруг огромной глыбы каррарского мрамора пятиметровой длины, принадлежащей влиятельному цеху шерстяников и лежащей в сарае рабочего двора собора Санта Мария дель Фьоре, развернулась нешуточная борьба между желающими взяться за неё скульпторами. Пока что никому из них не отдали предпочтения.
— Поторопись, Микеланьоло, — сказал Ручеллаи на прощальном банкете, — иначе глыба попадёт в другие руки, хотя многие успели об неё обломать зубы.
Он впервые увидел её на рабочем дворе собора, когда трудился над изваянием Геракла в память о Лоренцо Великолепном, и загорелся ею, не переставая думать о глыбе даже в работе над «Пьета». Проводимый добрыми напутствиями, он в приподнятом настроении отправился домой.
Глава XVI СИМВОЛ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Когда во власти смелых устремлений
Берусь я в камне воплотить черты
И молотом осуществить мечты,
Ударом мощным властно правит гений (46).
Уже в первый день по возвращении из Рима, не доехав до отчего дома, он попросил извозчика, нанятого на почтовой станции у городских ворот, остановиться на минуту у собора и побежал на рабочий двор, чтобы удостовериться, что глыба на месте.
В городских анналах сохранилось первое упоминание о глыбе мрамора, появившейся на рабочем дворе собора, помеченное апрелем 1475 года, когда полуторамесячного Микеланджело начала вскармливать грудью жена каменотёса в Сеттиньяно. Через год цех шерстяников поручил работу над глыбой флорентийскому скульптору Антонио Росселлино, младшему брату известного архитектора Бернардо Росселлино. Но молодой скульптор не справился с неподатливой глыбой и отказался от заказа. Затем за неё взялся Агостино ди Дуччо, ученик Луки делла Роббиа. Он без толку провозился над упрямым мрамором, успев лишь слегка обтесать края глыбы. По одним сведениям, его выслали из Флоренции за какой-то неблаговидный поступок, по другим — Дуччо оставил работу из-за несогласия заказчика с его идеей сотворить гигантскую фигуру наподобие древнегреческого Куроса с острова Мелос или Эфеба, найденного под Агридженто. Обе статуи относятся к V веку до нашей эры, и их римские копии хорошо известны. Вазари называет также имя мастера Симоне из Фьезоле, взявшегося после Дуччо за глыбу и принявшегося высекать фигуру Колосса, нанеся мрамору непоправимый ущерб.
Оказавшись во Флоренции после долгого отсутствия, Микеланджело не узнал родной город. Былые страсти утихли, религиозный фанатизм угас, и всюду жизнь входила в нормальную колею: в мастерских кипела работа, на рынках шла бойкая торговля, а из трактиров слышались голоса вечно о чём-то споривших завсегдатаев. У горожан посветлели лица, и они выпрямились, обретя прежнюю гордую осанку и привычное им достоинство. Большие изменения коснулись и жизни общества, где вновь восторжествовали республиканские принципы. Пожизненным гонфалоньером справедливости и главой правительства был избран один из уважаемых граждан, Пьеро Содерини.
Встретившись с друзьями, Микеланджело узнал, что не все собратья по искусству оправились от пережитого. Как рассказал Граначчи, совсем сдал Боттичелли:
— Он не выходит из дома, работая над рисунками к «Божественной комедии» в надежде вымолить прощение за былые прегрешения при написании, как он сам считает, «богохульных» картин.
Тяжело болен Росселли и давно не прикасается к кисти, памятуя о потрясшей его мученической смерти Савонаролы. Пьеро ди Козимо всё ещё оглушён голосом казнённого проповедника, страдая от недугов и ночных кошмаров, от которых не излечивают ни посты, ни молитвы. Лоренцо ди Креди живёт как монах и постоянно себя корит, что вовремя не покаялся, прежде чем всё суетное предать сожжению. Филиппино Липпи вконец исписался и способен только повторяться с монотонной назойливостью.
Сколько их, напуганных апокалиптическими пророчествами и оказавшихся в добровольном заточении! Пожалуй, один лишь фра Бартоломео не пал духом, но во избежание бед упрятал подальше написанный им профильный портрет Савонаролы, чьё имя опасно произносить вслух, чтобы не накликать неприятности на свою голову.
Микеланджело видел, что у молодых людей тяга к искусству не иссякла, хотя они плохо помнят времена невиданного творческого подъёма при Лоренцо Великолепном. Его поразила робость юнцов, послушно следующих советам своих наставников. Неподалёку от церкви Санта Мария Новелла, куда он зашёл, чтобы помянуть Гирландайо, находилась мастерская Перуджино, с которым он давно был знаком. Около десятка учеников корпели над копированием рисунков мастера. Но где былая смелость и полёт фантазии?
Разговора с хозяином мастерской не получилось, так как Микеланджело сразу почувствовал, что того распирала чёрная зависть.
— Наслышан о твоей «Пьета», — процедил сквозь зубы Перуджино. — Много говорят о ней всякого. Некоторые считают, что Христос у тебя сильно смахивает на Савонаролу. Не боишься попасть впросак? Иные времена настали…
Опровергать и доказывать что-либо было бесполезно, и он оставил в покое язвительного коллегу, который был постарше его лет на двадцать. Куда больше Микеланджело возмутила бесхребетность его учеников, которые покорно повторяли азы прошлого. Больше всего опечалило то, что Флоренция перестала быть кузницей Вулкана, её нынешние поковки выглядят поржавевшими и никого уже не впечатляют. Взять хотя бы того же Перуджино, чья мастерская давно превратилась в цех по производству изящных живописных головок на потребу любым непритязательным вкусам. О нём любили рассказывать, как однажды он приказал жене: «Наливай суп, а я пока успею нарисовать ещё одного святого!»
А как измельчали заказчики! Подавай им только привычное и общепринятое. Малейшая вольность и отклонение в сторону тут же порицались как измена славным традициям. Нашлось немало знатоков, которые ведут себя так, словно у них в руках ключи от храма искусства и они готовы принять любую никчёмность за откровение.
* * *
По случаю возвращения Микеланджело в родные пенаты друзья закатывали пиры то в «Клубе Горшка», то в «Клубе Мастерка», где по традиции живописцы и скульпторы изощрялись в кулинарных изысках. Пришлось побывать на одном из таких застолий, где от изрядно выпитого произносимые тосты были слишком солёными и переперченными, а многих сотрапезников на руках выносили из-за стола и развозили по домам на извозчике.
Вдохнув полной грудью родной флорентийский дух, он стремился скорее заняться делом и отказался от дальнейших приглашений. Подхлёстываемый мыслями о многострадальной глыбе, которая стала ему сниться по ночам, Микеланджело довольно быстро закончил обещанную фламандцам Мускрон готовую работу «Мадонна Брюгге» (1,74 x 1,95 метра), названную так по месту её нахождения. Скульптура близка по духу «Пьета». Это единственное творение скульптора, изначально задуманное как объект поклонения. Оно обращено к чувствам верующих, представляя собой своеобразную икону в мраморе с присущими ей сухостью, строгостью и некоей торжественной недоступностью.
Новизна образа проявляется уже в том, что Микеланджело смело порывает с традицией Кватроченто и снимает младенца с колен матери, поставив его на ноги. Прямо сидящая на троне Мадонна гордо представляет миру сына Христа. Вся композиция построена по вертикали — линии плата, складки хитона на груди и по той же вертикали вытянута вперед ножка ребёнка. При первом взгляде на скульптуру бросаются в глаза некоторые несоразмерности. Например, непомерно велик не по возрасту ребёнок Христос и особенно его большая головка, которая над всем господствует
Все эти диспропорции объясняются тем, что статуя рассчитана на её обозрение снизу вверх (da basso in su), что подтверждается направлением взгляда Девы Марии и ребёнка крепыша, опёршегося о колено матери и с удивлением взирающего на мир сверху вниз. От всей композиции веет благородством и несказанной материнской гордостью. «Мадонна Брюгге», что особенно важно, своей выразительной сдержанностью мощно выражает дух нового времени. Уже сама вертикаль головы Мадонны выходит за пределы всего того, что было свойственно искусству Кватроченто.
Видимо, не всё удовлетворило Микеланджело в этой работе, преисполненной красоты и гармонии, и он довольно легко с нею расстался, вручив заказчику.
* * *
Не успел он как следует оглядеться и устроить кое-какие домашние дела, как 5 июня 1501 года подписал контракт, который устроил ему верный римский друг Галли через знакомого кардинала Франческо Тодескини Пикколомини, племянника папы-просветителя Пия II. По новому контракту ему надлежало изваять 15 скульптур святых и апостолов для кафедрального собора Сиены. На работу отводилось три года. И хотя цена заказа составляла значительную сумму, намного превышающую гонорар за «Пьета», поскольку ставка молодого скульптора после римского триумфа значительно возросла, идея его не воодушевила, так как высота каждой фигуры, помещённой в тесной нише, не должна была по контракту превышать одного метра с небольшим.
В кругу друзей он заявил, что не для того родился на свет, чтобы ваять карликов.
— Но твои болонские фигуры вдвое меньше, — напомнил кто-то.
— Я вынужден был за них взяться, живя на чужбине, а там с заказчиком особенно не поспоришь.
Под любым благовидным предлогом он всё оттягивал поездку в Сиену для замеров алтаря, возведённого стариной Бреньо, узнав, что там ошивается ненавистный Торриджани, с которым ему меньше всего хотелось повстречаться, да ещё в незнакомом городе.
— Что тебя пугает? — спросил Граначчи. — Хочешь, поедем вместе? Путь до Сиены недалёк.
Но ему не хотелось отлучаться из Флоренции, где вот-вот должно окончательно решиться важное для него дело. Он понимал, что может подвести друга Галли, которому стольким обязан. Поразмыслив, он перепоручил сиенский заказ покладистому Баччо да Монтелупо, которого снабдил готовыми эскизами для каждой скульптуры, что позднее вызвало недовольство наследников заказчика, но они ему не указ.
Главная причина утраты интереса к выгодному сиенскому заказу была совсем в другом, хотя дома отец постоянно заводил разговор о нём и мысленно подсчитывал, сколько ему перепадёт после покупки мрамора.
— Не торопите меня, синьор отец, — старался успокоить его сын. — Никуда не денутся от нас фигуры апостолов. Но мне надобно хорошенько подумать, как изваять их непохожими друг на друга, а на это требуется время.
— Но я же вижу, — не унимался мессер Лодовико, — как ты отлыниваешь от заказа и думаешь совсем о другом.
Отец был прав. Микеланджело не переставал думать о глыбе Дуччо. За обладание ею теперь между скульпторами шло настоящее состязание. Возвратившийся недавно из Португалии Андреа Контуччи по прозвищу Сансовино получил отказ от цеха шерстяников, так как затребовал дополнительные блоки мрамора, на что заказчику не хотелось тратиться. Потом глыбой живо заинтересовался неожиданно объявившийся во Флоренции Леонардо да Винчи, оставивший в Милане незаконченной конную скульптуру полководца Сфорца, названную Колоссом из-за её впечатляющих размеров. Однако осмотрев глыбу, на которой оставили следы неумелых потуг не только Дуччо, но и ещё кто-то из мастеров, Леонардо счёл мрамор безнадёжно загубленным. Уж если на создание миланского Колосса им было потрачено полтора десятка лет, то сколько же времени ему понадобится на работу с повреждённой глыбой? Видимо, эти соображения заставили великого мастера отказаться от затеи с глыбой Дуччо.
Неужели прославленный Леонардо да Винчи спасовал перед непокорной громадой? Эта весть ещё пуще подзадорила Микеланджело, и он чуть ли не каждый день наведывался на рабочий двор собора Санта Мария дель Фьоре, чтобы побыть наедине с мраморной глыбой. Знающей чуткой рукой он поглаживал её шершавую поверхность, стараясь познать сокрытую суть камня. Там к нему как-то подошёл один старый каменотёс по имени Беппе, родом из Сеттиньяно. Микеланджело не раз видел его там в компании Тополино.
— Многие приходили сюда, — сказал старик, — и ощупывали, как ты, глыбу и даже принюхивались к ней. Но всех она отпугивала своим видом.
Беппе присел на камень и принялся рассказывать, как в старину порченую глыбу ценного мрамора закапывали всем миром в землю, словно хоронили так и не ожившую в камне фигуру. А виновник порчи в позорном колпаке должен был сопровождать похоронную процессию. Такие были тогда суровые нравы.
— Я давно тебя тут приметил, — сказал он, вставая, довольный тем, что отвел душу — Не робей и наберись смелости! Мрамор уж больно хорош — никакая порча ему не страшна.
Слова старого каменотёса воодушевили Микеланджело и укрепили его желание во что бы то ни стало взяться за глыбу. Ни о чём другом он уже не мог думать.
Вскоре через посыльного им было получено приглашение пожаловать во дворец Синьории для встречи с самим гонфалоньером.
— Рад твоему громкому успеху в Риме, о чём сейчас много разговоров, — ласково сказал принявший его Содерини. — Такого успеха никто из наших земляков давно не достигал. Пора порадовать и Флоренцию своей работой. Думаю, что руководство цеха шерстяников готово предоставить тебе глыбу.
Микеланджело поблагодарил за поддержку, заявив, что он уже видит, как из мраморной громады вырастает гигантская фигура Давида, защитника республиканских свобод.
— Но у ног героя победителя следует показать поверженного врага, — предложил Содерини.
Под поверженным врагом гонфалоньер, несомненно, имел в виду папский Рим, который никак не мог смириться с республиканским правлением во Флоренции, а от воинственного Чезаре Борджиа всё чаще раздавались прямые угрозы свергнуть правительство и положить конец вольнице.
— Это невозможно, — возразил Микеланджело, — поскольку длина глыбы почти в пять раз превосходит её ширину, и для поверженного Голиафа там нет места.
— Но Донателло сумел же изваять у ног Юдифи отрубленную голову Олоферна, — недовольно возразил Содерини.
— Вы забываете, ваша светлость, что Донателло вылепил скульптуру в глине, прежде чем отлить в бронзе. Да и габариты его творения не идут ни в какое сравнение с нашим мраморным гигантом.
Последнее замечание возымело действие, и гонфалоньер, оставшись при своём мнении, не стал больше настаивать. Овеянная славой римская «Пьета» сыграла решающую роль в судьбе многострадальной глыбы, и 16 августа 1501 года был подписан контракт, по которому Микеланджело поручалось в течение двух с небольшим лет изваять статую Давида. Место, где лежала глыба мрамора размером 5,10 x 1,2 метра и весом свыше трёх тонн, он приказал огородить высокой деревянной загородкой, скрывавшей от сторонних глаз работу над скульптурой, когда глыба будет поставлена стоймя. На время эта выгородка стала постоянным местом его пребывания днём и даже ночью.
Мечта сбылась, и теперь ему предстояло изваять гигантского героя, который будет призывать правительство и народ Флоренции защищать завоевания республиканского строя. Полный нетерпения, уже 13 сентября Микеланджело приступил непосредственно к работе. Он нанял подручных, которые полиспастом приподняли глыбу и подложили под неё деревянные брусья. Слегка обтесав мрамор, чтобы почувствовать, насколько он податлив в работе, счастливый обладатель многострадальной глыбы засел за рисунки.
Вглядываясь в слегка обтёсанный или, как ещё недавно говорили, оболваненный мрамор, Микеланджело внутренним чутьём ощущал и видел сокрытые в камне черты своего героя и то лишнее, что надобно изъять из глыбы, освобождая Давида из каменного плена.
* * *
Но от его внимания не ускользало ничто из происходящего в художественных кругах родного города, где после долгого отсутствия его интересовало всё. Флоренция не Рим, где только ахают и восторгаются. Здесь люди полны сарказма и готовы в любой момент помериться силами. Однажды ему пришлось стать очевидцем бурных споров, зачинщиком которых стал известный архитектор Баччо д’Аньоло, чья мастерская была излюбленным местом встреч флорентийской художественной элиты. Кроме архитекторов Антонио Сангалло, младшего брата оставшегося в Риме друга Джулиано, и Симоне дель Поллайоло по прозвищу Кронака («ходячая хроника»), здесь собрались скульпторы Рустичи и Сансовино, художники Давид Гирландайо, Граначчи, Андреа дель Сарто и др.
Предметом споров стал проект намечаемых работ над мощным куполом собора Санта Мария дель Фьоре, оставшимся незавершённым в своей декоративной части. Автор проекта Баччо д’Аньоло горячо отстаивал свою идею. Ему пытался мягко возразить Кронака, посоветовав сверить расчёты с рабочими чертежами Брунеллески.
— О чём ты говоришь? — удивился хозяин мастерской. — Все его чертежи были утеряны попечительским советом. Не забывайте, уважаемые коллеги, как в приснопамятные смутные времена предавалось огню всё, что могло вызвать малейшее подозрение в ереси.
Микеланджело внимательно слушал доводы сторонников проекта, но под конец не выдержал и выступил с резкой отповедью тем, кто пытался приложить руку к творению Брунеллески. Не дав никому рта раскрыть, он всех перекричал, горячо настаивая на том, что купол должен быть оставлен в его первозданном виде.
— Любое вмешательство, — заявил он, — пусть даже из самых добрых побуждений, нельзя рассматривать иначе как неуважение к памяти великого зодчего.
Поднялся гул недовольства, но Микеланджело, в сердцах махнув рукой, уже покинул мастерскую вместе с поддержавшим его Граначчи.
— Каждый волен сколь угодно выражать свои амбиции, — всё ещё не успокоившись, продолжил он развивать свою мысль другу по дороге домой. — Да ради бога, вносите какие хотите исправления в собственные работы, но только не в чужие!
Он вернулся к своему Давиду, решив больше не отвлекаться на бесполезные споры, когда истина тонет в нескончаемом словесном потоке. Он лишний раз убедился в том, что ему предстоит победить в борьбе с целым скопищем завистливых и упрямых, но поднаторевших в своём деле соперников, которые ждут не дождутся, что на родине вернувшегося с триумфом из Рима молодого заносчивого скульптора постигнет неудача с глыбой Дуччо. За неё многие брались, и ничего у них не вышло. И как же все они будут злорадствовать и поносить его на все лады!
Недаром говорят, что Флоренция — это город безумцев, готовых с самых высоких трибун охаивать любую новинку и отстаивать свои суждения, не считаясь со здравым смыслом. С этим он никогда не мог согласиться. Особенно его возмущало высокомерие, с каким отстаивались заведомо спорные позиции. Своё возмущение он выразил в мадригале:
Прекрасным мы порой не дорожим, А мелких чувств убогих Полно у судей строгих — Чернят всё то, что дорого другим. Как часто я раним, Собою недоволен, И тут хоть кол на голове теши. Когда ж я одержим, Над чувствами не волен, То выплесну толпе порыв души. В наш век слепой все средства хороши, Чтоб заурядность прославлять с амвона. С ума тут спятишь от пустого звона! (109)* * *
В работе над глыбой он не переставал думать, каким же будет его герой и должен ли он походить на своих предшественников. Во Флоренции давно утвердилась традиция изображать Давида тшедушным пастушком, одержавшим победу над Голиафом лишь благодаря чуду. Таким он выглядит на картине Андреа дель Кастаньо, написанной на коже, или у Антонио Поллайоло (одна в Вашингтоне, другая в Берлине). Причём изысканно одетый герой Поллайоло, кажется, не камень удерживает тонкими женскими пальчиками, а вазочку с румянами. Даже великолепный бронзовый Давид Донателло, которого Микеланджело ежедневно лицезрел, живя во дворце Медичи, не мог послужить ему примером. У Донателло обнажённый дастушок изображён в кокетливо надвинутой набекрень широкополой шляпе, из-под которой ниспадают до плеч слишком длинные кудри. Обут он в высокие сапожки, в каких нынче щеголяют молодые модницы. Правой рукой он опирается на шпагу, а левой с зажатым камнем подпирает чресла. Несмотря на неприкрытый детородный орган отрока, у него округлый живот и оформившиеся девичьи груди.
После изгнания Медичи андрогинный бронзовый Давид временно оказался во дворце Синьории рядом со своим мраморным собратом того же Донателло, на сей раз несколько повзрослевшим и облачённым в лёгкую тунику, прикрывающую гениталии. В том же дворце им составил компанию задумчивый юнец Давид работы Верроккьо. При взгляде на эти изваяния, созданные великими мастерами Кватроченто, трудно себе представить, что их щуплый пастушок мог одолеть гиганта Голиафа, ибо все они скорее смахивают на изящных дворцовых пажей.
Кто бы ни обращался к образу Давида, библейский герой неизменно представал триумфатором, одержавшим победу. А какой ценой она досталась, можно только догадываться. Рисунки, которые Микеланджело лихорадочно делал в альбоме, не давали ему ответа на вопрос. Но он уже понял одно — показ Давида победителем, почившим на лаврах, лишает его возможности выявить в скульптуре скрытую энергию, напряжение воли и концентрацию всех сил перед решающим моментом. Внутренне он был даже рад, что ущербная глыба Дуччо не позволяла изваять Давида триумфатором с поверженным Голиафом у ног. Позднее его идею подхватил Бернини, изваявший двух Давидов, готовых к борьбе (Рим, галерея Боргезе).
Вскоре было принято окончательное решение. Герой должен быть запечатлён в канун великого подвига с горящим от гнева взором и лёгкой тенью закравшегося в душу сомнения перед решающей схваткой, свойственного любому смертному.
— Какой смысл ваять уже одержанную победу? — признался он как-то в разговоре с друзьями. — Она должны быть очевидна из самой скульптуры.
Поначалу он вылепил модель в воске (Флоренция, дом Буонарроти), которая по его задумке должна быть в многократно увеличенном размере каким-то образом втиснута в искалеченную глыбу. Отдельные детали фигуры наносились им на картон и прикладывались к лежащей глыбе, дабы точно определить положение головы, торса и конечностей, как это делалось им во время фресковой росписи в мастерской Гирландайо. Всё было заранее продумано и рассчитано вплоть до последнего кусочка мрамора. Искалеченная глыба диктовала ему свои жёсткие требования. До сих пор на темени Давида виден оставшийся след чужого резца, а если поближе приглядеться, то на плоской спине кое-где недостаёт самой малости округлости тела.
Нанося удар за ударом молотом по долоту, Микеланджело работал в исступлении, постепенно вызволяя гигантскую фигуру из каменного плена, а та отчаянно сопротивлялась, не желая расставаться с родной средой. Все его помыслы были направлены к тому, чтобы сотворить юношу, вышедшего из реальной повседневной жизни. В нём не должно быть ничего сверхъестественного, а тем паче божественного, поскольку его обуревают свойственные всем людям чувства и желания. Давид не устремляет взор к небу, прося помощи, а смотрит в упор на врага. В минуту смертельной опасности он сдержан и осторожен. Его лицо не искажено криком, он не распаляется страстью и не корчится в неимоверных усилиях, как это можно увидеть у того же Бернини. Давид твёрдо стоит на земле и сжимает камень… Всем своим обликом он внушает веру в исход схватки со злом.
Своим Давидом Микеланджело хотел выразить веру в республику и презрение к врагам Флоренции, показав в мраморе всю красоту обнажённого мужского тела в момент наивысшего напряжения и заключённой в нём энергии. Задуманный им герой — это крепкий мускулистый юноша, не мальчик, но ещё и не взрослый мужчина.
Гигантский юнец находится в переходном возрасте, когда неуклюжее тело вытягивается, а упругие конечности выглядят несоразмерными туловищу. Его прекрасное лицо ещё не тронуто пушком растительности. Но он способен уже одним лишь взглядом вызвать трепет и обратить неприятеля в бегство.
Излучаемая Давидом страстность и решительность получили в дальнейшем наименование la terribilita, что стало отличительной особенностью творений Микеланджело, не свойственной его прежним работам, а тем более «Пьета». Это не столько «устрашающая сила», сколько сильное воздействие микеланджеловской статуи или фрески, способное потрясти зрителя и заставить его сопереживать увиденному.
Он никого не впускал в своё, как он выразился, закупоренное пространство. Ему даже в голову не приходила мысль обратиться к кому-либо за помощью или советом. Уже с самого начала в работе над гигантской скульптурой было немыслимо участие чужой руки, поскольку трудно было учесть все пропорции будущей фигуры, извлекаемой из повреждённой глыбы, чья ширина раза в четыре с лишним меньше высоты. Микеланджело сам признавал в разговоре с друзьями, что при работе с мрамором невозможно исправить допущенную ошибку, когда всё идёт насмарку, а потому полагался только на самого себя. Когда навещавшие его Граначчи и Баччо да Монтелупо предлагали свои услуги, он спокойно, стараясь не обидеть, отклонял их предложения.
Мучаясь в одиночку над глыбой и обходя её изъяны, Микеланджело часто впадал в отчаяние, наталкиваясь на сопротивление камня. Уж такова была его беспокойная натура, вечно обуреваемая сомнениями, в чём он сам искренне признавался, когда брал в руки перо, как бы предоставляя нам счастливую возможность заглянуть в творческую лабораторию гения, проникнуться его мыслями и понять причину свойственной ему неудовлетворённости содеянным…
Есть доля правды, что любой ваятель, В суровом камне образ высекая, Творит, не замечая, Как на него похоже изваяние. И я, скульптур создатель, Хотел бы красоты воспеть сияние, Но вижу лишь страдания. Не по плечу мне роль, Хоть из последних сил над глыбой бьюсь. Впустую все старания — Я выражаю боль, От коей задохнусь. Пока же я креплюсь, Мечтая покорить упрямый камень, Чтоб выразить порыв души и пламень (242).* * *
Пока он один без посторонней помощи бился над глыбой, через нарочного пришло предписание срочно явиться во дворец Синьории. «Чего там вдруг им понадобилось от меня?» — недовольно подумал он и, наскоро приведя себя в порядок, направился к гонфалоньеру.
— Пойми меня правильно, дорогой Микеланьоло, — начал разговор извиняющимся тоном Содерини. — Я отлично понимаю, сколь важна твоя работа над Давидом для Флоренции…
Содерини сделал паузу, прежде чем приступить к главной теме встречи с мастером.
— Прошу тебя войти в наше положение. Нас который месяц донимает просьбами французский маршал Пьер де Роган, большой любитель скульптуры.
— А я-то здесь при чём? — недоумённо спросил Микеланджело.
— Дело в том, — пояснил Содерини, — что мы не можем оставить без внимания его домогательства.
Гонфалоньер принялся доказывать молодому собеседнику сколь велика для республики опасность, исходящая от её заклятых врагов, и пока Флоренция может рассчитывать только на военную помощь, обещанную Францией. Под большим секретом он сообщил о шагах, предпринимаемых правительством, чтобы задобрить зарвавшегося Чезаре Борджиа, постоянно угрожающего республике.
— Одним нам с ним не совладать, — грустно сказал Содерини. — За ним стоит сам папа.
Дабы заручиться благожелательным отношением Чезаре, Синьория с согласия всех городских цехов пошла недавно на неслыханный шаг, предложив папскому выродку в качестве отступного 36 тысяч золотых флоринов ежегодно, лишь бы тот отказался от своих захватнических планов и оставил республику в покое.
— Я полагаюсь на твою порядочность, — предупредил его Содерини, — о нашем разговоре никто не должен знать. Мы целиком возлагаем надежды на помощь французского маршала, который без ума от твоей «Пьета». В эти тревожные дни поддержка Франции для нас жизненно необходима, и только ты можешь помочь.
Осознав, сколь велика опасность для родного города, Микеланджело как истинный республиканец и патриот не мог не уважить просьбу гонфалоньера. Конфиденциальный разговор закончился тем, что 12 августа 1502 года он подписал контракт на изготовление по заказу Синьории бронзового Давида в натуральную величину в дар французскому маршалу, который видел Давида работы Донателло и загорелся желанием заполучить нечто подобное.
Понимая срочность заказа, Микеланджело обратился за содействием к друзьям. В садах Сан Марко, перешедших в полную собственность города, к счастью, сохранился созданный дальновидным Бертольдо литейный цех. У скульптора ещё не было опыта работы с расплавленным металлом, и он целиком положился на бравого Бенедетто да Ровеццано, бывшего ученика Бертольдо, которого тот привёл с собой в школу ваяния в садах Сан Марко.
Сделав в глине макет Давида в полный рост и дав волю фантазии, Микеланджело добавил фигуру поверженного врага, чтобы бронзовый герой не походил на своего мраморного собрата. Но он не ограничился только изготовлением макета и пристально следил за подготовкой к литью, вникая в тонкости процесса. Плавка удалась на славу, литейщик с подмастерьями оказались на высоте. После очистки и полировки скульптуры взорам собравшихся предстал бронзовый воин, попирающий ногой поверженного Голиафа.
На сей раз Содерини был доволен, увидев героя-победителя и врага у его ног. Но все старания гонфалоньера ублажить с помощью Микеланджело требовательного и капризного французского маршала оказались напрасны, так как вскоре де Роган попал в немилость к королю Людовику XII, а посему утратил всякий интерес для потратившегося на него впустую правительства Флоренции. С большим опозданием бронзовый «Давид» был доставлен во Францию, где оказался в руках влиятельного королевского казначея Флоримона Роберте и до XVII века стоял во дворе его замка Бури близ Блуа, а затем следы его затерялись. Сегодня об утраченной бронзовой скульптуре можно судить лишь по рабочему рисунку Микеланджело (Париж, Лувр). На нём изображена полная динамики фигура обнажённого Давида с откинутым назад корпусом. Правой ногой он попирает голову поверженного Голиафа, а в левой держит что-то вроде пращи. Справа на рисунке — предплечье и мощная рука, устремлённая ввысь, словно взывающая к Небу. На полях рисунка строки, в которых Микеланджело хотел выразить дорогую ему мысль о своём сходстве и родстве с героическим защитником Флоренции, не предполагая, что вскоре ему самому придётся защищать республику от врагов:
Давид с пращой — Я с луком. Микеланьоло (III).Долгое время смысл этой терцины оставался непонятным. По всей видимости, Микеланджело хотел сказать, что он защищает республику своим искусством, а Давид с пращой являет собой воплощение не только его эстетических взглядов, но и политических страстей, волновавших в ту пору души многих флорентийцев.
* * *
Он корил себя за то, что поддался давлению гонфалоньера и был вынужден на какое-то время изменить своему герою, оставив его в одиночестве в тесном закупоренном пространстве, где из глыбы уже чётко вырисовывался объёмный силуэт. Чувствуя вину перед Давидом, Микеланджело принялся яростно работать резцом. Трудился он до изнеможения, на пределе сил. Не успевало стемнеть, как ему не терпелось дождаться рассвета. Но часто, обуреваемый жаждой деятельности и подгоняемый беспокойными мыслями о том, что время уходит и он не успевает к намеченному сроку, он трудился и по ночам, расставив вокруг скульптуры масляные плошки с горящими фитилями.
Главной помехой в работе ночью были пляшущие тени. Нужно было орудовать резцом с особой осторожностью, крепко придерживая в обхват мощную скульптуру, выше его самого раза в три с лишним. Иногда его герой выказывал строптивость, увёртываясь от резца, иногда руки каменели от усталости, и Микеланджело в изнеможении валился на землю. Но, очнувшись, он снова подходил к Давиду, который спал стоя. С первыми лучами нарождающегося дня беломраморная фигура героя вырастала из тьмы. В изумлении творец и его создание смотрели друг на друга любящими глазами и вели между собой бессловесный диалог, полный взаимного уважения и понимания. Это были самые счастливые мгновения для Микеланджело, когда он в цепком объятии сливался со своим юным и полным решимости героем.
В самой скульптуре выражено его неукротимое желание первенствовать в искусстве, быть ни на кого не похожим, неизменно оставаться самим собой и в своём одиночестве оставаться независимым. Если в «Пьета» им делались лишь первые робкие шаги в этом направлении, то в «Давиде» ему хотелось передать чаяния и надежды нового века, а возможно, открыть новые пути в искусстве ваяния.
Но с каждым днём он чувствовал, как постепенно теряет силы, утратив сон и аппетит. В его тетради появился один из поэтических фрагментов:
Озноб, ломота, насморк, боль зубная (XVI),а к ним ещё добавились колики в почках, которые порой скрючивали его дугой, вырывая резец из рук. Навещавшие его брат Буонаррото и друзья наперебой увещевали всерьёз подумать о собственном здоровье.
Однажды зайдя к нему в закуток, Граначчи увидел, как Микеланджело силился снять сапоги, куда набилась мраморная крошка. Пришлось ножом разрезать голенище, вросшее в кожу, чтобы вызволить распухшие ноги с кровоточащими ссадинами и мозолями.
— Спасибо, дружище! Теперь ногам стало легче, — сказал он с облегчением, разглядывая непоправимо испорченные сапоги. — Я неделю не мог их снять, так и спал обутым. Сапоги прилипли намертво к ногам. Завтра придётся потратиться на новые.
Но сапоги покупать он не стал, а выбрал себе на развале крепкие башмаки, надеясь, что в них не будут набиваться кусочки камня, натирающие в кровь ступни.
— Да ты взгляни, на кого стал похож! — не вытерпел как-то мессер Лодовико. — Скоро от тебя ничего не останется.
Выслушав очередную порцию наставлений, Микеланджело с тоской вспоминал некоторых собратьев по искусству, всегда ухоженных, выбритых, сытых и отоспавшихся. «Вряд ли они понимают, — думал он, — что искусство — это прежде всего жертвенность, испепеляющая страсть и адский труд, которому надобно отдаваться целиком без остатка, отбросив и загасив в себе все остальные желания».
Ему стало известно о частых сходках молодёжи в Испанской лоджии при монастыре Санта Мария Новелла, где Леонардо да Винчи, свободный от каких-либо обязательств перед заказчиками, любил порассуждать о жизни и об искусстве. Его любимый конёк, как поведал побывавший там Граначчи, — это рассуждения о превосходстве живописи, являющейся искусством просвещённых и благородных душ. А вот скульптуру Леонардо считает уделом плебеев и бедолаг, насквозь пропитанных потом и вывалянных с ног до головы в мраморной пыли, как пекари в муке.
— Готов поспорить, — запальчиво воскликнул Микеланджело, выслушав рассказ друга, — что мой Давид не даёт ему покоя! Он никогда не смирится с тем, что кто-то может превзойти его в мастерстве.
Работа над Давидом шла своим чередом. Но вскоре пришлось вновь отвлечься, так как поступило предложение от руководства цеха шерстяников на изваяние двенадцати апостолов в натуральную величину для собора Санта Мария дель Фьоре. Как ни лестно было предложение, но он стал отнекиваться, ссылаясь на Давида, работа над которым была ещё далека от завершения, а сроки, установленные Синьорией, поджимали.
— Мы вас, Микеланьоло, не торопим, — заверил его Аньоло Дони, один из молодых и успешных руководителей цеха. — Но во Флоренции, кроме вас, больше не к кому больше обратиться. Правда, знаменитый наш земляк Леонардо да Винчи предложил нам своего протеже Рустичи, но где ему тягаться с вами!
Польщённый столь лестными словами Микеланджело не утерпел, да и предложенный гонорар был очень заманчивым.
24 апреля 1503 года был подписан контракт, хотя обязательств по другим заказам было выше головы. Отказаться он не посмел, вновь загоревшись желанием превзойти в мастерстве всех, включая Леонардо и его угодливого подпевалу Рустичи. Однако от работы по новому контракту его отвлекли внутренние и внешние события.
Из Рима пришла весть о смерти ненавистного папы Александра VI. По всей Италии прокатилась волна всеобщего ликования, да и в родной Испании смерть порфироносного земляка не вызвала особой скорби. Многие подробности о последних днях жизни папы стали известны благодаря дошедшему до нас дневнику его личного секретаря, кардинала Иоганна Бурхардуса, прослужившего верой и правдой церкви при дворе пяти понтификов. Дотошный немец педантично заносил в дневник все важные события из жизни папского двора вплоть до некоторых пикантных подробностей, проливающих свет на пьяные оргии и разврат, царившие в Ватикане.
С Александром VI Микеланджело не встречался и не работал на него, но он не мог не чувствовать, сколь пагубное влияние сама фигура папы оказывала на положение дел в его родной Флоренции. Как пишет кардинал Бурхардус, первое серьёзное предупреждение папе прозвучало 29 июня в день апостола Петра, когда Рим оказался во власти разрушительного смерча с дождём и градом. Под порывами ураганного ветра рухнула часть новой пристройки к Апостольскому дворцу, где в тот момент находился папа. Обрушившиеся потолочные перекрытия придавили насмерть двух придворных и швейцарского гвардейца. Сам понтифик только чудом остался цел и невредим, оказавшись в спасительной нише, образованной тремя рухнувшими балками. Орущего благим матом перепуганного папу, перемазанного в извёстке, пришлось извлекать из укрытия силой.
Во время очередной воскресной проповеди в базилике Святого Петра Александр VI истолковал случившееся с ним как проявление воли Господней, но римляне узрели в этом последнее предупреждение Небес папе-греховоднику и не ошиблись. Когда папа скончался — а умирал он мучительно долго, в течение шести суток, — все приближённые и слуги разбежались; исчез даже личный врач, оставив умирающего одного корчиться от нестерпимой боли.
По городу поползли слухи, что приступ у папы начался во время дружеского ужина в компании сына, юной любовницы Джулии Фарнезе и кое-кого из приглашённых. Увидев, что у понтифика начались рвота и судороги, сотрапезники спешно покинули дворец. По недоказанной версии яд предназначался для одного из гостей, но по ошибке слуг, плохо знавших испанский, на котором отдавались все распоряжения, отравленный кубок достался папе. Эта тёмная история более чем правдоподобна, ибо яд широко применялся в Ватикане при сведении счётов или ради присвоения наследства отравленного лица. Известно, что при папском дворе существовала тайная лаборатория по изготовлению различных отрав. Чаще всего использовался яд, называемый римлянами «напитком Борджиа».
Спустя 475 лет история повторилась, когда в Рим прибыла официальная делегация Русской православной церкви во главе с молодым поборником экуменизма митрополитом Никодимом Ротовым по случаю интронизации вновь избранного папы Иоанна Павла I (Альбино Лучани). Папа-вольнодумец первым отказался от торжественной коронации и использования местоимение «мы», не скрывая намерений реформировать церковь и приблизить её к простым людям. При таинственных обстоятельствах на приёме 13 сентября 1978 года в Апостольском дворце «напиток Борджиа» достался по ошибке нашему иерарху, скончавшемуся на месте, а вскоре не стало и самого папы, до которого в тот злополучный день отравленный кубок не дошёл.
В пятницу 18 августа 1503 года набатный колокол оповестил Urbi et orbi (Рим и мир) о кончине Александра VI, но никто из кардиналов и римской знати не пришёл во дворец попрощаться с усопшим. Один только верный долгу Бурхардус распорядился, как и положено, обмыть покойного, перепачканного испражнениями. От нестерпимой августовской жары труп почернел, вздулся и стал смердеть. Тело с трудом облачили в папские бармы белого и кармазинного цвета. Тот же Бурхардус свидетельствует, что во время суматохи, связанной с похоронами, была совершена попытка ограбления папского хранилища ценностей. Бандиты были заколоты на месте преступления подоспевшей охраной, но одному из них удалось бежать и рассказать о несметных папских сокровищах. Поговаривали, что грабителей подослал не кто иной, как Чезаре Борджиа.
Не растерялась и дворцовая челядь, растаскивая из опустевших апартаментов Борджиа всё, что можно было унести. Распоясавшаяся дворня добралась до ватиканских винных погребов и устроила шумную тризну, в ходе которой один из пьяных сотрапезников запустил в портрет папы бутылкой. Разбившись о стену, она залила изображение покойного нечестивца красным вином, словно кровью возмездия, за все его грехи и пороки. Но на этом ниспосланное свыше наказание не закончилось. Когда под вечер незаметно и без всякой помпы, словно покойный был обычным бедолагой из Трастевере, тело было доставлено в базилику Святого Петра, стоявший там гроб оказался тесен, и служкам пришлось, зажимая носы от зловония, пинками втискивать в него распухший смердящий труп. На ночь тело было оставлено в храме под усиленной охраной во избежание надругательства со стороны разгорячённой толпы, собравшейся на площади перед базиликой.
На следующее утро состоялся чин отпевания. Зловоние было столь невыносимым, что его невозможно было заглушить окуриванием ладаном из кадильниц, а тем паче близко подойти к гробу. Заупокойная служба прошла в пустом храме в присутствии трёх кардиналов, верного Бурхардуса и певчих. Атмосфера была гнетущая, словно сам храм, погружённый в полумрак, всем своим видом выражал неприятие совершаемой под его сводами церемонии. Казалось, что микеланджеловская «Пьета» укрылась поглубже в дальней тесной нише, чтобы только не видеть жалкого зрелища.
Заглушая заунывное пение малочисленного хора, природа разразилась раскатами грома, пронзавшими толщу соборных стен. Даже в органе, словно по наущению свыше, произошла какая-то поломка, и он замолк после первых же аккордов. Проливной дождь смыл с улиц и площадей накопившиеся грязь и мусор, будто стремясь изгнать все напоминания о покойном властолюбце. Так под звуки разразившейся над Римом летней грозы закрылась одна из самых позорных страниц в истории папства.
Очевидцем тех событий и совершённых покойным понтификом и его близкими гнусностей оказался монах Максим Грек, вспоминавший позднее в далёкой России «недостойнейшего папу Александра, испанца, превзошедшего всякого рода преступлениями и злобой любого законопреступника».41 Четыре года спустя закончил свои дни в Испании неугомонный вояка Чезаре Борджиа, а его беспутная сестра, красавица Лукреция, заразившись нехорошей болезнью, всё же пережила брата на 12 лет.
* * *
В начале сентября на собравшемся конклаве кардиналов новым папой был избран болезненный Франческо Пикколомини, принявший имя Пия III. Собравшиеся на площади Святого Петра толпы римлян и паломников, увидев белый дымок из трубы на крыше Сикстинской капеллы, разразились радостными криками. Для них любой избранный папа был заранее лучше предыдущего нечестивца.
Микеланджело пришлось срочно посетить ликующую Сиену, родину своего ставшего папой заказчика, которую успел покинуть ненавистный Торриджани. Увидев в кафедральном соборе алтарь, созданный Бреньо, с тесными нишами для заказанных ему фигур апостолов, не превышающих метра высотой, он вконец охладел к ним. Но когда ризничий, в доме которого он остановился, показал ему скульптуру святого Франциска, выполненную Торриджани, его взору предстало такое убожество, что у него возникло желание стать на защиту Её величества скульптуры от прикосновения к ней грубых рук ремесленников. Торриджани так напортачил с фигурой святого, что её немедленно следовало исправлять. За этот неблагодарный труд по просьбе Микеланджело взялся исполнительный Баччо да Монтелупо.
Пребывание в Сиене продлилось недолго, так как всего через 27 дней после избрания Пий III скончался, не выдержав сильного потрясения, вызванного восшествием на престол. На следующий день после похорон собрался самый короткий в истории папства конклав, который избрал 31 октября новым папой 62-летнего генуэзца Джулиано делла Ровере, выходца из простой семьи рыбаков, как и его дядя — папа Сикст IV. Кардинал делла Ровере долгое время находился в оппозиции папе Борджиа, и конклав остановил на нём свой выбор, понимая, что в условиях разрухи после иностранного нашествия, раздробленности итальянских земель и брожения умов, расшатывавшего веру, церковь и Рим нуждались, как никогда, в сильном волевом пастыре. Его конкурентом на конклаве был французский кардинал д’Амбуаз, чью кандидатуру проталкивал Людовик XII, мечтавший с помощью своего ставленника в Ватикане заполучить имперскую корону. Давление со стороны французов было столь сильным, что кардиналам пришлось покинуть Сикстинскую капеллу, и подсчёт голосов участников конклава прошёл под охраной швейцарской гвардии в замке Святого Ангела.
Новый понтифик принял имя Юлия II в память о римских кесарях, заявив тем самым о своих далекоидущих планах.
* * *
Наследники покойного Пия III не унимались, забрасывая гонфалоньера Содерини просьбами, чтобы он воздействовал на своего подданного, не соблюдающего условия контракта. Не отставал от сына и мессер Лодовико, не очень веря, что работа над гигантским Давидом будет когда-нибудь завершена. Отец настаивал, чтобы сын наконец занялся сиенским заказом и помог нуждающейся семье.
Находиться дома было невмоготу из-за вечных ссор между отцом и братьями. Микеланджело нанял за свой счёт новую служанку для поддержания чистоты и опытную стряпуху. Ему пришлось также побеспокоиться о сварливой Кассандре, жене покойного дяди Франческо. На оставшиеся деньги он присмотрел себе для работы и житья половину нижнего этажа старого особняка на улице Моцца, где во внутреннем дворике разместил под навесом доставленный мрамор для сиенского заказа и глыбу для первой фигуры апостола, заказанной цехом шерстяников. Но пока продолжалась работа над Давидом, в новой мастерской он появлялся редко, приходя только на ночлег.
Однажды его закуток на рабочем дворе собора посетил гонфалоньер Содерини. О его визите пишут многие биографы, включая Вазари, которому рассказал об этом сам Микеланджело. Судя по первой реакции, гонфалоньера поразила почти готовая беломраморная громадина. Дважды молча обойдя скульптуру кругом, он как первое лицо города и знаток искусств, каким себя считал, всё же не удержался и спросил:
— Не кажется ли тебе, что у Давида нос толстоват?
Ничего не ответив, Микеланджело взял горсть мраморной крошки и поднялся наверх по мосткам. Сделав вид, что работает резцом, он стал понемногу сыпать вниз мраморную пыль, даже не притронувшись к голове скульптуры.
— А как теперь? — спросил он, стоя на верхних мостках.
— Совсем другое дело, — весело ответил Содерини, задрав голову кверху. — Теперь твой Давид мне нравится куда больше, словно ты вдохнул в него жизнь.
— Он обязан ею вам, — ответил не без иронии Микеланджело и, усмехнувшись, спустился с лесов. Довольный увиденным и самим собой Содерини покинул рабочий двор, а Микеланджело, вздохнув с облегчением, продолжил работу над скульптурой, которая была близка к завершению. Он часами простаивал на лесах, поправляя резцом голову Давида, резко повернутую влево и выражающую полное осознание надвигающейся опасности. Лицо героя полно гнева, но профиль и анфас несколько разнятся, создавая впечатление, что они принадлежат разным лицам, объединённым одной лишь мыслью — поразить врага. Брови юного воина грозно нахмурены, рот упрямо сжат, ноздри расширены, а зрачки широко раскрытых глаз горят огнём. Предназначенный для Голиафа камень крепко зажат в правой руке, размеры которой несколько превосходят другие части тела Давида — по ней можно судить о напряжённости каждого мускула, каждой вены и их анатомически точном расположении. Левой рукой герой цепко держит на плече конец пращи, закинутой за спину, чтобы враг её не заметил. Его ноги словно приросли к земле, настолько напряжены их мышцы.
Беломраморное изваяние, прозванное флорентийцами Гигантом (Il Gigante), поражает прежде всего монументальной выразительностью образа, который при его габаритах представляется чем-то едва ли не сверхъестественным. Статуя превосходна во всех её деталях. По ней можно судить, насколько глубоко автор изучил лучшие образцы античной скульптуры, а некоторые из них даже превзошёл. Римский опыт показал ему, что греки были непревзойдёнными мастерами в работе с мрамором, но их совершенные по пропорциям творения лишены главного — одухотворённости. Вот почему он задумал своего Давида как выразителя истинного человеческого духа во всей его неизбывной жизненности и борении чувств, чего лишены созданные в Элладе Аполлоны и Гераклы.
Как никто другой, Микеланджело постиг закон пропорционального распределения масс в скульптуре, хотя, увлекшись, он порой сознательно нарушал принцип соразмерности ради большей образной убедительности создаваемых изваяний. Стоит всё же признать, что торс Давида недостаточно мощен для такой большой головы и столь могучих рук и ног. Бросаются в глаза угловатость движений юного героя и зияющее наподобие равнобедренного треугольника пространство между ног Давида, обусловленное габаритами глыбы. Однако эти мелочи, которые язык не поворачивается назвать «погрешностями», никоим образом не могут умалить величие грандиозной скульптуры, чья высота достигает пяти с половиной метров.
Давид стоит спокойно, уверенный в своей правоте и в предстоящей победе. Он сосредоточен и ждёт. Пока ничего не произошло, и Давид — это не окончательное решение волновавшего Микеланджело вопроса о человеке и его истинном назначении на земле. Ответ на этот вопрос он будет упорно искать в других своих творениях, когда вместо передачи чисто физического движения его целью станет движение внутреннее, как вопль скованной души, пронизывающий каждый мускул и сустав тела.
* * *
Вскоре вслед за Содерини к Микеланджело пожаловала депутация цеха шерстяников в составе тридцати человек. Давид произвёл на всех ошеломляющее впечатление, затмив всё созданное доселе во Флоренции. В результате гонорар за статую был тут же увеличен.
Следом встал вопрос о месте установки скульптуры, для чего правительством Флоренции была назначена специальная комиссия. В неё вошли знаменитые скульпторы, живописцы и архитекторы, в том числе Леонардо да Винчи и Боттичелли. На первое своё заседание авторитетная комиссия собралась 25 января 1504 года.
Узнав о заседании и видя, как сын, чертыхаясь, надевает новую куртку и чистит сапоги, направляясь туда, мессер Лодовико разволновался не на шутку.
— Веди себя разумно и сдержанно, если не хочешь настроить всех против себя, — напутствовал он. — Старайся выслушать каждого, а сам не встревай и повремени высказываться.
Когда Микеланджело был уже на выходе, отец прокричал ему вдогонку:
— И выкинь, ради бога, из головы, что собравшиеся мастера желают тебе только зла!
Микеланджело прислушался к напутствиям родителя и не стал вмешиваться в разгоревшиеся между собравшимися споры о том, где водрузить статую. Предлагались самые разные места в городе: площадь перед кафедральным собором или церковью Санта Кроче. Кто-то предложил внутренний дворик дворца Синьории, но там уже стоял Давид работы Донателло. Прозвучало также предложение старого художника Козимо Росселли установить Давида рядом с одним из ранних изваяний Донателло — известной статуей льва Мардзокко, держащего передними лапами щит с изображением лилии, символа Флоренции.
— Это означало бы, — заявил мастер, — преемственность поколений флорентийских ваятелей.
Взял слово и Леонардо, видимо, никак не ожидавший, что молодой заносчивый скульптор сумеет создать из искалеченной мраморной глыбы столь впечатляющее творение. Как никто другой, он первым осознал, что скульптуре недостаёт пластической компактности, поэтому Давид намного выиграл бы, будь он водружён не на открытом пространстве при круговом его осмотре, а в нише или между двух колонн, лишающих возможности подойти к статуе сбоку или сзади.
С мнением Леонардо согласились некоторые члены комиссии, предложившие в качестве возможного решения лоджию Ланци на площади Синьории или даже во дворце зал Большого совета. Но как лоджия, так и дворцовый зал не подходили по высоте для гигантской скульптуры.
С трудом сдерживая себя, Микеланджело выслушал предложение Леонардо, высоко отозвавшегося о Давиде, но не поверил в его искренность, считая похвалу высказанной лишь для красного словца. Для него было бесспорным, что Давид должен стоять перед главной цитаделью республики — дворцом Синьории.
— Предлагаю немного сдвинуть в сторону «Юдифь» Донателло и освободить место для «Давида» перед входом во дворец, — заявил он с решимостью в голосе, дав понять, что всё предложенное ранее для него неприемлемо.
Не успел он закончить, как поднялся невообразимый шум и гвалт. Некоторые члены комиссии повскакали с мест и заорали, что это неслыханная дерзость и молодой коллега слишком много на себя берёт. Словом, спорили до хрипоты. Однако никто не осмелился сказать что-либо дурное о самой скульптуре. Её величавая красота и «устрашающая сила» покорили всех, а потому мнение несговорчивого автора в конце концов оказалось решающим и было принято.
Пока шли споры в мастерских и художественных салонах, Микеланджело был занят одной только мыслью — как в целости и сохранности доставить мраморную громаду к месту назначения. На несколько дней полновластным хозяином «Давида» стал Кронака, которому была поручена труднейшая работа перевозки статуи. По его чертежам была сооружена сложная конструкция из 14 деревянных балок в виде клетки, в которой гигантская скульптура находилась в подвешенном состоянии на кронштейнах и сложной системе блоков, не касаясь пола. Во время передвижения по деревянным каткам, смазанным салом, скульптуру крепко удерживали канатные крепления, чтобы она не раскачивалась, как маятник, — иначе многотонную громадину было бы не удержать.
Предварительно Микеланджело вместе с Кронакой проделал весь путь движения от рабочего двора собора, где пришлось разобрать кирпичную стену, по улице Проконсоло до площади Синьории, вымерив до сантиметра высоту каждой арки над проезжей частью и проверив каждую ямку и выбоину на дороге. Для перевозки статуи была задействована бригада из сорока опытных грузчиков, а также сотня стражей порядка, расставленных по всему пути следования для сдерживания напора любопытной толпы, которая могла часами смотреть, как Гигант метр за метром двигался к месту своего назначения.
Перевозка началась в полночь 14 мая 1504 года под звуки «Ave Maria», которую запел смешанный хор собора, и завершилась в полдень 18 мая на площади Синьории, вылившись во всенародный праздник. По ночам не раз предпринимались попытки забросать статую камнями, но прочная деревянная обшивка надёжно защитила «Давида», чья нагота вызвала раздражение ханжески настроенной части горожан. Все эти ночи Микеланджело не смыкал глаз, охраняя вместе со стражами порядка и добровольными помощниками покой своего мраморного детища. Отголоски гневных проповедей Савонаролы всё ещё были слышны в городе, а выбранное для водружения «Давида» место оказалось в непосредственной близости от места его казни, куда его сторонники по ночам приносили кучи пепла, чтобы почтить память сожжённого мученика. Их отлавливали, штрафовали, упрятывали в каталажку, но «плаксы» не сдавались и продолжали выражать свой протест столь необычным способом.
Несмотря на эти ночные нападения, гигантская скульптура метр за метром продвигалась к площади Синьории через живой коридор стоящих на обочине флорентийцев. Особое опасение вызывала арка над проезжей частью улицы Проконсоло. Зрители затаили дыхание, когда статуя двигалась под аркой, опасаясь, что голова Давида заденет её. Но всё прошло как по маслу — настолько были точны предварительные замеры ответственного за перевозку Кронаки, заслужившего восхищённые возгласы «браво!».
Всякий раз, когда Микеланджело проходил по площади и видел там кучу пепла, которую стражи порядка не успели убрать, он мысленно задавался вопросом: как бы отнесся к его обнажённому герою преподобный Савонарола? Счёл бы его «языческим идолом» или признал, что Давид, как и он сам, был искренне предан Господу и самоотверженно боролся за счастье своего народа? А если бы скульптор уступил предрассудкам и прикрыл фиговым листом наготу героя, не было бы это малодушием с его стороны и уступкой фарисеям, которых презирал Савонарола? Эти и другие мысли непрестанно терзали его душу, пока он не увидел «Давида» торжественно установленным перед входом во дворец Синьории.
Утихли сами собой страсти относительно местоположения гигантской скульптуры. Успокоились и стали привыкать к наготе юного героя даже те, кто ещё совсем недавно забрасывал статую камнями. В анналах Флоренции день 18 мая 1504 года долго ещё считался начальной датой отсчёта важнейших событий городской жизни. Было принято говорить, что такой-то дворец был построен или такая-то улица выпрямлена столько-то времени спустя после водружения Гиганта. Защитник республики гордо возвышался на главной площади города, став символом целой эпохи. Его гневный взор был обращён на Юг, откуда для Флоренции постоянно исходила угроза.
Несмотря на жару и стужу, дождь и ветер, стихия не смогла сломить сопротивление героической скульптуры. Первый урон ей нанесли люди в 1527 году, когда в городе вспыхнули волнения, а из захваченного восставшими дворца Синьории полетели сверху на площадь стулья, столы и скамьи. Одной из них у статуи отбило левую руку. Как вспоминает Вазари, ему, шестнадцатилетнему юнцу, вместе с другом удалось собрать и сохранить семь драгоценных обломков. Двадцать лет «Давид» простоял одноруким калекой, о чём, живя в изгнании в Риме, Микеланджело не мог не думать без боли. Столетиями Гигант возвышался у мрачной стены дворца Синьории, переживая все перипетии, выпавшие на долю Флоренции. Хотя время продолжало оказывать пагубное воздействие на мрамор, флорентийцы не решались перенести скульптуру в защищённое от непогоды место, считая, что такой перенос может стать дурным предзнаменованием.
Создавая своего «Давида», Микеланджело мечтал, что за его героем последуют тысячи борцов за свободу. Его мечты осуществились. Среди борцов за великие идеалы свободы был и потомок гения, один из первых профессиональных революционеров, Филиппо Буонарроти, автор нашумевшего сочинения «Заговор во имя равенства», сыгравшего важную роль в распространении идей справедливости и свободы.
Во второй половине XIX века Италия стала, наконец, единым государством, за что веками ратовали её лучшие умы, а тысячи подлинных патриотов отдали свои жизни за правое дело. Несмотря на участие Сардинского королевства в Крымской войне против России, передовая часть русской интеллигенции горячо поддержала вековые чаяния итальянского народа и внесла свой посильный вклад в победу Рисорджименто — национально-освободительного движения Италии. Во всей этой истории, говоря словами Достоевского, сказалась истинно русская национальная способность всемирной отзывчивости. Итальянцам памятно и то, что русский хирург Пирогов прооперировал их героя Гарибальди.42
На время Флоренция стала столицей единой Италии, и в 1873 году «Давид» был перенесен в здание Академии художеств и установлен под высоким стеклянным куполом, укрытый от атмосферных осадков. Его прежнее место заняла мраморная копия, стоящая и поныне. Позднее был отлит бронзовый Давид, занявший место на высоком холме на левом берегу Арно, откуда открывается великолепная панорама Флоренции, хотя сама скульптура никак не предназначена для кругового её осмотра.
Глава XVII СОПЕРНИЧЕСТВО ТРЁХ ГЕНИЕВ
Блажен, кто Господу душой причастен,
Не помышляя об иной судьбе,
Кто времени и тлену неподвластен (37).
После торжественного водружения «Давида» Микеланджело переживал невиданный подъём духа и прилив энергии. Он словно предчувствовал свою дальнейшую судьбу и упорно готовился к новым свершениям. Как истинный человек Возрождения, он был творцом универсальным, а поэтому мог работать в мастерской над мраморным барельефом или статуей, вынашивая одновременно другие замыслы.
Шумный успех «Давида», о котором заговорили вся Италия и Европа, умножил славу его создателя. К тридцати годам он был весьма состоятельным человеком, на чьём банковском счете было свыше тысячи золотых дукатов. Такую сумму, скажем, Леонардо не заработал за всю свою жизнь. Он вёл свой привычный образ жизни отшельника и нелюдима, редко покидая мастерскую. Навестив отчий дом, он передал отцу крупную сумму. Мессер Лодовико тут же прикупил новый надел земли, хотя старое родовое имение в Сеттиньяно после смерти бабушки Лиссандры почти не приносило дохода. Лодовико и его сыновья ничего не смыслили в сельском хозяйстве и делами, к которым с детства не были приучены, занимались спустя рукава, что являлось причиной постоянных семейных ссор. Микеланджело постоянно приходилось выговаривать братьям за их непочтительное отношение к родителю.
Наследники покойного папы Пия III продолжали донимать его своими требованиями. Недавно ему пришлось отправиться во дворец Синьории, чтобы объясниться с гонфалоньером по поводу жалоб из Сиены и заявить, что две скульптуры апостолов Петра и Павла почти готовы и скоро будут отправлены по назначению. В дверях кабинета Содерини он чуть не столкнулся с выходившим оттуда молодым человеком приятной наружности, который, видимо, узнав его, от удивления застыл как вкопанный.
— Видел юношу, что вышел от меня? — спросил Содерини. — Прошу обратить на него внимание. Это Рафаэль Санцио из Урбино. Ты только послушай, как его рекомендует герцогиня Джованна Фельтриа, невестка папы Юлия.
И он принялся зачитывать выдержки из письма, в котором говорилось, что этот одарённый художник прибыл во Флоренцию, чтобы совершенствоваться в своем мастерстве. В письме герцогиня просила гонфалоньера в знак былой дружбы оказать её подопечному всяческое содействие.
— Я уже посоветовал ему поближе познакомиться с Леонардо и с тобой. Что ты на это скажешь?
— Сдаётся мне, что фаворит герцогини научился жить раньше, чем родился.
— И всё же приглядись к нему, — попросил Содерини, пропустив мимо ушей колкость собеседника, — и по возможности помоги на первых порах — он того стоит.
Вскоре друзья Граначчи и Буджардини немало порассказали о новичке из Урбино, который стал желанным гостем во многих аристократических домах. Особенно всполошились отцы дочерей на выданье. Но гость на открывшейся ярмарке невест никого не выделял, был со всеми ровен и любезен. Особым успехом пользовались его зарисовки с натуры на светских вечерах, которые он раздаривал направо и налево с непременным автографом. По утрам его часто видели идущим по улице с рабочей папкой под мышкой. Как прилежный школяр, он направлялся на «учёбу» в один из храмов, где не стеснялся на виду у всех копировать приглянувшиеся ему работы великих мастеров. Он считался учеником Перуджино, но уже превзошёл учителя — и всё-таки, встретив его невзначай, непременно кланялся и почтительно целовал ему руку.
Недавно в мастерскую заглянул Таддео Таддеи, славный человек и страстный коллекционер. Зашёл, чтобы поинтересоваться, как идёт работа над его заказом, круглым мраморным барельефом, но тоже не удержался и принялся рассказывать взахлёб о Рафаэле.
— При первом же с ним знакомстве, — поделился Таддеи своим впечатлением, — я понял, что природа не поскупилась, создавая Рафаэля. Он воистину красив собой, скромен и щедр душой. Когда я вижу его, одаряющего всех улыбкой, мне порой кажется, что это сущий ангел во плоти.
Все словно сговорились, расхваливая урбинского красавца. Микеланджело предпочёл воздержаться от высказываний, поскольку у него сложилось иное мнение о юном даровании после последнего посещения Содерини.
— Его часто видят в Испанской лоджии, где Леонардо любит порассуждать об искусстве, — сказал на прощанье Таддеи, бросив заинтересованный взгляд на свой барельеф, находящийся пока в работе.
Проводив посетителя, Микеланджело подошёл к закреплённому на высокой деревянной раме мраморному барельефу «Тондо Таддеи» (Лондон, Королевская академия) — это жизнерадостная почти жанровая сценка, согретая добрыми воспоминаниями о Кватроченто. Она представляет собой чуть ли не самое грациозное и трепетное произведение из всего созданного молодым мастером в те годы. Мальчик Иоанн Креститель забавы ради принёс трепещущую в его руках пичужку, при виде которой лежащий на коленях матери младенец Христос в испуге отпрянул в сторону.
Основное внимание Микеланджело уделил пластике фигур, но его занимала и пространственная среда, обладающая глубиной и атмосферой, поэтому «Тондо Таддеи» можно рассматривать как парафраз на тему леонардовского sfumato, решённого средствами ваяния. Выразив своё понимание chiaroscuro при работе с камнем, Микеланджело оставил тондо незаконченным — non finito. Но и от этого заказчик был счастлив и упросил автора отдать ему незавершённую работу.
* * *
После «Давида», ставшего неотъемлемой частью жизни и духа Флоренции, на молодого скульптора посыпались заказы, но он не торопился с ответом. За один из них ему всё же пришлось взяться — уж больно настойчивым оказался Таддеи. Почти одновременно он изваял другой барельеф, получивший название «Тондо Питти» (Флоренция, Барджелло), по заказу негоцианта и банкира Бартоломео Питти, для которого возводился колоссальный дворец по первоначальному проекту самого Брунеллески. Со второй половины XVI века это самое крупное гражданское сооружение в городе становится резиденцией великих герцогов Тосканы, а дворец Синьории с той поры стал называться Palazzo Vecchio (Старый дворец).
Оба эти барельефа глубоко различны по форме и по духу. Если первый из них — это дань уважения традициям искусства Кватроченто, которым Микеланджело был многим обязан, так как уже в первых своих работах проявил к ним глубокое уважение, то «Тондо Питти» несёт в себе новые веяния. На смену нежной изломанности грациозных боттичеллиевских Мадонн оно утверждает волевой тип Мадонны virago, то есть мужеподобный, что, по мнению скульптора, отвечало духу времени. Основу композиции составляет пирамида, которая начинается с трона кубической формы и заканчивается головой Мадонны, выходящей из плоскости круга. Здесь преобладает сложный пульсирующий контур, который прерывается под напором энергии, словно высвобождаясь изнутри. Этот «мужественный» тип Мадонны найдёт своё развитие в последующих работах Микеланджело.
Пока он трудился над двумя барельефами, по городу разнеслась весть, что Леонардо приступил к написанию портрета двадцатичетырёхлетней моны Лизы Герардини, жены купца Франческо Дзаноби дель Джокондо, вступившего в брак в третий раз. О самой моне Лизе, неаполитанке по происхождению, сложилось мнение как о скромной благочестивой женщине, строго соблюдавшей церковные обряды, милосердной к бедным. Потеряв на войне жениха, она вышла замуж за вдовца по воле разорившегося родителя и была верной женой, заменившей мать двенадцатилетней падчерице Дианоре.
Эта новость обсуждалась в любом доме. Наконец-то великий мастер от рассуждений об искусстве приступил к делу, взявшись за кисть и палитру. Как говорит молва, муж, узнав, что его жена согласилась позировать художнику, чуть с ума не спятил от ревности и поставил непременным условием, чтобы жену к художнику сопровождала как доверенное лицо дома монахиня Камилла. Откуда было знать бедняге, который был вдвое старше своей суженой, что большелобая мона Лиза с её длинноватым носом и выщипанными по тогдашней моде бровями могла интересовать Леонардо да Винчи только как модель в его творческих поисках? Стоило ли ему так страдать и убиваться?
Правда, высказывалось суждение и о том, что при написании портрета художник в годах увлёкся молодой натурщицей, обставляя каждый сеанс как спектакль, сопровождаемый музыкой и шутками, дабы снять неизбежное при позировании напряжение модели и избежать меланхолического выражения лица. Видимо, сама Лиза Герардини к хлопотам и стараниям пожилого мастера относилась с некоторой снисходительностью и иронией, что отразилось в её скрытой улыбке, названной «загадочной». Позднее кто-то даже назовёт портрет моны Лизы «песней торжествующей любви». Несомненно одно — автор был влюблён в своё творение и не расставался с ним почти до конца жизни.
О «Джоконде» высказываются самые восторженные суждения. Особенно много говорится о её загадочной улыбке; кое-кто даже считает, что молодая женщина прислушивается к своей тайной для всех беременности и мечтает о будущем материнстве. А учёные Амстердамского университета, изучив загадочную улыбку при помощи новой компьютерной программы, разгадали, как они утверждают, её точное значение. По их выкладкам, улыбка моны Лизы выражает 83% счастья, 9% пренебрежения, 6% страха и 2% злости. Что ж, «поверить алгеброй гармонию» никому не возбраняется и в нашу эпоху постмодерна…
Леонардо не торопился, нанося мазки на холст. Но молодость брала своё, и под благовидным предлогом лечения часто болевшей падчерицы натурщица часто пропускала сеансы, с чем мастеру приходилось поневоле мириться. Сама работа над портретом растянулась у него на целых пятнадцать лет. После очередного сеанса Леонардо порой впадал в задумчивость и, взяв в руки серебряную лютню, изготовленную по его рисунку в форме лошадиного черепа, начинал музицировать, подбирая мелодию к своим мадригалам, которые время не сохранило. А когда он принимался говорить или петь, всё вокруг замирало, внимая его чарующему голосу. Недаром современники прозвали его «сладкоголосым Орфеем».
Мастерскую Леонардо не мог не посетить Рафаэль, который был знаком с большинством флорентийских живописцев и хорошо знал их работы. Леонардо особо выделял его среди остальных молодых художников, оценив любознательность и добрый нрав урбинца. Оказавшись перед «Джокондой», Рафаэль испытал внутренний трепет. Нечто подобное он почувствовал, когда в первый же день по прибытии во Флоренцию увидел на площади Синьории «Давида» Микеланджело. Тогда гигантская скульптура ошеломила его своей исполинской мощью, и трудно было поверить, что её создал человек, простой смертный. Перед леонардовской «Джокондой» он испытал нечто другое, чему, как наваждению, невозможно найти объяснение.
В кругу друзей Рафаэль долго делился впечатлениями, рассказывая, что «Джоконда» снится ему по ночам и у него руки опускаются, когда он берётся за свою картину. Особенно его поразила пульсирующая живая жилка на шее моны Лизы.
— Это какая-то мистика, — признался он. — За прозрачной дымкой, обволакивающей картину, сокрыта некая неразгаданная тайна.
Мона Лиза так заворожила Рафаэля, что, следуя моде, он разразился сонетом, который ходил по рукам, вызывая общее восхищение. Известность Рафаэль росла, и в последнее время, как и Леонардо, он стал появляться на людях в сопровождении свиты поклонников и учеников. Как всегда, одет он был по последней моде. Близкими его друзьями стали Ридольфо Гирландайо и Бастьяно, племянник архитекторов Джулиано и Антонио Сангалло. Весельчак Бастьяно, прозванный Аристотелем за склонность к заумным рассуждениям, часто навещал Микеланджело, который ценил его как прекрасного рисовальщика, прямодушного и доброго человека. Однажды Бастьяно зашёл к нему в мастерскую не один.
— Микеланьоло, — громко объявил он с порога, — принимай гостя!
С ним был Рафаэль, который, как и при первой встрече в дверях кабинета гонфалоньера, смутился, оказавшись перед творцом великого «Давида», и чуть не наступил на одну из кошек, прошмыгнувших мимо него в дверь. После великолепия мастерской Леонардо, где каждая вещь была отмечена вкусом и грацией, он был поражён бедным, если не сказать нищенским убранством помещения, а от рассыпанной всюду мраморной крошки неожиданно расчихался и, вынув из кармана надушенный батистовый платок, извинился за свою неловкость, продолжая чихать.
— Потри нос, — посоветовал ему добряк Бастьяно, — и всё пройдёт!
«Что там ни говори, — подумал хозяин мастерской, — а скульптором урбинец не рождён, да и комплекцией не вышел». Из состоявшегося разговора и обмена мнениями Микеланджело понял, насколько обманчива внешность Рафаэля с его длинными волосами до плеч, деликатными манерами и проникновенным взором дивных очей. На самом деле этот хрупкий молодой человек обладал сильным характером и волей, а главное, знал, чего хочет добиться в жизни. Порукой тому его приятная наружность, обходительность и редкое умение расположить к себе людей.
Подойдя к «Тондо Таддеи», гость долго рассматривал барельеф, а затем молча отошёл, не проронив ни слова. Осторожный Рафаэль отлично понимал, что знающий себе цену знаменитый скульптор менее всего нуждался в его мнении. Да и что он мог сказать творцу, создавшему «Давида», перед которым меркнет самое смелое воображение!
Эта встреча заставила Микеланджело глубоко задуматься. Всем нутром он постоянно ощущал присутствие Леонардо где-то рядом; до него доходили суждения именитого мастера, которые порой его раздражали и выводили из себя. Но теперь появился Рафаэль, восходящая звезда на флорентийском небосклоне, который продолжал упорно изучать и копировать лучшие образцы флорентийской школы живописи. Рафаэль всюду был вхож, перед его учтивостью и обаянием редко кто мог устоять. Этот молодой красавец представлял собой куда более опасного соперника, нежели стареющий Леонардо, которого Микеланджело не принимал всерьёз, видя, как тот вконец помешался на своей науке, без устали доказывая, что она является прародительницей всех искусств. Все эти наукообразные рассуждения набили у него оскомину, и он старался о них не думать.
После посещения его мастерской Рафаэлем, которого за глаза прозвали «урбинской пчёлкой, собирающей нектар с флорентийских цветов», в тетради Микеланджело появились две терцины:
Природа-мать всё мудро рассчитала: Дала жестокость красоте недаром, Чтоб жили в мире разные начала. Его улыбка счастье предрекала, И все прельстились сладостным нектаром, Забыв, что у пчелы — и мёд, и жало (69).* * *
Появление во Флоренции двух великих мастеров вызывало у него всё большее раздражение по непонятной ему самому причине, и как он ни старался, ничего поделать с собой не мог. Разговоры о божественной «Джоконде» можно было услышать чуть ли не на каждом углу. А недавно появился положенный на музыку мадригал «О Рафаэль, божественный художник», пользующийся успехом на музыкальных вечерах. В литературных салонах читались стихи самого Рафаэля. Из Болоньи известный художник Франча, которого Микеланджело на дух не выносил, прислал урбинцу посвящение, в котором чуть не слюни распустил от восторга:
О Рафаэль, в тебе воскрес Афин и Рима дух весною. С твоей божественной рукою Тягаться может только Зевс (39).Микеланджело не раз доводилось видеть, как Леонардо выходил на прогулку в сопровождении учеников и почитателей, гордо шествуя со свитой по центральным улицам. Возле него постоянно вертелся вывезенный им из Милана нагловатый парень Салаи, то есть Чертёнок, считавшийся его любимым учеником и глядевший с обожанием на своего кумира. Люди от мала до велика высыпали из домов при виде живой легенды. Молодёжь подражала покрою его одежды, манере говорить и даже плавной величавой походке. Леонардо был почти двухметрового роста, статен, широкоплеч и узок в пояснице. Его лицо с правильными чертами обрамляла русая бородка. Несмотря на возраст — а ему было уже за пятьдесят, — он был наделён богатырской силой и без труда гнул подковы и железные прутья под восторженные возгласы поклонников, отлично фехтовал, а как наездник мог усмирить любого норовистого скакуна. Друзья и ученики души в нём не чаяли.
Повстречав его на улице, Микеланджело всякий раз чувствовал свою неприглядность и уродство перед Леонардо, подавлявшим не только ростом, но и царственным величием. В такие минуты он испытывал к сопернику жгучую неприязнь за его изысканность, приветливость, свободу духа и неизменный скептицизм, казавшийся ему издевкой. Вернувшись к себе, он подходил к зеркалу в желании найти в нём хоть какое-то опровержение своему подавленному настроению, но тщетно. На него взирал смуглый тип с лицом, обезображенным сломанной переносицей, и недоверчивым взглядом глубоко сидящих глаз под косматыми бровями. Тогда он в отчаянии брался за перо и выплёскивал на бумагу всё, что терзало душу:
Скажи, Амур, в чём сущность красоты? К ней устремлён я сердцем — нет с ним сладу. Ужель в самом себе искать отраду И в грубом камне воплощать мечты? Зачем коварно искушаешь ты И помыслам моим чинишь преграду? За верность и за тяжкий труд в награду Дозволь живые лицезреть черты. — Знай, ты пленён особой красотой, К которой устремлён любой творец, Мечтая высшее постичь блаженство. Она сравнима с раннею весной, И в ней душа нашла свой образец. Познав её, познаешь совершенство (42).Выговорившись, он возвращался к своей работе и тут же забывал о посетившем его чувстве собственной ущербности и неполноценности. Теперь он готов был любому доказать своё превосходство в мастерстве.
* * *
Эти метания нашли своё отражение в стоящей в мастерской Микеланджело почти трёхметровой глыбе для задуманной фигуры апостола Матфея (Флоренция, Академия), первой из заказанных ему статуй двенадцати апостолов для собора Санта Мария дель Фьоре. Эта скульптура представляет особый интерес, так как в ней явно наметился глубокий поворот в творчестве мастера. Кроме того, она важна для понимания самой сути его эстетики и творческих поисков.
Прежде чем начать рубить мрамор, он интуитивным чутьём уже ощущал сокрытые в косном камне контуры задуманного им образа, живого и одухотворённого. В нём невероятно остро было развито чувство осязаемости — куда более действенное, нежели обычное физическое осязание. Как у истинного неоплатоника, дух у него одерживает верх над материей, высвобождая заключённую в мраморе животворную энергию, чтобы сквозь хаос материальной жизни и исторического времени приоткрыть тайну бытия.
В процессе работы над любой фигурой Микеланджело обходил глыбу с разных сторон, как это обычно делается и по сей день любым скульптором. Но начинал он вгрызаться в мрамор спереди, чем и объясняется замкнутость силуэта его статуй. Как правило, их пластичность раскрывается на передней плоскости, являющейся главной точкой зрения. Наглядным примером служит фигура мытаря Матфея, первого евангелиста, пока ещё дремлющего в камне. Но властный призыв Христа «Следуй за мной!» уже пробудил сборщика податей, и он стал с усилием продираться сквозь каменную толщу глыбы, которая цепко держала его в своих объятиях. Бородатая голова Матфея повёрнута в сторону, откуда прозвучал властный голос, и сам он не в силах оторвать горящего взора от повелителя.
Первое, что бросается в глаза — антиномия между различными частями фигуры, что придаёт скульптуре движение, которое раскрывается прямо на глазах. Впервые такой приём Микеланджело использовал, вырезая деревянное Распятие для церкви Санто Спирито. И здесь у него голова, одно плечо и колено апостола Матфея повернуты влево, а до конца не высвободившийся из каменного плена торс и другое плечо — вправо. Создаётся впечатление, что в работе над глыбой скульптор находился в привычном для него состоянии некой раздвоенности, когда его чувства вступали в конфликт с волей, а дух боролся с бренным телом.
Фигура Матфея несёт на себе отпечаток глубокого душевного волнения, граничащего с приступом психического расстройства. Автор оказался словно на перепутье, не зная, какое выбрать направление, и, по всей видимости, одолеваемый сомнениями, решил оставить работу незавершённой — non finito, успев выразить в ней главное для себя.
На самой поверхности статуи можно разглядеть удары резца, нанесённые, по определению специалистов, левой рукой, которой Микеланджело пользовался исключительно в моменты наивысшего возбуждения. Ему приходилось торопиться, так как цех шерстяников по завершении работы обещал построить для него дом с мастерской, и за проект уже засел опытный Кронака.
Неужели у него будет наконец собственный дом с мастерской? Пока слабо верилось в такое, хотя под обязательством заказчика стояла также подпись гонфалоньера Содерини.
* * *
Неоплатоническая вера в превосходство духа над материей вызывала в Микеланджело тягу и любовь к красоте, но окружающая его действительность приводила к постоянной неудовлетворённости миром и самим собой. Это хорошо заметно в страдальческих позах борьбы и поверженности многих его персонажей, для которых телесная оболочка является всего лишь «земной темницей», сковывающей душу.
Не покидавшее его чувство внутреннего напряжения иногда выплёскивалось наружу самым неожиданным образом, когда до него доходили слухи о разговорах Леонардо со своими друзьями о превосходстве живописи над остальными видами искусства. Это выводило его из себя, и в его тетради появлялись стихи, выражающие несогласие с высказыванием великого мастера:
Недаром жизнь сама нам повелела Первейшим средь искусств считать ваянье. Оно неистощимо на дерзанья, Имея с грубым матерьялом дело. Будь в воске, глине или камне тело, Ему не угрожает увяданье. А памяти, обретшей очертанья, Дано к потомкам обращаться смело (237).Однажды между двумя творцами, составлявшими гордость и славу Флоренции, произошла небольшая стычка, о чём было немало пересудов в городе.
На площади перед Троицкой церковью любили собираться, греясь на солнце, местные интеллектуалы. Зашёл разговор о сочинении Данте «De volgari eloquentia» — «О народном красноречии». К их компании присоединился случайно проходивший мимо Леонардо да Винчи.
— Что вам на это сказать? — промолвил он, отвечая на поставленный кем-то вопрос. — Выросший из учёной латыни наш разговорный язык должен, по мысли Данте, обогащаться за счёт диалектов, на которых говорят итальянцы разных областей и провинций. Это подлинный кладезь народной мудрости, и я вместо латыни только к нему прибегаю.
Видя, что его ответ удовлетворил слушателей, Леонардо собирался было уже откланяться, как заметил проходившего мимо задумавшегося Микеланджело.
— Вот кто может просветить нас по поводу Данте! — радостно воскликнул он, указывая на молодого коллегу.
Микеланджело недовольно остановился. В словах Леонардо ему послышались издёвка и желание поставить его перед собравшимися в неловкое положение.
— Тебе ли, умник, рассуждать о Данте? — запальчиво спросил он. — Ты лучше расскажи, как надул миланцев, оставив незаконченной заказанную тебе конную статую.
Не дожидаясь ответа и не попрощавшись, Микеланджело проследовал дальше. Наступило затяжное молчание. Справившись со смущением, вызванным грубым выпадом коллеги, Леонардо решил чем-то сгладить возникшее напряжение.
— Кстати, о языке простонародья, — весело сказал он. — Послушайте забавную историю, которую мне довелось услышать в одной деревне, где проживал некий художник с семьёй. К нему как-то крестьяне обратились с вопросом: «Отчего, скажи на милость, твои конопатые ребятишки столь неказисты — не в пример твоим картинам?» И услышали такой ответ: «Картины я рисую днём, а детишек кропаю в потёмках».
Все дружно рассмеялись, и от прежней неловкости не осталось и следа. Леонардо был занимательным рассказчиком и знал немало забавных историй, называемых facezie — шутки, остроты. Рассказанные им сказки и легенды передавались из уст в уста — от отца сыну, от деда внуку. Долго ещё в итальянских горных селениях сохранялась память о сказках и легендах, давно ставших народными, и многим невдомёк, что сочинил их когда-то сам Леонардо да Винчи. В середине прошлого века флорентийское издательство Джунти, юрисконсультом которого был когда-то отец Леонардо, собрало все сказки и легенды воедино и опубликовало, и вскоре они пошли гулять по всему свету, добравшись в конце концов и до России.43
Оставив компанию интеллектуалов, Леонардо проследовал дальше. Его больно задела грубость собрата по искусству. За ним увязался один синьор, которого он впервые увидел среди беседовавших на площади. Тот, видимо, из самых добрых побуждений старался отвлечь знаменитого мастера от грустных мыслей из-за выходки Микеланджело.
— Скажите, мессер Леонардо, — спросил он, когда они подошли к мастерской художника, — вы уже закончили портрет Джоконды?
Вопрос удивил Леонардо, и желая отвязаться от назойливого попутчика, он что-то промямлил ему в ответ.
— Сегодня стало известно, — сообщил незнакомец, — что мессер Дзаноби дель Джокондо овдовел в третий раз.
У Леонардо в глазах потемнело, ноги его подкосились. Ничего не сказав, он быстро ушёл прочь, оставив с открытым ртом незваного попутчика.
Как вскоре выяснилось, ревнивый супруг с радостью заметил, что молодой жене наскучили сеансы позирования, и он предложил ей проветриться, отправившись с ним в Базиликату, где у него были дела по поставке во Флоренцию свежих овечьих шкур. Но в городке Лагонегро случилось непоправимое. Подцепив то ли болотную лихорадку, то ли другую хворь, перед которой местные эскулапы оказались бессильны, Лиза Герардини, как утверждала молва, скоропостижно скончалась.
На следующий день вся Флоренция обсуждала скорбную весть. Но вскоре пришло опровержение — тамошним врачам чудом удалось вырвать из лап смерти молодую женщину. Исхудавшую и ослабевшую после тяжёлой болезни мону Лизу счастливый муж привёз домой. Но о продолжении сеансов позирования не могло быть и речи. Да и Леонардо не нуждался больше в модели, успев воспроизвести на картине не только нужные ему черты, позу, но и душевное состояние натурщицы. А вскоре другие важные заказы и дела отвлекли мастера от незаконченного портрета…
В сентябре 2012 года мир всколыхнуло сообщение о том, что у легендарной «Джоконды» появился двойник и международный фонд «Мона Лиза» приступил в Женеве к рассмотрению этого сенсационного открытия, хотя разговор о наличии копий с самой известной картины Леонардо ведётся более ста лет. Однажды большой шум возник вокруг мадридской копии, но специалистами было установлено, что она написана одним из учеников великого мастера. Ныне настал черёд обнаруженного в Англии портрета, выполненного на холсте с похожим тосканским пейзажем, хотя все картины Леонардо написаны на досках.
Картина 40 лет хранилась в одном швейцарском банке. На ней Лиза Герардини выглядит несколько моложе луврской «Джоконды», над которой автор трудился вплоть до своей кончины. Президент фонда «Мона Лиза» М. А. Фрей 27 сентября объявил находку первым вариантом «Джоконды». На её лазерное спектроскопическое исследование израсходовано более миллиона евро, выпущен увесистый том, посвящённый обнаруженному холсту. Но вопрос так и остался открытым, несмотря на шумиху: идёт ли речь о двойнике «Джоконды» или о ловкой подделке? Поживём — увидим.
Что касается самой Лизы Герардини, то она пережила своего пожилого мужа, хворую падчерицу и тихо почила в собственном доме в возрасте шестидесяти четырёх лет. Спустя пять столетий итальянские археологи и искусствоведы задались целью найти могилу легендарной моны Лизы. Пока им не удалось обнаружить место её захоронения во Флоренции, как не найдена доныне и могила гениального творца «Джоконды» во Франции.
* * *
Оставив незавершённым «Апостола Матфея», Микеланджело никак не мог заставить себя продолжить работу над следующей фигурой заказа. Что-то удерживало его и мешало собраться с мыслями. Однажды под вечер к нему нагрянул Аньоло Дони, один из приоров цеха шерстяников. Не взглянув даже на стоящего в углу апостола Матфея, он сразу перешёл к цели визита.
— У меня к вам, Микеланьоло, большая личная просьба. После помолвки с Маддаленой Строцци, о чём вы наверняка слышали, мне хотелось бы в качестве свадебного подарка преподнести невесте картину.
Для тридцатилетнего Дони, ещё недавно таскавшего тюки с пряжей на ткацкой фабрике, женитьба на дочери самого Строцци означала вхождение в высшие слои флорентийского общества. Он рассказал, что невеста, неравнодушная к искусству» недавно увидела леонардовский картон с Богоматерью, Младенцем и святой Анной, от которого была без ума. Ей захотелось иметь что-нибудь подобное.
— Но кто, скажите мне, дорогой Микеланьоло, из деловых людей обратится сегодня к Леонардо с заказом? — спросил он. — Наш великий мэтр ни одно дело не доводит до конца. Не думаю, что мы увидим когда-нибудь законченной его хвалёную «Джоконду».
— Вы же знаете, Аньоло, что я прежде всего скульптор.
— Я знаю и другое, Микеланьоло. Наши прославленные живописцы после известных трагических событий вконец скисли, а к молодым доверия пока нет. Вот почему я решил обратиться к вам.
Но говоря это, Дони умолчал, что прежде он обратился к Рафаэлю, чьи Мадонны стали появляться как из рога изобилия. Но его опередили другие заказчики, например коллекционер Лоренцо Нази, ставший близким другом художника, для которого урбинец писал Мадонну тоже в преддверии его женитьбы.
Микеланджело воспринял предложение удачливого жениха как счастливый случай заявить о себе в родной Флоренции как о художнике. Перед ним открывалась возможность помериться силами с самим Леонардо в живописи, которую тот считал первоосновой всех искусств. Заодно стоило также преподать урок этому красавчику Рафаэлю, который вознамерился покорить Флоренцию своими Мадоннами. Пока это трудолюбивому урбинцу вполне удавалось, что не могло не вызывать раздражения у Микеланджело.
Упомянутый Дони леонардовский картон, о котором говорила вся Флоренция, Микеланджело пока не видел, хотя он был выставлен в Благовещенской церкви. А вот взглянуть на «Джоконду» он так и не решился. Однажды весельчак Бастьяно предложил зайти в мастерскую к Леонардо, пока хозяин с учениками выехал на этюды с натуры за город.
— В своём ли ты уме, — возразил Микеланджело, — предлагая мне, как воришке, проникнуть в чужой дом? Да и не интересует меня эта хвалёная на все лады «Джоконда».
— Напрасно ты отказываешься, — возразил Бастьяно, — о «Джоконде» сейчас все в городе говорят, хотя мало кто её видел.
Слова молодого друга подействовали, и Микеланджело отправился взглянуть на картон «Святая Анна» Леонардо (Лондон, Национальная галерея), выставленный на всеобщее обозрение. Его заинтересовали пирамидальная композиция и неожиданные для флорентийской живописи светотеневые эффекты, когда контуры перетекают один в другой, что произвело на него сильное впечатление, от которого он всячески пытался отрешиться, как от гипноза. Об этом красноречиво говорят два известных рисунка Микеланджело. На одном (Оксфорд, Эшмоловский музей) сидящая на правом колене Анны Дева Мария прижимает к себе ребёнка. На другом рисунке (Париж, Лувр) Мария слегка нагнулась, чтобы кормить младенца, а Анна с мужественным профилем напоминает древнюю сивиллу-предсказательницу. На полях рисунка оставлена пометка: «Кто бы мог поверить, что это сделано моей рукой?»
Берясь за новый заказ, Микеланджело задался целью показать в негласной полемике с Леонардо, что живопись — это та же пластика, изображающая не только фигуры, но и окружающую их среду, то есть тела в пространстве. Поэтому в новой работе он пошёл не от мягкой манеры письма Леонардо, а скорее от Луки Синьорелли, прекрасного живописца старшего поколения с его жёсткими контурами и напряжённо-взволнованным видением мира. Его фрески в соборе умбрийского города Орвьето произвели на него неизгладимое впечатление.
«Святое семейство» было им задумано в форме тондо, для чего он купил доску из выдержанного дерева и заказал знакомому резчику массивную круглую раму с вкраплениями элементов семейного герба Строцци. Встал вопрос: писать темперой или маслом? В некоторых источниках ошибочно говорится, что картина писалась темперой. Но достаточно заглянуть в каталог галереи Уффици, одним из украшений которой является «Тондо Дони», где чётко сказано, что картина написана маслом на доске.44
Накануне в компании художников у Микеланджело по этому поводу возникла перепалка с Перуджино, который тщился доказать, что время темперной живописи безвозвратно кануло в прошлое. Столь категоричное заявление самоуверенного мастера, чью живопись он не принимал всерьёз, задело его за живое.
— Кого природа обделила фантазией, — заявил Микеланджело, — тот хватается за живопись маслом как спасительное средство для дураков, завезённое в Италию скучными флегматичными фламандцами!
Приняв эти слова на свой счёт, Перуджино обиделся и подал жалобу в суд на молодого коллегу, прилюдно нанесшего оскорбление и вдобавок назвавшего его живопись goffa — аляповатой. Немного поостынув после нудного судебного заседания, закончившегося не в пользу старого мастера, у которого и раньше были нелады с флорентийской Фемидой, Микеланджело задумался. Коль скоро он решил доказать своё превосходство в живописи над Леонардо и Рафаэлем — а они пишут маслом, — придётся и ему использовать их технику, к которой у него не было симпатии ещё со времён пребывания в мастерской Гирландайо, когда он впервые увидел написанный маслом фламандцем Хуго ван дер Гусом так называемый алтарь Портинари.
Новая работа Микеланджело «Святое семейство», или «Тондо Дони», в чём-то перекликается по композиции с леонардовским картоном. Однако в ней дано чёткое противопоставление ракурсов, что придаёт изображению спиралевидное движение, гармонично вписанное в круг. Творческая задача, которую Микеланджело поставил перед собой, доведена им до крайней интенсивности: на сравнительно небольшом пространстве (диаметр тондо без рамы 1,2 метра) свободно расположены фигуры и достигнуто равновесие изображения благодаря контрастно-напряжённому сочетанию противоположных элементов, то есть применён излюбленный им метод — контрапост.
Цветовая гамма скорее сдержанная, нежели сочная, ибо равную роль в картине играет не хроматическая разработка композиции, а светотень, которая подчёркивает и делает ощутимой пластику фигур. У Микеланджело светотень по-скульптурному чёткая, она является главным средством моделировки и выявления монументальной мощи объёмов на картине.
Помещённая в центр изображения Дева Мария хорошо узнаваема, несмотря на её непривычный вид с обнажёнными руками, поджатыми под себя босыми ногами и непокрытой головой. Резко повернувшись назад, она осторожно принимает младенца Христа из рук лысого Иосифа Обручника. Поражают её мускулистые мужеподобные руки. На картине всё чрезвычайно правдоподобно, нет никаких атрибутов божественности, даже священная книга затерялась в складках хитона сидящей Девы.
Святое семейство отделено от внешнего мира невысоким парапетом, за которым простираются скалистый пейзаж, речная гладь и синеющие вдали горы. На втором плане дан юный Иоанн Креститель, не сводящий восхищённого взгляда со Святого семейства, а позади пять обнажённых юнцов. В картине скрыт глубокий философский смысл, навеянный воспоминаниями о беседах в юности со старшими товарищами из «платонической семьи». Облокотившиеся на мраморный парапет обнажённые атлеты чувствуют себя непринуждённо и вольготно, словно сошли с арены древнегреческого олимпийского стадиона. Их присутствие на картине служит напоминанием о безвозвратно ушедшем Золотом веке. Они символизируют собой человечество ante legem («до закона»), то есть мир языческий до вручения пророку Моисею скрижалей с заповедями. Дева Мария и Иосиф — это ветхозаветный мир sub lege («под знаком закона»), а возвышающийся над всем Младенец олицетворяет эру sub gratia («под благодатью») и пришедший вместе с Христом мир Нового Завета.
В этой работе целиком раскрылась художественная натура Микеланджело, диаметрально отличная от Леонардо. Однако говорить, что в задуманном состязании Микеланджело одержал верх, было бы большим преувеличением, хотя пуританская строгость и пронизывающий картину героический дух резко отличают её от томной изнеженности, присущей манере Леонардо.
Как пишет Вазари, картина не удовлетворила заказчика и он пытался даже снизить оговоренную в контракте цену. Но в таких вопросах Микеланджело был твёрд и неуступчив, пригрозив в противном случае оставить картину у себя. Словно предвидя такой оборот, Дони заранее сумел уговорить Рафаэля, и тот исподволь взялся за написание двух портретов. Пока Микеланджело наносил последние мазки в «Тондо Дони», Рафаэль успел закончить портреты Аньоло Дони и его жены Маддалены Строцци, которые, по общему признанию, удались на славу. По столь знаменательному случаю во дворце Строцци был устроен приём, на котором гостям были представлены новые работы Рафаэля и картина Микеланджело.
Получив приглашение и узнав, что рядом с его тондо будут выставлены две картины Рафаэля, Микеланджело узрел в этом козни своих недругов. Но друзья уговорили его отбросить сомнения и пойти на приём, на который был приглашён и Леонардо. Однако, узнав о присутствии там Микеланджело, он отказался от приглашения.
— Не хочу с ним встречаться, — сказал Леонардо, — и давать ему повод для очередной ссоры.
Проходя по внутреннему дворику недавно пристроенного другом Кронакой к дворцу Строцци, где его поприветствовал стоящий в одиночестве среди клумб с цветами мраморный Геракл как память о Лоренцо Великолепном, Микеланджело успокоился и чуть не вприпрыжку вбежал по парадной лестнице наверх, оказавшись в просторном зале с высоким позолоченным кессонным потолком.
Мажордом стукнул жезлом об пол, объявив собравшимся о его прибытии. Поприветствовав хозяев дома, он направился своей картине, висевшей на обитом зелёным штофом стене. По бокам на мольбертах были установлены оба портрета Рафаэля, как негласные стражи, охранявшие его творение. Два прямоугольных полотна, а между ними тондо — зрелище впечатляющее, и вокруг толпа приглашённых на приём, шумно выражающих свои восторги.
Он огляделся, но не увидел никого из собратьев по цеху — сплошь разряженная аристократическая публика, которая была ему мало знакома. По столь торжественному случаю прибывший из Феррары дядя хозяйки дома престарелый поэт Тито Веспасиано Строцци прочёл, стараясь заглушить гул толпы, сочинённую им эклогу на латыни, в которой были такие слова:
Два мастера из лучших побуждений Порадовали мир своим искусством, Дав волю самым добрым чувствам, А их рукой умело правил гений.45Можно с полным правом утверждать, что в «Тондо Дони» Микеланджело окончательно освободился от завораживающих чар и таинственной неразгаданности стиля Леонардо, у которого рассудок преобладал над чувствами. Манера Микеланджело, наоборот — это безудержная страсть и порыв, уводивший его в космические дали.
Со всех сторон сыпались поздравления с успехом. Вокруг Рафаэля собралась стайка восторженных дам и девиц. Одна из них спросила, что он думает о картине старшего коллеги. Рафаэль смутился от неожиданного вопроса, заданного в присутствия Микеланджело. Но когда он заговорил, подавив смущение, его лицо вдруг озарилось каким-то внутренним светом, вызывая к себе расположение.
— Для меня великая честь, что мои работы выставлены рядом с творением самого Микеланджело, о чём я мог только мечтать.
Видимо, почувствовав неловкость от произнесённой им громкой тирады, он потупил взор, и в его голосе прозвучала такая неподдельная искренность, что Микеланджело стал внимательно к нему присматриваться, словно увидел его впервые.
— Из всех виденных мной во Флоренции произведений, — продолжил Рафаэль отвечать на заданный вопрос, — работа маэстро Микеланджело самая самобытная. Более того, я считаю её основополагающей для всего дальнейшего развития искусства живописи, в чём её непреходящая ценность.
Умница Рафаэль увидел благодаря природному чутью главное достоинство работы старшего товарища и был прав. Собравшаяся вокруг толпа с вниманием прислушивалась к словам Рафаэля и с нетерпением ждала, как на них ответит Микеланджело.
— Слышали, Буонарроти? — шутливо обратился к нему стоявший рядом Дони. — Вы не прогадали, потребовав повышения гонорара, и я не внакладе, став обладателем «основополагающей», как выразился Рафаэль, работы. Кстати, что вы думаете о его двух картинах?
— А что тут думать? Работа стоящая и выполнена мастерски, — с готовностью ответил он.
Вдаваться в подробности Микеланджело не стал, ибо ему было ясно как божий день, чем вдохновлялся урбинец при работе над портретами супружеской пары. На его картинах, особенно в портрете Маддалены Строцци, более чем очевидно влияние леонардовской манеры. Даже поза сидящей Маддалены напоминает позу моны Лизы, хотя ей явно недостаёт сокрытой загадочности, а её полноватое некрасивое лицо отражает неприкрытую надменность, которую художник, как ни старался, так и не смог сгладить. Всем своим гордым видом Маддалена Строцци являла собой ничем не оправданные самодовольство и спесь, порождённые сословными предрассудками.
Вскоре салонные разговоры наскучили Микеланджело, а оставаться на банкет не хотелось, ибо он был сыт по горло всем услышанным, и не прощаясь, собрался было незаметно покинуть дворец Строцци. Но тут снова удивил его Рафаэль.
— Я вижу, вы собрались уходить, — сказал он. — Позвольте мне составить вам компанию?
Опять в просьбе урбинца прозвучала та же неподдельная искренность, но Микеланджело отговорил его, сказав, что неудобно им вместе покидать приём, и попросил коллегу ради приличия остаться, чтобы не обидеть хозяев дома.
Пожелав спокойной ночи своему Гераклу во дворике, он направился к себе. «Ну и льстец этот красавец Рафаэль! — рассуждал он про себя по дороге. — Ишь что придумал: “основополагающая”! Жаль, что не было Леонардо. Вряд ли слова обожаемого им урбинца пришлись бы ему по вкусу».
Ему вдруг вспомнился давний оживлённый разговор друзей-неоплатоников по поводу барельефа «Мадонна у лестницы». Во многом они были правы, узрев в его первом самостоятельном изваянии языческие черты — настолько сильным было влияние на него античной культуры. Но он был и остался верным христианином, несмотря на старания «платонической семьи» обратить его в свою веру.
* * *
Не успели завсегдатаи художественных и литературных салонов вдоволь наговориться, вспоминая подробности пышного приёма во дворце Строцци, как их внимание привлекло новое событие. Состязание продолжилось, Флоренция вновь зажила интересами искусства и не могла ни о чём другом думать. На сей раз покоривший всех своими Мадоннами Рафаэль представил на суд зрителей новую работу, о которой заговорили, как об истинном чуде.
По проекту Баччо д’Аньоло было закончено возведение великолепного дворца для молодожёнов Лоренцо Нази и Сандры Каниджани, где состоялось представление новой картины Рафаэля «Мадонна с щеглёнком» (Флоренция, Уффици), подаренной автором к свадьбе друга.
После первого показа началось настоящее паломничество флорентийцев во дворец молодожёнов, чтобы взглянуть на новое творение Рафаэля, покорившее всех, кто его видел, красотой и гармонией. Микеланджело не последовал их примеру, так как заранее представлял себе, чем может удивить урбинец. Ему меньше всего хотелось сделать приятное удачливому сопернику своим присутствием.
Однажды он зашёл на огонёк в мастерскую Баччо д’Аньоло, где застал нескольких художников, затеявших разговор о последней работе Рафаэля.
— Народ вконец помешался на урбинце, — недовольно сказал Лоренцо ди Креди.
— Что и говорить, — поддержал его Пьеро ди Козимо. — Всем не терпится понять, в чём причина такого его успеха. Для многих обладателей его Мадонн они стали чуть ли не оберегом, защищающим домашний очаг от бед.
— А ты что скажешь, Микеланьоло? — спросил его хозяин мастерской.
— Пока вы тут перемываете ему косточки, он без устали трудится, как пчёлка, перелетая с одного цветка на другой, но сохраняя верность своей природе.
Ему вспомнились терцины, сочинённые им после знакомства с красавцем Рафаэлем.
— Уж не завидуешь ли ты ему? — язвительно спросил кто-то из художников.
— Вряд ли он держал в руках молот каменотёса или резец скульптора. Так что делить мне с ним нечего. Поймите — тайна Рафаэля в нём самом. Советую вам пораскинуть мозгами и поближе приглядеться к нему.
— Мы к нему пригляделись, — возразил Лоренцо ди Креди. — А вот тебе следовало бы знать, как твой сюжет из «Тондо Таддеи» урбинец ловко применил в своей «Мадонне с щеглёнком».
Поражённый таким известием Микеланджело не нашёлся, что ответить, решив самостоятельно во всём разобраться. Но от этих мыслей его отвлекло другое важное событие.
Глава XVIII НЕСОСТОЯВШАЯСЯ СХВАТКА ВЕКА
Толпа в оценках часто не права,
Давая волю не уму, а чувствам,
Ей не понять — она душой черства —
Величье, порождённое искусством (164).
Флоренцию облетела весть, что после реконструкции зала Большого совета дворца Синьории гонфалоньер Содерини принял решение поручить Леонардо и Микеланджело расписать фресками стену зала. Казна выделила на эти цели 100 тысяч золотых дукатов, сумму по тем временам огромную. Каждому художнику отводилась отдельная часть стены и предоставлялась полная свобода при выборе темы росписи, посвящённой одному из героических эпизодов в истории республики. Наконец-то непримиримым соперникам предоставлена блестящая возможность на деле доказать своё превосходство друг над другом, а за исходом битвы двух гениев будет следить не только Флоренция, но и вся Европа.
Новость всполошила весь город, и флорентийцы жили в предвкушении предстоящего состязания. Первым к работе над подготовительными рисунками приступил Леонардо. Обосновавшись в Папском зале при монастыре Санта Мария Новелла, он выбрал для росписи эпизод, имевший место в июне 1440 года близ тосканского городка Ангьяри, когда флорентийцы нанесли поражение миланцам. По этому поводу в литературе высказывалось мнение, что тема победы над Миланом была навязана Леонардо, дабы его унизить.46 Но более вероятно, что он выбрал эту тему сам под влиянием Макиавелли, с которым Леонардо был дружен, и в своё время вместе с ним служил Чезаре Борджиа.
Известно, что великий мастер легко изменял своим привязанностям, переходя от одного покровителя к другому. Так, от миланского герцога, попавшего в беду, он без особых раздумий перешёл на службу к папскому отпрыску Чезаре, затем предложил свои услуги правительству Венеции, где не оценили предложенные им технические новшества, и вскоре оказался при дворе мантуанской правительницы вздорной Изабеллы д’Эсте. После этого он вновь появился в родных местах, где ему простили работу против республики в стане Борджиа, который постоянно угрожал Флоренции. Леонардо менее всего занимали политические взгляды заказчиков, и он всегда был свободен в своём выборе — личная свобода была для него превыше всех благ. Как всегда, он неспешно работал над рисунками, которые затем должны были быть перенесены на картон и отведённую ему часть стены для фресковой росписи.
Задумался над выбором сюжета и Микеланджело. В истории он был не силён, а библиотека Медичи, сослужившая ему добрую службу в годы юности, теперь находилась в монастыре Сан Марко, куда не хотелось наведываться, — уж больно сильны ещё были воспоминания о недавних трагических событиях. Тогда он вспомнил давнего друга Бикьеллини, настоятеля церкви Санто Спирито с его богатейшей монастырской библиотекой, в которой довольно быстро нашёл для себя подходящий сюжет. Его заинтересовал эпизод неожиданного нападения пизанцев на флорентийский отряд под Кашине на Арно, имевший место в июле 1364 года. Главное, что его увлекло в этой давней истории, — это момент внезапности, дававший волю воображению в рисунке.
Для работы над большим картоном, покрывающим часть стены в тридцать с небольшим квадратных метров, он выбрал по договорённости с цехом красильщиков бывшую больницу при монастыре Святого Онуфрия, подготовив всё, что нужно для работы над картоном: лестницу, помост, рабочий стол. После работы помещение запиралось им на замок, чтобы никто не смел туда сунуть нос. В отличие от Леонардо, которому присутствие поклонников и учеников не было помехой в работе, а их восторженные слова его вдохновляли, Микеланджело не терпел чьего-либо присутствия и ревностно оберегал свое одиночество во время работы, когда даже малейший шум мог нарушить ход его мыслей и творческий настрой.
Пока он трудился над рисунками, до него не раз доходили слухи о разговорах, которые Леонардо вёл со своими поклонниками и учениками, порицая скульпторов, пропахших потом и обсыпанных мраморной пылью, как пекари мукой. Всё это его изрядно раздражало. Навестившим его Ридольфо Гирландайо и Аристотелю Сангалло, часто бывавшим у Леонардо, он заявил однажды:
— Передайте мессеру да Винчи, незаконнорождённому сыну простой крестьянки, что нечего ему корчить из себя белоручку и ценителя тонкого вкуса! Я, потомок древнего рода, не стыжусь моей работы и тружусь как простой подёнщик в поте лица. Мраморная крошка мне не помеха.
Немного поостынув, он добавил:
— Пусть знает ниспровергатель скульптуры, что она, как и живопись, питаема одним и тем же источником, имя которому — жизнь.
Приступив к рисункам месяца на четыре позднее Леонардо, он старался наверстать упущенное, усиленно работая над эскизами. Но его опасения были напрасны, так как именитый соперник отличался крайней медлительностью в работе.
* * *
Явившись как-то домой для пополнения семейной копилки, он застал встревоженного отца и братьев.
— До чего дожили, — горько промолвил мессер Лодовико, когда служанка ушла на кухню. — Родной сын опасается показаться в отчем доме!
Оказывается, на днях объявился старший брат Лионардо, который временно укрылся в Сеттиньяно, опасаясь попасть в руки стражей порядка, так как охота на сторонников казнённого Савонаролы ещё продолжалась.
— Прошу тебя, — взмолился отец, — найди его и разузнай, в чём дело. Когда-то я рассчитывал на него, а теперь только ты единственная опора семьи, хотя тебе доставалось от меня больше, чем другим.
Не раздумывая Микеланджело помчался в Сеттиньяно, где обнаружил Лионардо, прячущегося в дровяном сарае позади их нежилого дома с закрытыми ставнями. На нём лица не было, и от волнения он не мог унять дрожь в руках.
— Никак не думал, — сказал он, — что придётся свидеться с тобой, прячась, как преступник. Не возражай! Я знаю, что говорю.
Микеланджело молчал, дав брату высказаться обо всём, что наболело. Не веря своим ушам, он с удивлением услышал от Лионардо, что он успел побывать в Риме, где видел «Пьета».
— Это великое творение, — признал он. — Твоей рукой водил сам Господь. Ты прости меня, неуча, когда я взялся поучать тебя, умоляя расстаться с искусством. Как вспомню, до сих пор стыдно.
Обняв брата, Микеланджело просил его успокоиться, и Лионардо поведал ему свою грустную историю.
В дальний монастырь под Сиеной, где он скрывался после трагических событий, неожиданно нагрянула комиссия во главе с одним из иерархов тамошней епархии. Началась проверка насельников на преданность новому понтифику. Ему как ближайшему стороннику преподобного Савонаролы пришлось удариться в бега и жить в постоянном страхе быть узнанным и преданным в руки церковного суда.
Кончив рассказ о своих перипетиях, брат прижался к Микеланджело и заплакал, как дитя. Нужно было что-то немедленно предпринять. Нельзя оставлять его одного в таком подавленном состоянии.
— Ты побудь здесь пока, — сказал Микеланджело. — Я сбегаю к соседям, и мы что-нибудь придумаем.
Он побежал, перепрыгнув через ручей, к поместью Тополино. В доме были только Бруно с женой и двое малышей. Микеланджело извинился за свой неожиданный визит, рассказав о случившейся с братом беде. В доме его друзей тоже произошли немалые перемены. Отец не смог больше жить в доме, где всё ему напоминало покойную жену. Он купил одну дальнюю каменоломню, где живёт бирюком и потихоньку работает, несмотря на преклонный возраст. Оба брата женились и живут со своими семьями неподалёку, занимаясь привычным делом.
— Хочу тебе сказать, Микеланьоло, что отец недавно вместе с другом Беппе, тоже каменотёсом, побывал в городе, где увидел твоего «Давида». Он долго не мог поверить, что из ущербной глыбы Дуччо получилось такое чудо. Но ты стал известным мастером, и старик постеснялся зайти к тебе и поздравить с победой.
— Прошу тебя, передай от меня привет отцу и скажи, что я сам навещу его в горах, как только выберу время.
Было решено, что монах Лионардо поживёт некоторое время у них, пока не улягутся страсти. Когда Микеланджело предложил Бруно деньги за постой брата, тот наотрез отказался их принять.
— Об этом даже и не заикайся! Место у нас безлюдное, и твоему брату здесь будет спокойно и безопасно. При необходимости его можно будет отвезти высоко в горы к отцу, там немало надёжных укрытий.
Вернувшись, Микеланджело убедил брата, что у соседей ему ничто не угрожает, и проводил Лионардо к друзьям, которые радушно приняли гостя, помогли сменить подрясник на обычную одежду и накормили горячим супом. При расставании Микеланджело передал брату кожаный мешочек с деньгами.
— Если что понадобится, дашь знать через Бруно. Он надёжный друг.
— А знаешь, брат, — сказал Лионардо при прощании у порога своего нового пристанища, — думаю, что преподобный Савонарола, увидев твоего «Давида», принял бы его. Ведь они оба боролись за истину и выступали как защитники простого люда, не правда ли? Я долго над этим думал и только теперь начинаю ощущать их духовную связь. — Он подумал немного и добавил: — Я горжусь тобой и прошу тебя об одном — береги себя: ты так нужен людям.
Микеланджело глубоко тронули слова Лионардо. Это была последняя их встреча — жизненные пути братьев в дальнейшем круто разошлись. Но всякий раз, проходя по площади мимо «Давида», он вспоминал слова брата, и на душе становилось теплее.
* * *
Когда оба художника завершили работу, их картоны по распоряжению Содерини были выставлены на всеобщее обозрение граждан. Работа Леонардо осталась там, где была завершена — в Папском зале при Санта Мария Новелла, а рядом на мольберте стояла незаконченная «Джоконда». Слух посетителей выставки услаждали звуки флейты и лютни в руках двух смазливых учеников мастера. Картон Микеланджело, обрамлённый в простую еловую раму, был помещён в нижнем зале пустующего дворца Медичи,
Обе выставки пользовались огромным успехом. Толпами валившие на них флорентийцы хорошо были осведомлены о взаимной неприязни двух мастеров и их соперничестве за пальму первенства в искусстве, что ещё пуще подогревало интерес к необычному событию. Сам воздух Флоренции, казалось, был пропитан духом соперничества, привлекая к себе начинающих и маститых мастеров из других городов и стран, которые часами просиживали перед картонами, снимая копии.
Как правило, молодёжь отдавала предпочтение картону Микеланджело, на котором купающиеся солдаты в Арно близ Кашине под Флоренцией оказались застигнутыми врасплох противником. На картоне обрывистый берег и выскакивающие голышом из воды как ошпаренные молодые парни, второпях натягивающие на мокрые тела штаны и рубахи. Все бойцы, а их девятнадцать, готовы тут же ринуться в бой. Выделяется фигура замешкавшегося пожилого солдата с нелепым венком из плюща на голове от солнца, который никак не может справиться с вязаными рейтузами, натягивая их на мокрые ноги. Но само сражение, чьи отзвуки слышны и ощутимы в общем напряжении композиции, художника вовсе не интересовало, а потому на картине не было ни стальных шлемов, ни панцирей, ни оружия — словом, никакой военной атрибутики. Главное для Микеланджело — движение и порыв, которым охвачены полуголые воины.
Зрителей постарше смущала неприкрытая нагота героев Микеланджело, и они отдавали предпочтение картону Леонардо, на котором показана отчаянная схватка между флорентийским сторожевым отрядом и вторгшейся на тосканскую землю миланской кавалерией. Накал борьбы передаётся искажёнными гневом лицами всадников и смелыми ракурсами вздыбившихся лошадей, в остервенении кусающих друг друга. Кони и люди смешались в яростном вихре схватки не на жизнь, а на смерть. В войне, как сам Леонардо признавал, он видел «безумие и зверство». На его картоне невозможно было уяснить в круговерти тел, лошадей и оружия ход, логику развития битвы, напоминающей первородный хаос.
Гонфалоньер Содерини посетил обе выставки и остался доволен картонами, желая поскорее увидеть осуществлёнными на фреске замыслы художников. Но в Папском зале произошёл небольшой казус. Высказав своё мнение о леонардовском картоне, Содерини, мнивший себя знатоком, вдруг вспомнил, что в той схватке под Ангьяри, кажется, так никто и не погиб.
— Да и было ли сражение? — словно спрашивая самого себя, промолвил он. — Как утверждает наш историк Макиавелли, а ему-то можно доверять, то ли миланец, то ли наш всадник выпал из седла и угодил под копыта разъярённых лошадей. Вот и всё, а шума-то!
Суждение гонфалоньера разнеслось по городу, вызвав кривотолки.
— Всех нас надул Леонардо и оставил с носом, — шутили местные острословы. — Не было там никакого сражения и никто не погиб.
Из-за нежелания быть втянутыми в споры оба мастера не показывались на выставках, где нередко возникали жаркие словесные баталии между их сторонниками и противниками. Каждый из них выразил своё отношение к выбранной теме в рисунке, а словесно состязаться негоже для уважающего себя художника.
На выставках побывал и Рафаэль. Собравшаяся публика оживилась при появлении одного из самых известных и востребованных во Флоренции художников.
— Кому, по-вашему, Рафаэль, — спросил кто-то из присутствующих в зале, — следует отдать предпочтение в этом состязании живописцев?
В самом вопросе ему послышались подвох и желание спровоцировать спор. Как тут поступить? Рафаэль видел, что собравшиеся разом притихли, глядя на него. Даже те коллеги, которые спешно снимали копии в свои альбомы, устремили на него свои взоры. Доверяя своему вкусу, он понимал, что по сравнению с добротной работой обожаемого им Леонардо картон Микеланджело — это своеобразный манифест нового искусства, бросающий дерзкий вызов всем прежним и ныне здравствующим мастерам с их повторами и стереотипными схемами. Больше всего его поразило безукоризненное качество рисунка обоих картонов, заставившее испытать чисто профессиональное волнение. Но он сдержал свои чувства и спокойно ответил:
— Не думаю, что было бы правомерно говорить о каком-либо предпочтении. Уверен, что когда появятся сами росписи, это будет величайшее событие — состязание двух мастеров, коими вправе гордиться Флоренция и Европа.
После его ухода произошло чудо. В зале наступила тишина, и отпала всякая охота спорить и доказывать что-то друг другу.
— Ну и хитёр этот урбинец! — восхищённо сказал кто-то из собравшихся. — Никого не обидел, раздав всем сёстрам по серьгам.
Рафаэлю удалось примирить всех присутствующих в зале — молодых и пожилых людей, чего никогда не удавалось гонфалоньеру Содерини, который больше всего радел о сохранении мира и спокойствия в городе и ради этого готов был пойти на любые компромиссы.
Но неожиданно вокруг картона Микеланджело разгорелся скандал. Его зачинщиком оказался Перуджино, у которого давно был зуб на молодого собрата по искусству. Появившись как-то в зале, где перед картоном «Битва при Кашине» собрались около полусотни зрителей, а перед самим картоном расположились молодые художники, копирующие купальщиков, старый мастер накинулся на них.
— Неужели вам не стыдно воспроизводить похабщину? Вы же наносите искусству живописи и самим себе непоправимый вред, от которого долго не сможете оправиться!
Покинув в гневе зал, Перуджино начал всюду прилюдно охаивать картон с купальщиками, требуя упрятать художника в тюрьму за попрание норм морали и бесстыжий показ обнажённой плоти, что совершенно недопустимо в общественных местах.
Многие флорентийцы расценили злобный выпад Перуджино, который давно уже не радовал своим искусством, как обычное проявление зависти. Друзья Микеланджело все как один выступили в его защиту, а ученики разгневанного мастера Ридольфо Гирландайо и Аристотель Сангалло, громко хлопнув дверью, покинули его мастерскую.
Но разгневанный Перуджино не успокоился и отправился во дворец Синьории, потребовав запретить Микеланджело писать фреску.
— В противном случае, — заявил Перуджино, — мне придётся обратиться в суд, чтобы защитить наших граждан от показа непристойности.
Выслушав его, Содерини посоветовал художнику прежде всего успокоиться и поберечь здоровье. Его совет был не лишним, так как зачинщик скандала неожиданно почувствовал себя плохо, и родственники отвезли его в загородный дом во Фьезоле.
Разгоревшийся шум вскоре сам собой утих. Видя, что Микеланджело расстроен из-за отвлекающей от дел поднятой шумихи, Содерини попросил Рафаэля навестить мастера и успокоить его, извинившись за своего бывшего учителя, у которого частенько сдают нервы. Рафаэль с радостью исполнил поручение.
— Напрасно вы побеспокоились, Рафаэль, — сказал Микеланджело, приветливо встретив гостя и поняв причину визита. — Я толстокожий и комариные укусы не чувствую. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься.
* * *
В отличие от Леонардо, который приступил к работе раньше и давно перешёл со своей командой в зал Большого совета, у Микеланджело не было даже контракта на фресковую роспись. Он с самого начала воспротивился вмешательству в рабочий процесс дотошного Содерини, обожавшего давать художникам советы, что уже однажды проявилось при работе над «Давидом».
Содерини раздражал его своей «отеческой» опекой. Это была вполне заурядная личность. Вышедший из среды лавочников, он дослужился до высшего поста в городской администрации. Ставшие «отцами города» такие же лавочники, как и он, избрали его пожизненным гонфалоньером в надежде, что он будет послушным орудием в их руках, и не просчитались. Содерини был добр, уступчив, но недалёк, являя собой пример серой посредственности, случайно обретшей высокое социальное положение, и при этом не лишён амбиций. Кичившийся своей преданностью республике и её принципам, богатым он не угождал, но и бедным не помогал. Желая всех примирить, он чаще всего вызывал общее раздражение своими неумелыми действиями, но во всём старался придерживаться золотой середины, чтобы не дай бог никого не обидеть. О его почти детской наивности ходили анекдоты. Перу Макиавелли, работавшему во дворце Синьории бок о бок с гонфалоньером, принадлежит шуточная эпитафия:
В ту ночь, как умер Пьеро Содерини, Его душа толкнулась было в ад. «Куда? — кричит Плутон. — Вернись назад! Постой пока с детьми посередине».47Через друзей Микеланджело знал, что Леонардо со своей командой упорно трудится в зале Большого совета, применив изобретённый им новый способ росписи, который не нашёл понимания среди флорентийских художников. Им был памятен печальный опыт Алессо Бальдовинетти, большого любителя экспериментировать с красками, что пагубно сказалось на многих его работах, на которых трудно сегодня что-либо разглядеть — настолько они пожухли и потемнели.
Как считает анонимный биограф, Леонардо, верный своей страсти к научным опытам, обнаружил в сочинении Плиния Старшего «Historia naturalis» описание незнакомого ему метода энкаустики в работе с красками. Старый испытанный дедовский способ писать темперой по сырой штукатурке, что требует от художника завидной быстроты и сноровки, был применён им при создании подлинного шедевра фрески «Тайная вечеря», когда Леонардо был значительно моложе и полон сил. Уже тогда он усиленно работал над различными смесями красок. Позже выяснилось, что им были применены некоторые новшества при грунтовке стены, и по прошествии сравнительно небольшого времени на фреске «Тайная вечеря» появились первые подозрительные трещины.
Доверившись советам Плиния, Леонардо приступил к написанию «Битвы при Ангьяри» маслом по стене, загрунтованной изобретённой им смесью канифоли, воска, мела, цинковых белил, камеди и орехового масла, что позволяло работать без спешки, пока нанесённый слой мастики не затвердеет. Он не спешил, поскольку работа щедро оплачивалась из казны, и вёл строгий учёт деньгам. Говорят, когда однажды казначей выдал ему месячную сумму кульками с мелочью, Леонардо отверг плату, гордо заявив, что он «не копеечный художник». Казначею пришлось извиняться перед великим мастером за свою оплошность.
В команде помощников Леонардо были люди типа Феррандо Спаньоли и Зороастро да Претола, увлекающиеся чёрной магией и алхимией, чему их наставник не препятствовал и даже всячески поощрял. Многочисленная свита его приближённых недавно пополнилась помимо обласканного им Рустичи двадцатилетним парнем Баччо Бандинелли, которому была уготована будущность скульптора, способного поколебать в этой области искусства верховенство Микеланджело, а дока сын ювелира старательно размешивал известковый раствор, веря в свою звезду.
Те, кому довелось увидеть почти готовую «Битва при Ангьяри», включая и самого Содерини, в один голос заявляли, что фреска превосходит своей красотой все ранее созданные росписи. По городу уже пошла гулять молва о том, что Леонардо сотворил подлинное чудо, которое прославит Флоренцию на века. В те дни творец «Давида» оказался несколько в стороне, поскольку в центре всеобщего внимания были Леонардо да Винчи и его новое творение.
Через знакомого из правительственной канцелярии Микеланджело узнал, что после последнего осмотра фрески «Битва при Ангьяри» Содерини установил Леонардо гонорар, в пять раз превышающий сумму, выплаченную за «Давида». Такого он стерпеть не смог и отправился во дворец.
— Ну что ты кипятишься? — старался успокоить разгневанного художника Содерини. — Ты работай, а о контракте и гонораре поговорим потом. — Помолчав, он добавил: — Помню, когда ты работал в Риме над «Пьета», мне довелось побывать в Милане и увидеть «Тайную вечерю». Постарайся и ты сотворить подобное чудо.
Однако состязанию двух гигантов, исхода которого с нетерпением ждали флорентийцы и прослышавшая о нём Европа, так и не суждено было состояться.
Известно, что 6 июня 1506 года, как вспоминает сам Леонардо в недавно обнаруженном Мадридском кодексе, над городом разразилась гроза и в течение ряда дней шли проливные дожди. Заметив, что на стене проступила плесень от сырости, Леонардо распорядился на ночь поставить горящую жаровню в зале для просушки расписанной стены. Когда на следующее утро он и его помощники появились во дворце, их взорам предстала страшная картина — краски поплыли, а центральная сцена представляла собой месиво слившихся воедино лошадей и всадников. Но хуже всего было то, что вся верхняя часть готовой росписи отвалилась от стены, усеяв пол мелкими кусками загрунтованной штукатурки с фрагментами росписи.
Это была катастрофа. Члены Большого совета во главе с Содерини побывали на месте драмы и воочию убедились в непоправимости нанесенного фреске ущерба. Все старания пошли насмарку. Поверив словам Плиния, Леонардо не заметил одной существенной оговорки древнеримского автора о том, что его метод непригоден для настенной живописи.
Чтобы не слышать выражения сочувствия от своих поклонников, а особенно злорадных насмешек недругов, Леонардо вскоре покинул Флоренцию, оставив в банке денежный залог. Его поклонники собрали нужную сумму и принесли в Синьорию, чтобы погасить задолженность своего кумира. Но Содерини, надо отдать ему должное, не принял собранную сумму, заявив, что такой шаг был бы оскорбительным для великого мастера.
Оказавшись вновь в Милане, Леонардо с горечью увидел, что оставленная им глиняная модель коня-колосса превратилась в гору мусора после того, как французское войско заняло Милан. Арбалетчики использовали модель как мишень для стрельбы. Заготовленный им металл для отливки гигантской конной статуи был расхищен и продан. В своё время Лодовико Моро заигрывал с французами и помог взбалмошному королю Карлу VIII вторгнуться вглубь Апеннинского полуострова, что ввергло Италию в бездну трагических бедствий, от которых она так и не смогла оправиться. Свергнутый теми же французами бывший покровитель Леонардо умер в плену, а в тетради мастера появилась такая запись: «Герцог лишился государства, имущества, свободы и не закончил ни одного из своих дел». Эти горькие слова можно в некоторой степени отнести и к самому Леонардо.
Объявленная схватка двух гениев, которая должна была вылиться в многообещающее по динамике и страсти захватывающее зрелище, не состоялась. Оба соперника так и не смогли доказать своё превосходство на поле творческой брани.
* * *
Как и многие художники, Рафаэль принял близко к сердцу несчастье, постигшее великого мастера. Узнав, что оба участника объявленного состязания покинули город, он задумался. А не пробил ли его час и не пора ли ему навестить гонфалоньера Содерини, переживающего не лучшие времена в своей карьере? Со всех сторон на него сыпались обвинения в растрате казённых средств на лишнее украшение дворца Синьории. В городе вовсю шли разговоры о чрезмерной доверчивости гонфалоньера по отношению к художникам, которые обвели его, как малого дитятю, вокруг пальца.
Однажды в компании художников, обсуждавших приостановку работ во дворце, добродушный фра Бартоломео прямо сказал Рафаэлю:
— Уверен, что только вы можете помочь бедняге Содерини, на которого сейчас вешают всех собак.
— Да-да, — поддержал его Лоренцо ди Креди, — ступайте смело во дворец и предлагайте свои услуги. Вы, как никто другой, можете спасти репутацию наших товарищей, вынужденных оставить заказ.
— Думаю, что Леонардо вам будет только благодарен, — сказал добряк Кронака. — Да и Микеланджело давно охладел к этой идее, особенно после скандала, учинённого завистливым Перуджино.
Рафаэль задумался. А правильно ли он поступит, предложив свои услуги? Что скажут другие живописцы, для которых роспись зала Большого совета — предел мечтаний? Но овладевшая им идея запечатлеть на фресках свою глубокую признательность и любовь к ставшей ему родной и близкой по духу Флоренции оказалась куда сильнее волновавших его вопросов этики и морали.
В его воображении уже рисовался план фресковой росписи во славу Флоренции, но без душераздирающих сцен кровопролития и искажённых ужасом лиц. Всё это противоречило его натуре, поэтому он напишет радостный гимн городу гармонии, любви, великих идей и самых дерзновенных свершений.
По глубокому убеждению Рафаэля, искусство не должно состязаться в прославлении военных сражений, несущих людям смерть и разрушения. Его задача — отражать гармонию и мир, а не погибель живого. Прежде чем отправиться во дворец Синьории, он сделал несколько набросков, которые окончательно убедили его в правильности выбранной им линии поведения.
Ласково принявший его Содерини внимательно выслушал предложение художника украсить фресками зал Большого совета, но ответил весьма уклончиво:
— Ваше желание более чем похвально. Но пока оба наших славных мастера официально не отказались от заказа, мы не вправе что-либо решать. Поэтому, мой друг, придётся набраться терпения и повременить.
Это не был отказ, и осторожный Рафаэль решил переждать, пока обстановка не прояснится, так как оба соперника покинули город, а оставленные ими картоны постигла печальная участь. По недогляду гонфалоньера и его чиновников, утративших интерес к росписи после шумного провала Леонардо, оба картона были разрезаны на части и растащены копировавшими их художниками. Это была невосполнимая потеря для Искусства.
Сегодня о картоне Леонардо можно судить только по добротной копии Рубенса (Париж, Лувр). Но она вызывает немало вопросов, поскольку написана лет сто спустя после несостоявшегося состязания, когда оригинал давно пропал. Положение несколько прояснилось после очередной громкой сенсации, всколыхнувшей мир искусства. В марте 2012 года итальянские газеты запестрели броскими заголовками: «Под картиной Вазари скрыта фреска Леонардо», «Простенок зала Большого совета хранит тайну утраченной фрески Леонардо» и т. д.
За год до этого группа учёных приступила к исследованию росписей зала Большого совета. Известно, что по распоряжению герцога Флоренции Козимо I Медичи в 1560-1570-х годах серьёзной реконструкции подвергся дворец Синьории, в том числе и зал Большого совета, называемый также Salone dei Cinquecento — Зал пятисот — по увеличенному числу членов совета. Рядом с дворцом были построены великолепные здания для размещения в них различных городских служб, получившие название Uffizi, где ныне находится всемирно известная художественная галерея.
Исполнителем воли герцога стал Джорджо Вазари, обретший широкую известность как автор двух изданий фундаментального труда «Жизнеописания». Опытный архитектор, художник и историк искусства, он стал ключевой фигурой при дворе герцога, мечтавшего вернуть Флоренции её былую славу и величие. По совету стареющего Микеланджело, отказавшегося вернуться в родной город, Вазари несколько укоротил длину зала Большого совета и увеличил на семь с лишним метров его высоту, украсив позолоченный кессонный потолок сценами триумфа Козимо I. На голых стенах заново отреставрированного зала он написал шесть фресок, посвящённых ратным подвигам герцога.
Одну из стен, западную, отведённую когда-то для Леонардо, украшает ныне поблекшая батальная сцена Вазари с колышущимися на ветру боевыми знаменами. Реставраторам удалось обнаружить на самом верху фрески едва различимые слова, написанные белой краской, по всей видимости, самим Вазари: «CERCATROVA», что означает — «Ищи и обрящешь». Надпись нанесена поверх стягов, без учёта их колыхания на ветру. Как считают многие исследователи, таким странным образом умница Вазари указал местонахождение загубленной «Битвы при Ангьяри» Леонардо, которую надлежало сбить, чтобы оставшееся от фрески тёмное пятно не выглядело бельмом в парадном зале, расписанном заново и украшенном скульптурами и лепниной. Но у Вазари рука не поднялась бы уничтожить следы творения великого мастера, и он написал свою батальную картину поверх испорченной фрески Леонардо, а для потомков оставил знак, указывающий, где следует искать.
Учёные воспользовались подсказкой Вазари и сумели с помощью лазера выяснить, что под слоем красок, наложенных позднее, имеется другой живописный слой. В результате микрозондирования получены образцы чёрного пигмента, схожего по химическому составу с пигментом, использованным Леонардо при создании «Джоконды». Удалось получить также образцы красного лака, применённого при написании «Поклонения волхвов».
Но пока исследователям не удалось продвинуться дальше в своих изысканиях по раскрытию тайны исчезновения леонардовской фрески, и сенсационная шумиха понемногу пошла на убыль. Как её подогреть, чтобы не скудела рука спонсирующих исследование меценатов? Тогда в архивах было обнаружено и предано огласке любопытное свидетельство некоего Антона Франческо Дони, родственника того самого Дони, который был заказчиком Микеланджело и Рафаэля.
Вот что писал этот Дони в 1549 году, увидев, как он уверяет, «своими глазами» в зале Большого совета то, что осталось от повреждённой фрески Леонардо, когда не было в живых ни самого автора, ни многих других очевидцев несостоявшейся схватки века: «Группа лошадей и всадников представляла собой изумительную картину». Возможно, так оно и было, только упомянутый Дони увидел всего лишь небольшую копию, написанную кем-то из учеников покинувшего Флоренцию великого мастера. Видимо, тогда же безвестным художником был сделан рисунок, оказавшийся позднее в руках Рубенса.
* * *
Четыре года, проведённые Микеланджело во Флоренции после римского триумфа, отмечены величайшим взлётом его гения. У него так и не появилось своей мастерской (bottega) в подлинном смысле этого слова, как у всех его собратьев по искусству, каждый из которых даже близко не мог с ним сравниться. Он по-прежнему занимал половину первого этажа старого особняка на улице Моцца, где трудился, сам готовил пищу себе и обожаемым кошкам. Он любил этих животных за их гордую независимую натуру, отличающую их от преданных хозяину и угодливых собак. Приходится только диву даваться, как за столь короткий период ему в одиночку, без помощников, удалось сотворить гигантского «Давида» (правда, пришлось воспользоваться помощью рабочих, чтобы поставить стоймя и укрепить многотонную глыбу), три мраморных тондо, «Мадонну Брюгге», фигуру апостола Матфея, бронзового «Давида», две скульптуры Петра и Павла для Сиены и, наконец, огромный картон «Битва при Кашине», поразивший всех своей необычностью.
Это был самый плодотворный и счастливый период в жизни Микеланджело. Работая в родной Флоренции, он почти не чувствовал давления со стороны заказчиков, был свободен в своих действиях, но постоянно ощущал присутствие Леонардо и Рафаэля — двух главных своих соперников, с которыми был вынужден состязаться.
Его картону повезло больше, чем леонардовскому, так как сохранились созданные одновременно его друзьями две копии — гравюра Маркантонио Раймонди и копия Аристотеля Сангалло, выполненная в гризайле, что ещё сильнее подчёркивает скульптурность фигур без намёка на пейзаж, поскольку автор поставил перед собой задачу выразить средствами живописи динамичную пластику застигнутых врасплох купающихся солдат. Обнажённые тела в движении — эта тема давно занимала Микеланджело, начиная ещё с одной из первых его работ, «Битвы кентавров». У него впервые фигура человека оказывается представленной во всей полноте пластики и возможных движений благодаря его удивительной способности видеть тело насквозь, каждый мускул, мышцу, сухожилие и каждую вену.
По мнению современников, картон «Битва при Кашине» являл собой вершину мастерства Микеланджело. Вот что писал об этом Челлини: «Пока картоны были целы, они стали настоящей школой всему свету. Хотя божественный Микеланджело расписал потом фресками Сикстинскую капеллу для папы Юлия, он уже ни разу не поднялся до этого уровня даже наполовину; его талант никогда уже не достигал силы этих первых опытов».48 Мнение смелое, хотя и спорное.
Не менее восторженно ему вторит Вазари, оставивший подробное описание картона. Поскольку от оригинала ничего не осталось, приходится принимать слова знаменитых современников мастера на веру. Оба они хорошо знали Микеланджело, преклоняясь перед ним, а Челлини по темпераменту во многом походил на него. Но по возрасту ни тот ни другой не могли видеть выставленные картоны, и поэтому их свидетельства основаны только на устных воспоминаниях очевидцев, а что касается фантазии, то оба прекрасно владели пером и ради занимательности повествования не скупились на выдумку.
Тот же Челлини рассказал, как погиб оригинал картона в 1512 году. Недовольные неумелыми действиями Содерини, когда республике угрожала смертельная опасность, «отцы города» отправили его в ссылку. Картон был ночью варварски разрезан на куски и вынесен украдкой по частям из дворца Медичи. Это кощунство, как выяснилось, совершил протеже Леонардо посредственный скульптор Бандинелли, завистливый человек с мелкой душонкой. Челлини признаёт, что узнав об этом, хотел на месте прикончить гадёныша, но увидев лицо испуганного плачущего Бандинелли, бросившегося перед ним на колени, не стал марать руки о мерзавца.
В марте 1505 года Микеланджело через старого друга Джулиано Сангалло получил приглашение папы явиться в Рим. Не раздумывая, он оставил впопыхах на произвол судьбы картон с купальщиками, равно как и контракт с цехом шерстяников на дюжину изваяний, и отправился на перекладных в путь, не зная толком, какое поручение его ожидает в папском Риме. Главное, что им заинтересовался сам папа, а это уже многое значило.
Уже два года как папский престол занимал Юлий II, умный политик с крутым нравом и железной волей, задавшийся целью изгнать чужестранцев из Италии и создать крепкое единое государство под эгидой церкви. На пути к главной своей цели он занимался расширением Папской области за счёт земель Романьи, Эмилии и Умбрии, изгоняя оттуда местных тиранов, сопротивлявшихся политике, проводимой Римом. Некоторых из них передушил Чезаре Борджиа, прибрав к рукам их владения, а после его гибели принадлежавшие ему земли отошли к Риму. Но планам Юлия противостояли Франция, Испания, Венеция и главы мелких княжеств, объединявшиеся в союзы против папской политики.
Папу немало занимали и дела мирские. Как никто другой из его предшественников, Юлий II содействовал украшению Рима, собрав вокруг себя сильную команду архитекторов, скульпторов и художников.
Глава XIX ГНЕВ И МИЛОСТЬ ПАПЫ ЮЛИЯ
Былое в памяти перебирая,
Увы, я не припомню даже дня,
Что мне принадлежал всецело! (51)
При въезде в Вечный город Микеланджело бросились в глаза разительные перемены, произошедшие за время его отсутствия. Чистые улицы, никаких свалок мусора, заново вымощены площади, и всюду, куда ни глянь, ведутся работы по строительству новых и реконструкции старых зданий. Рим словно пробудился после долгой спячки за годы правления папы Борджиа, превратившись в огромную строительную площадку.
Поначалу Микеланджело остановился в одном из папских дворцов на правом берегу Тибра, занимаемом другом Сангалло с его командой молодых архитекторов и инженеров. Услышав их споры при обсуждении проектов новых мостов через Тибр, прокладки дорог и возведения общественных зданий и храмов, он с радостью почувствовал, как на него пахнуло подлинно флорентийским духом состязательности, укоренившимся во времена незабвенного Лоренцо Великолепного.
Сангалло рассказал, что при обсуждении с папой проекта реконструкции базилики Святого Петра у его святейшества возникла идея разместить там собственное надгробие.
— Он слышал о твоём Давиде, — сказал Сангалло, — и загорелся желанием, чтобы сорок таких скульптур украшали его саркофаг. Нельзя не подивиться грандиозности его планов. Завтра доложу о твоём прибытии, а пока оглядись и приди в себя после дальней дороги.
Первым делом Микеланджело отправился к другу Якопо Галли, где его встретила гробовая тишина. Показавшаяся на пороге синьора Галли сообщила, что муж уже месяца три как прикован к постели и врачи никак не могут определить причину тяжкого недуга. Она провела его в комнату к больному. Узнать Галли было трудно, настолько он осунулся и похудел.
Увидев молодого друга, Галли так обрадовался, что попытался приподняться, но силы оставили его.
— Хорошо, что ты здесь вновь объявился, — молвил он заплетающимся языком. — Слышал много восторженных отзывов о твоём «Давиде», хотел сам поглядеть, да вот видишь, совсем сдал.
Говорить ему было трудно, и помолчав, он добавил:
— Уверен, что это будет твоё время.
Микеланджело пообещал почаще наведываться и сообщать о новостях. С тяжёлым сердцем оставил он дом больного друга, которому был стольким обязан. В тот же день он повидался с Лео Бальоне и Франческо Бальдуччи, который остепенился и, к радости дяди-банкира, обзавёлся семьёй. Друзья немало порассказали о нововведениях деятельного понтифика и нравах при его дворе, где, как и прежде, в большом почёте лесть, низкопоклонство и подспудно движущая всеми придворными зависть.
— Одно хорошо, — заметил Бальдуччи, — что теперь всюду во дворце слышна только наша итальянская речь. Придворные и обслуга тут же забыли испанский, на котором их принуждали изъясняться при папе Борджиа.
Микеланджело особенно заинтересовал рассказ Бальони о том, что у его патрона не заладились дела с двоюродным дядей, ставшим папой. Юлий II припомнил ему близость к ненавистному клану Борджиа и держит от себя на расстоянии. Но, как считает Бальони, именно племянник в желании угодить и вызвать симпатию дяди, мечтающего придать Риму новый облик подлинной столицы христианского мира, поведал, как ему удалось найти во Флоренции подававшего большие надежды скульптора и заманить его в Рим.
— Знай же, что мой патрон так и заявил папе, что именно он помог тебе обрести мировую известность, устроив заказ на «Пьета» для базилики Святого Петра через французского кардинала.
— Бьюсь об заклад, — воскликнул Микеланджело, — что твой патрон Риарио ничего не сказал дяде, как он опростоволосился с моим Купидоном!
Он рассказал друзьям, что теперь всецело полагается на помощь старины Сангалло, обещавшего представить его на днях папе.
— Ты не очень обольщайся поддержкой Сангалло, — предупредил Бальдуччи. — Его на сто очков опередил маркизанец Браманте, который ходит в любимчиках у папы. В нашем банке ему открыт кредит. Этот преуспевающий архитектор живёт на широкую ногу, как римский патриций. Сейчас он перестраивает для себя старый дворец вблизи Ватикана.
Действительно, папа внял рекомендации расхваставшегося племянника Риарио, но поручил не ему, а флорентийцу Сангалло пригласить в Рим от своего имени прославленного скульптора. Через пару дней Сангалло объявил о назначенной аудиенции в папском дворце.
— Прошу тебя только об одном, — взмолился он, — оденься поприличней и веди себя пристойно. Смотри на меня и повторяй за мной всё, что надо делать по этикету. Первым не заговаривай, пока тебя не спросят, и садись только после приглашения присесть.
В назначенный час они явились во дворец, оказавшись в приёмной апартаментов Борджиа, где временно поселился папа, пока для него готовились новые покои и рабочий кабинет в другой части дворца. Церемониймейстер открыл дверь и пригласил их войти в кабинет.
Седовласый Юлий, первый за много веков папа с бородой, сидел за рабочим столом, заваленным бумагами. Сангалло в низком поклоне подошёл к папе и поцеловал ему руку. И тут Микеланджело почувствовал сильный удар в бок, а стоящий рядом церемониймейстер прошипел сквозь зубы: «Берет!» Спохватившись, он сдёрнул головной убор и вслед за Сангалло поцеловал руку понтифика с огромным опаловым перстнем. Конфуз молодого мастера папа Юлий не мог не заметить и хитро ухмыльнулся.
— Так вот ты каков! — сказал он, разглядывая склонившегося перед ним скульптора. — Наслышан о твоих делах. Теперь настало время поработать и на нас.
Он поднялся со своего места и подошёл к другому столу, побольше, с разложенными на нём рисунками. Микеланджело последовал за ним.
— Надеюсь, ты представляешь себе размеры гробницы императора Адриана или мавзолея матроны Цецилии Метеллы на Аппиевой дороге? Нам нужна гробница, которая должна намного превосходить по красоте и величию все ранее воздвигнутые.
Склонившись над рисунками, Микеланджело поразился их корявости, но приглядевшись, обнаружил в них кое-что дельное.
— Что скажешь на это?
— Ваше святейшество, уверен, что мне под силу справиться с таким проектом и украсить саркофаг сорока скульптурами, как явствует из ваших рисунков.
— Говори прямо — во сколько нам такое обойдётся?
Не ожидавший такого вопроса, Микеланджело не растерялся и наугад выпалил:
— Думаю, тысяч в сто золотых дукатов.
— Согласен. Пусть будет двести тысяч. Немедленно приступай к делу!
Так удачно закончилась первая встреча Микеланджело с решительным и энергичным папой Юлием, наводившим страх на окружающих и поверившим с первого взгляда в юного скульптора. На Микеланджело папа тоже произвёл сильное впечатление своей деловитостью и трезвым взглядом на вещи, лишённым всякого ханжества и спесивости. Он почувствовал в Юлии родственную душу, решив, что с таким заказчиком можно многого достигнуть.
По дороге к дому добряк Сангалло никак не мог прийти в себя от потрясения, увидев, с какой лёгкостью молодой коллега добился согласия грозного папы, который расщедрился и повысил вдвое выделяемые на гигантский проект средства. Он хорошо знал понтифика, кардинала Джулиано делла Ровере, с которым ему приходилось ранее иметь дело в бытность того папским нунцием во Франции. После этой аудиенции Сангалло понял, что оба они — Микеланджело и Юлий II — одним миром мазаны, оба неуёмны в своих грандиозных планах и, главное, один не может обойтись без другого.
Вне себя от радости, Микеланджело засел за проект будущей папской гробницы, от которого сохранилась лишь пара рисунков (один из них находится в берлинском Гравюрном кабинете). Кроме того, Вазари оставил подробное описание задуманной гробницы, проект которой он видел в архиве автора. Похожее описание дал также биограф Кондиви.
Во Флоренции Микеланджело видел немало достойных примеров. Первым был Донателло, внесший значительные новшества в прежнюю готическую структуру надгробий. Его опыт развили скульпторы младшего поколения Росселлино и Дезидерио да Сеттиньяно с их стремлением к большей монументальности и к достижению синтеза архитектурных и скульптурных форм с внесением античных мотивов. Надгробие меняет прежние формы как напоминание о преходящем характере земной жизни и о посмертной участи усопшего. Флорентийские скульпторы переходят к отображению земных заслуг покойного и его деяний, достойных подражания. В типологию надгробий существенные изменения внесли Поллайоло и Верроккьо, в чьих работах христианские идеалы органично уживаются с классическими элементами, часто получающими аллегорическую трактовку. Особенно выделяется надгробие Джованни и Пьеро Медичи работы Верроккьо в Старой ризнице церкви Сан Лоренцо, в котором полностью отсутствуют скульптурные формы. Мраморный саркофаг вдвинут внутрь глубокой ниши, увенчанной спокойной аркой. Затемнённое пространство ниши замыкает ажурная кованая решётка. Декоративные бронзовые детали лишены религиозной символики, создавая впечатление памятника античности.
Микеланджело учёл лучший опыт великих земляков, но, верный своей натуре, внёс в проект собственное видение, не имеющее ничего общего с тщеславием усопших пап и кардиналов, королей и полководцев, чьи надгробия преследуют одну лишь цель — возвеличить их могущество благодаря золоту и богатству. Он отвергает дух светского тщеславия прежних саркофагов и призывает души всех ныне живущих в совершенно иные сферы, где нет власти, а существует одна только равная для всех всемогущая справедливость.
По его замыслу, открытый для обзора с четырёх сторон грандиозный мавзолей имеет в основании 30 футов длины, 15 ширины и не менее 30 футов высоты, сохраняя пропорцию в квадрат с половиной. Его украшают 40 статуй, намного превышающих человеческий рост и олицетворяющих собой добродетели, свободные искусства и завоёванные папой провинции в виде пленников. По углам величественного монумента четыре восьмифутовые статуи: апостол Павел, пророк Моисей, Жизнь созерцательная и Жизнь деятельная. Завершают композицию поддерживающие саркофаг с прахом две статуи Неба и Кибелы — богини Земли. Первая из них улыбается тому, что душа папы достигла славы небесной, а вторая скорбит и плачет, ибо мир осиротел, потеряв великого человека, поправшего врагов и вызвавшего небывалый расцвет искусств и талантов.
Увидев через несколько дней проект мавзолея, Юлий был в таком восторге, что приказал Микеланджело немедленно отправляться в Каррару за мрамором. Имея в кармане тысячу дукатов, полученную от папского казначея на приобретение и доставку добытых глыб, он помчался по знакомой дороге к Апуанским Альпам, богатым залежами податливого резцу белоснежного мрамора, где ему предстояло провести время с апреля по декабрь с краткими наездами во Флоренцию.
На время своего отсутствия он договорился с Пьеро Росселли, толковым учеником Сангалло, чтобы тот проследил за разгрузкой прибывающих барок с мрамором и обеспечил сохранность груза. Пьеро, внук флорентийского художника Козимо Росселли, был в восхищении от проекта папской гробницы. Покинув мастерскую Сангалло, он с радостью принял предложение Микеланджело, став ему верным помощником.
* * *
Подгоняя рысака, он чувствовал себя счастливейшим из смертных, кому судьба вновь улыбнулась. Мог ли он тогда подумать, что работа над задуманным папой саркофагом растянется на целых сорок лет и принесёт ему неимоверные мучения? Биограф Кондиви дал точное определение сорокалетним терзаниям Микеланджело, назвав их «трагедией гробницы».
Пока же в голове у него созрел чёткий план действий. От него требовались громадные усилия, чтобы добыть, погрузить и морем доставить до устья Тибра, а затем в Рим целую гору отборного мрамора. Это вам не единичная глыба для «Пьета», тоже доставшаяся с немалым трудом. Ему предстояло сколотить команду опытных рабочих и грузчиков, а возможно, даже открыть новые залежи и проложить до причалов каррарского порта надёжные пути доставки груза, без чего не обойтись, учитывая колоссальный вес мраморных глыб — а ведь во время осенней распутицы дороги становились непроходимыми. Перед отъездом им были разработаны рабочие чертежи укрепления подъездных путей с помощью одного опытного инженера-дорожника из команды Сангалло.
Проведённые в горах с двумя подмастерьями восемь месяцев обернулись для Микеланджело не только временем адского труда, когда в жару под палящими лучами солнца в зените он подвергал себя смертельному риску при спуске добытых глыб по крутому склону. Были случаи, когда система блоков вдруг не выдерживала и давала сбой, и тогда от всей артели грузчиков требовались нечеловеческие усилия, чтобы удержать глыбу на весу.
Это было также время небывалого прилива энергии и дерзкого полёта воображения. Оказавшись один на один с природой, он был опьянён её грандиозностью и ощущал себя демиургом. Как пишет Кондиви, проезжая однажды верхом в окрестностях Каррары, он увидел возвышавшуюся над морем одинокую скалу; ему страстно захотелось превратить её всю, от подножия до вершины, в статую колосса, который был бы виден издалека мореплавателям, служа ориентиром наподобие маяка. И он выполнил бы своё намерение, как заверяет биограф, если бы имел на то время и соизволение папы. Но ему приходилось сдерживать свои порывы, ибо главной его заботой была добыча и отправка мрамора в Рим, что требовало от него неимоверных усилий.
С восхода до заката, весь в мраморной пыли с ног до головы он, как белый призрак, переходил от одного карьера к другому, следя за выемкой глыб и их спуском в ложбину. С наступлением сумерек, едва успев проглотить пищу, приготовленную подмастерьями, он засыпал как убитый. Для восстановления сил ему надобно было не более трёх-четырёх часов сна, и вновь наступало бодрствование.
В ночные часы под синим небом, усыпанным звёздами, его неистощимое воображение порождало образы из мира мифологического в понимании неоплатоников и мира христианского, навеянного Данте и Савонаролой. В такие моменты первозданной тишины он чувствовал себя полубогом и, подходя к глыбам, готовым поутру к отправке морем, проводил рукой по шершавой поверхности мрамора и ощущал формы своих гигантских героев; казалось, он даже слышит их голоса.
От Сангалло было получено письмо, в котором Джулиано советовал не тянуть с возвращением: «Здесь нам готовят какой-то неприятный сюрприз». Но что хотел он этим сказать? Неужели папа Юлий изменил свои планы, когда основная часть мрамора уже добыта и отправлена в Рим? Пока он убедился лишь в одном — в любом затеваемом папой деле следует поторапливаться изо всех сил, иначе всё может в одночасье измениться. Его сомнения усугубила наступившая осенняя непогода, ставшая серьёзной помехой для нормального мореплавания. Владельцы барок отказывались рисковать и выходить в открытое море с грузом. Пришлось повысить цену за фрахт. Стоило ему отвлечься на переговоры в порту, как на карьерах работы затихали. Ругаясь с рабочими, отлынивающими от работы, Микеланджело часто спрашивал себя: кто он — скульптор или надзиратель?
В одном из писем мессер Лодовико просил сына вести себя разумно и не затевать ссору с малознакомыми людьми, от которых можно ждать всяких пакостей. В конце письма была приписка: «Послушай меня хоть раз в жизни!» В этих словах была подлинная суть отца, который с подозрением относился ко всем людям, включая самых близких.
Хорошо давать советы, сидя дома и поглядывая в окошко на улицу, где тишь да гладь и божья благодать. А здесь, в горах, свои законы и всё складывается по-другому. К советам родителя он не прислушался, так как был уверен в своей правоте. Имея дело с людьми гордыми и знающими себе цену, но на удивление упрямыми, как их кормилец камень, Микеланджело сумел всё же заставить их подчиняться своей воле. Он отлично понимал, что, кроме него, никто не смог бы найти новые залежи мрамора. А какого труда ему стоило заставить наёмных рабочих вырубать блоки заданного объёма, дабы избежать лишнего веса, облегчив тем самым работу по погрузке и разгрузке глыб! Только благодаря настойчивости и повышенной требовательности к себе и к людям ему удалось заполучить отборнейший мрамор без прожилок, являющихся предвестницами его недолговечности. Ему на всю жизнь запомнились полученные в детстве уроки каменотёса Тополино, подкреплённые позже наставлениями старины Бертольдо, от которого он так много узнал.
Советы отца и письмо Сангалло окончательно выбили его из колеи и, воспользовавшись временной остановкой работ в порту из-за непогоды, он решил наведаться во Флоренцию. Дорога петляла в горах, где на каждом шагу можно нарваться на неприятную встречу, а у страха глаза велики. За каждым придорожным кустом и поворотом ему мерещились разбойники в засаде, вооружённые до зубов, а у него в кармане были деньги для дома, и он не чаял как можно скорее выехать на равнину. Во время той поездки, сопряжённой с немалым риском, у него родились стихи, вторящие учащённому ритму сердца и конскому топоту:
Душе моей не будет исцеленья, И отреченья путь я сам избрал, Чтоб пожинать сполна плоды забвенья. Огонь и море, горы и кинжал — Вот сотоварищи мои отныне. Былого вдохновенья нет в помине, И даже разум недругом мне стал (18).Дома были всё та же натянутая обстановка, ссоры и взаимное недоверие между отцом и братьями. От него ждали лишь одного — денег. Побыв там пару дней, он с тяжёлым сердцем вернулся в Каррару. Ему пришлось ещё не раз наведаться в родные пенаты, чтобы хоть немного отдохнуть от монотонного труда в горах. В один из таких наездов он побывал во дворце Синьории, где увидел то, что осталось от фрески «Битва при Ангьяри». Непостижимо, как мог так ошибиться великий мастер! Ему было искренне жаль старшего товарища, который постоянно тщился доказать, что все виды искусства уступают живописи, приравненной им к науке — а она-то его и подвела. Не зря многие флорентийцы корили Леонардо за чрезмерное увлечение научными экспериментами, считая это изменой искусству, а любая измена самому себе никогда не проходит безнаказанно. В том же дворце Синьории Микеланджело узнал, что французский наместник в Милане обратился с просьбой предоставить Леонардо отсрочку с возвращением на родину из-за важных неотложных дел. Но если бы даже Леонардо оказался в тот момент во Флоренции, Микеланджело не пошёл бы к нему с выражением сочувствия за постигшую его неудачу, понимая, что такой шаг мог бы быть превратно истолкован гордым мастером, а ему меньше всего хотелось задевать его болезненное самолюбие.
Выйдя из дворца, он с радостью видел, как флорентийцы его узнавали и почтительно приветствовали, а перед «Давидом» не убывала толпа, любуясь величественным изваянием. Ему удалось доказать самому себе и маловерам, что даже из ущербной глыбы можно сотворить подлинное чудо. Это были редкие моменты в его жизни, когда он был удовлетворён содеянным и ощущал себя Прометеем, одарившим людей священным огнём искусства.
Перед Рождеством Микеланджело вернулся в Рим, где на площади Святого Петра громоздились горы белоснежного мрамора, к радости папы Юлия II. Толковый Росселли, принимавший поступающий груз, правильно расположил блоки мрамора по габариту. Микеланджело придирчиво осмотрел сложенный мрамор, поглаживая его рукой, словно это были пока не рождённые его кровные чада, которые ждали часа, когда опытная повитуха начнёт принимать роды.
Поселился он неподалёку в доме за церковью Святой Екатерины. Там же была и его мастерская, расположенная почти под идущим поверху крытым переходом из Ватикана в замок Святого Ангела. Проявляя неослабный интерес к работе скульптора над гробницей, Юлий II распорядился соединить переход мостиком с мастерской, чтобы он в любое время мог там незаметно появляться.
Вскоре прибыла последняя партия мрамора, а из Флоренции явилась группа приглашенных каменотёсов. Из-за проливных дождей Тибр вздулся, а ветер усилился, что затрудняло разгрузку мрамора. Одна из барок из-за неумелых действий грузчиков перевернулась, и пришлось вытаскивать три блока из воды с помощью подъёмного механизма. Подавив страх, Микеланджело, стоя по пояс в воде, руководил извлечением на поверхность затонувшего груза.
Расплатиться с перевозчиками и размещёнными рядом с мастерской каменотёсами ему было нечем, так как выданные ему деньги все были потрачены в Карраре, а кое-что пришлось оставить домашним на житьё. В своё время Юлий прямо ему сказал, чтобы в случае нехватки денег он не тратил бы время попусту на хождение к чиновникам из казначейства, а прямо обращался к нему. Микеланджело так и поступил, но к папе не попал, так как у того шло важное совещание с военными советниками. В итоге он заплатил за всё из собственного кармана в надежде, что вскоре расходы будут ему возмещены. Но время шло, а папа продолжал быть недоступным. В душу подозрительного Микеланджело закрались сомнения, лишившие его сна и покоя. А ведь как всё прекрасно складывалось — ему удалось добыть и доставить в Рим целую гору ценнейшего мрамора!
Не находя себе места, он слонялся по Вечному городу, не зная, в чём причина охлаждения папы к проекту. Юлий давно не появлялся в его мастерской. Когда он обращался за разъяснением к другу Сангалло, тот отмалчивался или говорил, что папа слишком занят военными планами. И он был прав: всюду в городе можно было видеть, как в кузницах куются мечи и копья — Рим готовился к войне. Вместо священников и монахов чаще встречались вооружённые наёмники, которые в ожидании объявленного похода бражничали и устраивали дебоши в борделях. При виде пьяной солдатни, от которой всего можно было ожидать, люди шарахались в сторону. На Микеланджело эта необычная картина производила удручающее впечатление, а поведение недоступного грозного папы Юлия начинало раздражать:
Куют мечи из водосвятных чаш — Всё на потребу: крест и плащаница. Христова кровь в продаже, как водица. Невозмутим и нем Спаситель наш. Воинственна толпа, вошедши в раж. Но на Голгофу путь не повторится — Падёт на Рим возмездия десница За святотатство, ханжество и блажь. Здесь милость тягостней любой обузы. Повсюду злые козни — правды нет, И папский гнев страшней угроз Медузы. Смиренья небо требует в ответ. Порвём ли мы привычек рабских узы, Чтоб искупления увидеть свет? (10)Как рассказал близкий к ватиканским кругам Лео Бальони, Юлий II усиленно готовился к походу против Перуджи и Болоньи, которые когда-то входили в состав папского государства, а ныне там правили местные тираны, сопротивлявшиеся указаниям Римской курии и проводившие свою независимую политику. В своём противостоянии Риму они рассчитывали на поддержку Венеции и Франции, за что папа собирался их жестоко покарать.
Неужели в этом причина столь разительной перемены в поведении папы, с которым у Микеланджело нет даже договора и всё держится на словах? За советом он направился к дому больного друга. Галли по-прежнему был в постели, и его жена попросила не очень утруждать больного разговором. Микеланджело поведал ему о своих сомнениях. Узнав, что папа потребовал изготовить 40 статуй для своей гробницы, Галли через силу спросил:
— Сколько времени ушло на «Давида»?
— Около трёх лет.
— Так помножь три года на сорок. Получается сто двадцать лет. Ты понимаешь, в какую кабалу попал?
Микеланджело принялся с жаром доказывать, что теперь он способен за пять лет справиться с заказом.
— Это всё слова, а нужен договор, — сказал Галли. — Возьми со стола перо с бумагой и записывай.
Подсев поближе, так как больной задыхался и говорил еле слышно, Микеланджело стал записывать под диктовку, с трудом разбирая произносимые слова. Под конец на лбу Галли выступила испарина и он стал задыхаться. В комнату вошёл врач и строго попросил оставить больного, которому от волнения стало хуже. Пришлось удалиться. Это была их последняя встреча.
«А ведь Галли прав, — задумался он, идя к дому — Нужно потребовать подписания договора и волей-неволей сократить количество статуй. Но куда тогда девать излишки мрамора, добытые с таким трудом?» От этих мыслей ему стало не по себе, и посещение друга не принесло успокоения. По дороге ему повстречался запыхавшийся от бега Сангалло со старшим сыном Франческо.
— Идём, Микеланьоло, с нами! Близ Санта Мария Маджоре обнаружено античное изваяние.
Когда они пришли на место, около отрытой наполовину из земли статуи уже толпились люди. Пролежав несколько столетий в земле, мрамор сохранил свою белизну. При откапывании изваяния заступами у фигур были повреждены руки.
— Да это же Лаокоон! — воскликнул Сангалло. — О нём говорит Плиний.
Микеланджело вздрогнул от неожиданности. Ужели это та самая скульптура, о которой он слышал столько восторженных слов, живя при дворе Лоренцо Великолепного? По приказу императора Тита она была куплена у родосских мастеров и доставлена в Рим, но по прошествии веков следы её затерялись. Он впился глазами в изваяние, поразившее его своей столь необычной для античной скульптуры динамикой.
Согласно «Энеиде» Вергилия, в которой древнему мифу придано поэтическое оформление, жрец Аполлона по имени Лаокоон из Трои разгадал хитрость врага и постарался воспрепятствовать проникновению в город деревянного коня, в утробе которого укрылись вооружённые до зубов греки, замыслящие недоброе. В «Энеиде» поэт заклинает троянцев не доверять грекам-данайцам. Его слова стали известной поговоркой: «Timeo Danaos et dona ferentes» — «Бойся данайцев, дары приносящих». В отместку за разглашение тайны боги натравили на выступившего против их воли смельчака огромных змей. На скульптуре запечатлён момент, когда злобно шипящие гады готовы задушить корчившегося в муках Лаокоона и двух его сыновей.
Борьба человека с волей богов — таков пафос изваяния, поразившего Микеланджело своей экспрессивностью. Высеченная в мраморе композиция напоминает сцену из древнегреческой трагедии, исполнители которой выстроены в ряд и обращены лицом к зрителю. Ваятели древней Эллады любили сложные и эффектные сцены, смелые ракурсы, выразительные позы, форсированные эмоции и прочие элементы театральности, которые в избытке присутствовали в найденной скульптурной группе.
Охваченный волнением, Микеланджело обошёл вокруг ямы и с тыльной стороны обнаружил два шва. Ему стало ясно, что скульптура вырублена не из одного блока мрамора. При этом открытии он испытал некоторое чувство превосходства перед античным ваятелем.
Мысленно обращаясь к автору скульптуры, безвестному эллину, Микеланджело промолвил про себя: «Не убедил ты меня, далёкий друг, ибо простых решений я не терплю и предпочитаю высекать фигуру из одной цельной глыбы. Ты же избрал облегчённый путь и использовал три мраморных блока».
Высоко оценив мастерство обработки камня и невероятную свободу владения пластикой человеческого тела, он не согласился с автором в его трактовке образа героя, в котором много чисто внешнего, показного, хотя сама скульптура во многом отвечала его неукротимому стремлению к смелым неожиданным ракурсам и разработке мотивов контрапоста — противонаправленного движения верхних и нижних частей тела.
Став очевидцем этого события, Микеланджело под впечатлением увиденного на время забыл о своих бедах. Но позднее он вспомнил о первой встрече с Лаокооном при работе над росписью плафона Сикстинской капеллы.
Случайно обнаруженное на обычном винограднике в тот яркий весенний день выдающееся произведение античности отозвалось громким эхом, и туда началось паломничество. Для хозяина виноградника Феличе де Фредиса тот день оказался воистину счастливым, оправдывающим имя, данное ему при крещении (felice — счастливчик). Растерявшемуся от наплыва знатных персон крестьянину тут же предложили за скульптуру суммы, которые он никогда не держал в руках. Но всех опередил появившийся посланец двора Парис де Грассис, который сразу смекнул, в чём дело. Любая ценная находка, найденная на папской территории, принадлежит по закону Ватикану, и он, вручив ошалевшему крестьянину небольшую сумму наличными, распорядился немедленно доставить Лаокоона во дворец.
Благодаря этой находке римский земледелец Феличе де Фредис попал в историю, а его сыновья решили достойно увековечить покойного отца, похоронив его в церкви Арачели на вершине Капитолийского холма.
Вскоре Сангалло было велено явиться к папе. С ним отправился и Микеланджело. В назначенное время они нашли Юлия в новой пристройке ко дворцу на холме, называемом Бельведер. Там были установлены античные изваяния, включая Аполлона и только что доставленного Лаокоона.
— Что скажешь об этой неожиданной находке? — спросил папа, подойдя к изваянию.
— Ваше святейшество, — ответил Сангалло, — можно только поздравить вас и Вечный город с таким ценнейшим приобретением.
— Коль скоро и ты здесь оказался, — сказал недовольно папа, увидев Микеланджело, — хотя я тебя не звал, каково твоё мнение, скульптор?
— Наш язык беден, чтобы словами описать все достоинства этой находки. Но коль скоро вы желаете, святой отец, услышать моё скромное мнение, скажу, что Лаокоон, как и стоящий напротив несравненный Аполлон Бельведерский, лишний раз убеждает меня и всех, кто предан искусству, в верности избранного нами пути, хотя должен признать, что экспрессия изваяния кажется мне чрезмерной.
Юлий с удивлением взглянул на него.
— У античного ваятеля был свой взгляд на мир, — заметил он, — и нам об этом не дано судить. Но за смелость суждения хвалю.
В это время без доклада появился Браманте с чертежами. Поцеловав папе руку, он разложил принесённые листы на огромном столе рядом с готовым проектом реконструкции базилики, разработанным Сангалло. Микеланджело впервые увидел пожилого архитектора с лысым черепом и недобрым взглядом колючих глаз из-под седых мохнатых бровей, о котором был наслышан всякого. Ему даже показалось, что маркизанец зашёл специально, чтобы отвлечь внимание папы от скульптуры.
С его появлением разговор перешёл на чертежи реконструкции старой базилики, возведённой по приказу императора Константина на месте гибели апостола Петра. Юлий оживился и стал внимательно разглядывать оба проекта любимого им детища.
— Но я не вижу в твоем проекте места для моей гробницы! — вдруг с удивлением сказал он, разглядывая разложенные на столе рисунки.
— Положение изменилось, — ответил Браманте, бросив косой взгляд на Микеланджело, — так как проект гробницы, предложенный нашим молодым коллегой, настолько величествен и грандиозен, что для него потребуется возведение отдельного строения.
— Но это совершенно излишне! — воскликнул Сангалло, желая оспорить мнение коллеги. Однако вошедший церемониймейстер прошептал что-то папе на ухо, и Юлий дал понять, что аудиенция закончена.
Видя, что Сангалло, которому не дали высказаться по поводу проекта, подавлен, Микеланджело решил проводить друга до дома.
— Ты видел, что вытворяет этот интриган? — спросил Сангалло, когда они пришли к нему.
Микеланджело хранил молчание, дав другу высказать всё, что у него накопилось, хотя у самого на душе тоже было муторно. Визит к папе, на который он возлагал надежды, ничего не дал, и наболевший вопрос так и повис в воздухе.
Ему было известно о соперничестве между двумя архитекторами. Папа ценил обоих, но предпочтение отдавал напористому Браманте. В отличие от скромного рассудительного Сангалло его соперник-маркизанец был человеком решительным и смелым, берущимся за любую работу, если в ней он видел для себя выгоду. Ему не было равных по части сталкивания лбами противников, встречавшихся на его пути. Он был мастером плести интриги и в кулуарах папского двора с его сплетнями и наветами чувствовал себя как рыба в воде. Прямолинейному и лишённому гибкости Сангалло было трудно с ним тягаться, да и по своей натуре он отнюдь не был бойцом.
Слушая сетования друга, которому не дали доказать свою правоту, Микеланджело при всей неприязни к Браманте понимал, увидев оба проекта, что представленное маркизанцем решение выглядит впечатляюще и намного превосходит работу Сангалло, цепляющегося за прошлое, за формы древней базилики. «Платон мне друг, но истина дороже», — вспомнив это древнее изречение, он предпочёл не касаться болезненной для Сангалло темы.
Микеланджело старался понять причину изменившегося отношения к нему папы Юлия, чья неприязнь проявилась даже при осмотре группы Лаокоона. Он терялся в догадках, пока положение не прояснил близкий ко двору Бальони. Пока Микеланджело отсутствовал, работая в горах, а на площади перед базиликой Святого Петра росла с каждым месяцем, к изумлению римлян, гора добытого мрамора, увивающийся вокруг папы Браманте забеспокоился. Выдержит ли папская казна такие расходы на гигантскую гробницу и на строительство нового собора, работа над проектом которого была поручена ему и Сангалло? Хитрый маркизанец сумел внушить суеверному Юлию, что возведение гробницы при жизни — это плохая примета, которая может обернуться для него несчастьем. Слова Браманте запали в душу папы перед очередным военным походом, сопряжённым с немалыми опасностями для жизни, хотя он был не робкого десятка.
Но была и ещё одна причина охлаждения папы к сооружению гробницы, и виною тому отчасти сам Микеланджело. Задуманный им проект был настолько грандиозен, что не вписался бы в никакие рамки проектируемого нового собора Святого Петра, идеей которого загорелся Юлий II. Он потребовал от архитекторов воздвигнуть колоссальный собор на месте старой базилики. Новый собор по размерам и величию стал бы первым христианским храмом в мире, а на такое строительство требовались баснословные затраты, на которые Ватикан был не готов пойти из-за возросших расходов на военные цели.
* * *
Время шло, и рядом с горой мрамора на площади закипела работа по сносу старой базилики. Микеланджело с болью в сердце видел, как безжалостно уничтожались ценные дорические колонны и древние мозаики. Всё это можно было сохранить для интерьера будущего собора. Но не таков был Браманте, который торопился, пока папа не остыл к его проекту, и приказал поскорее очистить место для укладки фундамента нового собора, а прекрасные древние колонны пустить на известь. Смотреть на это было больно, и Микеланджело успел даже набросать несколько рисунков, прежде чем ценные раритеты были уничтожены.
Для торжественной церемонии закладки первого камня уже отрыли глубокий котлован и установили винтовую лестницу, по которой Юлий должен спуститься и заложить в основание собора камень, а также медаль со своим изображением, отчеканенную по столь знаменательному поводу.
Своими впечатлениями Микеланджело поделился как-то с Бальдуччи, резко критикуя Браманте за произвол и вскрывшиеся махинации при расчётах с подрядчиками за поставку некачественного материала.
— Всем известно, что Браманте подворовывает на подрядах и жаден до денег, — согласился друг. — Но кто, скажи мне, осмелится высказаться против изворотливого архитектора, которому папа целиком доверяет?
Помолчав немного, Бальдуччи добавил:
— Если не хочешь, чтобы твоё тело выловили в Тибре, советую тебе, дружище, держать язык за зубами.
Сознание Микеланджело обожгло воспоминание о таких же угрозах, исходивших в Болонье от тамошних завистливых мастеров, и в него вселился страх. Он стал опасаться с наступлением сумерек один выходить на улицу. Но время шло, нанятые рабочие продолжали обтёсывать глыбы, а папа по-прежнему был недосягаем. Тогда, поборов свой страх, он решил действовать более решительно и в субботу, считавшуюся приёмным папским днём, отправился во дворец. Договор он пока оставил дома, так как сам ещё толком не разобрался в написанном под диктовку Галли.
В одном из залов Юлий принимал посетителей, которых собралось немало. Подошла очередь известного в городе ювелира, предложившего приобрести у него партию драгоценных изумрудов. В разговоре с ним папа резко заявил, словно желая, чтобы его слова были услышаны остальными, дожидавшимися своей очереди. Всем не терпелось знать, в каком ныне папа настроении.
— Я не желаю тратить ни полушки на камни — ни на маленькие, ни на большие. Нас ждут великие дела, и мелочами заниматься нам недосуг.
Хотя от слов папы Микеланджело передёрнуло, он вопреки этикету прямо подошёл к Юлию и без обиняков спросил, когда ему наконец будут выданы деньги для продолжения работы над гробницей.
Не ожидавший увидеть его среди посетителей, Юлий метнул гневный взгляд на растерявшегося церемониймейстера.
— Приходи в понедельник, — сухо сказал он и поспешно покинул приёмную.
Микеланджело отправился домой, поверив слову папы, произнесённому прилюдно. Ожидание затянулось. Он не попал на приём ни в понедельник, ни в следующие дни, натыкаясь всякий раз на отказ. Тогда он направился прямо к главному казначею. Тот, пряча глаза, ответил, выслушав его просьбу:
— Ничем не могу вам помочь, Буонарроти. От Его святейшества я не получал никаких распоряжений о выдаче вам денег.
Следует, однако, сказать, что, по данным казначейства, добыча и доставка мрамора обошлись намного дешевле выделенной на эти цели суммы, о чём было доложено папе. Официальных расписок и фактур не сохранилось, но в литературе этот факт не обойдён молчанием. Известно также, что родитель скульптора сумел в тот период обзавестись новой недвижимостью, вложив средства, полученные от сына, в приобретение земли. У отца и сына была мания скупать земельные наделы, хотя оба были далеки от земледелия.
Микеланджело томился от безделия и неясности создавшегося положения:
В толк не возьму причину Тревоги постоянной, А дух мой окаянный И вовсе сник совсем, согнувши спину. Но я печаль отрину, А воспарить, как птица, Бескрылому, мне свыше не дано, Чтоб с небом породниться. Как одолеть кручину? Покамест твёрдо знаю я одно: Уж коли суждено Душе дождаться часа искупленья, Её исторгну я без сожаленья (154).* * *
Первого марта стало известно, что победил Браманте и предпочтение отдано его проекту. Развязка затянувшейся истории произошла накануне торжественной закладки первого камня в фундамент нового собора Святого Петра. Утром в пятницу 17 апреля Микеланджело предпринял очередную попытку проникнуть к папе, но стоящий у входа конюший остановил его.
Подъехавший в карете епископ Лукки, приходившийся Юлию роднёй, поинтересовался, в чём дело. Узнав, что Микеланджело не пускают во дворец, он сказал с укором конюшему:
— Разве ты не узнаёшь нашего знаменитого скульптора?
— Как же мне не знать творца «Пьета», — промолвил тот и извиняющимся тоном добавил: — Именно его-то и не велено пускать.
Услышав это, взбешённый Микеланджело вернулся к себе. Его трясло от негодования, и, взяв перо, он нацарапал, разбрызгивая чернила, записку папе: «Святой отец! Сегодня утром по Вашему приказу меня, как последнего негодяя, прогнали из дворца. Отныне, если я Вам понадоблюсь, можете искать меня где угодно, только не в Риме».
Отослав письмо, он приказал Росселли продать весь свой нехитрый скарб.
— Ступай в гетто, где сыщешь толкового скупщика, — сказал он напоследок помощнику, а сам занял место в почтовом дилижансе и покинул Рим.
В тот же день получив письмо, разгневанный папа послал вдогонку пятерых гонцов, которые настигли беглеца ночью на почтовой станции тосканского городка Поджибонси в пятидесяти верстах от Флоренции.
Среди настигших его гонцов Микеланджело, к своему удивлению, увидел Лео Бальони.
— Зная о нашей дружбе, — пояснил тот, — папа приказал мне без тебя не возвращаться. Вот его записка: «По получении сего, под страхом нашей немилости, немедленно возвращайся в Рим».
Прочитав, Микеланджело ответил, что вернётся только в том случае, если папа выполнит все свои обязательства.
— Да ты сам не понимаешь, что говоришь! — воскликнул изумлённый Лео. — Как можно ставить Его святейшеству условия? Не дури, приятель, и не играй с огнём.
— И ты, Брут! Мне искренне жаль, что я в тебе ошибся. Как же недалеко ты ушёл от жалких прихвостней из холуйского окружения папы!
Видя, что дело принимает крутой оборот, один из гонцов пригрозил силой доставить его к папе.
— Руки коротки, любезнейший! — тут же резко отпарировал Микеланджело. — Я на своей земле, и власть папы на неё, к счастью, не распространяется. Возвращайтесь-ка, служивые, подобру-поздорову, не то я кликну стражу. А своему хозяину передайте, чтоб подыскивал себе другого слугу.
В его глазах была такая решимость, что Бальони с гонцами ничего другого не оставалось, как отправиться в обратный путь.
По возвращении домой Микеланджело остыл и пришёл в себя. Немного осмотревшись, решил написать Сангалло, с которым не успел даже попрощаться. 2 мая 1506 года он отправил ему письмо, поведав о подвергшемся унижении со стороны Юлия.
«Но не одно это побудило меня уехать, — писал он. — Была и другая причина, о которой я предпочитаю умолчать. Скажу только, что если б я остался в Риме, то гробница, по всей вероятности, понадобилась бы мне, а не папе. Это и послужило причиной моего внезапного отъезда».
Здесь скрывался явный намёк на козни и угрозы Браманте, чьё имя он поостерёгся называть в письме из-за опасения подвести друга.
«Пусть Его Святейшество знает, — продолжал он, — что я более, чем когда-либо, расположен закончить работу над гробницей, и если он захочет, чтоб я продолжил это дело, пусть не заботится о том, где я буду трудиться… Через пять лет гробница будет сооружена в соборе Святого Петра».
Ему хотелось уязвить папу, напомнив ему, с какой лёгкостью тот доверился низким льстецам и завистникам. Вскоре на бумаге сам собой родился сонет — крик оскорблённой души. Переписав его набело, он вложил листок в конверт, на котором пометил крупными буквами «ЛИЧНО В РУКИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ», и, не раздумывая, отослал с курьером в Рим:
Пословица, мой государь, известна О том, что видит око — зуб неймёт. Завистников у нас невпроворот Угодливость тебе, как вижу, лестна. От смелых мыслей духу было тесно, Когда прославить я решил твой род, Забыв, что бездарям у нас почёт, А вдохновенье вовсе неуместно. Мечтал я верность доказать в делах, Но не обласкан за своё раденье — В ответ мне прозвучало эхо гнева. Не ценится добро на небесах, Коль за тяжёлый труд вознагражденье Просить я должен у сухого древа (6).Получив поэтическое послание скульптора, не забывшего даже напомнить о гербе рода делла Ровере, на котором был изображён дуб (rovere), дерзко названный «высохшим», папа задумался: «Вот стервец, не побоялся назвать меня сухим древом! Но я ещё заставлю его приползти ко мне на коленях».
Ему стало не по себе от того, что он погорячился, незаслуженно обидев Микеланджело. Но не таков он был, чтобы признавать свою вину. Неужели глава Римской церкви должен извиняться перед мальчишкой, слишком много возомнившим о себе? Поразмыслив, Юлий решил избрать другой путь воздействия на молодого упрямца.
В конце мая Микеланджело получил из Рима письмо от преданного Росселли, который поделился своими впечатлениями о приёме в Апостольском дворце, где папа Юлий обронил фразу, что ему хотелось бы завершить оформление Сикстинской капеллы, построенной его двоюродным дядей папой Сикстом IV, и что с таким трудоёмким делом мог бы справиться только такой уверенный в своих силах художник, как Микеланджело, способный сдвинуть горы. Обернувшись к Сангалло, как сообщал в своём письме Росселли, папа приказал ему немедленно отправляться во Флоренцию и привезти непослушного беглеца.
В отличие от того, что утверждают Вазари и Кондиви в своих мемуарах, против высказанной папой идеи резко выступил Браманте, который, как пишет Росселли, заявил, что не единожды говорил с Микеланджело о Сикстинской капелле, но тот боится за неё браться, поскольку у него мало опыта в живописи. В письме помощника далее говорилось, что, выслушав Браманте, папа промолвил: «Если он не возьмётся за Сикстину, то причинит мне глубокую обиду, — посему я полагаю, что упрямец образумится и снова приедет к нам в Рим».
Уличив Браманте во лжи, Росселли заявил папе, что готов положить голову на плаху, чтобы доказать правоту своих слов.
Не обратив внимания на слова о Сикстинской капелле, Микеланджело был потрясён ложью Браманте, с которым никогда даже словом не обмолвился о живописи. С такой низостью ему ещё не приходилось сталкиваться. Между тем вся Флоренция уже знала, что её славный гражданин не склонил головы перед грозным Юлием II, наводившим ужас на всех соседей. Флорентийское правительство стало получать из Рима послания с требованием выдачи непослушного Микеланджело «добром или силой». Многим членам Большого совета вспомнились годы смуты, когда точно так же папский Рим потребовал выдачи преподобного Савонаролы, а к чему это привело — только лишь к новым бедам. Но времена изменились, и республика не поддастся на диктат, от кого бы он ни исходил. Чего-чего, а уж гордости флорентийцам не занимать!
Приходящие из Рима тревожные вести о ведущихся там полным ходом военных приготовлениях накалили обстановку во Флоренции, где притихшие на время сторонники Медичи вновь подняли голову, а их пособники стали распространять слухи о скором возвращении бывших правителей и неминуемой расправе над сторонниками республики. Появилось немало подстрекателей, призывавших граждан к неповиновению властям. Их отлавливали и на месте жестоко карали. Но число их не убывало — Медичи щедро платили своим пособникам.
В те тревожные дни гонфалоньер Содерини получил письмо от папы Юлия, в котором говорилось: «Микеланджело, скульптор, покинувший нас без причин из чистого каприза, боится, как нас извещают, возвратиться, хотя, зная характер таких людей, мы вовсе не сердимся на него. Надеясь, что он отбросит все свои опасения, мы полагаемся на вашу благожелательность и поручаем вам убедить его от нашего имени, что если он к нам возвратится, то не получит никакой обиды, ущемления и сохранит нашу апостолическую благосклонность в той же мере, в какой ею пользовался раньше».49
Прочитав письмо, Содерини приказал Микеланджело через посыльного незамедлительно явиться во дворец. Тот не заставил себя долго ждать, надеясь, что его ждёт новое интересное предложение.
— Ты поступил с папой так, как не решился бы ни один король Франции, — начал разговор на повышенных тонах гонфалоньер. — Но пора знать меру. Изволь-ка немедленно отправляться назад!
— В Рим я ни за что не вернусь, — прозвучал ответ. — А если республика не в силах защитить своего гражданина, мне ничего другого не остаётся, как податься в Турцию.
У гонфалоньера глаза на лоб полезли. Он никогда не мог понять, когда Микеланджело шутит, а когда говорит всерьёз. Но мастер вовсе не шутил. Узнав о его размолвке с папой, турецкий султан послал во Флоренцию своего поверенного в делах, францисканского монаха, с приглашением Микеланджело пожаловать в Константинополь для выполнения крупного заказа — поговаривали даже о постройке моста через Босфор. (Напомним в скобках, что подобное приглашение получил ранее Леонардо да Винчи, который с радостью откликнулся и отправил в Константинополь проект моста. Но великолепная ажурная многоярусная конструкция пришлась не по вкусу султану Баязету II, и стареющий художник остался во Франции.)
Микеланджело не раз говорил о поездке в Константинополь с друзьями, которые разделяли его опасения насчёт поездки в Рим без гарантий безопасности со стороны папы. Напоминанием о тех разговорах служит один из сонетов с шутливой подписью «Ваш Микеланджело из Туретчины», а также известный его прижизненный портрет в восточном тюрбане, написанный другом Джулиано Буджардини (Флоренция, дом Буонарроти). Достаточно взглянуть на тот портрет, в котором поражает полный тоски взгляд, чтобы понять, насколько болезненно Микеланджело переживал, что ему не удалось осуществить великий замысел и увидеть вызволенными из добытых с таким трудом мраморных глыб своих героев.
Время шло, и папа Юлий начал терять терпение. В очередном послании он недвусмысленно дал понять, что если Флоренция не образумится и не выполнит его требования, ему придётся прибегнуть к военным и религиозным санкциям, вплоть до отлучения города от церкви. Вызвав к себе Микеланджело, перепуганный Содерини показал ему последнее грозное письмо понтифика.
— В какое ты нас ставишь положение! Неужели тебе не дорога безопасность республики? — чуть не со слезами на глазах начал он разговор. — Разве папа желает тебе зла, коль так настойчиво просит вернуться? Он ждёт тебя для великих дел, ибо верит в твой гений.
Последнее замечание заставило Микеланджело крепко задуматься. Мысли о Турции рассеялись сами собой, да и вряд ли они всерьёз им рассматривались, о чём говорит и упомянутая выше шутливая надпись. Он решил вплотную заняться делами, которых у него столько накопилось за время его одиссеи с папской гробницей.
Для него 1506 год оказался крайне неудачным, словно над ним висело проклятие. Ни одно из начатых дел не было им доведено до конца. Судьба оказалась к нему немилостива, как и к Леонардо да Винчи, познавшему горечь поражения и скрывшемуся подальше от глаз. Везло одному только баловню судьбы Рафаэлю, сумевшему окончательно покорить Флоренцию своими Мадоннами.
В противостоянии с Юлием II Микеланджело не чувствовал себя победителем, хотя друзья и знакомые выражали восхищение его стойкостью. Но сам он понял лишь одно — целый год ушёл впустую, здоровье подорвано в горах, его грандиозные планы так и не осуществились, а время потрачено безвозвратно…
Как велико желанье Добиться от природы, Чтоб вспять катились годы! Никто не убежит от седины — Напрасны все старанья. Над бегом времени мы не вольны, И дни уж сочтены. Грядущее уходит безвозвратно, А в настоящем жизнь моя отвратна (144).Как писал с горечью Сангалло из Рима, отныне всеми делами по строительству нового собора заправляет один Браманте. Маркизанец вывел из игры двух опасных соперников — Сангалло и Микеланджело, порицавших его действия, и стал единоличным хозяином художественной жизни в Риме. Без его участия не решается ни один проект, касающийся архитектуры, живописи и скульптуры — всюду требуется его веское слово, к которому папа прислушивается.
В конце августа Юлий II во главе тысячного войска и целой свиты кардиналов и приближённых покинул Рим и двинулся в поход на Перуджу и Болонью, чтобы изгнать тамошних тиранов. При дворе он оставил следить за хозяйством своего младшего брата Джованни делла Ровере, назначив его префектом Вечного города. Отправившись в поход, папа взял с собой Сангалло и его команду инженеров, знатоков стенобитных орудий и взрывных устройств.
Узнав об отъезде папы, Микеланджело обрадовался — теперь Юлию не до него, а стало быть, можно продолжить работу над картоном с купальщиками и подумать о росписи во дворце Синьории. После провала Леонардо другая часть стены, предназначенная для росписи в зале Большого совета, заждалась его, и можно приступить к работе, пусть пока и в одиночестве. К тому времени, глядишь, и Леонардо возвратится из Милана. Как истинный флорентиец он вряд ли смирился с неудачей, и состязание продолжится, а там посмотрим, кто из двоих одержит победу, когда их работа будет показана самым строгим судьям — флорентийцам.
Микеланджело отправился к Содерини, чтобы поговорить о контракте на фресковую роспись, который так и не был в своё время с ним подписан. Теперь он свободен и готов взяться за роспись.
— Об этом не может быть речи, — резко ответил гонфалоньер, — пока ты не уладишь свои отношения с папой.
Содерини рассказал, что по сообщению его старшего брата, кардинала Вольтерры, входящего в многочисленную папскую свиту, Юлий II хотел бы повстречаться с Микеланджело в Болонье и поручить ему какое-то новое дело.
— Вот тебе моё письмо к брату, который сможет помочь на первых порах.
В письме говорилось, что Микеланджело — прекрасный молодой человек, единственный в своём искусстве во всей Италии, а возможно, и в целом мире. Нрав его таков, что добрым словом и любезным обращением от него можно добиться всего.
— Для твоего же спокойствия мы назначим тебя полномочным послом Флорентийской республики, и тебе ничто не будет угрожать.
Увидев, как тень недовольства пробежала по лицу Микеланджело, он добавил:
— Скажу больше — если удастся восстановить прежние добрые отношения с Юлием, мы готовы поручить тебе создать для симметрии в пару «Давиду» второго Гиганта перед входом во дворец Синьории.
Эта мысль всполошила Микеланджело. Неужели такое возможно, и рядом с «Давидом» может появиться другой беломраморный герой? Ради этого он готов поступиться своим самолюбием, забыв все прежние обиды, и тут же отправиться на поклон к папе.
Довольный произведённым эффектом, Содерини сообщил, что встречи с понтификом многие теперь домогаются. Вот и Рафаэль спешно отправился в Рим после одного недавнего разговора в этом самом кабинете. Чтобы подзадорить Микеланджело, он рассказал о последней встрече с урбинцем, который загорелся желанием поучаствовать в росписях дворца Синьории. Услышав это, Микеланджело оторопел:
— Да как посмел этот тихоня позариться на мою работу?
— Успокойся же, ради бога! Я ничего не обещал милому и не в пример тебе воспитанному юноше, который учтиво предложил свои услуги.
— А он как себя вёл и что предлагал?
— Говорил, что горит желанием выразить свою любовь и признательность к Флоренции.
— Но какой сюжет он предложил для росписи? — спросил в нетерпении Микеланджело, теряя самообладание.
— По правде говоря, я не всё до конца понял. Но в его глазах было такое горячее желание воспеть наш город муз и цветов! Если бы дело не касалось тебя и Леонардо, я бы со всей охотой поддержал его. Он трудолюбив и честен, о нем высоко отзывается сам урбинский герцог, близкий родственник папы Юлия.
Микеланджело ничего не оставалось, как, разведя руками, сказать Содерини на прощанье не без издёвки:
— Это не художник, а ходячая рекомендация.
Содерини неумно поступил, рассказав о визите Рафаэля. Не стоило ему подливать масло в огонь, зная о непростых отношениях между великими мастерами. Подозрительный Микеланджело так и не смог простить товарищу по цеху его опрометчивый шаг. Эта неприязнь ещё более возросла, когда судьба вновь свела их.
Разговор с гонфалоньером окончательно убедил Микеланджело, что надо немедленно ехать к папе, чтобы не опоздать к раздаче выгодных заказов, пока там не утвердится вездесущий Рафаэль. 29 ноября 1506 года он оказался в Болонье.
Глава XX ПРИМИРЕНИЕ В БОЛОНЬЕ
Огнём железо укрощает властно,
Секреты ремесла познав, кузнец.
Знаком с горящим горном всяк творец —
Прочна в металле форма и прекрасна! (62)
Не найдя кардинала, брата Содерини, он оставил в канцелярии епископата адресованное ему послание, решив действовать самостоятельно, и отправился навестить старого друга и знатока местных порядков и нравов Альдовранди, который встретил его очень радушно.
— Тебя просто не узнать! — воскликнул он. — После «Давида» ты возмужал и изменился.
Они проговорили весь вечер, вспоминая былое. В литературном салоне, как поведал Альдовранди, до сих пор вспоминают, как вдохновенно гость из Флоренции читал Данте и Петрарку. А тогдашние рисунки хранятся у него как память о тех незабываемых днях.
— Да, чуть не забыл! — вдруг вспомнил Альдовранди. — Тобой каждый раз при встрече интересуется Кьяра, бывшая возлюбленная моего племянника. Они давно расстались, и, сдаётся мне, по твоей вине.
— Каюсь, был грех — бес попутал. Но тогда, помнится, она звалась Бруна.
Альдовранди рассмеялся:
— О, это большая фантазёрка! Тебе она назвалась Бруной, а мне и моему шалопаю-племяннику представлялась блондинкой Кьярой, вечно поправляющей свой парик. Теперь у неё другой и весьма состоятельный покровитель.
Альдовранди хотел продолжить разговор о девушке, о которой толком никто ничего не знал, так как в ранней юности она попала в неприятную историю и вынуждена была скрываться и жить под разными именами. Но Микеланджело не поддержал его и заговорил о делах в Болонье.
— Наш правитель Бентивольо в страхе бежал из дворца со всем своим семейством, — пояснил Альдовранди. — И теперь собирает силы, чтобы вернуть власть.
Договорились завтра отправиться во дворец Шестнадцати на приём в честь победителя папы Юлия.
Когда они вошли в зал приёмов, где находилось более ста приглашённых, папский камерарий тут же доложил понтифику о появлении Микеланджело. Зал тут же притих, как по команде. Создалось впечатление, что всё было заранее продумано и умело срежиссировано, как в театре. Придворные, изображавшие статистов, в нетерпении ждали, когда вступят в действие главные персонажи.
Сидя на возвышении, Юлий II знаком приказал приблизиться опальному мастеру. Все взоры присутствующих были обращены к столь долгожданному покаянию. Подталкиваемый камерарием Микеланджело с гордо поднятой головой приблизился к папе и согласно этикету стал перед ним на колени. Юлий смотрел на коленопреклонённого художника, стараясь прочесть на его лице искреннее раскаяние или затаённую обиду.
— Ты не соблаговолил явиться к нам в Рим, — сказал он миролюбиво. — А мы вот не сочли за труд прибыть сюда, чтобы повстречаться с тобой,
— Простите меня, святой отец. Мне было очень больно, когда я оказался выброшенным из дворца как шелудивый пёс. Готов понести любое наказание за свою дерзость.
Его слова тронули брата Содерини, иерарха из папской свиты, и он решил вступиться за молодого художника.
— Не сердитесь на него, Ваше святейшество. Он поступил так по своей глупости. Все художники, кроме искусства, ни в чём другом не смыслят.
Юлий вспыхнул от негодования и схватился рукой за посох.
— Да как ты посмел, невежа, сказать о знаменитом мастере то, чего даже мы бы себе не позволили? Пошёл вон с наших глаз!
Стража накинулась на горе-защитника и выпроводила его взашей из зала. Излив свой гнев на оплошавшего прелата, Юлий подобрел и дал своё благословение раскаявшемуся Микеланджело.
— Приходи завтра в мой лагерь. Для тебя у нас есть одно важное дело.
Покидая вместе с Альдовранди приём, Микеланджело заметил Рафаэля с группой местных художников и, молча кивнув на его приветствие, прошёл мимо, не остановившись.
— Я вижу, ты не очень жалуешь молодого коллегу, — сказал по дороге Альдовранди.
— Хватит и того, что его жалуют все остальные, — нехотя буркнул Микеланджело, дав понять, что ему неприятен разговор на эту тему.
* * *
Ночью на Болонью обрушился сильный снегопад. Увязая в снегу по колено, Микеланджело добрался до папского лагеря, разбитого на берегу Рено. Он вздрогнул, неожиданно вспомнив это место. Но тогда было жаркое лето, когда кровь бурлила и ему с трудом удалось сдержаться, подавив вожделение при виде обнажённой женской натуры, словно выточенной резцом из мрамора. Он явно спасовал тогда перед обнажённой девицей, о чём ему не хотелось вспоминать, а теперь на этом месте бушуют иные страсти, которые могут вызвать кровопролитие.
В большом шатре, утеплённом коврами и шкурами, он нашёл папу, склонившегося над разложенной картой. Его голову непривычно украшал стальной шлем с поднятым забралом, а на плечи был накинут плащ с алым подбоем. Своим грозным видом понтифик внушал окружающим страх, а отнюдь не благоговение.
— Вот тебе, сын мой, новое задание. Для ниши над вратами в храм Сан Петронио ты должен изваять нашу фигуру в бронзе в честь взятия нами Болоньи.
— Как в бронзе? — подивился Микеланджело. — Но я не знаток литейного дела.
— Не спорь! — сверкнув очами, одёрнул его папа. — Ты же изваял бронзового Давида для этого плюгавого француза Рогана. Теперь прояви себя в деле и докажи нам свою преданность не на словах.
В такие минуты вспыхнувшего гнева спорить и что-то доказывать было бесполезно. Пришлось подчиниться папской воле. Он сразу взялся за дело, ибо Юлий не терпел никакого промедления и в своих поступках был непредсказуем.
На закупку металла для статуи и прочие расходы папой была выделена в местном банке тысяча дукатов. Каменщикам уже дали приказ выдолбить на фронтоне собора, украшенного барельефами Якопо делла Кверча, нишу высотой четыре метра — её размеры определили высоту статуи. Неподалёку от собора Микеланджело снял старый каретный сарай с кузницей и засел за рисунки. Из Флоренции по его вызову прибыли два незнакомых ему подмастерья, Лaпo ди Лаго и Лодовико Лотти, которых отобрал сам Содерини. Позднее к его команде присоединился один из лучших литейщиков в округе, Бернардино д’Антонио дель Понте.
В каретный сарай были завезены большая кровать, на которой спали Микеланджело и двое подмастерьев, и всё необходимое для жилья и работы. Мастер Бернардино предпочёл поселиться в кузне, где часами мог колдовать над тиглем. Погода была слякотная и промозглая, и огонь в печи у него не затухал.
Все занялись поиском нужного металла. У старьёвщиков удалось найти бывшие в употреблении медные тазы, оловянную посуду и старые подсвечники, но этого количества было явно недостаточно. На городской свалке были найдены ржавый орудийный ствол и ещё кое-какие металлические предметы.
Наученный горьким опытом Микеланджело, прежде чем расплатиться за собранный металлолом, направился с эскизами в стан к папе. Он был готов ко всяким неожиданностям, вплоть до отмены заказа, зная непостоянство Юлия. Но, к его немалому удивлению, тот остался доволен рисунками.
— А что будет в правой руке у статуи? — спросил он.
— Думаю вложить понтифику в руку книгу, — последовал ответ.
— Никакой книги! — резко оборвал его Юлий. — Я сюда прибыл не просвещать народ, а покорить его. Ты вложи ему в руки меч, чтобы держать в страхе болонцев, а их горластых соседей склонить к повиновению.
Микеланджело осторожно пытался возразить:
— Святой отец, но митра никак не вяжется с мечом. Не лучше ли вложить в правую длань ключи Святого Петра?
— Отличная мысль! Пусть все знают и видят, кто на земле викарий Христа.
Довольный Юлий отправился в поход. Отныне, как повелел папа, по всем вопросам в его отсутствие ему надлежало обращаться к епископу Павии Франческо Алидози, недавно произведённому в кардиналы и назначенному папским легатом в Болонье.
В одной из палаток полевого стана Микеланджело повстречал старого друга Сангалло, собиравшегося сопровождать папу в походе.
— Будь осторожен с папским легатом, — предупредил он. — Этот Алидози почище нашего Браманте. От него стонет вся Болонья.
Папа с войском направился дальше на север для усмирения непокорной Модены, за которой на левом берегу По расположился гарнизон французов, захвативших плодородные земли Паданской равнины. Юлий долго всматривался в дислокацию неприятеля — в его планы входило изгнание французов из Ломбардии, а потом и из всей Италии.
* * *
Щуплому папскому легату Алидози было около сорока. При первом с ним знакомстве Микеланджело поразили самодовольный вид и острый взгляд прелата, который вьюном вился вокруг папы. О нём ходила недобрая молва. Получив от папы неограниченные полномочия, он считал Болонью своей вотчиной и вытворял здесь всё, что хотел. Многие граждане, доведённые до отчаяния нескончаемыми поборами, покинули город. Вот и Альдовранди, не выдержав наглых вымогательств и угроз, решил бежать с семьёй в Мантую под защиту тамошнего правителя герцога Гонзага. Прежде чем оставить город, он повстречался с Микеланджело в его каретном сарае.
— Терпение моё лопнуло, нет больше сил сносить унижения от папского легата. Держись от него подальше! Алидози способен на любую подлость.
Он рассказал, что помочь пройти с семьёй через заградительные кордоны, расставленные по приказу Алидози, который был взбешён массовым бегством горожан, ему помогла добрая душа Бруна-Кьяра через своего влиятельного покровителя. Будучи вхож в ближайшее папское окружение, он выправил нужный пропуск.
Эта была их последняя встреча. В Мантуе с её нездоровым климатом в окружении озёр и болот Альдовранди подцепил какую-то болезнь, от которой так и не оправился.
До возвращения папы из похода Микеланджело торопился вылепить восковой макет на каркасе из металлических прутьев. С каждым днём фигура восседающего на троне папы обретала объёмность. В работе над головой будущей скульптуры он хотел придать лицу папы решимость и волю к победе над врагами. Его меньше всего заботило портретное сходство. Главное для него — передать порыв героя с поднятой десницей, готового встать во весь рост и проломить головой тесную нишу. Перед глазами у него была величественная фигура Марка Аврелия, поразившая его в Риме. Будь его воля, Микеланджело изобразил бы борца с тиранами обнажённым, а не в папских бармах. Его никогда не покидала мечта о герое-освободителе. Он воочию видел в Риме, Флоренции и Болонье беспросветную нужду простого люда, доведённого до скотского состояния. Чужая боль и нищета его угнетали, и совесть не позволяла ему думать о каких-либо излишествах. У него давно вошло в привычку довольствоваться малым, отказывая себе даже в самом необходимом.
Как-то на улице ему повстречалась Бруна со слугой, нагруженным покупками.
— Какая встреча! — радостно воскликнула девушка, поцеловав его. — Но теперь, скульптор, ты от меня не увильнёшь.
Взяв под руку, она чуть не силой повела его к себе. Рядом в бельэтаже помпезного особняка у неё была сьёмная квартира. Было видно, как Бруне хотелось ему показать, насколько вольготно живётся ей в окружении дорогих вещей, безделушек и послушных слуг.
— Мы с моим другом недавно побывали в Риме и Флоренции. Поздравляю тебя — ничего подобного мне не приходилось видеть. Какая силища! Мне нравятся мужчины, как твой Давид, решительные и смелые. Выпьем за Давида!
Они чокнулись бокалами.
— Но ты другой. Ладно — дело прошлое, а кто его помянет, тому, как говорится…
Его особо поразило одно её признание.
— В Риме перед «Пьета» я не могла сдержать слёз и долго находилась под впечатлением. А знаешь, за что я тебе прежде всего благодарна? Ты внушил мне чувство достоинства и самоуважения. Не буду тебе рассказывать, в какой нищете прошло моё детство, как пьяный отчим лишил меня невинности, когда мне было чуть больше восьми. Но я обид не прощаю, и негодяй жестоко поплатился.
Было заметно, как тяготят её воспоминания о детстве, и теперь в отместку она упивалась окружающим её богатством и заглушала память о прошлом вином. Она сделала ещё один глоток, хотя уже изрядно захмелела. Он не стал её останавливать.
— Да, я куртизанка, и что же? Я честно торгую собой, как и ты продаёшь творения своего таланта. В чём-то мы схожи, но я ничуть не собираюсь умалить твой гений. С тобой никто не сможет сравниться!
Он долго не мог забыть эту неожиданную встречу, принесшую ему радость и грусть. Прощаясь с Бруной, он понял, что она, несмотря на свалившуюся на неё роскошь, так же одинока, как и он сам под бременем известности и славы, которые не принесли ему ни душевного спокойствия, ни радости. Их судьбы и правда оказались схожи.
* * *
Вернувшийся из похода Юлий пожаловал в его каретный сарай взглянуть на проделанную работу.
— Ну, показывай, чем порадуешь! — сказал папа, садясь на табурет, подставленный Микеланджело.
Макет в натуральную величину производил сильное впечатление монументальной объёмностью и величием. По всему было видно, что Юлий доволен работой.
— Придай больше гнева взгляду, — таково было его напутствие скульптору.
Стало известно, что для самого папы дела складывались не лучшим образом, и он был мрачнее тучи. В такие моменты ему не стоило попадаться на глаза. Из Венеции пришло донесение от посла о том, что французский король Людовик XII намеревается силой вынудить папу оставить занятые им провинции, а также созвать в Пизе Вселенский собор для низложения Юлия II, сменившего митру на шлем, а пастырский посох на меч.
В Болонье сложилась напряжённая обстановка, обостряемая подосланными эмиссарами бывших правителей Бентивольо и другими противниками Рима. Но Микеланджело, казалось, не замечал надвигающейся бури и трудился с упоением. Если поначалу он хотел решительно отказаться от заказа, то со временем, трезво оценив предоставившуюся возможность, загорелся созданием монументального произведения и ни о чём другом не помышлял.
Но часто его выводили из себя подмастерья, и он проклинал тот день, когда решил их позвать к себе. В его отсутствие оба мерзавца, которым он исправно платил, бражничали, бегали по девкам, а в соседнем трактире похвалялись, что если бы не они, у их мастера бы ничего путного не получилось. Уличив как-то Лапо в воровстве при расчёте за приобретённую партию воска, Микеланджело прогнал его с позором. Тот вернулся во Флоренцию и, отправившись к мессеру Лодовико, умудрился вытянуть из него деньги, которые якобы задолжал его сын.
Вскоре та же участь постигла второго подмастерья, красивого парня Лодовико, которому иногда он приказывал раздеться донага и принимался рисовать, так как ни на что другое, кроме позирования, бездельник не годился. Тот поначалу отнекивался, хныкал и глупо хихикал, за что получал оплеухи. Но вскоре и он был изгнан за безделье, пьянство и болтовню. Вернувшись домой, парень стал распускать о бывшем хозяине всякие небылицы на радость врагам Микеланджело, которых у него было предостаточно.
В городе между тем начались волнения из-за нехватки продовольствия, подвоз которого оказался затруднён вспыхнувшей в округе эпидемией чумы. Горожане устраивали голодные бунты, требуя хлеба. Некоторым подводам с зерном удавалось прорваться через расставленные санитарные кордоны. После крещенских морозов чума пошла на спад, и в городе установилось относительное спокойствие, хотя изгнанный правитель Бентивольо не успокоился, лелея мечту вернуть утраченную власть с помощью завербованных двух тысяч наёмников, разбивших лагерь на левом берегу По рядом с французским гарнизоном.
По настоянию врачей 23 февраля 1507 года папа вынужден был покинуть Болонью. Его отъезд не шёл ни в какое сравнение с торжественным въездом в город на белом коне в ноябре прошлого года. За зиму он сдал и выглядел постаревшим, а при последнем штурме крепости Мирандола обморозил ноги. Поредела и его свита, состоявшая из старых хворых кардиналов и сановников. Одни лишь швейцарские гвардейцы выглядели бодро — холода им были нипочём.
Защиту и укрепление границ захваченных земель папа поручил своему племяннику, двадцатилетнему Франческо Мария делла Ровере, что вызвало недовольство наместника Болоньи кардинала Алидози. Он беспрекословно выполнял приказы папы и даже угадывал его малейшие желания, но не намерен был выслушивать указания взбалмошного папского племянника, незаслуженно наделённого большими полномочиями.
После отъезда папы не всё ладилось и у литейщика Бернардино, хотя ему довелось поработать с великими ваятелями. Узнав от Лапо о предстоящей отливке, мессер Лодовико сообщил в письме, что заказал благодарственный молебен в Сан Лоренцо. То, что прижимистый отец потратился на молебен, говорило о его крайнем беспокойстве за дела сына.
Первая отливка в июне не удалась. Не дождавшись, пока металл полностью расплавится, подслеповатый Бернардино начал лить его в форму и всё пошло насмарку. Фигура получилась только до пояса, а низ её остался в нерасплавленном в печи металле.
Раздосадованный неудачей Микеланджело отправил отцу письмо, умоляя его не отчаиваться: «Бедняге Бернардино стыдно глядеть болонцам в глаза… Я готов был поручиться, что этот мастер способен отлить что угодно даже без огня». Это было первое в его жизни жестокое поражение. Он корил себя за то, что поддался уговорам папы и взялся за не свойственное ему дело. Всю горечь он, как обычно, излил на бумаге:
Всё больше я ценю с годами свойство Довольствоваться малым, не роптать, А бед не избежать. Я понял, сколь несбыточны мечты. Не радость, а лишь горькое расстройство Мы познаём в объятьях суеты. Низвергнуть с высоты Судьба мне угрожает — Извечно был я для неё изгой И узник нищеты. Ничто уж не пугает. Мы — странники. Нам доли нет иной. Зачем кривить душой? Сносить достойно горечь пораженья Ценней, чем подло выиграть сраженье (244).* * *
Раздобыть нужное количество металла ему помог всесильный кардинал Алидози. По его приказу, несмотря на противодействие настоятеля и возмущение прихожан, с соборной звонницы был снят главный многопудовый колокол, который пошёл на переплавку. Позднее Микеланджело понял, сколь коварной оказалась такая помощь. Но тогда решительность кардинала помочь в беде была высоко оценена им, хотя доверия к нему он не испытывал и относился с подозрением.
А вот Рафаэль, пользовавшийся полным доверием самолюбивого кардинала, успел в Болонье написать его портрет, который привёл в восторг главу местной школы живописи Франчу и других художников, несмотря на их неприязнь к пришлым живописцам. Но Рафаэль сумел всех покорить своим мастерством и добрым нравом. Посетив как-то наместника для решения ряда вопросов, связанных с бронзовой скульптурой, Микеланджело увидел в его кабинете хвалёную работу Рафаэля. Портрет действительно удался по выразительности и колориту. И он подумал: «Далеко пойдёт этот царедворец, сумевший даже пустышке придать значительность. Ему теперь впору писать портрет самого папы».
Автор портрета, как сказал Алидози, ускакал в Рим вслед за папой, где ему был обещан новый заказ.
Наконец старому литейщику удалось поправить дело. 10 июля статуя была отлита, довольный Бернардино уехал домой, а Микеланджело взялся за отделку. В письме отцу от 2 августа он признавал: «Чем больше я открываю статую, тем больше нахожу её вполне удавшейся и вижу, что она даже превзошла все мои ожидания»…
Горю я страстью — корчусь на огне. Пожар поддерживает ветра тяга. Шипит, из сердца испаряясь, влага: Чем пуще пламя, тем отрадней мне! (57)Навестивший его кардинал Алидози передал приказ папы не покидать Болонью, пока бронзовая статуя не будет водружена на фронтоне собора Сан Петронио. Оставшись один, без помощников, он усиленно работал над шлифовкой отливки, требующей почти ювелирной точности. В письме от 10 ноября 1507 года он пишет: «Я живу здесь в больших лишениях и чрезмерно устаю, работая день и ночь». Чаще всего он писал среднему брату Буонаррото, которому помог завести собственное дело в торговом доме Строцци и считал его самым разумным в сравнении с остальными братьями-шалопаями.
Упоминание о лишениях звучит в письме несколько преувеличенно. Но ему не хотелось давать домашним повод думать, что он катается как сыр в масле. Например, брату Сиджисмондо взбрело в голову приехать к нему погостить в самый разгар работы, когда кусок хлеба не было времени проглотить. Поэтому приходилось иногда сгущать краски, хотя на самом деле он действительно жил более чем скромно, отказывая себе во всём, и когда был беден, и когда стал богат, — уж такова была его натура.
Как-то к нему зашёл живописец Франча взглянуть на готовую скульптуру. Он долго её рассматривал и под конец заметил:
— А медь действительно хороша! Повезло тебе — так и сверкает.
Микеланджело передёрнуло от его слов.
— Ты прав, — ответил он. — Это всё заслуга папы. Как и ты всем обязан продавцу, у которого покупаешь краски.
Провожая посетителя до двери, он не удержался и сказал напоследок:
— А знаешь, Франча, твои сыновья у тебя получились намного лучше, чем твои скучные картины.
* * *
Наконец наступил долгожданный день. Он стал днём ещё одной одержанной победы над самим собой и завистниками, которых вокруг развелось немало. Вряд ли кто-то иной, кроме Микеланджело, смог бы устоять и не отказаться от дальнейшей схватки с металлом и огнём после первой неудачной отливки, когда недруги со дня на день ждали его погибели…
Изложница пустая Металла жаждет, зная наперёд, Что ей пойти в расход По правилам литейного искусства. И я во власти чувства, От жажды изнывая, Не чаю красоту заполучить. О ней лишь воздыхая, Готов я душу чёрту заложить… (153)Ему не дал погибнуть его собственный гений, главный спутник на жизненном пути, который поддерживал в нём бойцовский дух и заставлял подходить к любому новому делу как к битве не на жизнь, а на смерть. Даже Леонардо с его фундаментальными знаниями во многих технических областях почувствовал оторопь перед отливкой готовой модели девятиметровой конной статуи Колосса и так и не довёл дело до конца.
21 февраля 1508 года под звуки фанфар и дробь барабанов бронзовая статуя Юлия II в полном облачении предстала перед народом, взирая на него из ниши на фронтоне кафедрального собора. Горожане силой были согнаны на площадь, и церемония освящения статуи прошла более чем скромно. Стоя среди собравшихся, Микеланджело видел, что статуя удалась и выглядела величаво. Она оказала сильное воздействие на толпу, которая притихла при виде поднятой длани бронзового колосса. Повсюду стояли соглядатаи Алидози, и болонцы поостереглись высказываться вслух.
Зато вечером во время праздничного фейерверка, когда на площадь выкатили несколько бочек вина, люди осмелели и вспомнили о главном соборном колоколе, из которого была отлита фигура грозного папы Юлия.
— Настанет время, — тихо сказал кто-то, — когда звон нашего главного колокола раздастся из чрева истукана и разорвёт статую вдребезги.
Эти слова оказались пророческими. Бронзовый Юлий недолго господствовал над Болоньей. Но папа ещё дважды побывал с войском в городе для наведения порядка на сопредельных землях. С ним выезжал и Микеланджело, чью работу Юлий высоко оценил, приказав казначею выплатить за скульптуру остаток гонорара.
— Да, впечатляет, — отметил Юлий, разглядывая вместе со свитой бронзовое изваяние на фронтоне собора. Кто-то из приближённых попытался высказаться, но тут же осёкся под грозным взглядом понтифика. Промолчал и представитель местной художественной элиты напыщенный Франча, а Микеланджело лишний раз убедился, что созданный им бронзовый колосс органично вписался в строгое архитектурное обрамление соборной площади.
Вернувшись домой из Болоньи, он получил от Сангалло письмо, в котором друг советовал не тянуть с отъездом, так как в Риме уже объявился Рафаэль, вызванный своим дальним родственником и земляком Браманте. Это сообщение подстегнуло Микеланджело, но прежде чем отправиться в путь, 13 марта 1508 года он, тридцати трёх лет от роду, решился на смелый шаг и при содействии нотариальной службы получил по закону вольную. В заверенном подписями и печатями документе было объявлено, что отныне он независим в своих поступках от воли родителя. Присутствовавший на этой процедуре мессер Лодовико с нескрываемым недовольством вынужден был поставить свою подпись под нотариальным актом.
Домой от нотариуса отец и сын вернулись вместе, не проронив по дороге ни слова. Микеланджело любил свою семью, но её непомерные требования часто вызывали у него раздражение. Настало время, когда ему захотелось оградить себя от притязаний на его личную свободу, но мессер Лодовико долго ещё не мог смириться с дерзким поступком сына.
Глава XXI СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА
Я — пленник красоты.
А коль она всех помыслов венец,
Меня с ней властно породнил Творец (117).
В апреле Микеланджело вновь оказался в Риме. Гордый от сознания, что бронзовая скульптура отныне господствует над покорённой Болоньей и над всей тамошней камарильей завистников и недругов, он был уверен, что Юлий, вернувший ему свою милость и доброе расположение, теперь снова загорится идеей сооружения величественного саркофага, проект которого ещё недавно приводил его в подлинный восторг.
Каково же было удивление скульптора, когда папа, ласково встретивший его, вдруг с жаром заговорил о Сикстинской капелле!
— Пойми меня правильно, — сказал он, словно оправдываясь перед молодым мастером, — это мой долг перед памятью покойного дяди и всем христианским миром, который заслужил своей преданностью вере обрести самую большую капеллу для богослужения, пока идёт возведение нового собора Святого Петра.
Микеланджело вышел от него подавленным. Это был провал самых радужных надежд. Ему ещё вчера виделись его герои, окружающие громаду саркофага, ради чего он целый год проторчал в Апуанских Альпах, страдая от холода и рискуя жизнью, а теперь по прихоти вздорного папы ему предстояло променять резец на кисть и взяться за чуждое его духу занятие.
Видя одержимость Юлия новой идеей и зная о его непреклонной воле, он понял, что теперь ему не вырваться из цепких лап грозного понтифика. Но достанет ли у него сил и умения расписать фресками огромный потолок? Последний раз он держал в руках кисть, когда работал над картоном для задуманной фрески «Битва при Кашине», но тогда главным для него был рисунок, а отнюдь не краски и цвет, что правильно понял умница Аристотель Сангалло, сделав с картона копию в гризайле и выявив прежде всего пластичность фигур.
Планам Юлия II по объединению итальянских земель в единое государство не суждено было осуществиться. Натолкнувшись на сопротивление Франции, Испании, Венецианской республики, Священной Римской империи и других государств, папа всю свою нерастраченную энергию направил на реализацию градостроительного плана — renovatio urbis — по превращению Рима в подлинную столицу христианского мира.
Окончательно расставшись с мыслью о гробнице, Юлий в последние годы своего правления понял, что ему не дождаться завершения строительства собора Святого Петра, хотя работы там шли непрерывно под неусыпным оком ретивого Браманте. Но военные походы и постоянная борьба с внешними врагами сильно подорвали его здоровье, и он торопился оставить о себе добрую память новым значительным деянием, которое заставило бы говорить о нём весь мир.
Папу полностью захватила идея украсить фресками гигантский потолок Сикстинской капеллы, возведённой его двоюродным дядей Сикстом IV, которому он был обязан своим возвышением по церковной иерархической лестнице. Понимая, что для осуществления такого проекта потребуются нечеловеческие усилия, Юлий вновь избрал строптивого Микеланджело, способного на самые невероятные свершения, хотя в поле его зрения недавно оказался и Рафаэль. Обходительный урбинец сумел обворожить родную сестру папы монахиню Луккину, нрав которой был покруче, чем у брата, и юную Фелисию, младшую из трёх «племянниц», как тогда было принято называть внебрачных дочерей понтифика, рождённых в бытность его папским нунцием во Франции.
Создавалось впечатление, что Юлий словно нарочно придумывал для Микеланджело новые проекты, один грандиознее другого, а тот, противясь поначалу, осуществлял их с присущим ему размахом и блеском. В этом непростом состязании папы и творца, порой приводившем к взрыву взаимного гнева, в выигрыше оказывалось искусство. Кроме того, чем щедрее Юлий выделял средства на реализацию своих грандиозных планов, тем чаще мастер затевал с ним препирательства из-за денег — бич, который преследовал его на протяжении почти всей жизни.
В подавленном состоянии духа Микеланджело направился к Сангалло, которого застал за упаковкой баулов.
— Готовлюсь к отъезду, — сказал тот. — Делать мне здесь больше нечего, и всё обрыдло. Пусть Браманте один верховодит.
Микеланджело поделился с другом своими опасениями по поводу навязанной папой новой идеи, перед которой он явно пасовал.
— Мне бы твои печали! — с грустью молвил Сангалло. — В отличие от меня в тебе нуждаются, а что может быть желаннее для любого творца? Пойми наконец, упрямая ты голова, что папа не может без тебя обойтись, как и ты без него.
Видя, что собеседник его не слушает, думая о своём, Сангалло добавил:
— Пока ты гложешь душу и маешься, Рафаэль скоро приступит к росписи парадных залов Апостольского дворца. Так что поторопись и не терзай себя понапрасну.
Он был прав. Папу тяготило проживание в апартаментах ненавистного ему Борджиа, которого он называл не иначе как quern marranum et judaeum circoncisum — «этот марран и обрезанный иудей». Но когда услужливый де Грассис предложил сбить со стен портреты «мерзкого выкреста» и членов его семьи, папа как истинный ценитель искусства предпочёл сменить жилые покои, но не уничтожать живописное великолепие апартаментов Борджиа, расписанных бравым Пинтуриккьо.
Не дожидаясь завершения работ в верхних помещениях дворца, Юлий перебрался туда со своими близкими, испытывая немалые неудобства. Ему не терпелось наряду с украшенной фресками Сикстинской капеллой успеть увидеть новую резиденцию в блистательном убранстве. Образцами для него были дворец в Авиньоне, возведённый в годы так называемого «авиньонского пленения пап», и герцогский дворец в Урбино, впечатляющее творение далматинца Лючано Лаураны, который он посетил во время первого похода против Перуджи, подивившись тому, что количество помещений во дворце точно соответствует числу дней в году.
Вскоре Микеланджело стало известно, что для Рафаэля уже освобождается место для росписей в верхних дворцовых залах, так называемых Станцах, где бригада подсобных рабочих сбивает со стен поблекшие фрески. Под горячую руку угодила даже одна роспись великого Пьеро делла Франческа, а все ранее приглашённые для работы художники, включая Перуджино, Лоренцо Лотто, Содому, Перуцци, были вынуждены оставить залы, предназначенные для будущих фресок молодого урбинца, который вскоре должен был объявиться там со свитой учеников и помощников.
Судьба вновь свела вместе двух непримиримых соперников. Вопреки утверждению биографов о том, что Браманте подсказал папе идею поручить дерзкому флорентийцу роспись Сикстины, в последнем разговоре с Юлием Микеланджело вместо себя сам назвал имя Рафаэля, которому, мол, сам Бог велел поручить роспись сикстинского потолка. Но мудрый Юлий прекрасно понимал, что только несговорчивому Микеланджело, автору божественной «Пьета» и героического «Давида», под силу вдохнуть жизнь в огромное пространство пугающей своей пустотой капеллы, где на последнем конклаве он был избран папой. Послушного и обходительного Рафаэля он приберёг для украшения представительских залов Апостольского дворца, где ему хотелось бы увидеть фресковые росписи, прославляющие деяния Римской церкви.
* * *
Прежде чем дать окончательный ответ, Микеланджело заперся в мрачной капелле с высоченным потолком, где каждый шаг отдавался гулким пугающим эхом. Он провёл там не один день, чтобы проникнуться её духом и впечатляющим объёмом. Капелла была построена в 1473 году флорентийцем Джованнино Дольчи по проекту Баччо Понтелли. Считается, что архитектор точно воспроизвёл параметры разрушенного римлянами храма Соломона в Иерусалиме (40,5 x 13,5 метра). Снаружи здание напоминает монументальное крепостное сооружение с машикулями в качестве архитектурного декора.
Внутри огромное пространство капеллы вытянуто в длину и перекрыто почти плоским сводом, прорезанным четырьмя распалубками окон по обеим сторонам, откуда проникает наружный свет. По углам свод завершается треугольными парусами, вершиной обращёнными книзу. Они представляют собой опорные элементы сводчатых перекрытий, заимствованных архитектором у византийских зодчих. Эти распалубки и паруса — единственное, что хоть как-то скрашивает скудность архитектурного обрамления капеллы. Почти так же выглядит Большой зал Московской консерватории, построенный в конце XIX века по проекту В. П. Загорского, который, по всей видимости, был хорошо знаком с архитектурой Сикстинской капеллы.
Боковые стены Сикстины разделены карнизами на три яруса, расписанных в 1483 году параллельными рядами фресок: внизу орнаменты, имитирующие ниспадающие тяжёлые парчовые драпировки, чуть выше — символически соотносимые друг с другом сцены из жизни Моисея и Христа. В верхнем ярусе между окнами даны воображаемые портреты пап в полный рост. Фресковые росписи были исполнены приглашёнными в Рим папой Сикстом IV лучшими живописцами Кватроченто: Боттичелли, Гирландайо, Перуджино, Росселли и Синьорели. Позже к ним присоединился Пинтуриккьо. Ими было написано вдоль продольных стен и на поперечной алтарной стене 12 фресковых сцен на библейские темы. Сами названия картины говорят о их сюжетах: «Обряд обрезания», «Крещение Христа», «Житие Моисея», «Искушение Христа», «Переход через Красное море», «Призвание первых апостолов», «Передача скрижалей Моисею», «Нагорная проповедь», «Наказание Корея, Дафана и Авирона», «Вручение ключей апостолу Петру», «Завещание и исход Моисея», «Тайная вечеря».
Внутреннее пространство поделено на две части резной мраморной перегородкой, выполненной Мино да Фьезоле. К ней примыкает в правой стене певческая трибуна, декорированная скульптором Бреньо, с которым Микеланджело повстречался во время своего первого знакомства с Римом. Потолок капеллы декорировал звёздами по синему фону художник Пьер Маттео д’Амелия, повторивший звёздное небо Джотто в падуанской капелле Скровеньи. Однако ни эти звёзды, ни фрески, ни разделительная ажурная перегородка не смогли оживить огромную капеллу, которая выглядела мрачно, напоминая огромный амбар. Но в этой капелле проводились самые важные службы, а с 1492 года здесь собирался конклав кардиналов для избрания нового понтифика. Если из установленной на её крыше трубы валил белый дым, это означало, что новый папа избран.
Как и при первом посещении несколько лет назад, капелла произвела на Микеланджело гнетущее впечатление своей архаичной, первозданной пустотой. На почти двадцатиметровой высоте от пола над головой нависал потолок общей площадью почти в 600 квадратных метров. Всю эту громадную поверхность, равную футбольному полю, предстояло покрыть фресковой росписью.
Какие же понадобятся силы, чтобы одолеть косную немоту гигантского потолка и заставить его заговорить языком образов, порождённых воображением? Для осуществления такой задачи на головокружительной высоте потребуется работа сотни мастеров фресковой живописи и стольких же подмастерьев, чтобы отшлифовать поверхность свода и покрыть её связующим раствором. А Микеланджело оказался один на один с непосильным заданием, что казалось невероятным и чем-то сверхъестественным.
Первым желанием было бросить всё и бежать из Рима от папы с его безумными планами. Мелькнула даже мысль свести счёты с жизнью…
Хотя Амур сулит мне рай земной, Порвал бы жизни нить — всё так постыло (44).Но куда скроешься от мстительного Юлия? Перед художником стояла дилемма — собрав все силы, победить или потерпеть сокрушительное поражение и поставить на себе крест.
Ему вспомнились последние слова папы, который, уговаривая его, заявил:
— Не упрямься! Перед тобой открывается редкая возможность доказать всему миру, сколь силён твой гений не только в скульптуре, но и в живописи. Кроме тебя, никто у нас не справится с такой работой.
Если бы речь шла о скульптуре, то он согласился бы с папой и, не раздумывая, взялся бы за дело с тем же порывом, с каким когда-то приступил к работе над гигантской гробницей. Но как вдохнуть жизнь в немую громаду каменного свода? Достанет ли ему знаний и вдохновения? Последнюю бессонную ночь в пустой капелле перед решающим шагом Микеланджело провёл, терзаемый сомнениями.
С первыми лучами солнца, осветившими мрачную капеллу, он успокоился и принял решение, осознав, что роспись огромной плоскости открывала перед ним новые возможности пластического выражения написанных фигур, заставив живопись заговорить языком скульптуры, чего никому ещё не удавалось.
Наутро он предстал перед папой, объявив о своём согласии. Да и мог ли он поступить иначе? Юлий не скрывал своей радости — ему удалось лестью, угрозами и щедрыми посулами уломать строптивого упрямца, которому не было равных в мире по могуществу таланта.
10 мая 1508 года был подписан договор, согласно которому Микеланджело должен был приступить к работе в тот же день. Как всегда, папа Юлий торопился, к чему его вынуждали внешние события, когда обстановка складывалась не в пользу Рима. Делать нечего, пришлось засесть за рисунки, не зная толком, во что может вылиться новая бредовая затея папы, которую швейцарский искусствовед Вёльфлин назвал «нелепостью, наказанием для художника и для зрителя». В чём-то искусствовед был прав. Ниже будет сказано, какой ценой досталось Микеланджело осуществление гигантского проекта и как это отразилось на его здоровье. Что же касается зрителя, то он, оказавшись в Сикстинской капелле, первым делом чувствует, как на на него рушится целый мир беспорядочного нагромождения тел и невообразимой путаницы живописных образов, тонущих в глубине огромного свода, и он оказывается во власти захватывающего зрелища. Сверху ему слышен шум и грохот разбушевавшихся стихий в момент сотворения мира, когда воля Всевышнего борется с хаосом, а ветхозаветные пророки и языческие сивиллы вещают о приходе Мессии.
Но первоначальные муки зрителя, которые он испытывает, стоя или сидя с задранной кверху головой, с лихвой окупаются. Кем бы он ни был, к какой бы вере ни принадлежал, перед ним открывается величайшее таинство, над разгадкой которого тысячелетиями бьются все мировые умы — картина сотворения Вселенной и человека.
Судя по сохранившемуся наброску (Лондон, Британский музей), первоначальный план росписи с изображением двенадцати апостолов мало чем отличался от традиций Кватроченто с их запутанной сложной символикой и скрытыми намёками. Во Флоренции им был оставлен заказ на создание такого же числа апостолов в мраморе, но скульптура осталась незаконченной — non finito. Образ евангелиста Матфея, едва намеченный на глыбе резцом, постоянно стоял у него перед глазами, когда он работал в Сикстине.
Появился ещё один схожий вариант, пока Микеланджело не отказался от плоского членения орнаментальным украшением потолка, давящего своей тяжестью, и окончательно не перешёл от Нового Завета к Ветхому. Его осенила смелая идея установить чёткую тематическую взаимосвязь с существующей программной направленностью фресок на боковых стенах и создать свой нарисованный мир — новое пространство в форме античного капища с пилястрами, колоннами, цоколями, консолями, карнизами и прочими элементами архитектурного обрамления, которое ему предстояло заполнить ожившей скульптурой, свободно парящей в космической беспредельности, где иллюзорная архитектура плавно переходит в реально существующее архитектурное пространство, созданное в XV веке. Это был вневременной синтез, его послание Вечности, которое определило в дальнейшем весь путь развития европейской монументальной живописи.
Не исключено, что в часы тягостных раздумий ему вспомнилось запечатлевшееся в памяти ощущение перевёрнутости мира, поставленного с ног на голову, когда, оказавшись в Венеции, он был поражён отражением неба и ажурных фасадов дворцов в зеркале каналов и долго не мог отрешиться от преследовавшего его наваждения. Зато он понял, что при написании грандиозной фрески ему необходимо взглянуть на мир новым взглядом, словно увиденным в зеркальном отражении.
В ходе предварительного обсуждения проекта папа потребовал придать росписям больше блеска и позолоты, но Микеланджело настоял на своём, доказав, что мир, созданный Всевышним, был поначалу населён простыми людьми — земледельцами, пастухами, рыбаками, охотниками, плотниками… По его замыслу роспись плафона должна отразить все моменты истории рода человеческого — от Сотворения мира до появления первого человека на земле и Всемирного потопа.
Поражённый грандиозностью замысла, Юлий предоставил художнику полную свободу действия, поручив послушному Браманте чёрную работу — соорудить в капелле леса, необходимые для росписи потолка. Тот с явным неудовольствием выполнил поручение, будучи уверен, что задиристый флорентиец, мало сведущий во фресковой живописи, потерпит фиаско и с позором навсегда покинет Рим.
Итак, получив от папы полную свободу действия, Микеланджело засел за разработку проекта масштабной фресковой росписи. Главное в проекте — история рода человеческого до Христа, чей образ, а вернее, христианская идея Искупления является стержнем всего живописного цикла. В этом смелом замысле отразились строй мыслей художника, его глубоко поэтическое и образное восприятие идей неоплатонизма.
В Сикстинской капелле Микеланджело выступил подлинным новатором в понимании архитектурного пространства. К архитектуре у него было своё особое отношение: как пишет Вазари, в полемике с доктринёрами он любил повторять, что «циркуль должен быть в глазу, а не в руке, ибо рука работает, а глаз оценивает». Ему было свойственно скульптурное восприятие архитектуры как живого организма. «Можно с уверенность утверждать, — признал он однажды, — что архитектурные элементы соответствуют членам человеческого тела. Этого не понимает тот, кто не умеет правильно передать в рисунке тело человека». Напомним в связи с этим слова, сказанные архитектором Сангалло о ранней скульптуре «Вакх».
В отличие от классической архитектуры, воспринимающей стену как границу пространства, у него был совершенно иной взгляд. У Альберти, Брунеллески или того же Браманте стена выступает как неподвижное и непроницаемое препятствие, и неважно, украшена она живописью или скульптурой. Микеланджело впервые наделил стену и потолок способностью к движению. У него стена может выдвигаться вперёд или же отодвигаться назад. Это открытие в дальнейшем привело к усложнению в архитектуре сугубо конструктивных функций, которые начинают дополняться духовной энергией, что предопределило отход Микеланджело от принципов искусства Возрождения. Его новаторство было с блеском использовано в эпоху барокко. Но его метод образно-композиционного мышления резко отличается от метода барочных мастеров, в творениях которых композиционные силы отмечены ярко выраженным центробежным характером. У него же при самостоятельности каждой составляющей даже в отдельно взятых живописных, скульптурных и архитектурных элементах одерживает верх принцип центростремительного единства, основанный на колоссальной внутренней энергии сжатия.
Весь свод капеллы он расчленил на три неравнозначных пояса. Центральное поле свода, обрамлённое архитектурным рисованным карнизом в светлых тонах, отдано изображению девяти сцен из Книги Бытия, название которой — Genesis — точнее переводится как «Книга о том, как мир стал таким, каков он есть».50 Это первая часть Моисеева Пятикнижия, или Торы, о которой юнец Микеланджело многое узнал от знатока иудаизма Пико делла Мирандола.
Четыре сцены, по масштабу более крупные, занимают всю ширину центрального поля; остальные пять в живописном архитектурном обрамлении дополняются фигурами обнажённых юношей (ignudi), словно пришедших из его «Тондо Дони». Принято считать, что эти скульптурно написанные в разных ракурсах юнцы олицетворяют собой античный мир. Всего их двадцать, и у каждого венок из дубовых листьев или ветка с желудями — эмблема семьи делла Ровере, выходцами из которой были Сикст IV и Юлий II. На нее Микеланджело уже намекал прежде в дерзком сонете, отправленном в сердцах папе Юлию.
Рисуя атлетически сложенных юношей, он первым докажет всему миру, что в природе нет иной красоты, кроме форм человеческого тела, изображённого в различных смелых ракурсах. Всю жизнь страдая от своей невзрачной внешности, Микеланджело был одержим культом красивых лиц и тел, чаще всего мужских, так как его привлекала красота волевая, действенная…
Как только разглядел я красоту, Ниспосланную небом как награду, Сражён был ею тут же наповал (78).В задуманной им рисованной архитектуре люнеты и распалубки предназначались для изображения многочисленных «предков» Христа. Два боковых продольных пояса, в которые вклиниваются сферические распалубки, расчленены с помощью декоративных пилястров на ряд прямоугольных ниш (пандативов) для размещения в них между распалубками окон фигур семи ветхозаветных пророков и пяти сивилл, предсказавших явление Христа миру. Их мощные фигуры выделяются своей масштабностью и как бы удерживают на себе всё центральное пространство свода.
Здесь же псевдобронзовые медальоны со сценами из Книги Царств и скульптурно выписанные пухленькие путти, удерживающие, как кариатиды, мощный карниз центрального поля свода. Между пандативами под каждой сценой центрального поля и над угловыми парусами сферические пустоты заполнены двадцатью четырьмя мужскими и женскими обнажёнными фигурами в сложных динамичных ракурсах. Угловые паруса отведены рассказу о спасении народа Израилева из египетского плена.
Все элементы рисованной архитектуры выдержаны в благородном серовато-белом тоне. Колорит фресок построен на неярких красках с преобладанием серебристых тонов. Всё это отлично сочетается с желтовато-коричневыми, серовато-фиолетовыми, зелёными и синими красками, подчёркивающими пластичность формы.
* * *
Однажды, когда Микеланджело, как обычно, сидел над рисунками, к нему явился прелат, присланный папой Юлием. Гость в сутане августинского ордена назвался Эджидио да Витербо, другом покойного Фичино. Августинец был поражён убогостью и обшарпанностью мастерской художника близ церкви Святой Екатерины, где были сложены уцелевшие от разграбления блоки каррарского мрамора. Здесь же приютились низкая лежанка, покрытая плащом, длинный рабочий стол, заваленный рисунками, и пара колченогих табуретов. В углу у окна стояла вертикально поставленная глыба с едва намеченной резцом фигурой восседающего пророка Моисея.
«Как же этот сарай, — подивился прелат, — не похож на великолепную мастерскую красавца Рафаэля! Да разве можно работать в таких условиях?»
Микеланджело с радостью принял предложенные услуги нового знакомого, который помогал ему на первых порах разобраться в тонкостях ветхозаветных историй со множеством её героев. Ему полюбились эти встречи, поскольку в беседах о ветхозаветных временах монах часто ссылался на высказывания Фичино и Пико. Особенно его поразила мысль Фичино о том, что все мы живём в храме всемогущего архитектора и каждый в нём должен очертить свой круг, восславляя Господа. Человек, как считал Фичино, стоит на вершине божественного творения не потому, что способен постичь его архитектонику и гармонию, но прежде всего благодаря своему собственному творческому динамизму. Великие божественные деяния находят своё повторение в человеческих деяниях, которые в точности воспроизводят деяния Всевышнего.
Памятуя о словах Фичино, Микеланджело очертил свой круг в огромной капелле, рассматриваемой им как Вселенная, и приступил к Сотворению мира, каким оно представлялось ему в его насыщенном образами воображении. Поначалу его охватила робость от взятой на себя роли демиурга, но с нею он вскоре справился и, охваченный переполнявшими его дерзкими мыслями, приступил к делу.
Случайно ему стало известно, что подобные услуги Эджидио да Витербо оказывает также и Рафаэлю, приступившему к росписям в соседних залах Апостольского дворца. Подозрительный Микеланджело почуял в появлении августинца происки врагов и под благовидным предлогом отказался от услуг подосланного папой богослова, а рисунки стал прятать подальше от сторонних глаз. Это был первый инцидент, возникший до начала самих работ над росписью. Зная крутой нрав художника, Юлий II не стал вмешиваться и успокоил августинского монаха, попросив его уделять больше внимания работающему в соседних Станцах Рафаэлю.
Другим камнем преткновения стали леса, воздвигнутые Браманте по приказу папы. Увидев их, Микеланджело не без издёвки сказал автору конструкции, представлявшей собой деревянную платформу, подвешенную на верёвках из вбитых в потолок железных крюков.
— Нельзя не оценить вашу оригинальную идею. Но, к сожалению, коллега, я не обладаю крыльями, чтобы затем взлететь и замазать зияющие дыры в потолке от крюков. Так что не взыщите…
Услышав это, Браманте позеленел от злости и побежал к папе жаловаться, но тот его не поддержал и попросил держаться подальше от Сикстинской капеллы, понимая, что два петуха никогда не уживутся в одном курятнике.
Конструкция Браманте по приказу Микеланджело была тут же разобрана. Плотнику, помогавшему построить новые мостки, он подарил оставшиеся от прежних лесов добротные джутовые верёвки. Деньги, вырученные от их продажи, пошли его дочерям на приданое.
Сохранился эскиз (Флоренция, Уффици) разработанной Микеланджело переносной деревянной конструкции ступенчатых мостков, которые не касаются расписанных стен капеллы и по ходу работ с помощью системы блоков передвигались к нужному месту под потолком. Он вновь с блеском применил свои навыки инженера, которые однажды уже были им проявлены во Флоренции при перевозке многотонной скульптуры «Давида» к месту её водружения.
Вскоре случился другой неприятный казус, не делающий чести Микеланджело, когда по его приглашению из Флоренции прибыла команда из пяти помощников: Граначчи, Буджардини, Доннино, Якопо Индако и Аристотель Сангалло. Все они успели к тому времени заявить о себе как состоявшиеся мастера, верные традициям флорентийской школы и имевшие немалый опыт фресковой живописи. Осмотрев капеллу, они дружно приступили к работе, сделав несколько эскизов и наметив сепией на потолке ряд сцен. Для них это было привычное дело, но сопряжённое с неудобством, когда надо было работать лежа или стоя на мостках с высоко задранной головой и вытянутыми вверх руками, которые быстро немели из-за оттока крови.
Увидев их в деле, Микеланджело понял, что ошибся, когда напуганный поначалу грандиозностью поставленного перед ним папой задания обратился к друзьям за помощью. Из-за проявленной слабости он мучился и жестоко себя корил, но было поздно — приглашённые художники уже прибыли и горели желанием работать. Уже по первым их рисункам и мазкам он убедился, что никто из них не в состоянии оказать ему существенную помощь, а постоянно исправлять сделанное ими было выше его сил. Уж лучше нанять в подмогу кого попроще, чем переучивать художников со сложившимся взглядом на искусство. С нанятыми помощниками можно не церемониться — приказал, и дело с концом. А растирать краски и месить раствор способен любой парень с улицы.
С самого начала его оглушила разноголосица шумной компании прибывших художников, каждый из которых был наделён своим характером и темпераментом. Он привык работать в одиночку и не выносил присутствия посторонних лиц, а особенно отвлекающих от дела разговоров. Так было при работе над «Пьета», «Давидом» и картоном «Битвы при Кашине», когда ему приходилось прибегать только к сугубо технической помощи нанятых подсобных рабочих.
Он затосковал, не зная, как поступить. Присутствие в капелле посторонних стало его тяготить и раздражать — уж таков был его неуживчивый характер. Он сознавал, что поступает неучтиво с товарищами, особенно с Граначчи, который прибыл вместе с женой, желая закрепиться в Риме с его помощью. Но ничего не мог с собой поделать — смалодушничал, запер капеллу и отказался встречаться с нежеланными помощниками. Ему не хватило смелости честно и открыто сказать друзьям, что ошибся и в их помощи больше не нуждается. Зная его вздорный нрав, вспыльчивость и не поддающиеся объяснению странности, Граначчи взял на себя улаживание создавшегося двусмысленного положения, когда прибывшие в Рим художники оказались не у дел, а пригласивший их друг прятался от них. Как пишет Вазари, «художники нашли, что шутка чересчур затянулась, и глубоко обиженные вернулись во Флоренцию». Микеланджело не увидел в приехавших в Рим ему на подмогу того душевного порыва, который не покидал его, и впал в уныние, в чём сам признаётся:
Кто горе мыкать уж не в силах боле, Пусть ринется за мной в огонь хоть раз! (56)Как ни неприятен сам этот факт, он говорит об особом трепетном отношении Микеланджело к творческому процессу, который, по его мнению, не зависит от технических средств. При всей их важности не они являются определяющими для достижения поставленной цели. Он был уверен, что через пару недель вспомнит навыки, обретённые в мастерской Гирландайо, освоит технику фресковой живописи и начнёт самостоятельно разбираться во всех её тонкостях.
Одержимость технической стороной творческого процесса скорее была свойственна Леонардо да Винчи, который рассматривал искусство и науку как равнодействующие орудия познания жизни, причём во главу угла им ставилась наука, которая однажды сыграла с ним злую шутку, а обессмертила его искусство именно живопись, лишённая наукообразных рассуждений. В отличие от Леонардо, который призывал «учиться, дабы подражать», для Микеланджело, как ранее для Джотто и Мазаччо, период ученичества был скоротечен или почти не существовал, и он интуитивно знал, что и как надобно изображать, проявляя удивительное чутьё и глубокие познания в любом деле, за которое брался.
* * *
Он остался один в пустой капелле с парой подмастерьев, в обязанность которых входило подносить раствор и растирать краски. Чем больше множились трудности, тем дерзновеннее становились задачи, которые он ставил перед собой. После отъезда обиженных флорентийских друзей он уже осенью приступил непосредственно к фресковой росписи один на один с гигантским потолком. Начался поистине трагический период в жизни Микеланджело, не покидавшего мрачную капеллу и полностью отстранившегося от мира. Во Флоренции распространился даже слух о его смерти, и ему пришлось письменно заверить отца, что он пока жив, хотя, как говорилось в письме, «живу я здесь недовольный собой, не совсем здоровый, переношу большие лишения, без присмотра и без денег, но всё же надеюсь, что Бог мне поможет».
А недавно из письма Буонаррото он узнал, что Джовансимоне, получив отказ выдать ему деньги, ударил отца. Такого он стерпеть не смог и тут же направил брату грозное письмо:
«Джовансимоне, обычно говорят, что если делаешь добро доброму, то он становится ещё добрее, а если делаешь добро злому, он делается ещё злее. Я уже пробовал добрым словом и добрыми делами убедить тебя жить хорошо, в мире с нашим отцом и братьями. Но ты становишься всё сквернее и сквернее… Ты знаешь, что у тебя ничего нет за душой и всё, что ты имеешь, дано мной, так как я полагал, что ты мне брат, как и остальные братья. Но теперь я вижу, что ты негодяй и больше мне не брат…» Он настолько был взволнован полученным известием, что второпях не поставил дату, но, вероятно, письмо было написано в самом начале работ в Сикстине в 1508 году.
Это было время, когда наряду с неожиданными творческими откровениями, приводившими к блистательным результатам, он познал моменты исступлённого неверия в собственные силы, от которого не спасали самые невероятные по смелости замыслы и уговоры папы Юлия, верившего в силу его гения. Согласно разработанному им самостоятельно плану росписей центральная часть плафона включала в себя девять крупных сцен, где чётные сцены по размеру превосходили нечётные. Происхождение мира и сотворение человека — это была главная тема фресковой росписи, а после Грехопадения начинались не только история царящего на земле зла, страдания и смерти, о чём мучительно думали первые пророки, но и обещанное Спасение, являющееся высшим смыслом всей библейской истории.
Отказавшись от услуг августинского монаха, Микеланджело привнёс в библейские мотивы собственные впечатления от прочтения и глубокого переосмысления «Божественной комедии», а также от страстных проповедей Савонаролы, память о которых была в нём жива. С чего начать, чтобы придать нужное звучание всему циклу? Камертоном, как всегда, служил Данте. Но в отличие от великого поэта, начавшего свой путь с сошествия во Ад и хождения по кругам преисподней в сопровождении верного поводыря Вергилия, Микеланджело смело устремился в одиночестве к мистическому божественному свету в страстном желании сотворить свой собственный мир и населить его ветхозаветными пророками, сивиллами и простыми людьми.
В своём порыве он исходил из того же Данте и его склонности к символизму, что подтверждается призывом поэта к читателю научиться «видеть между строк»:
О вы, разумные, взгляните сами, И всякий наставленье да поймёт, Сокрытое под странными стихами.Он по нескольку раз перечитывал «странные» терцины «Ада», «Чистилища» и «Рая», выискивая в них наставления и советы по созданию сложного по конфигурации собственного живописного мира, населённого множеством персонажей, движущихся или застывших во власти дум о судьбах человечества, исходя при этом из архитектоники поэтического шедевра Данте. Именно Данте был его путеводителем при написании библейских сюжетов, что придало им гражданскую направленность, в то время как апокалиптические пророчества Савонаролы зазвучали в унисон с драматизмом изображённых им пластических образов.
Прежде чем приступить к росписи, Микеланджело занялся поиском нужных красок. Его многое не удовлетворяло из того, что предлагалось на местном рынке. Как истый флорентиец, он считал, что только во Флоренции можно купить настоящие натуральные краски. У него сохранилось воспоминание о шеренгах склянок с пигментами диковинных названий на латыни в мастерской Гирландайо. Здесь же в римских лавках — spezierie — сплошь и рядом предлагались суррогаты, которые наловчились изготовлять местные аптекари. Уже 13 мая он обратился с письмом к монаху Якобо из флорентийского ордена иезуитов с просьбой о присылке добротной синей краски.
Особенно удивляться тут не приходится, так как многие монашеские братства давно занимались побочными делами, приносящими доход, что позволяло им содержать больницы и богадельни. Некоторые из них занимались разведением тутового шелкопряда или виноделием, а госпиталь при монастыре Санта Мария Новелла успешно осуществлял финансовые операции по хранению вкладов и ссужению кредитов, конкурируя с обычными банками. Его клиентами были Микеланджело, Леонардо да Винчи и многие другие известные флорентийцы.
* * *
По идее ему следовало начать роспись потолка с того момента, о котором сказано в Священном Писании: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма покрывала бездну; и Дух Божий носился над водой…» Однако он отказался от такого начала, так как главный вход в капеллу находился, как и полагается, с противоположной стороны от алтарной стены. В настоящее время для упорядочения постоянно растущего потока посетителей музеев Ватикана, число которых в год доходит до пяти миллионов, вход в капеллу находится сбоку, близ алтарной стены, а выход — напротив.
Исходя из этого обстоятельства, Микеланджело начал расписывать потолок с конца в нарушение хронологии божественных деяний, постепенно увеличивая размеры изображаемых сцен и добиваясь динамики развития повествования. Продвигаясь от входа в сторону алтаря, он решительно отказался от концепции обозримого с одной точки зрения пространства, бытовавшей в эпоху Возрождения, совершив подлинную революцию во фресковой живописи. У него каждая фигура находится внутри своего собственного видимого пространства. Это может показаться невероятным, но плафонная роспись в Сикстинской капелле при своих колоссальных размерах поражает такой спаянностью всех её частей, какой прежде не знала итальянская настенная живопись.
Когда была закончена первая сцена «Опьянение Ноя» и он, довольный результатом, перешёл к написанию «Всемирного потопа», на законченной фреске появилась серая плесень, которая не сразу была заметна при слабом свете нарождающегося дня. Приходя каждый раз в капеллу ранним утром и взбираясь на мостки, Микеланджело стал замечать, как подозрительная плесень начала разрастаться изо дня в день, пожирая изображение. К своему ужасу он обнаружил, что написанные фигуры стали почти неразличимы, а воды потопа со спасительным Ковчегом покрылись буро-зеленоватой коростой и по написанным фрескам поползли зловещие трещины как паутина. Это был конец, и у него опустились руки. Вот она, казалось ему, неизбежная расплата за самонадеянность и неприглядный поступок с друзьями.
Зима в то год выдалась необычно суровая, что создавало дополнительные трудности в работе. В письме отцу от 27 января 1509 года он сообщал: «Я всё ещё не пришёл ни к какому решению и за целый год не получил от папы ни полушки, да я и не требую ничего, поскольку моя работа не подвигается вперёд — считаю, что ещё не заслужил. К тому же это совсем не моё дело, и я напрасно теряю здесь время»…
Я оплошал, и нет мне оправданья, Как всякому, кто боек на словах, Взрастить берётся семя на камнях Иль вровень стать с божественным созданьем (80).Осознав свой провал и невозможность двигаться дальше, он направился к папе, чтобы объявить о неудаче и просить освободить его от бесплодного труда. Юлий воспринял его слова спокойно и тут же призвал Сангалло, приказав ему разобраться на месте и устранить проблему. Старый мастер не смел ослушаться, хотя затаил обиду на Микеланджело за проявленную несправедливость к его племяннику Аристотелю Сангалло, который покинул Рим в расстроенных чувствах.
К счастью, беда оказалась поправимой. Травертин, из которого сооружена капелла, весьма чувствителен к влаге. Он же являлся одним из компонентов извести. Как пояснил Сангалло, при приготовлении связующего раствора необходимо, как это делали древние римляне, добавлять в нужной пропорции поццолановые примеси вулканического происхождения, залежи которых находятся под Неаполем. По древней Аппиевой дороге они издревле поставлялись в Рим для строительных целей. Римляне прекрасно знали свойства добавляемых в раствор примесей, благодаря чему их постройки обладали высокой прочностью. Положение было исправлено, но впредь приготовление раствора Микеланджело взял под строгий свой контроль и порой сам покрывал раствором и шлифовал часть потолка или стены для будущей росписи, не доверяя помощникам.
Пришлось сбить всё написанное и заново переписать первые три сцены, загубленные плесенью. К нему вернулась прежняя вера в собственные силы. Вновь нанятые помощники — старых он разогнал за небрежность с раствором — беспрекословно выполняли все его указания и никого не пускали в капеллу, пока он лежал с кистями на верхотуре, весь перепачканный в извёстке и краске. А любопытствующих среди придворных было предостаточно после первой неудачи, слух о которой разнёсся по всему дворцу. Недруги ждали его окончательного провала и в кулуарах Римской курии открыто предвкушали, как Микеланджело покажут от ворот поворот. Такие разговоры доходили до слуха Юлия II, и он решил сам удостовериться в истинном положении дел. Как рассказывают биографы, когда папа появился однажды в капелле, сверху на него будто случайно посыпались доски и пустые вёдра, отбив всякую охоту встречаться с грубияном.
Каждая попытка проникновения посторонних показывала Микеланджело, что надо торопиться, хотя он и не занимался ничем, кроме росписи. Бывали периоды, когда он целыми днями не покидал капеллу, ночуя там наедине со своими думами, и спал на досках не раздеваясь, что давно уже вошло у него в привычку. Помимо тревог, сомнений и накопившейся усталости его постоянно донимали домашние, выжимая из него все соки. Особенно докучали братья, безбожно злоупотреблявшие его великодушием. Каждый месяц приносил ему новые огорчения из-за ссор домашних, и он с тревогой воспринимал каждое появление почтальона, опасаясь очередной неприятности от милых родичей.
Это были годы, полные горечи, а ему приходилось не только испытывать боль за нелады в семье, но и непрестанно трудиться в неприветливой пустой капелле, где летом, лёжа под потолком, он изнемогал от жары и духоты. Дышать на верхотуре было нечем, мучила жажда. Помощники то и дело приносили ему ведро воды и окатывали с ног до головы, чтобы он мог немного освежиться. В такие дни штукатурка быстро просыхала, а это требовало от него особой сноровки и быстроты письма по сырой основе.
От накопившейся усталости его охватывало порой неодолимое чувство отчаяния, и он готов был бросить всё, бежать без оглядки и даже умереть…
О, если б смерть приняв по доброй воле, Взамен мы обретали благодать! Возможно, ласковей природа-мать Была бы к страждущим в земной юдоли. Из праха воскресать — не наша доля. Лишь Феникс время обращает вспять. Не стоит жизнь насильно обрывать (52).Переписывая заново фрески, повреждённые плесенью, он понял, что при осмотре трёх первых сцен снизу фигуры на них слишком малы и не производят нужного впечатления, поэтому необходимо было уменьшить число персонажей, а на остальных фресках по мере продвижения вперёд увеличить их размеры.
Структура первых трёх фресок была настолько сложна, что даже Вазари и Кондиви ошиблись, приняв фреску «Жертвоприношение Ноя после Потопа» за «Жертвоприношение Каина и Авеля». Но биографов можно извинить за недогляд, поскольку к тому времени, когда они взялись за написание своих записок, многие фрески плафона успели изрядно потемнеть от копоти горящих в ходе службы свечей. Копоть и пыль накапливались веками, почти не затрагивая росписи боковых стен, которые можно было почистить, и оседали на потолке, куда невозможно было добраться.
* * *
Последуем за автором фресок, начав осмотр росписей плафона в нарушение хронологического порядка. На первой фреске слева изображён работающий с заступом в руках Ной, последний из десяти ветхозаветных пророков. После трудов праведных он зашёл в сарай, где в огромном чане бродило виноградное сусло, и позволил себе выпить с устатку. Перед дремлющим захмелевшим отцом оказались его сыновья. Один из них, Сим, пряча глаза, старается прикрыть наготу спящего родителя, над которой смеётся младший брат Хам, сам нагой. Средний, Яфет, обняв брата, пытается убедить его отойти и не глумиться над спящим отцом.
В этой начальной фреске тесное заполнение пространства уплотняет повествование до неслыханной насыщенности. Сцену семейной неурядицы, столь хорошо знакомой Микеланджело, обрамляют фигуры четырёх обнажённых юнцов атлетического телосложения, намного превышающие по масштабу фигуры персонажей на самой фреске. Они отвернулись от сцены с захмелевшим Ноем, словно осуждая поведение одного из его сыновей.
Следующая сцена — «Всемирный потоп» — намного превосходит по габаритам предыдущую, и на ней нет уже места для обрамления по углам. На фреске изображена страшная картина гибели рода человеческого в наказание за грехи. Бушует ветер, срывающий одежды и гнущий деревья. Поражает пространственное решение, когда осуждённые на гибель люди толпой выбегают на зрителя из-за горы. Кажется, что их на фреске несметное множество, они в ужасе ищут спасения, толкая друг друг и взбираясь на незатопленную часть суши со своими пожитками и домашней утварью, детьми и немощными стариками. У них не было даже времени одеться, когда разразилась буря, и несчастные в панике мечутся полуголые. Одни стараются вскарабкаться на кряжистое дерево, гнущееся на ветру, другие справа на клочке суши под тентом от дождя обезумели от страха, видя, как земля исчезает под ногами. Вдали покачивается на волнах вожделенный Ковчег, к которому устремляется перегруженный утопающими чёлн, но все усилия спастись тщетны, и вскоре под водой скроются спасительная гора и вся земная твердь со сгрудившимися на ней людьми. Потоп — это первая поистине трагическая картина в творчестве Микеланджело.
Далее следует укороченная фреска «Жертвоприношение Ноя». На ней седобородый Ной в ярко-красной тунике стоит за алтарём с горящим огнём. Ему помогают две женщины — одна молодая с непокрытой головой, другая постарше в платке. Та, что помоложе, выражает своё несогласие с решением Ноя совершить акт жертвоприношения, с ужасом смотря на разгорающийся огонь. Здесь же почти нагие юнцы-помощники. Кто подкладывает хворост в печь, кто подносит вязанку дров или тащит упирающегося жертвенного барана. Один из помощников успел уже рассечь горло овну. Позади них — ждущие своей печальной участи бык, лошадь и слон. По-разному ведут себя обрамляющие сцену жертвоприношения обнажённые юнцы. Один смотрит осуждающе, как и простоволосая молодая помощница Ноя, другой прикрыл лицо рукой при виде крови, а остальные безучастны к происходящему, сохраняя олимпийское спокойствие.
Следующая фреска большего размера поделена на две части ветвистым деревом посредине — приём довольно распространённый при трактовке сюжета грехопадения и изгнания из Эдема. Здесь Микеланджело дал вовсю развернуться своей неуёмной фантазии. Райские кущи представлены зелёной травкой и могучим древом познания добра и зла, чей ствол обвивает жирный змей с женским торсом и ликом. Под густой кроной сидит на камне спиной к древу Ева, поджав под себя ноги. Сама её вальяжная поза уже говорит о склонности к греховным помыслам. Как же она восхитительна и бесподобна в своей вызывающей наготе! Её движения полны грации, но в глазах уже вспыхнула искорка вожделенного огня. Едва Ева услышала зов демона-искусителя, как вся встрепенулась, резко повернувшись на голос, и с готовностью протянула руку к запретному плоду. Стоящий рядом Адам тоже охвачен столь сильным и непонятным ему сладостным возбуждением, что не в силах устоять на ногах. Он хватается руками за сук дерева, указывая пальцем на нечто сокрытое среди густой листвы. Все члены его мускулистого тела напряжены. Столкнувшись с грехом, оба прародителя источают мощную энергию; их крепким телам под стать лежащая рядом груда валунов.
Вторая половина фрески напоминает композицию Мазаччо во флорентийской капелле Бранкаччо, которую Микеланджело в юности досконально изучил. Но в отличие от Мазаччо трагическая сцена изгнания из Эдема развёртывается у него на фоне беспредельной световоздушной среды. В небе появляется летящий серафим в красной тунике, изгоняющий мечом согрешивших прародителей рода человеческого. Их скорбные фигуры сдвинуты на самый край картины, образуя зияющую белесую пустоту со скучной линией дальнего горизонта. Подурневшая и согнувшаяся от страха и стыда Ева поспешает прочь, но, повинуясь чисто женскому любопытству, исподлобья бросает взгляд на грозного серафима. За ней шествует Адам, осознавший грех и старающийся правой рукой отстранить от себя меч возмездия. Вся эта фреска построена на контрастах и полна движения.
Столь же прекрасна и динамична по композиции следующая картина меньшего размера, на которой изображено сотворение Евы. Эта сцена — словно распахнутое окно в доисторический мир. На земле спит, полулёжа, Адам, опершись плечом о ствол корявого дерева, чей сук рифмуется со спиной только что созданной из его ребра прекрасной Евы, изображённой в профиль, в отличие от Адама. Послушная зову Всевышнего «Встань!», она выпрямляется и протягивает молитвенно сложенные руки благодарности. Седобородый Бог-Творец, облачённый в ниспадающий складками плащ, немного наклонился вперёд, чтобы не задеть головой карниз архитектурного обрамления, за которым простирается беспредельная голубизна Вселенной.
Сидящие по углам фрески обнажённые юнцы изображены в различных позах и смелых ракурсах. Каждый из них настолько занят самим собой, что почти не замечает божественного акта Сотворения. Следует отметить, что пирамидальная композиции фрески, вершиной которой служит голова Всевышнего, напоминает один из барельефов Якопо делла Кверча, украшающий фронтон собора Сан Петронио в Болонье. Изваяния старого сиенского мастера когда-то живо заинтересовали Микеланджело своей выразительной пластикой и врезались в память.
Согласно Книге Бытия главным творением Вседержителя является сотворение человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». Микеланджело с особым волнением приступил к написанию центральной фрески всего цикла. Был тщательно проработан подготовительный картон. Затем, приложив его к плафону, мастер сделал проколы шилом по линии рисунка, после чего мягким тампоном, смоченным угольной сажей, провёл по пунктирным линиям, закрепляя тем самым рисунок. Эту трудоёмкую операцию он проделал сам, не доверяя подмастерьям. Как выяснилось при реставрации в конце прошлого века, постоянно поторапливаемый папой Микеланджело отказался от традиционного метода пунктирных линий и стал применять лезвие, оставившее под росписью след, который и был обнаружен реставраторами.
Слева на склоне горы лежит Адам, ещё беспомощный в своей первозданной наготе, но послушный Божьему гласу. Правой согнутой в локте рукой он опирается о земную твердь, а левую робко протягивает ко Всевышнему. Его фигура выделяется атлетическим телосложением, совершенством форм и заключённой в теле нераскрытой энергией. Во взгляде Адама — выражение сыновней любви к Отцу Небесному.
Можно с полным основанием предположить, что при написании образа Адама Микеланджело исходил из имевшегося у него под рукой сочинения Пико делла Мирандола «Речь о достоинстве человека», в котором говорится, что, создав человека, Господь сказал ему: «Я ставлю тебя в центре мироздания, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать всё, что есть вокруг. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, смог сформировать себя в образе, который ты предпочтёшь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные».51
Вместе с автором этого отрывка Микеланджело мог бы воскликнуть:
— О, высшая щедрость Бога-Отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем захочет!
Ему в тот момент хотелось только одного: подчинить все свои знания и мастерство достойному осуществлению великого замысла. Справа по диагонали он написал летящего по воздуху в стремительном полёте в окружении небесных ангелов седовласого Бога Саваофа, из-под руки которого выглядывает будущая спутница Адама — востроглазая Ева-соблазнительница. В минуты наивысшего наития Микеланджело чувствовал себя демиургом при написании человека, вдыхая в него жизнь с каждым мазком кисти. Приведём фрагмент неоконченного сонета, над которым он работал при написании фигуры Адама. Как это часто с ним случалось, выразив главное, он оставил сонет незавершённым:
Создатель сущего и всех светил Возвысил высшее своё творенье, Когда во власти горней вдохновенья Себе подобного Он сотворил (9).Саваоф никак не похож на глубокого старца. Его лик выражает высшее знание, волю и неукротимую энергию Творца мироздания. Под лёгким одеянием выступает мощная, как у Адама, мускулатура. В отличие от следующих трёх фресок, где полный неистовой силы Саваоф творит божественные деяния, здесь, как и на предыдущей фреске «Сотворение Евы», его лик выглядит менее суровым и отмечен почти отеческой любовью к своему детищу. Фреска пронизана ощущением вселенского масштаба, в котором изображены две стихии — Земля и Небо, одинаково родственные Адаму.
В истории мирового искусства, пожалуй, нет более известного фрагмента, чем тянущиеся друг к другу руки Адама и его Создателя, которые вот-вот должны соприкоснуться, являя собой главный композиционный узел сцены. Этот величайший акт сотворения живой плоти изображён столь поэтично и осязаемо, что при написании фигуры Адама Микеланджело ощущал себя скорее скульптором, нежели живописцем. Если бы он написал одну только фреску «Сотворение человека», его имя воссияло бы на века немеркнущей славой.
Закончив фреску, он спустился с мостков вниз, приказав подмастерьям отодвинуть сооружение чуть дальше в сторону к алтарной стене, чтобы издали удостовериться, насколько точно им выражено двуединство дремлющей силы и беспомощности лежащего Адама, чья поза демонстрирует, что пока он не в силах сам подняться. Но с помощью излюбленного метода контрапоста художник раскрывает исполинскую силу, заключённую в лежащем на земле теле первочеловека, чей мощный торс дан анфас, а голова, руки и левая согнутая в колене нога — в профиль.
В свойственном Микеланджело страстном порыве написана следующая укороченная фреска «Отделение тверди от воды», на которой показан порывистый полёт Саваофа, совершающего столь яростно великий божественный акт, что искры его разлетаются в разные стороны, сотрясая всё вокруг. Его благословляющая правая длань, написанная в смелом ракурсе, почти касается обрамляющего карниза, по бокам которого расположились четыре обнажённых юнца. Неукротимое движение на фреске нарушило их позы бесстрастных наблюдателей, написанных в резких ракурсах, передающих внутреннее напряжение каждого из юнцов. Куда бы ни двигался зритель, оказавшийся в капелле, он всегда будет ощущать обращённый на него взгляд Всевышнего Творца, который настолько пластичен, что выглядит изваянием, парящим в небе.
Усталость Микеланджело накапливалась, и неудивительно — диву даёшься, откуда брались у него силы. В одном из писем брату Буонаррото он пишет: «Я живу здесь среди забот, лишений и страшного напряжения. У меня нет друзей, и я не хочу их иметь; не хватает времени даже поесть, поэтому не доставляйте мне лишних забот, иначе я этого не вынесу». Это крик души одинокого человека, который умоляет своих близких пощадить его и не мешать исполнить великий долг перед Богом, людьми и искусством.
Он действительно был одинок, не желая видеть никого из прежних друзей и знакомых. С трудом сдерживая себя, он мирился с присутствием трёх, а иногда и больше болтливых помощников, с которыми делил общее ложе в лачуге близ церкви Святой Екатерины. Хотя сам был не намного старше этих парней, он не понимал их беззаботного веселья и несмолкаемых разговоров о всякой ерунде. Особенно докучала болтовня о выпивке и женщинах — больше их ничто не интересовало. Но без них он пока не мог обойтись, ибо сроки поджимали и папа постоянно его торопил. Укоренился миф, что в Сикстинской капелле он трудился один, без помощников. Вне всякого сомнения, писал фрески только он, но кто-то должен был растирать краски, накалывать на стену картон с рисунком, месить раствор, подносить его в вёдрах наверх по мосткам и выполнять множество других операций, прежде чем начнётся сам процесс росписи.
Не дав себе даже малейшей передышки, он взялся за написание предпоследней фрески потолка «Сотворение светил», на которой Саваоф изображён дважды. Первый раз — в момент создания Солнца и Луны, когда он указывает дланью на сотворённые им светила. Здесь же Творец показан улетающим прочь для продолжения божественных деяний, так что теперь видны только его спина и мощные ягодицы. Двойное изображение полёта на одной фреске усиливает впечатление движущейся животворной силы в беспредельном космическом пространстве.
Последняя фреска — «Отделение света от тьмы», где среди хаоса клубящихся облаков Всевышний показан в момент наивысшего напряжения сил. Обеими мощными дланями Творец проводит чёткую грань между противоборствующими субстанциями — светом и тьмой. Как и Саваоф, изображённый на фреске с задранной кверху головой, Микеланджело, лёжа на мостках под потолком, не мог видеть всю композицию целиком. Заканчивая фреску, он накладывал мазки настолько стремительно, что второпях оставил несколько резко очерченных линий, как граффити, передающих стремительность полёта Всевышнего.
Укороченные сцены обрамляют по углам ignudi — обнажённые юнцы, которых иногда ошибочно называют «рабами». Какие же это рабы, если они своими гордыми позами напоминают вольных граждан античной Эллады? Все они, словно «хор в греческой трагедии», своим присутствием проясняют сцены Первосотворения — Генезиса. Фигуры юнцов отличаются разнообразием движений и поз, смелостью ракурсов. Причём в первоначальных парах юношей, сидящих в профиль, ещё соблюдаются известная симметрия, спокойствие поз и стремление к равновесию. Фигуры ignudi — это совершенное по форме и правдоподобное изображение красоты человеческого тела, лишённое символики и каких-либо философских обоснований.
При дальнейшем их написании фигуры строятся на контрастах. Взять хотя бы последнюю четвёрку, обрамляющую фреску «Отделение света от тьмы» и написанную над пророком Ионой. Один из юнцов отпрянул в сторону от вызванного Всевышним мощного вихря, другой согнулся под тяжестью обломившейся дубовой ветви с плодами. Но особенно выделяется величавостью позы и красотой сидящий последним и полный безмятежности юноша справа, — это, пожалуй, одно из прекраснейших созданий всего цикла росписи. Его фигура отличается богатством световых эффектов и рельефно-чёткой проработкой деталей. В то же время она настолько сомкнута и компактна, что её можно вписать в правильную геометрическую структуру. Поскольку центр тяжести расположен сверху, фигура юноши, несмотря на её циклопические размеры, создаёт впечатление невесомости.
Следует подчеркнуть, что попытка Микеланджело сочетать изображения обнажённых юнцов и ветхозаветных пророков объясняется желанием объединить платоновскую философию с идеями христианства, почерпнутыми в своё время у наставников из «платонической семьи».
Роспись девяти центральных полей потолка далась Микеланджело нелегко. По всей вероятности, он был удовлетворён достигнутым и спокойно отнёсся к появлению папы Юлия со свитой в самый разгар работы. Он даже помог папе подняться на несколько ступенек по мосткам, чтобы поближе разглядеть написанное. Увиденное произвело на Юлия сильное впечатление, и он спросил художника, когда тот завершит роспись всего плафона, чтобы показать фрески всему миру.
— Когда смогу, — ответил тот.
Но такой ответ не устроил папу, и он закричал, передразнивая мастера:
— «Когда смогу, когда смогу…» Да как ты смеешь такое нам говорить? — и в сердцах ткнул упрямца посохом. — Чтобы к нашему возвращению из похода потолок был полностью расписан!
Не ожидавший столь сильного взрыва гнева, Микеланджело опешил от такого обращения с ним, как со слугой, да ещё в присутствии папской свиты и дворцовой челяди. Взяв себя в руки, он решил тут же покинуть Рим. Видимо, и папа осознал, что излишне погорячился и прилюдно обидел великого мастера. В тот же день он направил к нему с извинениями услужливого де Грассиса с мешочком монет, и мир был восстановлен.
По поводу стычек между художником и папой имеется немало свидетельств у Вазари и Кондиви, ссылающихся на признания самого Микеланджело. Оба биографа недолюбливали друг друга, и между ними шло негласное соперничество, у кого получится более правдоподобное повествование о жизни и творчестве мастера. Не всегда их слова можно принимать на веру, поскольку оба порой грешили излишним вымыслом, но всегда сходились, вдохновенно повествуя о неповторимой гениальности боготворимого ими Микеланджело.
* * *
Первого сентября 1510 года Юлий II во главе войска снова отправился в Болонью, не оставив Микеланджело аванс для продолжения работ. А сделать предстояло ещё очень много: создать новые картоны, пополнить запас дорогостоящих красок и воздвигнуть новые леса, так как прежние поизносились и были почти разобраны, чтобы папский двор и приглашённые могли полнее увидеть и оценить расписанную часть потолка без оконных распалубок и угловых парусов.
В тот же день Микеланджело отправил письмо отцу, узнав, что тот потерял с таким трудом доставшуюся ему должность управляющего городком Сан Кашано: «Я, право, огорчён, что не могу пока вам помочь. Тем не менее не убивайтесь и не грустите: если теряешь своё добро, жизнь всё-таки остаётся». Какие бы трудности ни возникали, сколь тяжки бы ни были терзания Микеланджело, он постоянно думал об отце и братьях. Вряд ли он любил их, но в нём силён был долг перед семьёй, и он всю жизнь нёс на себе бремя забот о своих близких.
Письменные обращения к папе с просьбой о выдаче денег остались без ответа. Тогда Микеланджело поскакал в Болонью, чтобы поговорить с папой, но его там не застал. Папский легат кардинал Алидози ничем не смог ему помочь, посоветовав набраться терпения, пока Юлий II не вернётся из Романьи, где он выкуривал из насиженных гнёзд непокорных князьков. Решив дождаться возвращения папы из похода, Микеланджело заехал во Флоренцию, чтобы повидаться с родными и уладить кое-какие дела, связанные с судебной тяжбой, которую затеяла неугомонная Касандра, вдова покойного дяди Франческо Буонарроти.
Во Флоренции он услышал о кончине Сандро Боттичелли, одного из последних великих творцов итальянского Кватроченто. Микеланджело не был с ним близко знаком, но высоко ценил его искусство с присущей ему ясностью замысла и гармоничнстью композиции, чёткой объёмностью и трепетной выразительностью фигур. Он зашёл в церковь Оньиссанти, где был похоронен мастер, и запалив перед алтарём поминальную свечу, задумался: sic transit gloria mundi … Вдруг ему почудилось, что кто-то смотрит на него в упор. Резко обернувшись, он увидел Граначчи с палитрой в руке, который снимал копию с фрески Боттичелли «Святой Августин в келье», и подошёл к нему. Друзья молча крепко обнялись.
— Прошу, ничего не говори! — промолвил Граначчи. — Я всё понимаю. Тебе было не до нас.
Они вышли. Устроившись за столиком в соседнем трактире, разговорились, как в былые годы юности. Граначчи рассказал о недавней поездке в Рим Буджардини.
— Ему удалось посетить Сикстинскую капеллу. А знаешь, что сказал добряк Буджардини по возвращении из Рима? — спросил Граначчи. — Нам незачем на него дуться, молвил он. Большая честь уже то, что он вспомнил о нас. Признаемся, не кривя душой — все мы оказались не на высоте.
У Микеланджело отлегло от сердца, ибо воспоминание о давешнем неприятном случае с друзьями было для него мучительным. Неожиданная встреча с верным Граначчи не развеяла его грустных мыслей. Он уже собирался отправиться в Болонью, как на пороге отчего дома появился доминиканский монах, сообщивший о смерти старшего брата Лионардо в монастырском госпитале под Сиеной.
— Его скосила холера, — пояснил монах. — Мы были дружны, и он перед кончиной просил меня передать вам его последнее благословение.
Между братьями не было понимания, и Микеланджело вспомнил, как при последней их встрече, когда Лионардо грозила опасность, он впервые проникся к нему братской любовью и постарался хоть как-то помочь в беде.
Преисполненный печали, он отправился в Болонью в надежде повстречать папу и решить финансовые вопросы. Это частично ему удалось, и после четырёх месяцев вынужденного простоя 7 января 1511 года Микеланджело вернулся в Рим. Дел было непочатый край. Пустовали расчищенные для росписи распалубки окон, прямоугольные пространства между ними и просторные боковые паруса. Он приступил к написанию ветхозаветных пророков и сивилл в окружении обнажённых мальчиков-гениев. Все фигуры размещались под главным карнизом в пандативах между оконными арками. Ему предстояло расписать двенадцать таких плоскостей: по пять на боковых стенах и по одной на поперечных, включая небольшую плоскость над алтарём.
Перед ним стояла не менее сложная задача, чем при росписи плафона, — показать заключённую в монументальных фигурах ветхозаветных героев поднимающуюся из глубины их сути внутреннюю энергию, которая растёт и придаёт самим фигурам гигантские размеры. В его трактовке пророки и сивиллы предстают в момент наивысшего духовного озарения, предчувствуя появление Спасителя. Но если сивиллы вещают об этом смутно, то пророки уверенно и громко предсказывают грядущее пришествие Мессии, чем обусловлены сложные динамичные позы многих из них. Все фигуры чётко читаются на расстоянии благодаря своим восьмиметровым размерам. В проработке их объёмов широко использованы приёмы контрапоста и светотеневой моделировки, бывшей новшеством в те времена, что вкупе с цветовыми контрастами подчёркивает единство ритмического строя росписи и её возвышенный, над мирный характер.
Доходившие до него глухие отголоски из внешнего мира, где происходили народные восстания и шли войны, не могли не отразиться на его чувствах гражданина и республиканца, что невольно передавалось его творениям. Пока Микеланджело трудился в Сикстине, выражая на фресках всё, что накопилось в часы тягостных раздумий, пророчества Савонаролы сбывались чуть ли не каждый день, а некоторые картины Дантова «Ада» получали живое воплощение в реальной жизни итальянцев.
В своих письмах отцу и брату Буонаррото он просит их вести себя крайне осторожно и уехать на время в Сиену и ни о ком не говорить ни хорошо, ни плохо. «Довольствуйтесь тем, что вы сыты, — пишет он. — Живите во Христе, как и я живу бедно и честно. Я очень несчастлив и не забочусь ни о жизни, ни о почестях, ни о чём мирском — живу в тяжких трудах и в постоянной тревоге. Вот уже пятнадцать лет, как я не знаю ни одной спокойной минуты. Я всегда помогал вам, хотя вы никогда этого не ценили и не понимали. Господь да простит нам всем! А я и впредь готов до конца дней своих поступать так же, только бы хватило сил!»
Возвращаясь из очередного похода, папа Юлий непременно заходил в Сикстинскую капеллу и, как всегда, торопил художника, всякий раз интересуясь, когда наступит конец. Однажды, когда Микеланджело на вопрос папы промямлил что-то невнятное, Юлий взорвался:
— Дождёшься у меня, шельмец, что я прикажу сбросить тебя с мостков!
Угроза была нешуточной, и Микеланджело лишний раз убедился, сколь непреклонна воля папы, который, казалось, был выкован из металла, как и его грозная фигура в бронзе, водружённая в Болонье. Он понимал, что папа от него не отстанет и будет каждодневно торопить, так как не чаял увидеть законченной роспись в Сикстине, словно предчувствуя свой скорый конец. Давление на художника нарастало с каждым днём. В отличие от деятельного папы, постоянно занятого военными приготовлениями, Микеланджело от усталости чувствовал себя опустошённым. Его не покидало желание всё бросить и бежать куда подальше, как это с ним случилось несколько лет назад. Да разве убежишь от своей судьбы?
* * *
Ведя войну за расширение влияния Рима и объединение итальянских земель, Юлий II путём активной дипломатии и переговоров добился создания Священной лиги против Франции и германского императора Максимилиана I Габсбургского. Его союзницами стали Испания и Венеция. Гордая Флоренция не вошла в союз, сохраняя нейтралитет. Затяжная война опустошила папскую казну, и чтобы расплатиться с армией наёмников, состоявшей в основном из испанцев и швейцарцев, папа отдал им на откуп Тоскану, которая активно противилась проводимой им политике.
Флоренция не имела своей армии и могла рассчитывать только на малочисленную городскую милицию. Смяв её сопротивление, армия наёмников захватила и разграбила богатый город Прато. Напуганные учинённым насилием и зверствами, другие тосканские города сами предлагали захватчикам ключи от крепостных ворот. Стоявшие у власти верхи Флоренции во избежание штурма и разграбления города согласились выплатить многотысячную контрибуцию и вернуть к власти Медичи. В августе 1512 года были растоптаны республиканские свободы. Микеланджело горько переживал эту трагедию, будучи не в силах помочь чем-то родному городу, ибо чувствовал, что должен во что бы то ни стало завершить беспримерный труд, порученный ему, как он считал, свыше.
Под Рождество 1511 года пришла весть о том, что граждане Болоньи восстали против ненавистной власти Рима. Папский легат Алидози в страхе бежал от расправы, бросив на произвол судьбы вверенный ему гарнизон, который был весь перебит. Восставшие открыли ворота города наёмникам семейства Бентиволья, и тиран вернул себе власть над Болоньей. Папский племянник Франческо Мария делла Ровере настиг под Павией бежавшего Алидози и собственноручно заколол этого труса и предателя. Убийство кардинала и папского легата отозвалось громким эхом в Риме, вынудив Юлия II предать племянника суду за неслыханное самоуправство. Но тот, зная крутой нрав дяди, не явился в Рим, укрывшись в родовом поместье под Урбино.
Творение Микеланджело под крики и улюлюканье толпы было сброшено с фронтона собора в специально привезённую кучу навоза и разбито. Его обломки приобрёл феррарский правитель герцог Альфонсо д’Эсте, который приказал отлить из них мортиру, дав ей с издёвкой имя «Юлия». Голову папы он пощадил, и она долго украшала его богатую художественную коллекцию, пока следы её не затерялись.
С болью воспринял Микеланджело сообщение из Болоньи. Прахом обернулись все его усилия и обретённый опыт литейщика. Он отказывался верить, что люди способны варварски уничтожать произведения искусства. «Вряд ли тут следует винить народ, — думал он. — Скорее всего, это дело рук завистников и злопыхателей, старавшихся выслужиться перед тираном». Ему было нестерпимо жаль затраченных сил и времени. Одно могло теперь его утешить — отныне никаким злопыхателям не удастся добраться до росписей гигантского свода, высота будет служить им самой надёжной защитой от любой злой силы.
* * *
Преисполненный грустных мыслей Микеланджело начал роспись плафона с фигуры сидящего пророка Захарии с книгой в руках, в которой сказано, что «народы взыщут Господа в Иерусалиме». Захария написан прямо над прежним входом в капеллу. За спиной длиннобородого старца, углубившегося в чтение, притаились два миловидных мальчика-гения, смотрящих в книгу из-за его плеча.
Теперь работать стало намного сподручнее — Микеланджело мог, наконец, выпрямиться в полный рост после долгого лежания скрюченным на спине под потолком, когда затекали и немели все члены. Первым на правой боковой стене изображён пророк Иоиль. Это умудрённый зрелый муж, полный сил. Он широко развернул руками свиток, увлечённо вчитываясь в заключённый в нём властный призыв к покаянию народа Израилева. Движения его решительны и порывисты, что подчёркивается складками голубоватой тоги и красного плаща. Выдвинутая вперёд правая нога почти выступает наружу за предела пандатива. За ним стоят два пухленьких гения, не обращающих на него внимания.
По соседству от Иоиля чуть далее сидит Эритрейская сивилла, выражающая всем своим обликом спокойствие. Это довольно молодая женщина, чьё красивое лицо дано в профиль, а вся фигура анфас. У неё обнажены крепкие мускулистые руки, а положенные одна на другую ноги прикрыты плащом розоватого цвета. Сивилла задумчиво листает пальцами раскрытую перед ней книгу. Один из гениев пытается зажжённой лучиной поддержать огонь в подвешенном на крюке затухающем светильнике. Ещё мгновение, и свет прольётся на книгу, а сивилла приступит к чтению.
В следующем пандативе изображён мощный старец Иезекииль. Резкие и выразительные черты его лица в профиль обращены к невидимому собеседнику, которому он страстно доказывает то, что содержится в полусвёрнутом свитке, зажатом в левой руке. Приговорённый Навуходоносором к изгнанию в Вавилон, Иезекииль явился выразителем мессианских идей богоизбранного народа. Он напророчил возвращение евреев на землю отцов и то, что их царём станет потомок Давида. Ниспадающие в беспорядке складки его одеяния передают сильное возбуждение, которое передалось и двум гениям, стоящим у него за спиной. Один из них взволнованно указывает пророку на небо. В годы Контрреформации Микеланджело припомнят, что он, вопреки существующим канонам, осмелился изобразить библейского пророка в тюрбане.
Полной противоположностью Иезекиилю является сидящая далее Персидская сивилла, с головы до ног закрытая одеждами. Поднеся книгу к подслеповатым глазам, она отрешилась от мира. Из-под плата видны её тонкий профиль и острый нос, почти касающийся страниц книги. Позади неё недвижно стоят два грустных мальчика-гения, облачённые в плотные туники.
Последний пандатив на этой стене занят скорбной фигурой пророка Иеремии, предсказавшего многие из несчастий, выпавших на долю народа Израилева за отступничество от веры отцов. Он запечатлён в минуту раздумий о печальной судьбе рода человеческого, раздираемого непримиримыми противоречиями. Скрестив ноги, Иеремия сидит задумавшись в согбенной позе. Опершись локтем о колено, он обхватил правой рукой подбородок, а левая безвольно свешивается с другого колена. За его спиной — две скорбные женские фигуры, которым передалось настроение пророка, бестрепетно принимающего Божью волю, как об этом сказано в «Книге Иеремии».
При написании опечаленного Иеремии Микеланджело думал прежде всего о судьбе собственного народа, на долю которого выпали тяжкие испытания. Позднее он повторил позу задумавшегося пророка в скульптуре «Il Pensieroso», которую изваял для капеллы Медичи во Флоренции, когда над Италией вновь сгустились зловещие тучи. Среди других пророков в Сикстинской капелле Иеремия — пожалуй, самый запоминающийся благодаря его чётко выраженной индивидуальности.
Между боковыми парусами над алтарной стеной господствует мощная фигура молодого пророка Ионы, изверженного после трёхдневного пребывания из чрева кита и оказавшегося вновь на земной тверди с чахлыми деревцами. Его стремительное появление подобно тектоническому взрыву. Он так порывисто откинулся назад, что покатый свод неожиданно выпрямился прямо на глазах. Правой рукой пророк опирается на подлокотник трона, а левой, сдерживающей его порыв встать в полный рост, указывает на происходящее внизу на земле. Он — единственный из пророков, который обходится без книг и свитков. Взор Ионы обращён к небу. Но означает ли он пророчество о приходе Искупителя или, учитывая его взрывную натуру, спор со Вседержителем? Неожиданное появление Ионы напугало двух мальчиков-гениев, с удивлением взирающих на пришельца из морской пучины. Рядом огромная пучеглазая рыбина, выплывшая из-за рамы архитектурного обрамления. Видимо, таким представлялся Микеланджело кит, о существовании которого он знал лишь понаслышке.
Первой фигурой на левой стене от алтаря является Ливийская сивилла. Её динамичная поза штопором ввинчивается в пространство, являя собой самую сложную по композиции фигуру, когда видны одновременно лицо и спина молодой прорицательницы. Она старается привстать, держа в руках тяжёлую раскрытую книгу, а её прекрасное лицо в профиль обращено вниз, где она узрела что-то очень важное. Один из гениев держит под мышкой фолиант и о чём-то говорит другому мальчику, указывая пальцем на сивиллу.
Следующий проём между оконными арками отдан молодому красавцу Даниилу, который, помимо прочих добрых дел, спас оклеветанную похотливыми старцами честную Сусанну. Он увлечённо читает увесистую большую книгу, положенную на спину маленького гения, стоящего перед ним. Плащ на нём скомкан, русые волосы взъерошены, и пророк торопливо записывает поразившую его в книге мысль на грифельной дощечке поверх аналоя, далеко выступающего за рамки отведённого пространства.
После изображения молодого пророка, преисполненного задора, для контрастности взор останавливается на Кумской сивилле. Это старая женщина, одетая во вретище, с морщинистым лицом, дряблой грудью, но атлетически мощным торсом и сильными мужеподобными руками, которые держат раскрытую книгу. Её голова в чепце дана в профиль, а туловище и ноги — анфас. По ней видно, сколь долгую жизнь она прожила и как много повидала, бродя по белу свету, о чём говорит лежащая у её ног котомка странницы. Два маленьких гения боязливо смотрят на старую вещунью.
Суровую сивиллу сменяет молодой одухотворённый Исайя. Он только что оторвался от чтения, зажав пальцем закрытую книгу, в которой среди прочего сказано: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!» Микеланджело с особым вниманием строит его фигуру с помощью светотени и контрапоста. Опираясь левой рукой на подлокотник, пророк удобно восседает в кресле, скрестив ноги и широко раздвинув колени. На нём розоватая туника, на плечи накинут бирюзовый плащ. Судя по раздуваемому, как парус на ветру, плащу, несколько театральной позе и указующему жесту, Исайя вот-вот начнёт пророчествовать, к чему его призывает один из гениев, показывая рукой на небо.
Последней на левой стене написана Дельфийская сивилла, которая к чему-то прислушивается. Она медленно поворачивает голову, правая рука с пергаментом взлетает вверх, а другая пребывает в покое. Всё здесь построено на контрастах противоборствующих движений различных частей тела. Сильный торс повёрнут в сторону, и его наклону вперёд препятствует левая вытянутая рука. Резкий контраст вертикали, идущей от головного плата к левому колену, с горизонтальной линией руки оправдывает поворот головы, без труда занимающей положение анфас. Из-под голубого плата выбиваются каштановые волосы, а широкий плащ, охватывающий всю фигуру, раздувается, как на ветру. Большую роль играет световая проработка, а тень, наложенная вертикально, делит прекрасное лицо сивиллы на две половины. Особенно впечатляет незабываемый проникновенный взгляд молодой прорицательницы, следующий за поворотом головы. Её большие широко раскрытые глаза оказывают сильное воздействие на любом расстоянии — кажется, что они провожают тебя до самого выхода из капеллы. За сивиллой изображены два юных гения — один читает, а другой держит перед ним книгу пророчеств. На всём лежит печать ожидания чего-то значительного, что должно произойти на земле.
* * *
Микеланджело предстояло завершить роспись боковых парусов, невероятно сложных по композиции и не менее трудных для исполнения, поскольку снова пришлось писать полулёжа или сидя на корточках на мостках. Да и разглядеть издали написанное можно или лежа на полу, или запрокинув назад голову, что долго выносить невозможно.
На ограниченных и кажущихся сферическими поверхностях отражены важнейшие моменты истории народа Израилева. Две первые боковые фрески, примыкающие в виде треугольных плоскостей к потолку над противоположной от нынешнего входа поперечной стене, посвящены хрестоматийным сюжетам — подвигам Давида и Юдифи. Справедливости ради следует отметить, что обе сцены явно проигрывают в сравнении с тем, чего добился Микеланджело в своей величайшей плафонной фреске.
Он засомневался — а стоит ли дальше углублять живописное повествование? Ведь самое главное им выражено, а оставшимися частностями можно и пренебречь. За прошедшие четыре года вдохновенного труда его стало подводить воображение, а повторов он не терпел. Но грозный заказчик никогда бы ему не позволил оставить цикл незавершённым, да и деньги ещё сполна не получены.
На дальнейшую роспись парусов и арочных пазух над окнами сил почти не осталось — настолько работа в Сикстине утомила его, — и он дописывал их вполсилы. Вот почему завершающие весь цикл последние фрески не производят столь сильного впечатления, хотя написаны гением. Но и у гения, видимо, устаёт воображение и наступает временный спад, когда мгновения экстаза и самозабвения покидают его.
После овеянного славой гордо стоящего мраморного Гиганта, как его окрестили флорентийцы, изображённый над поверженным Голиафом юный Давид с поднятым над головой мечом явно проигрывает своему флорентийскому собрату. Более убедительной выглядит трёхчастная фреска о подвиге Юдифи: здесь и уснувшая стража, и обезглавленный Олоферн, чья рука как бы судорожно тянется к оружию, другая же мертвенно повисла, а в центре сама красавица Юдифь, передавшая отрубленную голову служанке, которая держит её в корзине на высоко поднятых руках. Микеланджело по-своему решает эту часто встречающуюся в живописи сцену, внеся в неё некоторую интригу. Чтобы Юдифь смогла набросить плат на корзину с головой Олоферна, служанке пришлось чуть нагнуться. Юдифь всё ещё находится под воздействием свершившегося и не в силах оторвать глаз от поверженного врага. Этот её резкий поворот головы назад придаёт сцене поразительную жизненность и динамичность.
Считается, что живо написанные образы Юдифи и служанки напоминают две женские фигуры, вырезанные из оникса, которые украшали перстень Микеланджело, служивший ему печаткой и подаренный гравером Пьермария да Пешиа, который был восхищён сикстинскими фресками. Позже этот перстень каким-то образом оказался в Лувре.
Ниже в пазухах даны две сцены с библейскими героями, чьи имена указаны в картушах: Елеазар и Матфан, готовые к защите божественного закона, а на другой фреске старцы Иаков и Иосиф погружены в думы о судьбах своего народа. На противоположной стене под парусами также имелись две симметричные фрески, которые были замазаны при написании «Страшного суда». Две другие сферические плоскости над алтарной стеной намного выразительнее первых двух как по мастерству, так и по силе воздействия. Они служат обрамлением фигуре неистового пророка Ионы, который исполинским движением выламывается из сдерживающих его рамок виртуальной архитектуры. Его порыв подобно извержению вулкана передаётся соседним фрескам.
Первая трёхчастная композиция посвящена наказанию царского вельможи Амана, который пытался уничтожить еврейский народ, но сам вскоре оказался казнённым по наущению красавицы Эсфири, любимой жены персидского царя Артаксеркса, скрывшей своё иудейское происхождение. Это событие отмечается израильтянами во время Пурима — «праздника судьбы». Особенно впечатляет своим драматизмом и динамикой центральная сцена с приговорённым к распятию Аманом, чья обнажённая фигура написана с такой страстью, словно Микеланджело обрёл новые силы и вдохновение: взгляните только на отчаянный взмах рук смертника Амана и появившийся в дверном проёме прекрасный профиль Эсфири, следящей за казнью.
Столь же драматична фреска «Медный змей» на сюжет книги Исход. Когда народ Израилев, уставший бродить по пустыне, возроптал против Бога и Моисея, Господь наслал на него полчища ядовитых змей. Тогда пророк по приказу свыше сотворил медного змея и поместил на высоком шесте как символ спасения. На фреске толпы людей поклоняются змею. Их лица искажены ужасом, они толкают друг друга и тянутся к обвивающемуся вокруг высокого шеста спасительному змею. К нему тянется ручкой мальчик, сидящий у отца на закорках. Всем возроптавшим и в наказание укушенным гнусными тварями обещано исцеление.
До наступления осени Микеланджело успел дописать в треугольных плоскостях над окнами восемь небольших жанровых сцен, изображающих, как принято считать, предков Христа. В люнетах помещены старики, молодые мужчины и женщины с детьми — многие из них охвачены беспокойством. Чувствуется, что при написании этих сцен кистью художника, патриота и республиканца, водила боль — до него дошли сведения о вторжении испанцев в Тоскану, разграблении Прато солдатнёй и чинимом там произволе, от которого, как писал он в одном из писем, «возопили бы даже камни от ужаса».
Следует признать, что завершающие грандиозный цикл небольшие фрески блекнут на фоне героического звучания апофеозом во славу человека расписанного свода, на котором напряжение нарастает, подобно наплывающим мощным аккордам из симфонической поэмы Листа «Прелюды». Пластическая мощь фигур, подчёркивающая грандиозную поверхность свода, усиливается в значительной степени за счёт цветового решения росписи, где тона нагих тел, одеяний и пейзажных фонов отличаются колористическим разнообразием, обогащённым смелыми ракурсами и полутенями. Всё это отлично сочетается с желтовато-коричневыми и красновато-кирпичными оттенками, с серо-фиолетовыми, тёмно-зелёными и синими красками. Что касается элементов рисованной архитектуры, то все они выдержаны в благородном серовато-белом тоне с преобладанием серебристых оттенков.
Выдающееся значение творения Микеланджело состоит ещё и в том, что до него итальянская живопись не знала столь масштабных плафонных росписей. Как правило, сводчатые потолки крупных культовых и гражданских помещений украшались только декоративным орнаментом. Лишь в середине Кватроченто появляются плафонные росписи, выполненные, например, Мелоццо ди Форли в одной из часовен кафедрального собора Лорето, или фресковые росписи Мантеньи в небольшой квадратной зале — так называемой Camera degli Sposi — герцогского дворца в Мантуе. Как в первом, так и во втором случае размер росписи не идёт ни в какое сравнение с гигантским потолком Сикстинской капеллы площадью 600 м2 — и это без учёта расписанных парусов и распалубок.
* * *
Кроме усталости, накопившейся за четыре года работы над гигантским сводом, Микеланджело беспокоили серьёзные нелады со зрением. От долгого лежания на досках под потолком, когда он вынужден был смотреть вверх в одну точку, глаза часто покрывались мутной пеленой. При чтении ему приходилось высоко держать над головой книгу, чтобы разобрать текст. Способность читать и видеть более-менее нормально вернулась не сразу, и он ещё долго мучился от рези в глазах.
В память о годах, проведённых в Сикстине, Микеланджело решил в одном из рисунков шутливо изобразить себя с выпяченным животом и запрокинутой головой во время росписи потолка, когда ему приходилось целыми днями лежать на лесах на верхотуре, краска капала ему на лицо, но не было времени её стереть. Им был написан сонет с кодой, то есть наращением двух дополнительных терцетов. Сонет обращён к давнему приятелю по имени Джованни ди Бенедетто, литератору и канцлеру Флорентийской академии. В оригинале сбоку на листе имеется сделанная корявым почерком собственноручная приписка автора: «Тому самому Джованни, что из Пистойи».
Я нажил зоб усердьем и трудом (Такою хворью от воды стоячей В Ломбардии страдает род кошачий): Мой подбородок сросся с животом. Лежу я на лесах под потолком. От краски брызжущей почти незрячий; Как гарпия, на жёрдочке висячей — Макушка вниз, а борода торчком. Бока сдавили брюхо с потрохами. Пошевелить ногами не могу — Противовесом зад на шатком ложе, И несподручно мне водить кистями. Я согнут, как сирийский лук, в дугу; С натуги вздулись волдыри на коже. Быть скрюченным негоже. Как цель разить, коль кругом голова? Не ко двору я здесь — молва права, И живопись мертва. Тлетворен дух для фресок в Ватикане. Спаси от злопыхателей, Джованни! (5)Итак, величайший труд в истории мировой живописи завершился. Но был ли автор удовлетворён содеянным? На сей счёт нет прямых сведений, кроме шуточного сонета. Выше было отмечено, что даже у мрачно глядящего на мир Микеланджело порой прорывались весёлые нотки самоиронии. Но как бы сам автор ни относился к своему творению, общепризнано, что он вышел победителем в борьбе с сопротивляющейся косной материей и с самим собой, создав одно из величайших творений искусства Высокого Возрождения.
Макиавелли при встрече с Микеланджело сказал: «Вы переживёте ваши творения, потому что были ведомы Богом в минуты их создания». В Сикстинской капелле действительно трудился божественный творец, одаривший человека светом благодати, знаний и изгоняющий из него сатанинскую тьму невежества и зла. В результате борьбы между Римом и Флоренцией за обладание самым знаменитым и несговорчивым художником мировое искусство обогатилось величайшим произведением, слава которого не меркнет по прошествии веков.
Взявшись за роспись гигантского потолка капеллы, Микеланджело вступил в соперничество с Небом и Землёй, бросив дерзкий вызов Всевышнему. Он похитил у него тайну сотворения мира и заодно право считаться единственным создателем. В центральной сцене «Сотворение Адама» с её гениально запечатлённым движением двух рук, стремящихся сомкнуться, полностью нарушается божественная гегемония, и творцом первого человека на фреске скорее выступает Микеланджело, нежели Бог Саваоф, подгоняемый в своём стремительном полёте космическим вихрем. Разница между ними в том, что у Саваофа на сотворение мира ушло всего лишь несколько дней, а Микеланджело понадобились четыре года непрерывного каторжного труда для создания подлинного рукотворного чуда, во что трудно поверить, учитывая гигантскую поверхность потолка, которую художник расписывал один.
Накануне Дня Всех Святых 31 октября 1512 года Юлий II освятил фресковые росписи в Сикстинской капелле и лично отслужил торжественную мессу в окружении 17 кардиналов со всей полагающейся столь знаменательному событию помпой. Сбылась его мечта, и миру было явлено величайшее чудо.
Побывав на освящении, Микеланджело остался в стороне от обступивших папу кардиналов, придворных, иностранных послов и римской знати. Там же были Браманте, Сангалло, Рафаэль и другие мастера. Ему не хотелось выслушивать чьи-либо суждения или поздравления, в искренность которых он не верил. Притаившись за спинами рослых швейцарских гвардейцев, он с интересом наблюдал, как пышное великолепие собравшихся вступало в контраст с рубищами или наготой изображённых им на своде персонажей, которые родились бедняками и умерли ничуть не богаче.
Зато он отвёл душу, когда в Сикстину был открыт доступ простолюдинам, и те, задрав головы кверху, смешно тыкали пальцами в потолок и громко делились впечатлениями, несмотря на шиканье и призывы ватиканских служек соблюдать тишину. Эта разношёрстная толпа посетителей куда больше соответствовала духу фресок, чем нарядные царедворцы, равнодушные к искусству, да и к религии — ко всему, кроме самих себя.
Посетил Микеланджело и канцелярию казначейства, где датарий Турини выплатил ему оставшуюся сумму гонорара за фресковые росписи. Сочтя её явно заниженной, он отправился за выяснением к самому папе по длинным дворцовым коридорам, где ему вдруг послышалось заунывное пение, доносившееся из частной папской часовни Святого Николая, куда он не раз заходил ради фресок блаженного монаха фра Анджелико, привлекавших его своей искренностью и простотой.
Заглянув туда, он увидел другого папу Юлия, беспомощного и жалкого, во время отпевания скоропостижно скончавшейся любимой сестры. Там собрались близкие — его любимица Фелиция, её старшие сёстры с мужьями и несколько кардиналов, пришедших поддержать понтифика в трудную минуту. Микеланджело долго не мог забыть, как папа вдруг разрыдался, упав на колени перед гробом, и запричитал, всхлипывая по-детски: «Луккина, Луккина… зачем ты ушла?»
По городу поползли слухи о болезни Юлия, который сильно сдал и ходил с трудом. Чтобы положить конец таким разговорам, по распоряжению римской курии в церкви Санта Мария дель Пополо был выставлен для всеобщего обозрения великолепный по композиции и живописи портрет Юлия II кисти Рафаэля, на котором папа выглядел довольно бодрым и крепким.
Выждав немного, пока папа оправится после похорон сестры, Микеланджело получил от него обещанное разрешение на поездку домой на рождественские праздники. Юлий тепло его принял, но попросил не засиживаться дома, так как в Риме мастера ждало немало дел. В приподнятом расположении духа он помчался во Флоренцию. После возвращения к власти Медичи город выглядел мрачно. Жители с опаской выходили на улицу, страшась расправы за былые республиканские убеждения. Пожизненный гонфалоньер Содерини был отправлен в ссылку, а канцлер Макиавелли посажен за решётку, где подвергся пыткам. Большой совет был разогнан, и вместо него во дворце Синьории заседала Ассамблея из 25 знатных граждан во главе с угодливым Паоло Веттори. По приказу новой власти было замазано в одном из залов дворца Синьории обращённое к народу изречение Савонаролы, которое свято чтили сторонники республиканских свобод: «Не верь говорунам велеречивым — тебя хотят лишить твоей же власти!»
До Флоренции уже дошла весть о росписи плафона Сикстинской капеллы, и люди на улице останавливали Микеланджело и поздравляли с новой победой, которую флорентийцы рассматривали как свою собственную. Ему было лестно принимать поздравления от земляков, которые, даже не видев само творение, верили в его дар. К сожалению, дома, как всегда, не прекращалась грызня. Братья корили отца за неумелое ведение дел в конторе и в имении, а тот частенько уличал их в краже денег из семейной копилки.
Из Рима пришла весть, что 24 февраля 1513 года умер папа Юлий II. Это известие болью отозвалось в сердце Микеланджело. Он потерял великого покровителя, с которым постоянно спорил, но находил понимание. Папу окончательно доконали неудачи на полях сражений, а его клич «варвары, вон из Италии!» так и остался пустым звуком — французы закрепились на севере страны, а испанцы на юге.
Вот что отметил в своём дневнике церемониймейстер двора Парис де Грассис: «Люди сквозь рыдания молились за упокой души папы Юлия, который был для них истинным викарием Христа, надёжным щитом правосудия и обуздавшим тиранов больших и малых».52 Совсем по-иному весть о смерти Юлия II встретила Европа. Вскоре из-под пера Эразма Роттердамского вышла сатирическая брошюра под заглавием «Iulius exclusus et coelis» («Юлий, низвергнутый с небес»), в которой апостол Пётр требовал от почившего в бозе папы отчёт за все совершённые им за годы понтификата неблаговидные дела.
* * *
С годами плафонная роспись Сикстинской капеллы стала темнеть, некоторые фигуры на фреске стали неразличимы. В 1980 году началась кропотливая работа по очистке росписи и реставрации фресок с использованием новейших технологий, что вызвало немало нареканий и споров в искусствоведческой среде, опасавшейся за сохранность живописи. В памяти было ещё живо воспоминание о неумелой реставрации, произведённой в середине XVIII века на основе костяного клея, что нанесло серьёзный урон живописному слою.
Почти одновременно в Милане началась реставрация «Тайной вечери» Леонардо, на долю которой выпали ещё большие испытания. Первые трещины появились из-за ошибки великого мастера при грунтовке стены, и фреска постепенно разрушалась. В конце XVIII века захватившие Милан французы разместили конюшню в монастырской трапезной, на стене которой была написана божественная фреска, и прорубили под картиной дверь в соседнее помещение. Благодаря упорству реставраторов фреска была спасена от окончательного исчезновения. Но спасённый шедевр отныне представляет собой лишь точно выполненную копию гениального оригинала Леонардо.
Сикстинскому плафону повезло куда больше, поскольку его роспись подвергалась воздействию только копоти от горящих свечей и пыли. Когда по завершении реставрационных работ, продлившихся свыше десяти лет, были сняты леса, краски засверкали первозданным блеском, и потрясённый мир смог убедиться, что Микеланджело ко всему прочему был выдающимся колористом. С таким неожиданным результатом некоторые искусствоведы долго не могли смириться, считая, что при реставрации не был учтён «четвёртый параметр», то есть время, которое неизбежно оставляет свой след — патину. Но большинство учёных одобрили смелость и усилия реставраторов, которые вернули росписям, насколько это возможно, первозданный вид. Правда, между первой и второй сценами плафона им так и не удалось исправить изъян, зияющий небольшим белым пятном.
Отныне вся роспись воспринимается как единое целое, написанное на одном дыхании. Но осталась несоразмерность некоторых фигур. Например, Всевышний на центральной фреске «Сотворение человека» значительно крупнее своей фигуры в сцене «Сотворение Евы». По мере продвижения написания не только увеличивались габариты фигур, но и менялась цветовая палитра. Первые сцены выдержаны в ярких звучных тонах — голубое небо, зелёные луга, сочные тона красок и дымчатые тени. Позже палитра становится всё более приглушённой — небо обретает белёсые тона, одеяния становятся бледнее, а тени гуще.
О сикстинских фресках написаны горы книг искусствоведами, историками, филологами, а в последнее время ими заинтересовались неврологи, узревшие сокрытый гениальным творцом закодированный посыл. То, что Микеланджело был глубоким знатоком анатомии человека, — факт общеизвестный. Но его познания в области неврологии произвели сенсацию. Тон таким разговорам в научной среде был задан в 1990 году хирургом Ф. Л. Мешбергером из университета штата Индиана, который в сцене «Сотворение Адама» увидел в летящем Саваофе в окружении ангелов, окаймлённых развевающейся на ветру тканью, анатомически точно воспроизведённый мозг человека. Были отмечены и другие примеры, из которых явствует, насколько точно на фресках показаны изгибы позвоночника изображённых фигур.
Итог разгоревшейся дискуссии подвели искусствовед Р. Долинер и талмудист Б. Блех, выпустившие книгу «Секреты Сикстины в тайном посыле Микеланджело».53 Авторы утверждают, что фрески писались в полемике с официальными догмами, приводя тому множество примеров. Так, они задались вопросом: почему в сцене Грехопадения древо познания и зла покрыто листвой смоковницы, а не яблони? Или чем вызвано изображение змея-искусителя с женским торсом и лицом? Не говоря уже об обилии обнажённых тел в главной капелле христианства.
Ещё задолго до нынешней дискуссии с фигурой Адама был связан курьёзный инцидент, имевший место в разгар холодной войны. В США появилась брошюрка «Расы человечества», в которой прародитель Адам был изображён с пупком. Один из конгрессменов узрел в этом происки коммунистической атеистической пропаганды, доказывая, что вылепленный Богом из глины Адам не мог иметь пупка. Разгорелась острая дискуссия, в ходе которой ревнителей чистоты Священного Писания удалось умиротворить только ссылкой на фреску «Сотворение Адама», где появившийся на свет первый человек тоже изображён с пупком.54 Этот факт лишний раз свидетельствует о величайшем авторитете в мире творения Микеланджело.
Через пять столетий после освящения фресок, 31 октября 2012 года, папа Бенедикт XVI отслужил торжественный молебен в Сикстинской капелле. Его старший брат Георг Радцигер сочинил по столь знаменательному случаю мессу Anno Santo для хора и оркестра, а дирекция ватиканских музеев подготовила фильм на DVD под названием «Arte е Fede. Via Pulchritudinis» («Искусство и Вера. Путь к Прекрасному»), переведённый на многие языки, в том числе и на русский. В те торжественные дни невозможно было представить, что через три месяца Бенедикт XVI объявит о своём решении оставить высший церковный пост Викария Христа, чего не случалось за последние шестьсот лет. Не исключено, что в те дни папа особенно глубоко осознал прозвучавший с плафонной фрески призыв ко всеобщему покаянию. Вскоре произошёл редчайший в многовековой истории католической церкви случай — при живом понтифике, отрекшемся от престола, был избран новый папа, впервые принявший имя Франциска и сделавший после избрания многозначительное заявление: «Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe» — «С людьми живи в мире, с пороками же воюй».
Пока шли подготовительные работы, чтобы достойно отметить славный юбилей, вновь встал вопрос о сохранности фресок Сикстинской капеллы, через которую ежедневно проходит до 20 тысяч посетителей. Директор музеев Ватикана П. Паолуччи заявил, что с течением времени массовый поток туристов приведёт к необратимым последствиям для фресок, чья основа после проведённой реставрации особенно хрупка и уязвима из-за пыли в воздухе, выделяемого людьми углекислого газа, повышенной температуры помещения и других факторов, кардинально меняющих микроклимат капеллы.
В конце 2014 года должна вступить в действие предложенная фирмой «Carrier» новая система по очистке воздуха в музеях и поддержанию микроклимата. Первые сто метров перед входом в музеи Ватикана будут покрыты специальным ковром, очищающим обувь, а по бокам от входа поставят всасывающие агрегаты для удаления пыли с одежды. Но ценители прекрасного по-прежнему готовы на всё, лишь бы попасть в Сикстину.
Глава XXII ВЕЛИКАЯ ТРИАДА В РИМЕ
Кто тщится жизни бег опередить,
Приходит позже остальных к закату (45).
В Риме произошли большие перемены после избрания нового папы. Им стал давний товарищ юношеской поры, сын Лоренцо Великолепного Джованни Медичи, принявший имя Льва X. Его неожиданное избрание выглядело трагикомично. Больного кардинала Медичи, страдающего врождённой болезнью (пупочным свищом), внесли на носилках в Сикстинскую капеллу, где собрался конклав из двух десятков кардиналов. Их ряды заметно поредели во время военных походов, когда многие из них, несмотря на преклонный возраст, были вынуждены сопровождать воинственного папу Юлия и переносить все лишения походной жизни.
Мизансцена с носилками была до мелочей продумана и срежиссирована фактотумом семейства Медичи, изощрённым царедворцем и интриганом Бернардо Довици. Ход оказался беспроигрышным. Увидев корчившегося от боли претендента на высшее звание, кардиналы не стали заниматься закулисными интригами, хотя среди papabili, жаждущих быть избранными, был влиятельный кардинал Риарио, и единогласно избрали больного Медичи, которому не было и сорока. Они были уверены, что тот долго не протянет. Но в своих расчётах ошиблись — хворый Лев X пережил многих участников конклава и занимал пост преемника апостола Петра в течение восьми лет.
Говорят, что на следующий день после избрания новоявленный папа обнял младшего брата Джулиано, воскликнув:
— А теперь-то мы повеселимся на славу!
Он сдержал своё слово — на смену эпохе созидания и постоянных усилий по объединению разрозненных итальянских земель в единое государство под эгидой Рима наступили времена бесконечных празднеств и чрезмерного расточительства. Видную роль при папском дворе стал играть Довици, получивший от папы за свои заслуги звание кардинала Биббьены по названию его родного тосканского городка. Сбылась мечта верного сатрапа дома Медичи — он впервые возвёл одного из своих подопечных на папский престол.
Кардинал Биббьена оставил след и в итальянской литературе как автор нашумевшей пятиактной комедии «Каландрия», изобилующей искромётными диалогами и воспевавшей плотскую любовь в духе появившейся несколько ранее эротической комедии Макиавелли «Мандрагора», вошедшей в золотой фонд итальянской драматургии.
Интронизация нового папы прошла 11 апреля в базилике Сан Джованни ин Латерано, так как в соборе Святого Петра вовсю велись строительные работы; стоявшая там «Пьета» Микеланджело была надёжно защищена деревянным кожухом. Давно римляне не видели таких пышных торжеств, красочных шествий, театральных феерий и неслыханных по обилию и количеству подаваемых блюд шумных застолий. Создавалось впечатление, что Рим после долгого поста и воздержания в правление грозного папы Юлия приступил к разговению, не зная меры.
На вершине Капитолийского холма был возведён на случай дождя из фанеры и других подручных материалов огромный шатёр в виде античного капища, украшенного дорическими колоннами из картона и статуями из папье-маше. Зал для праздничного банкета вместил три тысячи великосветских гостей, прибывших отовсюду, а для собравшейся у подножия холма многочисленной толпы римлян выкатили бочки с вином. Слугам было приказано время от времени бросать сверху в толпу куски жаркого и другую снедь. Сияющий Лев X дважды появлялся на публике, приветствуя славящих его римлян, а над Вечным городом вечером зажглись огни праздничного фейерверка.
Все эти торжества почти опустошили казну. Но залатать дыры в бюджете помог новый финансовый магнат сиенец Агостино Киджи в обмен на полученные от папы всевозможные бенефиции.
День интронизации и торжеств был выбран не случайно, так как папа считал число «11» для себя счастливым, ибо родился в этот день в декабре 1475 года. Но Лев X не мог тогда предугадать, что это число может оказаться для него роковым и восемь лет спустя сведёт его в могилу после абсцесса и заражения крови.
Для укрепления своей власти новый папа значительно увеличил количество кардиналов, включив в их число близких родственников и доверенных лиц. Блеск папскому двору придавало появление известных поэтов, литераторов и музыкантов, которых покойный Юлий не очень жаловал. Было там и немало проходимцев, жаждущих должностей и подачек. Но особой милостью Льва X пользовался «любезный сын» Рафаэль. В те праздничные дни он заканчивал росписи в ватиканских Станцах. Едва узнав об избрании нового понтифика, он тут же в зале Элиодора, где была написана сцена встречи Льва Великого с Аттилой, быстро замазал бородатое лицо покойного папы Юлия и написал поверх одутловатого Льва X. Возразить против такой вольности никто тогда не посмел, но у Микеланджело и близких к нему лиц поступок обласканного покойным папой Рафаэля вызвал резкое порицание.
— Ну и ловкач этот урбинец! — возмущался, узнав о назначении, старина Сангалло. — По части лести он превзошёл своего родственника интригана Браманте.
— Напрасно вы удивляетесь, — заметил Бальдуччи. — Рафаэль как истинный царедворец сумел с толком использовать представившуюся возможность выслужиться перед новым хозяином Ватикана.
Микеланджело отделался молчанием.
Когда папа, не ожидавший такого подарка, увидел себя гордо восседающим на белом коне в папской тиаре, с высоко поднятой благословляющей рукой, он растрогался до слёз и чуть не расцеловал художника. Угодил Рафаэль и новоиспечённому кардиналу Биббьене, заправлявшему отныне всеми делами при дворе, написав его портрет.
Вскоре наряду с мадоннами, пользовавшимися большим спросом, стали появляться рафаэлевские портреты придворных и поэтов из близкого папского окружения. Едкая на язык римская молва окрестила молодого плодовитого урбинца «ликописцем» двора Льва X, где за заслуги он получил почётную и высокооплачиваемую должность писца апостольских указов, хотя по части грамотности, как заверяют современники, никогда особо не отличался.
Отныне все новые лица, оказавшиеся при дворе, должны были заручиться предварительно расположением кардинала Биббьены и дружбой с Рафаэлем. Прежде чем быть представленными папе, Кастильоне, Джовио, Бембо, Саннадзаро и другие прошли через своеобразный «предбанник» — мастерскую «любезного сына». Не повезло в те дни одному только Лодовико Ариосто, который, завершая своё знаменитое творение «Неистовый Роланд», оказался в Риме в надежде на получение выгодной должности. Он имел неосторожность нелестно высказаться о литературном даровании кардинала Биббьены, а этого было достаточно, чтобы папа не узнал его в толпе вновь прибывших знаменитостей. Вернувшись в Феррару, поэт с горечью заметил, что близорукому понтифику следовало бы сменить окуляры и вставить более сильные линзы.
* * *
По возвращении в Рим Микеланджело первым делом решил покинуть опостылевшее ему жилище — сарай, продуваемый всеми ветрами, — и приобрёл небольшой дом о двух этажах с садом, куда был перевезён весь ещё не разворованный мрамор, оставшийся от неосуществлённого проекта папской гробницы. Район, где под сенью колонны Траяна стоял купленный дом, находился вдали от дворцов знати и в народе назывался Macel dei Corvi — Воронья бойня. Там среди руин имперских форумов паслись овцы и козы, а римляне разбивали свои огороды. Рядом с аркой Септимия Севера были Forum Boarium — Бычий форум — и скотобойня, над которой кружились тучи каркающего воронья. Ему пришлось обзавестись собственной лошадью для езды верхом от дома до Ватикана, где надобно было уладить кое-какие дела. В конце XIX века при строительстве монумента «Алтарь Отечества» дом Микеланджело был разобран и перенесён на холм Яникул близ ворот Порта Сан Панкрацио.
К великой радости он узнал, что Юлий II завещал средства на возведение своей гробницы, и поспешил встретиться с его наследниками. 6 мая 1513 года был подписан контракт с племянником покойного папы кардиналом Леонардо делла Ровере, по которому число статуй, окружающих саркофаг, было сокращено. Но главное отличие от первоначального проекта состояло в том, что саркофаг теперь не должен быть обозримым со всех четырёх сторон. Отныне он будет примыкать тыльной частью к стене. Коль скоро дело сдвинулось с мёртвой точки, Микеланджело с удвоенной энергией приступил к работе над Моисеем, постепенно вызволяя его из мраморных объятий глыбы.
Из прежних знакомых его навещал по старой памяти один только весельчак Бальдуччи, унаследовавший банковскую контору дяди, через которую проворачивались финансовые операции Ватикана. Из рассказанных им новостей Микеланджело поразила фраза, оброненная как-то Львом X на очередном банкете. На вопрос одного из приближённых, почему не видно во дворце Микеланджело, папа ответил:
— С ним невозможно общаться. Человек он дикий, неотёсанный, и его необузданность меня пугает при всей моей любви к нему.
Слова папы разнеслись по городу, и многим стало понятно, почему даже ради приличия Лев X не удосужился дать аудиенцию герою Сикстинской капеллы, куда после избрания папа не любил заглядывать — его пугали грозные лики фигур плафонной росписи, как и их творец. Но недавно он побывал там, взяв с собой «любезного сына».
— Мы не будем спрашивать, каково твоё мнение о плафонных фресках, — промолвил он. — Они говорят сами за себя. А что ты думаешь о настенных росписях?
Не сразу поняв, куда клонит папа, Рафаэль не растерялся и постарался подчеркнуть их великую ценность как память о славном Кватроченто, выделив особо фреску Перуджино «Вручение ключей».
— Похвально, — заметил папа, — что ты лестно отзываешься о старших собратьях по искусству. Но их фрески поблекли и выглядят ныне обшарпанными, с чем никак нельзя мириться в главной капелле христианского мира.
Лев X пояснил далее, что у него даже в мыслях нет замазать устаревшую живопись, как это произошло при покойном папе Юлии с фреской Пьеро делла Франческа в одном из дворцовых залов. По его мнению, поблекшие от времени фрески следует закрыть златоткаными шпалерами, посвящёнными жизни и деяниям учеников Христа.
Хотя Рафаэль со своей командой приступил к росписям лоджий Апостольского дворца, он не мог отказать папе и взялся за проект создания картонов для будущих шпалер. Не в его характере было отказывать, тем паче своему порфироносному покровителю, чьим добрым к себе расположением свято дорожил.
* * *
Дом на Macel dei Corvi посетил молодой венецианец Бастиано Лучани, вошедший в историю живописи под именем Себастьяно дель Пьомбо, о чём будет сказано ниже. Гость заявил, что давно мечтал с ним познакомиться, и передал привет от Тициана, своего друга и наставника. Микеланджело оценил показанные им работы с явным преобладанием в них типично венецианской цветовой гаммой, а вот рисунок тут же подправил, не удержавшись, чем вызвал восторг гостя.
У Лучани язык был хорошо подвешен, к тому же он играл на лютне и хорошо пел, что позволило ему вскоре добиться расположения многих влиятельных лиц при дворе. Его энергия и нахрапистость были по душе Микеланджело, и через него он мог знать о всех интересующих его делах при дворе. У него даже возникла мысль сделать из Бастиано достойного конкурента удачливому урбинцу, как когда-то Леонардо вознамерился сотворить ему соперника из завистливой злобной посредственности по имени Бандинелли. Он даже написал давнему знакомому флорентийскому купцу Боргерини и посоветовал иметь в виду своего нового венецианского товарища, если тот задумает расписать фамильную часовню в римской церкви Сан Пьетро ин Монторио.
Узнав об этом, Бастиано признался, что ему хотелось бы помериться силами с Рафаэлем.
— Не забывай, — ответил ему Микеланджело, — что он признанный придворный живописец и вряд ли захочет уступить кому-либо пальму первенства.
— Но с вашей помощью, мастер, я готов побороться с ним.
— Я могу помочь тебе только рисунками.
— О другом я и не мечтаю! — радостно воскликнул Бастиано. — Что может быть более действенной помощью, чем ваши рисунки?
«Как знать, — подумал Микеланджело, — может и впрямь из парня выйдет толк, если он будет оттачивать мастерство и не станет лениться».
К нему стал часто наведываться кардинал Леонардо делла Ровере, который никак не мог простить Рафаэлю, что тот замазал портрет его дяди покойного папы Юлия, чтобы выслужиться перед новым понтификом. Микеланджело не любил его визиты, так как кардинал постоянно его поторапливал, а спешить в работе над гробницей ему никак не хотелось. Но однажды он заметил, что с кардиналом произошла неожиданная метаморфоза — свой былой гнев в отношении урбинца он сменил на милость. Оказывается, следуя общему поветрию, он тоже заказал свой портрет придворному «ликописцу» и отныне отзывался о нём только в превосходной степени. Тщеславие оказалось намного сильнее обиды.
— А вы видели, маэстро, свой портрет кисти Рафаэля в Станце делла Сеньятура? — спросил как-то кардинал. — Советую взглянуть.
Микеланджело, конечно, слышал о «проделке» Рафаэля, как выразился однажды Бальдуччи, но не видел пока сами Станцы, где работал Рафаэль со своей командой, обходя их стороной, когда бывал во дворце. Ему заранее было ясно, что может написать папский любимец, расхваливаемый на все лады. Нет, это была отнюдь не зависть, ибо такое чувство было чуждо ему, сознающему силу своего гения. Здесь скорее проявилась ревность к незаслуженной, как он полагал, славе угодливого урбинца, которому всё было дозволено и перед которым были открыты все двери. А он, только что завершивший гигантский труд, который в народе уже называли одним из чудес света, оказался на поверку persona non grata. Его гордыня была уязвлена…
Хочу, Господь, о чём мечтать не мог. Завеса льда меж сердцем и Тобою, А я оброс коростой ледяною, И нагло лжёт исписанный листок. В делах, а не в словах любви зарок. Без Твоего тепла скорблю душою; Никак не совладать с самим собою, И чую, что гордыней занемог. Так сокруши же ледяную стену, Непроницаемую для лучей! О Боже, очи пелена застлала. Не отдавай нас, грешных, только тлену. Приди к душе — избраннице Своей, Чтоб вера в нас была прочней кресала! (87)Ему вспомнилось, как нынешний папа получил однажды нагоняй от своего великого родителя, Лоренцо Великолепного.
— Не хнычь, — сказал он сыну, когда тот пожаловался, что Микеланджело занял его место. — У меня за столом все равны и каждый волен занять то место, которое ему приглянулось.
Величие родителя никак не отразилось на сыновьях, которые, несмотря на высокие титулы и даже папскую тиару, оказались посредственностями.
* * *
В отличие от многих современников, нелестно отзывавшихся о неуживчивом характере Микеланджело, добрая душа Рафаэль, как никто другой, понял и точно передал мятущуюся натуру творца на своей знаменитой фреске «Афинская школа». Преклоняясь перед работающим рядом с ним в Сикстинской капелле гением и постоянно испытывая при встрече с ним робость, он изобразил его трагическое одиночество в образе Гераклита Эфесского.
Об «Афинской школе» в городе велось много разговоров как о выдающемся произведении. Поддавшись уговорам Бальдуччи и Лучани, заверивших его, что Станцы пока пустуют, так как Рафаэль безвылазно работает в мастерской над рисунками для будущих шпалер, заказанных папой, Микеланджело пошёл взглянуть на работу соперника и, удивлённо ухмыльнувшись, узнал себя на огромной фреске сидящим в одиночестве на переднем плане, в стороне от занятых беседами и спорами учёных мужей.
Что греха таить, ему было отрадно оказаться в столь блистательной компании во главе с обожаемым Платоном, в котором нетрудно было узнать Леонардо. Чуть дальше — столь же узнаваемый по лысому черепу Браманте и скромно выглядывающий из-за плеча одного из философов сам Рафаэль. Он всем воздал по заслугам, оправдывая своё прозвище «ликописец».
В памяти Микеланджело вдруг всплыли счастливые годы юности, проведённые среди старших товарищей из «платонической семьи» в постоянных разговорах о философии и поэзии. Вот и на фреске урбинца он что-то записывает в тетради, подперев голову кулаком и задумавшись. Автора рядом не было, не то он непременно спросил бы его, почему в отличие от остальных персонажей, облачённых в лёгкие яркие туники и тоги, он сидит в повседневном посконном одеянии и стоптанных башмаках. Можно только догадываться, что ответил бы осторожный и тактичный Рафаэль. Безусловно, он сослался бы на то, что ему тем самым хотелось добиться максимального правдоподобия образа, подчеркнуть неповторимость его творческой натуры, постоянно вынашивающей новые замыслы.
Как знать, возможно, такое объяснение пришлось бы по душе подозрительному Микеланджело? В той же Станце делла Сеньятура Рафаэль изобразил его на другой великолепной фреске «Парнас» среди античных и современных поэтов, воздав должное поэтическому дару героя Сикстины, чьи сонеты и мадригалы давно обрели известность в рукописных списках. Но на этой фреске Микеланджело узнал только своего кумира Данте и проследовал дальше.
После осмотра росписей в ватиканских Станцах он лишний раз убедился, что бок о бок с ним трудился редчайший талант-самородок, вызывавший у всех добрые чувства своим дивным искусством. Однако он не оценил до конца благородный жест молодого коллеги, узрев в нём некий подвох, желание с помощью лести заручиться его симпатией и дружбой. Ему припомнился рассказ Содерини о стремлении урбинца занять его место и расписать фресками зал Большого совета во дворце Синьории. Память об этом гвоздём сидела в его сознании, и её ничем было не вытравить.
Кондиви приводит высказывание Микеланджело о том, что своими бедами в Риме он был обязан наветам Браманте и действующему с ним заодно его родственнику-урбинцу. О непростых взаимоотношениях между двумя великими мастерами имеется немало свидетельств современников. Но приводимые ими факты вызывают порой большие сомнения в их достоверности. Так, тот же Кондиви заявляет, что Рафаэль якобы просил папу Юлия разрешить ему завершить роспись в Сикстинской капелле, когда Микеланджело был в отлучке во Флоренции, во что невозможно поверить, поскольку в то время Рафаэль увлечённо расписывал со своей командой парадные залы Апостольского дворца. Подобные слухи, скорее всего, распускал завистливый и мстительный Браманте, видевший в Микеланджело опасного соперника.
Стоит привести ещё один курьёзный эпизод, автором которого был ослепший искусствовед миланец Ломаццо, который по возрасту никак не мог встречаться ни с Рафаэлем, ни с Микеланджело. В его известном «Трактате о живописи», изданном в 1584 году, описывается одна история, растиражированная в литературе, о якобы имевшей место словесной перепалке между двумя великими соперниками.
Как пишет Ломаццо, повстречав однажды Рафаэля в сопровождении учеников и поклонников, Микеланджело якобы сказал с присущей ему издёвкой:
— Ты похож на полководца в окружении услужливой свиты.
Но Рафаэль не остался в долгу и в ответ сравнил его с палачом, от которого люди шарахаются в сторону.
«Одинокий, как палач» — так названа глава в книге французского писателя Марселя Бриона, посвящённой жизни Микеланджело.55 Однако эта история, повторяемая кое-кем ради придания занимательности повествованию, не имеет ничего общего с реальной действительностью. Рафаэль никак не мог сказать такое даже в шутку. Его всегда отличали мягкость и тактичность в отношениях с людьми. Известно, как однажды он признался в кругу друзей, что благодарен небесам за счастье родиться и жить во времена Микеланджело.
Как и многие современники, Рафаэль, оказавшись впервые в Сикстинской капелле, был настолько потрясён почти скульптурной лепкой некоторых фигур, что использовал эту новую манеру в своих работах. Например, при написании великолепной по пластике и выразительности фрески «Пророк Исайя» в римской церкви Сант Агостино, созданной по заказу своего покровителя банкира Агостино Киджи. Злые языки открыто говорили тогда, что Рафаэль просто «содрал» фигуру пророка у Микеланджело, тайно посетив Сикстинскую капеллу в его отсутствие. Справедливости ради стоит заметить, что в отличие от несколько театральной позы микеланджеловского «Исайи» его собрат у Рафаэля выглядит куда более мощно и убедительно, поражая своим полным грусти пронзительным взглядом.
Известен факт, когда Микеланджело, побывав на презентации новой работы Рафаэля в церкви Санта Мария делла Паче, высоко оценил работу коллеги, хотя и не лишённую заимствований некоторых его образов. Но когда заказчик банкир Киджи поинтересовался, сколько могла бы стоить такая работа, Микеланджело назвал сумму, которая вдвое превысила выплаченный художнику гонорар. Согласившись с мнением великого мастера, банкир поспешил доплатить Рафаэлю недостающее, пока он не затребует большего.
Однако при встрече с молодым и удачливым коллегой Микеланджело вежливо отвечал на его приветствие, и не более того. Он так и не смог одолеть свою подозрительность и ни разу не пригласил Рафаэля к себе, о чём позже сожалел.
* * *
Пока папа-эпикуреец пировал или развлекался на охоте, Микеланджело усиленно работал над заказом наследников покойного папы Юлия. Страсти после оглушительной полифонии гигантской росписи Сикстины, отнявшей у творца столько сил и здоровья, понемногу улеглись. Соскучившись, он с особым рвением взялся за резец.
Это была временная передышка, когда он был предоставлен самому себе и успел сотворить, пожалуй, самые совершенные свои изваяния. Прежде всего, это пророк Моисей и фигуры двух рабов. Сидящий Моисей (высота 2,35 метра) поражает заключённой в скульптуре исполинской силой, которая сродни мощным фигурам пророков, обрамляющах фресковую композицию плафона Сикстинской капеллы.
Суровая мощь — la terribilita — древняя, как вся история народа Израилева, определяет основную суть этих творений Микеланджело. Для сравнения вспомним оставшееся незавершённым во Флоренции изваяние апостола Матфея с едва намеченными глазами, в которых тем не менее искрится надежда на Искупление. А вот резко обозначенные зрачки глаз Моисея покрыты завесой гнева от сознания, что вождение им евреев по пустыне в течение сорока лет не принесло желанного результата, и теперь пророк, ослеплённый гневом, готов немедленно подняться во весь свой могучий рост и вершить суд над нечестивцами. Его экспрессивный образ вызывает в памяти трагическую фигуру Савонаролы.
Моисей и Матфей — это два различных аспекта творчества Микеланджело, которому свойственны антиномии; это его решительный переход от Ветхого к Новому Завету. В первом случае он обращается к своим современникам с грозным увещеванием, а в случае с Матфеем говорит с самим собой, сумев коснуться самой сути вещей. Нечто подобное происходит и в лирике Микеланджело, когда он выражает глубину подлинно христианских чувств:
Чем выше я взмываю к небесам Тяжёлый молот ловкою рукою, Тем больше в изваяньи вдохновенья. Но замечаю, как моим делам Недостаёт величия порою: Знать, высшего лишён я разуменья (46).Антиномия проявляется у него и в живописи, где большинство персонажей и сцен фресковой росписи в Сикстинской капелле с их гипертрофированными формами, стремительностью движений и жестами, преисполненными патетики, напоминают «Давида» и «Моисея». Совершенно в ином ключе написаны Адам и особенно Саваоф, отделяющий свет от тьмы и погружённый в глубинные основы бытия. Обрамляющие эту сцену обнажённые юнцы то обращаются к Всевышнему, то отворачиваются от него, гордые в своём свободном одиночестве.
Не менее впечатляют две незаконченные скульптуры, названные «рабами». Они предназначались для нижнего ряда саркофага, но так и не были там установлены. Об их судьбе чуть ниже. В них выражены воззрения неоплатоников о духовном рабстве человека, скованного в земной суете житейскими узами, но сознающего необходимость борьбы за «высвобождение души».
Современники дали своё толкование созданным Микеланджело фигурам для саркофага. Вазари считал их персонификацией итальянских провинций, подпавших под власть папы Юлия II, Кондиви — аллегорией свободных искусств. Но какой бы смысл ни вкладывали биографы в фигуры двух прекрасных юношей, неоплатоник Микеланджело вскрывает здесь контраст между грубой материей и высвобождаемыми из мраморных глыб поразительными по красоте фигурами юношей, безупречными по анатомии и мастерски обработанными. Они различны, но каждую отличает идеальная по моделировке пластика в лучших традициях флорентийской скульптуры конца Кватроченто.
Его рабам свойственна безудержная страстность, словно они стремятся освободиться не только от связывающих их пут или давящего на них непосильного тягостного бремени, но и от других незримых мучительных оков, от которых человек не в силах избавиться. Вот почему вожделенная свобода трактуется неоплатоником Микеланджело более глубоко, нежели это выражено античным ваятелем.
Первая фигура, названная «Восставший раб» (2,15 метра), и её спиралевидный изгиб вызывают в памяти не смирившегося с волей богов Лаокоона, при извлечении которого из земли Микеланджело в своё время присутствовал. Фигура готового к решительным действиям юнца со связанными за спиной руками выполнена не фронтально и смотрится сбоку. Второй юноша, названный «Умирающий раб» (2,29 метра), производит впечатление ещё не отошедшего ото сна человека с безвольно откинутой назад головой и закрытыми глазами. Левой рукой он почёсывает голову, правой — грудь. Ещё мгновение, и юнец, вздохнув полной грудью, окончательно очнётся, раскрыв веки. Вопреки утвердившемуся в литературе названию трудно согласиться при взгляде на этого пышущего здоровьем крепкого юнца, что речь идёт об «умирающем». Когда Микеланджело рубил мрамор, извлекая из него фигуру, он думал о красоте человеческого тела, а отнюдь не о смерти.
Обе фигуры в соответствии с правилом хиазма, этой гармоничной формулы внутреннего баланса тела, с успехом использованной Микеланджело при изваянии нетвёрдо стоявшего на ногах подвыпившего Вакха, опираются всем своим весом на правую ногу, освобождая левую.
Скульптуры рабов должны были стоять по углам огромного мавзолея, и при их круговом рассмотрении видно, как резко меняется производимое ими впечатление на зрителя. Эта свойственная Микеланджело множественность точек зрения была замечена и подробно описана его младшим собратом по искусству Бенвенуто Челлини, который свидетельствует, что вопрос о разных точках зрения при осмотре скульптуры часто обсуждался в кругу Микеланджело и вызывал много споров.
* * *
Когда он высекал фигуры рабов, его посетил старый художник Лука Синьорелли, чьи работы он высоко ценил. Не найдя понимания при папском дворе и не имея средств, чтобы добраться до родной Кортоны, Синьорелли обратился за помощью к молодому коллеге. Микеланджело снабдил его на дорогу деньгами, но чтобы тот особо не засиживался у него, посетовал на нездоровье, мешающее делу, и ломоту в руках. При расставании благодарный художник сказал:
— Не унывай и верь, что ангелы снизойдут с небес и помогут тебе и твоим рукам в работе.
Позднее в одном из писем Микеланджело вспомнил о той встрече, не забыв точно указать, сколько одолжил старому мастеру, оказавшемуся в трудном положении. Но тот долг не вернул и вдобавок дурно о нём отзывался, распуская нелепые слухи. Вот и верь после этого людям! Пришлось просить брата Буонаррото встретиться с городским головой Кортоны и защитить от наветов его доброе имя. Ему не раз приходилось сталкиваться с чёрной неблагодарностью, но особенно обидно, когда она исходила от уважаемого собрата по искусству.
Его не раз навещал Паоло Джовио, известный медик, историк и поклонник искусства. Однажды он оказал Микеланджело действенную помощь своими снадобьями и примочками, когда зрение серьёзно беспокоило мастера во время работы в Сикстине. Микеланджело всегда был рад его приходу, а за помощь и заботу о его здоровье одаривал врача рисунками. На сей раз тот зашёл, чтобы поделиться впечатлением от просмотра фресок Рафаэля в ватиканских Станцах.
— Я видел их ранее, — сказал гость. — Но вчера мне пришлось стать cicerone для одного немецкого живописца по имени Альбрехт Дюрер. Меня когда-то с ним познакомил в Венеции Тициан. Он очень хотел бы с вами встретиться.
— Вы же знаете, Джовио, что я неохотно принимаю гостей. Мне их и угостить-то нечем. Лучше сводите вашего знакомого в мастерскую к Рафаэлю, где его и накормят, и напоят.
— Нет, Микеланджело, именно с Рафаэлем немец встречаться не желает.
И он рассказал, как немецкий живописец после посещения потрясшей его Сикстинской капеллы остался разочарован некоторыми работами Рафаэля. В частности, его позабавили обнажённые фигуры на фреске «Пожар в Борго».
— Ведь они списаны с ваших ignudi в Сикстине, чего не мог не заметить глазастый Дюрер, — сказал Джовио.
— Скопировать фигуру, — заметил Микеланджело, — дело нехитрое. Ты жизнь в неё вдохни, чтобы она не служила лишь для заполнения пространства и не выглядела бесплотным существом.
Ему было отрадно узнать, что даже заезжие художники начинают понимать, насколько его сикстинские фрески превосходят своей мощью творения папского любимца.
* * *
Неожиданно в праздном Риме объявился Леонардо да Винчи, которому благоволил младший брат папы Джулиано Медичи. Благодаря столь высокому покровительству в распоряжение великого мастера выделили покои в пристройке Бельведер неподалёку от круглого зала с античными скульптурами. По такому случаю флорентийское землячество устроило шумное застолье, на которое Микеланджело не пошёл, сказавшись больным.
На следующий день Бальдуччи подробно пересказал ему, как и что было сказано на этой встрече, в ходе которой Леонардо немало позабавил сотрапезников своими весёлыми притчами — facezie. Но покамест он не получил от папы никакого заказа и занялся научными опытами, на которые косо смотрели придворные и челядь, считавшие, что в своих чудачествах старый мастер знается с нечистой силой. Леонардо действительно мог заставить кипящую жидкость вспыхнуть разноцветным пламенем, превратить белое вино в красное и творить прочие удивительные фокусы с самыми обычными предметами. За ним закрепилось прозвище мага, волшебника.
Когда неожиданно заболел Браманте, многие полагали, что именно Леонардо будет поручено приглядывать за строительством нового собора как признанному знатоку инженерных дел. Однако, ко всеобщему удивлению, выбор пал на любимца папы Рафаэля, что особенно возмутило старину Сангалло.
— Да что он понимает в архитектуре, этот красавчик? — ворчал друг, приходя к Микеланджело излить душу. — Вот увидишь, скоро ему папа закажет свою конную статую. Урбинец отнимает хлеб не только у меня, но и у тебя!
До конной статуи дело не дошло, а вот околевшего слона по кличке Анноне, подаренного папе португальским королём и ставшего любимцем римской публики, Рафаэлю пришлось увековечить на фреске, написанной на одной из сторожевых башен, под которой высечена на мраморной доске надпись: «Raphael Urbinas quod natura abstulerat arte restituit» — «Рафаэль Урбинец сумел своим искусством вернуть то, что изъяла природа».
Истинные ценители искусства подивились тому, что Лев X загружает такими пустяками всебщего любимца. Узнай об этом папа Юлий, он бы в гробу перевернулся от гнева.
Вскоре урбинец подивил всех, заступившись за своего приговорённого к смерти земляка, выступившего против произвола, чинимого в Урбино герцогом Лоренцо, племянником папы. Ему удалось чудом добиться помилования несчастного юноши по имени Маркантонио и вырвать его из рук палачей. Не убоявшись мстительного деспота, Рафаэль совершил смелый гражданский поступок, принесший ему ещё большую славу среди простых людей, далёких от политики и от искусства. Когда Микеланджело узнал об этом, он вновь убедился, что Рафаэль как личность — загадка. Он всегда действует безошибочно, относится ко всем дружелюбно, у него нет врагов, а друзья и ученики его боготворят. Нет числа и сохнущим по нему дамам и девицам. Перед его обаянием не может устоять никто. Даже Лев X внял его просьбе о помиловании приговорённого к смерти, поступившись интересами своего клана.
* * *
В апреле 1514 года Рим облетела весть о кончине Браманте. Лев X высоко оценил заслуги покойного зодчего и распорядился похоронить его в гротах под возводимым собором Святого Петра, где нашли упокоение римские папы и некоторые знатные персоны.
Микеланджело спокойно воспринял весть о смерти нелюбимого им Браманте, хотя, как никто другой, первым оценил новизну его проекта собора, но своё мнение держал при себе. В те печальные дни друг Сангалло и другие архитекторы с нетерпением ждали, кому улыбнётся фортуна, поскольку руководство строительством нового собора — это не только почёт, но и большие деньги, выделяемые казной. Покойный Браманте умел с толком ими распоряжаться, построив для себя великолепный дворец, но так и не успел в нём пожить в своё удовольствие.
В глубине души Микеланджело лелеял надежду, что его «Пьета» и будущий саркофаг папы Юлия окажутся под возведённым им гигантским куполом над новым собором. А хватит ли у него сил и знаний? Но ведь одолел же он косность потолка Сикстины и сотворил там свою живописную архитектуру. Только ему удалось пока сделать то, на что никто другой не был способен. Его амбициозным планам не было предела, но всё обернулось прахом. Он глубоко обиделся, сочтя себя несправедливо обделённым, и корил за неудачу, как всегда, врагов и завистников.
Папским указом главным архитектором собора Святого Петра с годовым жалованьем в 300 дукатов золотом был назначен Рафаэль. Это казалось невероятным, но для любимца папы тогда всё было возможно. В помощь ему был приставлен выписанный из Вероны восьмидесятилетний архитектор фра Джокондо с титулом magister opens — «руководитель работ», а ватиканский толмач Фабио Кальви перевёл с латыни, с которой Рафаэль был не в ладах, книги Витрувия. Словно предвидя такой оборот событий, предусмотрительный папский любимец изобразил обоих архитекторов на фреске «Афинская школа».
Чтобы успокоить общественное мнение, ошарашенное таким назначением, папа привлёк к строительству собора единственного стоящего в то время архитектора Сангалло в звании operis administer et coadiutor — «распорядитель работ и помощник». Забыв о личной обиде, Микеланджело искренне порадовался за старого товарища.
Сразу после назначения Рафаэль переехал со своей командой в построенный Браманте дворец Каприни, где зажил на широкую ногу в окружении целой свиты литераторов, художников и музыкантов. На портале дворца рядом с его личным гербом была высечена надпись: «Domus Raphaelis». Но позже дом пошёл под снос во время строительства колоннады Бернини на площади Святого Петра.
* * *
Как-то у дома на Macel dei Corvi остановился экипаж, запряжённый четвёркой лошадей. Из него вышел статный Леонардо да Винчи с одним из своих учеников. Микеланджело тепло встретил великого мастера, подивившись неожиданному визиту. Гость огляделся и подошёл к большому картону, висящему над лестницей, ведущей на второй этаж. На рисунке был изображён призрак смерти с гробом на плечах, а под ним начертанная рукой Микеланджело эпитафия, которую Леонардо не разобрал из-за корявого почерка.
Ничего не сказав и пожав плечами, он подошёл к незаконченному Моисею и двум фигурам рабов. Молчание затянулось. Наконец, отойдя от скульптур, гость неожиданно спросил:
— А что вы думаете о новом стремительном взлёте нашего молодого коллеги?
— В Риме меня давно уже ничто не удивляет, — ответил Микеланджело. — Знаю только одно — он как вездесущий дух, которому благоволит фортуна.
— Вы правы. Нынче в Риме не особо привечают искусство. Вместо поэзии и музыки в почёте шуты и игрецы на дуде. Чувствую, что я здесь пришёлся не ко двору и делать мне больше в Риме нечего, — грустно промолвил Леонардо. — Когда-то в нашей Флоренции царил совершенно иной климат.
Он принялся увлечённо рассуждать о прежних славных временах, когда искусство для флорентийцев было необходимо как воздух и хлеб насущный. Хозяин дома хранил молчание, дав гостю высказать всё, что в душе наболело.
Леонардо увлёкся, почувствовав внимание слушателя, но, верный своей манере, стал перемежать разговор на серьёзные темы шутливыми житейскими историями, рассказав вдруг о священнике, который распалился страстью, увидев голые ляжки стирающей прачки, и набросился на неё сзади.
— Вот вам блюститель морали, — весело закончил свой рассказ Леонардо. — Чем он отличается от дворового кобелька?
Думая о своём, Микеланджело слушал гостя вполуха и только ради приличия улыбнулся под конец скабрёзной истории. Трудно было понять ход мыслей и логику рассуждений великого мастера. Ясно было только одно — Леонардо переживал глубокую депрессию от сознания своей невостребованности в Риме.
После ухода Леонардо он задумался. Ему было искренне жаль постаревшего художника, не утратившего статности и величия духа. Всю жизнь он домогался расположения высоких покровителей, включая даже мерзкого выродка Цезаря Борджиа. Но был ли он свободен и счастлив? Они оба потерпели поражение во Флоренции, где схватка века, которую ждали от них флорентийцы, так и не состоялась, а теперь оба в папском Риме оказались не у дел.
Отогнав от себя грустные мысли, он продолжил работу над гробницей. Теперь его занимала Каррара, откуда он ждал доставку новой партии мрамора. Ломота в пояснице, когда нельзя ни согнуться, ни разогнуться, не позволила туда отправиться, чтобы на месте разобраться с делами. Пришлось издалека забрасывать жуликоватых хозяев каменоломен письмами с просьбами и угрозами.
* * *
Тем временем во Франции умер король Людовик XII, принесший Италии немало бед. Его место занял двадцатилетний энергичный Франциск I, большой ценитель искусства. Ему удалось разбить швейцарцев под Мариньяно и вернуть Милан под эгиду Франции. Напуганный действиями нового короля, папа Лев X через свои дипломатические каналы организовал встречу с воинственным Франциском на нейтральной территории в Болонье, где был подписан мирный конкордат, гарантирующий власть папы над Тосканой и Умбрией. Участвовавший в переговорах хворый брат папы Джулиано Медичи был награждён королём почётным титулом герцога Немурского.
В обмен на свою сговорчивость молодой король намекнул папе, что был бы рад получить в дар как выражение добрососедских отношений между двумя странами статую Лаокоона, о которой был премного наслышан. Папскому двору пришлось глубоко задуматься.
— Ишь чего захотел! — воскликнул папа. — У этого французишки аппетит разыгрался не на шутку!
Пришлось искать выход из деликатного положения, который был подсказан умницей Кастильоне, большим знатоком придворного этикета. Королю было отписано, что Рим с пониманием отнёсся к его желанию, но античная скульптура настолько хрупка, что её отправка морем или сушей представляется неосуществимой из-за опасности не довезти её в целости и сохранности. Взамен королю предлагалось отправить точную копию оригинала из очень прочного состава, изобретённого в мастерской всемирно известного мастера Рафаэля.
Это была сущая правда, так как один из учеников всеобщего любимца, даровитый Джованни да Удине, изобрёл состав, который по прочности и светоносности не уступал лучшим образцам каррарского мрамора. Новинкой заинтересовался даже Микеланджело, пославший своего помощника выведать секрет нового материала, успешно применённого при оформлении так называемой лоджии Рафаэля, изобилующей не только превосходной живописью, но и разнообразной лепниной из псевдомрамора.
Наполеон Бонапарт оказался более решительным, приказав доставить «Лаокоона» в Париж, где тот простоял до 1814 года, пока не вернулся в Рим вместе с другими незаконно конфискованными произведениями искусства, включая знаменитую бронзовую квадригу, установленную на фронтоне венецианского собора Сан Марко.
Пока папский двор был занят улаживанием отношений с новым французским королём, Микеланджело усиленно работал над гробницей Юлия. 8 июля 1516 года был подписан новый договор с наследниками покойного папы, согласно которому опять были уменьшены размеры самого надгробия и сокращено вдвое количество статуй, поэтому готовые изваяния двух «рабов» оказались лишними. Через 16 лет договор был вновь пересмотрен, когда место умершего кардинала Леонардо делла Ровере занял небезызвестный племянник папы Юлия Франческо Мария делла Ровере, и мучения Микеланджело продолжились — казалось, многострадальная гробница свела в могилу само Возрождение.
Собираясь навсегда покинуть Рим, скончался старина Сангалло. Его смерть глубоко опечалила Микеланджело, который был стольким обязан старшему товарищу за помощь и поддержку в трудную минуту. Именно сейчас ему будет недоставать его мудрых советов.
Довольный исходом переговоров с французами Лев X с огромной свитой посетил родную Флоренцию. В качестве подарка он преподнёс городу свой портрет кисти Рафаэля в окружении двух бастардов кардиналов. Портрет был выставлен на всеобщее обозрение во дворце Синьории. Папа настолько был тронут оказанным ему приёмом, что неожиданно расщедрился и стал раздаривать почетные воинские титулы и дворянские звания особо отличившимся гражданам. Великодушие папы по отношению к семейству Микеланджело превзошло все ожидания: им было позволено добавить на родовой герб медицейские шары, а брат Буонаррото, самый обычный лавочник, непонятно за какие заслуги получил почётный титул comes palatinus — сиятельный граф. Узнав о ликовании домашних, подозрительный Микеланджело понял, что папская милость проявлена неспроста, и не ошибся.
Между приёмами и банкетами папа посетил церковь Сан Лоренцо, давно ставшую усыпальницей клана Медичи. Всплакнув над отцовским надгробием, — а глаза у него часто были на мокром месте от умиления самим собой, — он вспомнил о желании родителя украсить голый фасад церкви. Тут же было дано задание сопровождавшему его в поездке Рафаэлю подумать, кого бы можно было привлечь к этой идее. Находчивый Рафаэль предложил поручить работу над фасадом Микеланджело, уроженцу Флоренции.
Лев X тут же ухватился за прекрасную мысль. Вот когда можно будет отправить Микеланджело с глаз долой! Папу раздражало, что где-то на отшибе живёт бирюком обиженный им товарищ детства, который пугает его своим независимым строптивым характером. А недавно, как доложили соглядатаи, у него побывал ещё один обиженный чудак-учёный, которого он вынужден терпеть, так как брат Джулиано, помешанный на науках и искусстве, носится с Леонардо, как с писаной торбой.
По возвращении в Рим Лев X послал гонца за Микеланджело.
— У нас для тебя ответственное задание, — заявил папа, придав весомость сказанному. — Нужно украсить лучшим мрамором фасад нашей фамильной церкви Сан Лоренцо, после чего можно будет заняться и фасадом собора Санта Мария дель Фьоре, пугающим своей наготой.
— Благодарю, Ваше святейшество, за доверие. Но в настоящее время я полностью занят обязательствами по контракту с наследниками покойного папы Юлия.
Льва всего передёрнуло от такого ответа.
— Ты не торопись с ответом, а подумай. Твои делла Ровере пусть тебя не волнуют — с ними всё будет улажено. Так что умерь гордыню и садись-ка за проект без промедления.
Это был приказ, которого Микеланджело не посмел ослушаться. Он понял, что завистливый Лев X никогда не потерпит, чтобы интересы клана делла Ровере помешали его планам. Им уже был изгнан из Урбино ершистый и драчливый Франческо Мариа делла Ровере, которого когда-то он спас, будучи председателем судейской коллегии, от неминуемого смертного приговора за убийство кардинала Алидози. Правда, как утверждали тогда умные люди, кардинал Джованни Медичи хотел тем самым выслужиться перед грозным папой Юлием II. Теперь согласно его воле в Урбино правит злой и чахоточный племянник герцог Лоренцо Медичи, сын покойного брата Пьеро.
Перед Микеланджело встала задача взяться за осуществление самого дорогого проекта, оценённого в 40 тысяч дукатов, что намного превышало затраты, отпущенные на роспись плафона Сикстинской капеллы, не говоря уж о многострадальной гробнице Юлия II. Он недолго колебался, так и не сумев устоять перед столь заманчивой перспективой.
* * *
Перед поездкой во Флоренцию Микеланджело решил нанести ответный визит вежливости Леонардо. Его взялся проводить Бастиано Лучани, знавший во дворце все ходы и выходы. Они поднялись наверх по удобной винтовой лестнице, построенной Браманте. Наверху их встретил ученик мастера Мельци и провёл в мастерскую.
Леонардо сидел за рабочим столом, на котором в стеклянной колбе над горящей спиртовкой что-то булькало, распространяя неприятный терпкий запах. Увидев входивших гостей, он поднялся из-за стола и предложил им чувствовать себя как дома.
— Дружище Мельци, — обратился мастер к ученику, — приоткрой немного окно, чтобы проветрить помещение.
Микеланджело впервые увидел стоящую на мольберте легендарную «Джоконду», а рядом на столике — только что оставленную палитру с кистями. Поймав его удивлённый взгляд, Леонардо признался:
— Никак не могу остановиться. Разве с вами такое не случается?
— Пожалуй, нет. Мне нередко приходится оставлять скульптуру незаконченной, когда я чувствую, что главная мысль в ней выражена полностью.
Отвечая, он не сводил глаз с «Джоконды», которая его не вдохновила, особенно её высокий безбровый лоб. Микеланджело сразу заметил, что так называемая «загадочная» улыбка некрасивой моны Лизы схожа с улыбкой самого Леонардо на его благородном, с тонкими чертами лице. «Насколько же творец красивее своего творения!» — подумал он, отводя взгляд от картины.
— Это всё оттого, друг мой, — сказал Леонардо, улыбаясь, — что в вас ещё бродит молодой задор и вам так и хочется объять необъятное.
Он подошёл к мольберту с «Джокондой» и, словно взойдя на кафедру, добавил:
— В живописи, как и в моих химических опытах, нужны терпение и неторопливость.
«Если бы я следовал твоим советам, — подумал про себя Микеланджело, — то никогда бы не закончил роспись в Сикстине». Но он не стал возражать, дав хозяину дома продолжить начатую мысль. Развивая свои рассуждения о живописи, Леонардо особо отметил, что любой живописец в попытке добиться совершенства должен черпать вдохновение не у других мастеров, а у самой матери-природы.
— Вот это я и стараюсь внушить моему доброму помощнику и ученику Мельци.
Тот скромно потупился и поклонился в знак признательности великому наставнику.
При расставании Леонардо извинился, что не может подать гостю руку, которой трудно пошевельнуть.
— Зато левая рука, — весело заявил он, — продолжает мне исправно служить.
На обратном пути к дому Бастиано, не проронивший ни слова во время визита, рассказал, что Леонардо последнее время места себе не находит после того, как его покинул любимый ученик, вороватый Салаи, который окончательно спился и сгинул в римских трущобах.
«Что ни говори, — рассуждал про себя Микеланджело, слушая Бастиано, — а хвалёная “Джоконда” его давно утомила и интерес к ней поугас. А все рассуждения о совершенстве — это всего лишь отговорка». Мог ли он предположить тогда, что это была их последняя встреча?
* * *
Он с грустью оставил свою римскую мастерскую с дорогими его сердцу изваяниями. Пришлось на время забыть об остальных делах и отправиться во Флоренцию для снятия замеров с будущего объекта. Для него началась новая мучительная эпопея с фасадом Сан Лоренцо, отнявшая свыше двух лет жизни изнурительного труда, но так и закончившаяся ничем — церковь и поныне изумляет своей неприглядной наготой фасада. Однако в библиотеке Лауренциана сохранился договор от 19 января 1518 года, по которому можно судить о том, что если бы Микеланджело была дана возможность довести дело до конца, то фасад Сан Лоренцо стал бы подлинным «зерцалом всей Италии» как по архитектуре, так и скульптуре.
Домашние были рады его появлению. Особенно доволен был мессер Лодовико, заказавший местному специалисту по геральдике изготовление нового герба над входом в дом с добавлением медицейского шара, чтобы всем соседям было завидно.
В первый же день за ужином отец завёл разговор о холостяцком житье-бытье сына в Риме.
— Тебе уже за сорок. Пора бы остепениться.
— Меня это нисколько не интересует, — угрюмо ответил Микеланджело.
Мессеру Лодовико трудно было такое понять. У него было две жены, и теперь в свои семьдесят лет он не скрывал связи с давней подружкой Маргаритой, которая в доме числилась служанкой.
Отца поддержал Буонаррото, недавно женившийся и получивший титул сиятельного графа, хотя толком не понимал, какую пользу можно из этого извлечь.
— Было бы славно и нам спокойнее, если бы ты, брат, женился и зажил по-христиански.
— Я-то живу по-христиански и вас постоянно призываю жить в мире и согласии.
— Уж не дал ли ты обет безбрачия, как наш покойный братец Лионардо?
— Я дал обет служения искусству и храню ему верность.
Он вспомнил, что многие его собратья по искусству — покойный Боттичелли, Леонардо, Рафаэль — так и не обзавелись семьёй. Этот ненужный разговор его утомил, и когда братья стали нагло допытываться, имеет ли он дело с женщинами или у него другие вкусы, терпение его лопнуло.
— Ну в кого вы такие уродились? Вам только насытить свою утробу и бегать за юбками! Я и впредь готов содержать вас, бездельников, но не мешайте мне заниматься делом. Будьте же ко мне немного снисходительнее. Хотя что от вас, бездарей, можно ожидать?
Хлопнув дверью, он покинул отчий дом, решив переночевать в старой мастерской на улице Моцца, а утром отправился в Каррару, где с его появлением работы по добыче мрамора возобновились. Он искренне радовался при виде извлекаемых на поверхность глыб отборного мрамора, из которого надлежало украсить пугающий своей наготой фасад Сан Лоренцо. У него установились добрые отношения с правителем Каррары маркизом Маласпина, чьи предки в 1306 году приютили Данте во время его скитаний. Маркиз был безмерно горд, что всемирно известный скульптор пользуется его каменоломнями.
Неожиданно ход работ был нарушен появлением папского посланца с приказом о прекращении работ в Карраре — впредь мрамор для Сан Лоренцо следует добывать в Пьетрасанте, где, как выяснилось, владел каменоломнями кое-кто из влиятельных флорентийцев, а среди них Якопо Сальвиати, шурин Льва X. Решение было настолько глупым, что Микеланджело ничего другого не оставалось, как в недоумении развести руками. Мало того что мрамор Пьетрасанты не шёл ни в какое сравнение с каррарским, но для его доставки к морю следовало проложить дорогу по топкой болотистой местности. Вопреки здравому смыслу возобладали шкурные клановые интересы, когда ради извлечения большей прибыли заказчик готов поступиться не только совестью, но и пользой дела.
В недавно полученном им письме сводный двоюродный брат папы, а ныне правитель Флоренции кардинал Джулио Медичи написал, что «Его Святейшество желает, чтобы для всех работ использовался только мрамор из Пьетрасанты, а не из других мест, и всякое непослушание будет рассматриваться как неповиновение воле Его Святейшества и нашей». Особенно возмутил Микеланджело скрытый в письме намек на якобы наличие у него личной корысти, связанной с Каррарой. Пришлось, чертыхаясь, подчиниться и заняться прокладкой подъездных путей на сваях по топкой местности и наймом каменотёсов в Пьетрасанте. Каменоломни там почти отвесные, а у нанятых местных рабочих не было никакой сноровки. В одном из писем он признавал, что «легче воскресить мёртвых, чем покорить эти горы и обучить людей ремеслу».
Во время выемки из штольни очередного блока лопнул канат лебёдки, и сорвавшимся камнем задавило насмерть одного из рабочих, на чьём месте только чудом не оказался Микеланджело. Он долго не мог отрешиться от страшного зрелища торчащей из-под глыбы руки с растопыренными пальцами.
В городке Серавецце под Луккой он слёг в горячке, не выдержав напряжения последних месяцев. Местный эскулап выхаживал его пару недель. Пока он приходил в себя, его не покидали мысли о фасаде Сан Лоренцо. Согласно рисунку Микеланджело (Флоренция, дом Буонарроти) фасад должны были украшать восемь коринфских колонн; между ними три массивные двери с коваными заклёпками, четыре крупные статуи и несколько барельефов. Более узкие боковые части фронтона имели по одной статуе между пилястрами. Промеж колонн срединной части фасада в восьми нишах должны быть установлены сидящие скульптуры, а над ними пять барельефов квадратных и два круглых. Устремлённые вверх стрельчатые своды были увенчаны гербом Медичи.
По сохранившемуся рисунку можно судить только о количестве задуманных статуй и барельефов. В том же доме-музее Буонарроти хранится деревянная модель фасада, сделанная по его просьбе старым другом Баччо д’Аньоло.
Не забывал он и о старых обязательствах. В римской мастерской остались незаконченной статуя Христа, обещанная для церкви Санта Мария сопра Минерва, и другие работы. В одном из писем от 21 декабря 1518 года он сообщает: «Я сгораю от нетерпения, но проклятая судьба заставляет меня заниматься не тем, чем хочется… Я постоянно казнюсь, сам себя почитаю обманщиком, хотя ни в чём не виноват…»
Барки, которые Микеланджело зафрахтовал в Пизе, так и не прибыли к сроку, и он проклинал день и час, когда согласился под давлением папы отказаться от Каррары. Однако на этом его беды не закончились. С трудом удалось нанять других лодочников и погрузить глыбы, но из-за небрежности лудильщика крепёжные кольца разломились и одна из глыб ушла под воду. Словно назло обмелел Арно, и две барки застряли посреди реки. Пришлось с нетерпением ждать весеннего паводка. Из шести глыб, предназначенных для монолитных колонн, четыре в пути разбились, что вынудило начинать всё сызнова.
Микеланджело был одержим жаждой добыть как можно больше мрамора для нынешних и будущих замыслов, а потому часть камня отправил морем в Рим, поручив доставку одному из помощников. Каждая партия мрамора доставалась с превеликим трудом, но он как заворожённый продолжал извлекать всё новые и новые блоки, которые уже снились ему по ночам.
Пока он ругался с рабочими, вёл переговоры с лодочниками и лазил по горам в поисках новых залежей мрамора, в мае 1519 года из Франции пришло сообщение о смерти Леонардо да Винчи. По свидетельству очевидцев, «всем своим обликом он являл подлинное олицетворение благородства знаний». Леонардо встретил последний час мужественно и величаво, словно подтверждая одну из записей в своих тетрадях: «Подобно тому, как разумно и дельно проведённый день одаривает нас безмятежным сном, так и честно прожитая жизнь дарит нам спокойную смерть».
Весть потрясла Микеланджело. Как могла Италия отпустить гения умирать на чужбине! Где же её национальная гордость и достоинство? Он вспомнил, что в папке у него хранится листок как память о последней встрече с Леонардо, который при расставании сказал:
— Зная о вашей приверженности перу, хочу, чтобы вы взглянули на досуге на эти записки:
«Склонив гибкую шею к зеркалу воды, лебедь долго всматривался в своё отражение. Он понял причину усталости и озноба, пронизывающего всё тело, словно в зимние холода. Теперь он доподлинно знал, что час его пробил и настала неотвратимая пора прощания с жизнью.
Его перья были так же прекрасны и белоснежны, как и в далёкие годы юности. Ему удалось пронести в незапятнанной чистоте своё одеяние через все жизненные невзгоды и испытания, через зной и стужу. И он был готов спокойно и достойно закончить свои дни.
Изогнув красивую шею, он медленно и величаво подплыл к старой плакучей иве, под чьей сенью любил пережидать полуденный летний зной.
Опустился вечер, и закат окрасил в пурпур спокойные воды озера. В глубокой вечерней тишине, воцарившейся вокруг, послышалось пение. Никогда ранее лебедь не пел с такой проникновенной задушевностью и щемящей тоской. Он вдохновенно пел о своей любви к природе, небу, воде, земле…
— Лебедь поёт, — прошептали зачарованные его прощальной песней рыбы, птицы и все прочие обитатели полей, лесов и лугов. — Это песня умирающего лебедя.
Нежная грустная песня эхом разнеслась по округе и замерла с последними лучами солнца».56
Эта литературная миниатюра великого Леонардо о встрече последнего часа ещё более усугубила тягостное состояние духа Микеланджело…
Всё прошлое всплывает предо мной. С годами, лживый мир, Я глубже сознаю, сколь слеп и сир Погрязший во грехах наш род людской! Кто тешится мечтой, На справедливость тщетно уповая, Никак не отрешится от дурмана. Обманутый тобой, Несчастный жаждет Рая, Но насладится горечью обмана — Ведь жизнь полна изъяна. И только тот блаженство обретёт, Кого Господь скорее приберёт (132).* * *
В один из своих наездов в Рим Микеланджело узнал, что папским указом от 10 марта 1520 года договор с ним был расторгнут. Это его сильно разозлило. В той лёгкости, с какой папа и кардинал Джулио Медичи, следивший за ходом работ, отказались от проекта, Микеланджело увидел, что сама затея с фасадом Сан Лоренцо понадобилась только для того, чтобы помешать ему в работе над гробницей папы Юлия, а сам он оказался игрушкой в руках сильных мира сего. Им вволю позабавились, а затем выбросили вон за ненадобностью. Вся эта возня больно задела его самолюбие, о чём свидетельствует сохранившийся черновик письма к анонимному адресату. Видимо, от Микеланджело потребовали подробный отчёт в израсходованных суммах, и им приводятся цифры. Далее он пишет: «Я не ставлю им в счёт трёх лет, что я напрасно здесь потерял. Не ставлю в счёт и то, что разорился на работах в Сан Лоренцо. Не ставлю в счёт тяжкого оскорбления, которое мне нанесли тем, что сперва дали этот заказ, а затем его у меня отобрали и неизвестно даже по какой причине!»
Но следует ли во всём винить только коварство работодателей? Доля вины в нём самом, в его борьбе с собой и своим неукротимым гением. За пять лет, будучи в расцвете сил и обладая славой всемирно известного творца, он почти ничего не создал, кроме незавершённой скульптуры Христа. Его сомнения и метания помешали ему сосредоточить силы на одном из заказов.
В отличие от него его соперник Рафаэль успел за это время расписать ватиканские Станцы, лоджии, виллу Фарнезина и построить виллу Мадама. Кроме того, он ещё руководил строительством собора Святого Петра, осуществлял контроль за археологическими раскопками и составил топографическую карту памятников античности Рима и его окрестностей. Наконец, что особенно важно, ему удалось создать целую школу талантливых учеников. Слава урбинца росла, и кардинал Биббьена прочил ему в жёны свою племянницу. Но Рафаэль продолжал умело защищать от всяких посягательств свою личную жизнь и независимость. Всему Риму была известна его пылкая связь с дочерью пекаря из Трастевере по прозвищу Форнарина. Недавно Бастиано Лучани уговорил Микеланджело побывать на одном вернисаже, где был выставлен портрет рафаэлевской возлюбленной, выполненный с присущим любой картине урбинца блеском.
Но сама длинноносая полуобнажённая модель с её циничным взглядом самки не заинтересовала Микеланджело. Ему было искренне жаль молодого коллегу, ставшего жертвой ненасытной хищницы. Мог ли он тогда предположить, что нечто подобное случится и с ним, когда вспыхнувшая страсть ослепит ему сознание, подавив волю и разум?
* * *
В дни Великого поста, накануне Пасхи, ночью 6 апреля 1520 года над Римом разразилась сильная гроза. Она сметала и крушила всё на своём пути. В Апостольском дворце стена дала трещину, и перепуганного папу пришлось перевести в другие, более безопасные покои.
Насытившись буйством, стихия под утро угомонилась, а над Вечным городом пополз протяжный и зловещий заунывный гул колоколов, оповестивший мир о безвременной кончине Рафаэля. Весть потрясла всю Италию. Не осознавая ещё случившегося, Микеланджело отправился со многими римлянами к Domus Raphaelis, где в просторном зале под незаконченной картиной гения «Преображение» был установлен гроб с телом усопшего. Казалось, что автор с огромного полотна шлёт свой последний привет всем собравшимся в скорбном молчании: «Люди, я любил вас!»
Рафаэль оставил мир в полном ладу со всеми, никого не виня. Микеланджело почти не общался с ним, каждый из них жил своей жизнью, но оба знали всё друг о друге, всё, что каждый из них делал и говорил. Став очевидцем прощания со всеобщим любимцем, он был потрясён, как все римляне, которые независимо от возраста и сословия горько оплакивали невосполнимую утрату. Возможно, многие из них даже не видели картин Рафаэля, но были наслышаны о нём как человеке величайшей доброты и отзывчивости, которому вокруг не было равных.
Говоря о последних днях жизни любвеобильного художника, кто-то из друзей обронил фразу, ставшую расхожей: «Его сердце остановилось, потому что устало любить». Много говорилось и о лихорадке, которую он подцепил, когда руководил раскопками в болотистой местности.
Пока Микеланджело слушал выступления на гражданской панихиде, в памяти всплыли слова Леонардо при их последней встрече: «Meglio la morte che la stanchezza» — «Лучше смерть, чем усталость».
Увидев картины Рафаэля три столетия спустя, Жуковский назвал его «гением чистой красоты».57 Пожалуй, лучше не скажешь.
* * *
После ухода из жизни Лоренцо Великолепного, Леонардо да Винчи и Рафаэля итальянское искусство лишилось души — своего подлинного светоча, озарившего гармонией славную эпоху Возрождения. Распалась великая триада, и Микеланджело остался один, понимая, что соперничать в Италии ему больше не с кем. Осознание такого одиночества тяготило его, ибо верным стимулом в его постоянном стремлении превзойти всех было соперничество, дух состязательности, нехватку которого он остро ощущал как отсутствие свежего воздуха.
До него дошёл слух, что во влиятельных флорентийских кругах и в возобновившей свою деятельность Платоновской академии вновь поднято требование о возвращении из Равенны праха великого Данте. Загоревшись идеей, он поставил свою подпись под петицией влиятельных граждан, которую привёз в Рим поэт Луиджи Аламанни, вернувшийся из эмиграции и принявший активное участие в восстановлении Платоновской академии, которая объединяла под своими знамёнами всё самое передовое, что было тогда во Флоренции.
Забыв об обиде, Микеланджело обратился с письмом к папе Льву X: «Я, Микеланджело Буонарроти, скульптор, прошу Ваше Святейшество дозволить мне соорудить достойный памятник божественному поэту на одной из площадей его родного города». Ответа не последовало. Папе было не до Данте, поскольку для клана Медичи наступила чёрная полоса — смерть косила его членов одного за другим. Умер младший брат папы Джулиано Медичи, герцог Немурский, за ним последовал племянник, чахоточный Лоренцо, герцог Урбинский, а совсем недавно не стало верного наставника и советчика кардинала Биббьены, без которого папа не мог шагу ступить.
Не расставаясь с томиком Данте, Микеланджело делал пометки на полях и проиллюстрировал «Божественную комедию» — редчайший в истории случай, когда один гений выразил своё понимание творения другого гения своим, свойственным ему языком рисунка. К великому сожалению, будучи отправленными морем, эти бесценные рисунки и томик Данте с пометками погибли при кораблекрушении. От всей этой истории с монументом, который Микеланджело, не дождавшись официального решения, готов был воздвигнуть за свой счёт в родной Флоренции, ибо ему было дорого услышанное однажды о себе мнение, что «Микеланджело — это Данте в искусстве», остались только два вдохновенных сонета, посвящённых Данте. Приведём один из них, в котором особенно ощутимо проявилось родство душ двух великих итальянцев:
Неизмеримы гения деянья — Их высший смысл не сразу я познал. Хоть чёрствый люд поэта осмеял, Его слова — потомкам в назиданье. Он к ближнему был полон состраданья И на Господню милость уповал, Но край родной в приюте отказал, Сослав поборника добра в изгнанье. Безумный город, где он был рождён, Страданий и несметных бед причина. Жестоко жизнь скитальца покарала. За муки он с бессмертьем породнён, И страждет родина, отвергнув сына, Какого более земля не знала (250).В оригинале сонет завершается авторским постскриптумом, адресованным другу Донато Джаннотти: «Вы просите то, чего у меня нет». Видимо, Микеланджело сетовал на нехватку вдохновения, чтобы достойно развить в стихах тему Данте, о чём его просили флорентийские изгнанники, жившие в Риме и знавшие, что Микеланджело готов был водрузить памятник великому поэту на свои средства.
* * *
После отмены договора на фасад Сан Лоренцо Микеланджело долго не мог успокоиться из-за нанесённого оскорбления. И когда к нему обратился римский патриций Метелло Вари с заказом изваять фигуру Христа для церкви Санта Мария сопра Минерва, он, не раздумывая, согласился, тем более что ему была дорога сама церковь, в левом приделе которой находилось скромное надгробие живописца фра Беато Анджелико, чью память он чтил. Чтобы отвлечься от бурных внешних событий, чьё эхо доходило до его мастерской на Macel dei Corvi, Микеланджело неспешно работал над фигурой Христа (высота 2,05 метра).
Появившуюся крупную наличность он решил не держать в банке, а пустить в дело. Выше упоминалось, что о своём родстве с ним напомнил разорившийся граф Александр Каносса. Это воспоминание позабавило Микеланджело и отвлекло от грустных мыслей. Он вспомнил не раз слышанную в детстве историю о том, как под проливным дождём император Генрих IV униженно ждал аудиенции папы Григория VII в Каноссе при посредничестве маркизы Матильды Тосканской. Ему вдруг захотелось купить «родовой», как он считал, замок Каноссы и утереть нос всем этим Медичи, бывшим аптекарям, не брезговавшим заниматься ростовщичеством и другими неблаговидными делишками, чьим капризам он вынужден был потакать.
Что-то помешало той сделке, и через банкирскую контору своего друга Бальдуччи он приобрёл крупное поместье в Ровеццано под Флоренцией, множа собой число крупных итальянских землевладельцев. Не доверяя близким, которые ничего не смыслили в сельском хозяйстве и могли лишь загубить любое дело, он сумел подыскать знающего и преданного делу управляющего.
Побывав в новом имении и почувствовав накопившуюся усталость, Микеланджело задумался — а стоит ли поступаться здоровьем из-за капризных и непорядочных заказчиков? Не лучше ли уединиться в сельской тиши и подумать о вечном, к чему призывали его старшие товарищи из «платонической семьи», воспоминания о которых жили в памяти. Вспомнилась ему и полюбившаяся в юности «Ода Меценату» Горация, в которой говорится о тяге к земле и природе. Видимо, после неудачи с фасадом Сан Лоренцо, когда затраченные усилия пошли впустую, в его сознании всё чаще стала возникать мысль отойти от искусства, поскольку оно не в силах побороть существующее зло и возвысить человека над миром порока, соблазнов и житейской суеты.
Неизвестно, сколько времени он провёл в одиночестве на лоне природы, раздумывая о судьбах мира. После краткой поездки в Рим он ещё более убедился, что зло в человеческой природе неистребимо. В период тягостных раздумий и одолевавших сомнений, когда в сторону были отложены резец и кисть, в его тетради появилась незаконченная поэма, навеянная сельскими впечатлениями, пасторальными мотивами и желанием уединиться от городского шума в глуши. Наблюдая за полётом птиц и жизнью животных, он убеждался, как мудро в отличие от жизни людей устроена природа.
Его поэма, звучащая гимном труду и не лишённая острой социальной направленности, пролежала в безвестности в архиве более четырёх столетий, пока не была полностью обнародована литературоведом Э. Н. Джирарди в 60-е годы прошлого века. В ней сказалось влияние пасторальных мотивов в канцонах и эклогах Лоренцо Великолепного, с которыми Микеланджело был знаком в юношеские годы. Завершая написание поэмы, которая так и осталась незаконченной, как и другие его поэтические откровения, он окончательно понял, что никогда не сможет порвать с искусством при всей своей любви к природе и изменить властелину-гению, который требовал от него постоянного служения высшей цели.
Вон стадо коз пасётся на вершине, Где так вольготно по камням скакать. Пастух, присевший у ручья в ложбине, Принялся в виршах душу изливать. Простая песнь разносится в долине — Она приволью здешних мест под стать. И радостно красавице-хозяйке Пасти свиней под дубом на лужайке. Вдали стоит соломой крытый дом. Там с раннего утра кипит работа. Кто возится с горящим очагом, А у кого в саду своя забота. Вон парень гонит борова прутом Иль там осла навьючивает кто-то. Лишь безучастный ко всему старик От грустных дум на солнцепёке сник. Крестьян питает тяжкий труд, не злато. Бесхитростна их суть и на виду. Гнут спину от восхода до заката, Безропотно снося свою нужду. Чтоб ближе знать, чем жизнь их торовата, Войди к ним в дом — запоры не в ходу. Их поздний ужин ждёт с дарами лета И сон на сеновале до рассвета. Здесь зависть понимают как недуг — Она недолго властвует сердцами. Но с жадностью глядят на горный луг, Когда благоухает он цветами. Вернее друга нет, чем справный плуг, С блестящими на солнце лемехами. Всё, чем богаты люди в сих краях, Не держат под замками в сундуках. До нитки обирают мать-природу Тельца златого жалкие рабы. Жадны, довольны не бывают сроду. О, баловни завистливой судьбы, Я знаю вашу алчную породу — Бесчувственны вы к стонам голытьбы! Вам не понять в безумном ослепленье, Чем ценно жизни краткое мгновенье. Любой, кто издавна с нуждой знаком, Познавши голод, холод и терзанья, Да будет верным вам поводырём И высшим образцом для подражанья — Он заслужил такую честь горбом! Владыки мира, нет к вам состраданья, И как собой вы всюду ни кичитесь, Крестьянину в подмётки не годитесь. Живёт Богатство за семью замками — Всё в золоте, парче и жемчугах. Но непогода с ветром и дождями В нём неизбежно порождает страх. Лишь Бедность смотрит ясными глазами — Она в заботах вечных и трудах; О громких почестях не помышляя, Идёт по жизни в рубище, босая. Причуды иль изысканность в речах И об искусстве тонкие сужденья — Крестьянин не мастак в таких делах. К земле любовь питая от рожденья, Он лишь мозоли нажил на руках Да к грустной песне сильное влеченье. Ростовщики семь шкур с него дерут, А он не оставляет тяжкий труд. Благоговение питая к Богу, Крестьянин к небу обращает взгляд И просит истово себе подмогу, Когда от засухи хлеба горят, Не подпуская к своему порогу Как, Почему, Зачем или Навряд. В любой беде он не исторгнет стона И свято верит — пособит Мадонна. Тайком по бездорожью в стороне Бредёт пугливое Навряд с клюкою И тощею котомкой на спине, От страха ног не чуя под собою. За ним бренча ключами на ремне, Идёт Зачем с понурой головою. Куда ни глянь — все спят в своих домах: Придётся сызнова блуждать впотьмах. Страшась сиянья вечного светила, Крадётся Почему, бедой грозя, Но разум целиком ему затмило Невежество — привычная стезя. А перед ним сдаёт любая сила, И убедить его ничем нельзя. Как близнецы, бредут вдвоём, петляя, Цепляясь к слабым — сильных избегая. Одна шагает Правда по земле. В ней голь и беднота души не чает. Горит звезда, как око, на челе, А сердце, точно диамант, сверкает И людям освещает путь во мгле. Её со света часто Зло сживает. Но Правда не стареет, как весна. Кто предан ей, тому по гроб верна. Пуглива, как фальшивая монета, Себя стыдливо прячет Ложь в шелка. Любительница гнусного навета, Она душой коварна и низка; Тускнеет и, как тать, бежит от света. Но кругу знати и вельмож близка, Хотя и любит в тень уйти глубоко. Сродни ей Подлость, Клевета и Склока. Преуспевает в жизни также Лесть: Проворна, очень недурна собою, Но смен её обличия не счесть — Куда бледней цветущий сад весною. Чтоб угодить, несёт благую весть, Хоть и приврёт с три короба порою. Всё обольстительно в ней: плач и смех, Но как проворно обирает всех! Она плести интриги — мастерица, Повсюду сея смуту и вражду, И жертву ждёт, чтоб исхитриться… (67)* * *
Последние годы правления выдались для папы Льва X на редкость неудачными. Секретной службой был раскрыт заговор группы кардиналов, выступивших против непомерных излишеств папского двора и кумовства. Многих тогда особенно возмутило, что из Урбино был изгнан наследник папы Юлия герцог Франческо Мария делла Ровере, и герцогство перешло в руки племянника папы Лоренцо, ставшего герцогом Урбинским. Все заговорщики были казнены в казематах замка Святого Ангела. Один только кардинал Риарио, вновь ставший наперекор политике Медичи, избежал смертной казни и откупился, внеся в опустевшую папскую казну огромную сумму золотых дукатов и отказавшись в пользу Ватикана от своего помпезного дворца с богатой коллекцией античной скульптуры.
Но на этом злоключения не закончились. Великую смуту в церкви затеял невзрачный августинский монашек Мартин Лютер, который, впервые появившись в Вечном городе и пройдя через ворота Порта дель Пополо, пал ниц на колени, воскликнув: «Приветствую тебя, о Рим святой!»
В День Всех Святых — 31 октября 1517 года — на вратах дворцовой церкви в Виттенберге Лютер прибил 95 своих крамольных тезисов, выступив против узаконенной замены налагаемой на грешника епитимьи деньгами, то есть против широко применяемой Римской церковью продажи индульгенций, против паломничеств и постов и провозгласил истинной только веру в Священное Писание. Говоря о строительстве собора Святого Петра в Риме, монах задался вопросом: «По какой такой причине римский папа, который богаче самого Креза, возводит святыню на пожертвования бедных христиан, а не на свои собственные деньги?»
За столетие до Лютера против продажи индульгенций выступил чешский реформатор и просветитель Ян Гус, сожжённый католической церковью на костре. Римская курия потребовала отлучить дерзкого монаха от церкви. Но папа Лев X, считавшийся покровителем учёных, художников и хранителем традиций эпохи Возрождения, поначалу не мог себе даже представить, какие потрясения вызовут крамольные тезисы безвестного монашка. Под давлением кардиналов он вынужден был отлучить Лютера от церкви, но августинец не склонил головы, прилюдно сжёг папскую буллу «Exsurge Domine» и положил начало глубокому расколу католической церкви.
По Европе ходили дерзкие стишки, направленные против папства: Accipe, cape, rape // sunt tria verba papae («Грабь, бери и хапай — вот три слова папы»).
Многие гуманисты выступили против Лютера. В 1521 году вышла книга с опровержением его учения и в защиту католицизма. Вместе с молодым английским королём Генрихом VIII соавтором книги был его секретарь Томас Мор, выдвинувший гуманистическую концепцию «единой христианской культуры». Подобно Эразму Роттердамскому, Мор считал, что папство должно быть существенно улучшено, а не упразднено. Оно должно отказаться от богатств, земных почестей и проводить свою вселенскую миссию миротворчества и сохранения европейской культуры. Впоследствии король Генрих отрекся от католицизма, став его неистовым гонителем, а одной из многих его жертв был Мор, отказавшийся отречься от своих убеждений.
Другим событием, нарушившим равновесие сил в Европе, было избрание императором девятнадцатилетнего Карла V Габсбурга, ставшего одновременно королём Испании. В его империю входили Испания, Германия, заражённая ересью, Австрия, Нидерланды и Южная Италия. Это была прямая угроза Риму и его союзнице Франции, не говоря уж о Флоренции, где относительный порядок и спокойствие целиком зависели от поддержки извне. Папа долго колебался между двумя юнцами: Франциском I и Карлом V, в котором видел ревностного католика и надёжного союзника в борьбе с растущим расколом, подрывающим устои Римской церкви. Поразмыслив, Лев X принял сторону Карла V, похерив тем самым свою прежнюю договорённость с французским королём.
В те бурные дни папа решил подумать о душе, вспомнив своего великого родителя и фамильную усыпальницу в Сан Лоренцо. Понимая, что несправедливо поступил с великим творцом, разорвав с ним из-за каприза контракт, он решил вновь обратиться к Микеланджело, ибо все окружающие его мастера не вызывали у него ни доверия, ни уважения. Один только Микеланджело был способен силой своего гения поднять пошатнувшийся престиж Рима и Флоренции, и Лев X послал за ним гонца.
Папе удалось уломать несговорчивого мастера щедрыми посулами, а главное, заверением, что никто, кроме него, не сможет обогатить Флоренцию новым достойным её славы творением и что все свои надежды отныне он возлагает только на его гений. Микеланджело особенно поразили слова Льва X о том, что теперь он единственный оставшийся от славной триады и что на нём отныне лежит вся ответственность за судьбу итальянского искусства.
Вопреки неприязни к роду Медичи Микеланджело вновь проявил слабость и поддался на уговоры. Но главным его желанием было почтить незабвенного Лоренцо Великолепного, память о котором была для него свята. Важно было также то, что перед ним вновь открылась возможность поработать в родном городе, где сам воздух был для него благотворным и способствующим вдохновению.
* * *
Начиная с 1520 года происходит заметный перелом в стиле и мировоззрении Микеланджело. Классический, или героический, период его творчества заканчивается скульптурой Христа в римской церкви Санта Мария сопра Минерва — безуспешной попыткой защитить устои Высокого Возрождения, которые он сам постепенно расшатывал. Покидая Рим, он оставил почти законченную статую Христа. Помощнику Пьетро Урбано, способному парню, который оказал действенную помощь в работе над фасадом Сан Лоренцо, было поручено закончить скульптуру и поставить её на пьедестал. Но стоило ослабить узду, как парень загулял, пустившись во все тяжкие, и испортил изваяние. Оставленный сбежавшим помощником изъян исправил скульптор Федерико Фрицци. Торжественное освящение статуи состоялось в дни Рождественского сочельника в отсутствие Микеланджело.
Поначалу была договорённость задрапировать нижнюю часть живота обнажённой фигуры тканью. Но без согласия автора хозяева церкви доминиканские монахи распорядились во избежание скандала среди прихожан прикрыть чресла Христа стыдливым бронзовым пояском.
Эта статуя не принадлежит к лучшим творениям Микеланджело и создавалась в годы метаний и подавленности духа, когда окружающий мир предстал пред ним в мрачном свете. Христос показан в триумфе, но с орудиями своего унижения — крестом и пикой Лонгина. Скульптура красива, но не вызывает потрясения, как, скажем, оставленный в римской мастерской на Maceldei Corvi сидящий Моисей, готовый в любую минуту подняться во весь могучий рост и начать гневно вершить свой суд.
Начинался новый период деятельности Микеланджело, отмеченный смелыми взлётами, горением духа, резкими противоречиями между решительностью и моментами безволия и слабости. По прибытии во Флоренцию он первым делом посетил негласного её правителя кардинала Джулио Медичи, который опекал строительство капеллы Медичи, или Новой ризницы. Согласно проекту капелла должна вместить надгробия Лоренцо Великолепного, его брата Джулиано, а также недавно скончавшихся младших отпрысков рода — герцогов Немурского и Урбинского. Для работы Микеланджело был подарен дом рядом с Сан Лоренцо, что было как нельзя более кстати, поскольку мастерская на улице Моцца была сплошь заставлена блоками мрамора, добытыми с великим трудом в годы мытарств с фасадом Сан Лоренцо, и он приберёг их впрок для других замыслов.
Но приступить к делам помешали бурные внешние события, смешавшие все планы. 11 декабря 1521 года в возрасте сорока шести лет внезапно умер Лев X. Астрологи ошиблись, и число «11» оказалось для папы несчастливым. Ходили слухи об отравлении, на что прямо указывает и Стендаль.58 Рассказывают, что папский кравчий Маласпина подал понтифику чашу вина. Выпив, Лев X посетовал, что вино горчит, и вскоре умер. Кравчий был схвачен, но кардинал Джулио Медичи замял дело, опасаясь раскрытия заговора, что могло бы нанести урон клану Медичи.
Покойный оставил о себе память как о ценителе прекрасного, любителе музыки, театра, соколиной охоты и пышных застолий. С ним закончилась пора душевного празднества и веселья накануне трагических событий, захлестнувших волной почти всю Европу.
На собравшемся конклаве в Сикстинской капелле новым папой был избран в пику Медичи сын голландского пивовара, престарелый кардинал Адриан Буйенс, бывший воспитатель Карла V. Новый папа, взявший имя Адриан VI, впервые оказался в Риме и не говорил по-итальянски. Кардинал Риарио в который раз упустил свой шанс быть избранным и вскоре умер от огорчения.
Новый папа являл собой полную противоположность своему расточительному предшественнику-эпикурейцу. Увидев в Риме на каждом шагу античные статуи, он восклицал: «Sunt idola anticorum» — «Это идолы язычников!» Найдя опустошённой казну, он ввёл режим строгой экономии — никаких излишеств и празднеств. Когда-то беспечный праздный двор заметно поредел; его покинули поэты, артисты и музыканты, не найдя применения своим талантам. От римских друзей Микеланджело стало известно, что папа Адриан резко отзывался об обнажённых фигурах на плафоне Сикстинской капеллы, а саму живопись назвал «богохульной». Из-за нехватки средств были приостановлены работы по строительству собора Святого Петра, вокруг которого кормилась чуть ли не половина римлян. Итальянцы невзлюбили папу Адриана, называя его варваром и скрягой.
Притихшие было наследники папы Юлия вновь подняли голову и обратились к Адриану VI с просьбой заставить Микеланджело закончить гробницу или вернуть аванс в три тысячи с половиной дукатов. Деньги были потрачены, и пришлось поневоле вернуться к старому заказу, забыв на время о возведении Новой ризницы в Сан Лоренцо. Тогда-то в мастерской на улице Моцца и появились четыре скульптуры, получившие название «Юный раб», «Пробуждающийся раб», «Бородатый раб» и «Атлант» (Флоренция, Академия). Ни одна из них не была доведена до конца, однако в каждой можно видеть, сколь большое значение Микеланджело придавал пластической незавершённости non finite и его смысловой глубине.
Пленённые рабы не смирились с участью узников. Их динамичные фигуры, пытающиеся вырваться из цепких каменных объятий, наводят на мысль о сокрытом в них порыве самого автора как истинного неоплатоника преодолеть косность материи во имя торжества личностного, волевого и духовного начала. Как и титан «Атлант», которому Зевс повелел удерживать на плечах небесный свод, Микеланджело никак не мог сбросить с себя бремя навязанных ему обязательств, порвать оковы рабской зависимости от заказчиков и обрести вожделенную свободу.
* * *
Вернувшийся с конклава кардинал Джулио Медичи заверил Микеланджело, что конфликт с делла Ровере будет улажен. Будучи человеком практичным, он посоветовал мастеру успокоиться и в тяжбе с наследниками Юлия стать из обвиняемого обвинителем и представить суду, если те пойдут на такой шаг, готовые скульптуры Моисея и двух рабов.
— Сегодня твои творения очень высоко ценятся, — сказал он и предложил то ли в шутку, то ли всерьёз считать себя не должником, а кредитором несговорчивых делла Ровере и потребовать с них неустойку.
Проект Новой ризницы был пересмотрен, ибо кардинал потребовал выделить место для покойного Льва X, первого понтифика из клана Медичи, а также оставить место для него самого — теперь главного заказчика.
Дующие отовсюду новые ветры заставили Джулио Медичи подумать об укреплении своей власти в городе. Он пообещал флорентийцам восстановить Большой совет и другие республиканские установления, распущенные Медичи в 1512 году. Разнёсся даже слух о предстоящем провозглашении новой конституции, но многие граждане усомнились в истинности намерений кардинала Медичи, неожиданно выступившего в роли ревнителя законности.
В те тревожные дни мастерскую Микеланджело посетил вернувшийся из Франции Баттиста делла Палла, старший товарищ по тем славным временам, когда Флоренция считалась по праву центром европейской культуры и искусства, сохраняя верность республике.
— Удивляюсь, как ты можешь работать на этого бастарда и двурушника Медичи! — сказал он. — Вспомни сотворённого тобой героического «Давида», ставшего символом наших республиканских свобод. Пока не поздно, откажись от заказа. Любая поблажка тиранам приводит к тяжким последствиям.
Микеланджело принялся с жаром доказывать товарищу, что работает лишь ради прославления Флоренции. Но его слова не убедили рьяного республиканца. Гость подошёл к незаконченной скульптуре «Атлант».
— Какая силища! — восхищённо заметил он. — Храни, Микеланьоло, верность себе самому. Мы ещё поборемся за нашу республику!
Приход делла Палла разбередил душу. Его слова заставили о многом задуматься. А прав ли он, взявшись за возведение капеллы тех самых Медичи, которые принесли немало бед флорентийцам?
От мыслей суетных, шальных, Что в голове моей роятся, Видать, покоя не дождаться И не уйти от дел земных. Ужель в сомнениях одних Без Божьей милости терзаться? (286)* * *
Правление хворого папы Адриана VI продлилось не более года, и в сентябре 1523 года не любимый итальянцами понтифик-иностранец умер. Известно, что на радостях к дому его лечащего врача был возложен благодарственный венок с надписью SPQR — от сената и народа Рима. 19 ноября того же года новым папой был избран Джулио Медичи, принявший имя Климента VII, давая тем самым понять, что он прощает всех своих недругов — ведь Clemens на латыни значит «милостивый». В отличие от своего покойного кузена Льва X, ценителя прекрасного и продолжателя политики Юлия II по объединению итальянских земель, вновь избранный папа был фигурой менее яркой и отличался крайне нерешительным характером. Но теперь Клименту VII было не до Новой ризницы, так как события в Европе с каждым днём обретали все более бурное развитие.
Отношения Микеланджело с новым папой складывались непросто. Они не заладились ещё в ранней юности, когда оба жили под одной крышей во дворце Медичи, где Лоренцо Великолепный не делал различия между своими детьми, племянниками и талантливым отроком, ставшим равноправным членом «платонической семьи». Но симпатии между двумя юнцами не было и оба поглядывали друг на друга с нескрываемым подозрением.
Микеланджело продолжал трудиться над проектом капеллы Медичи, хотя сомнения его не покидали. После неприятностей, доставленных ему покойным папой Адрианом, который грозился замазать фрески Сикстинской капеллы, Микеланджело с радостью воспринял избрание Климента VII и в письме старому другу каменотёсу Тополино написал: «Вы, вероятно, уже знаете о том, что новым папой избран Медичи. Мне кажется, что эта новость обрадует весь мир, так как полагаю, многое теперь будет сделано в области искусства».
Он будет служить новому папе, которому Макиавелли посвятил свой труд «История Флоренции», с перерывами до 1534 года. В отличие от своего покойного кузена Льва X папа Климент был вынужден считаться со всемирно известным мастером. Чтобы ещё крепче привязать к себе Микеланджело и лишить его возможности работать на других — а предложения поступали с разных сторон, — папа поставил перед ним новую задачу — пристроить к внутреннему дворику Сан Лоренцо здание библиотеки для частной коллекции рукописей, книг и инкунабул, которые в своё время начал собирать его дед Козимо I. В смутные годы ценнейшее собрание было спасено от разграбления и сожжения на «кострах тщеславия», как уже было отмечено, преподобным Савонаролой.
Хотя Микеланджело был всецело погружён в работу над капеллой, он не посмел отказаться от лестного предложения, поскольку давно лелеял мечту создать синтез архитектуры и скульптуры не только в культовом, но и в гражданском строительстве. Кроме того, папа предложил ему постричься в монахи и вступить в орден францисканцев, установив ежемесячный пенсион в размере 50 дукатов — сумма немалая по тем временам. От пострига в монахи Микеланджело наотрез отказался, но пенсион принял.
Перед ним встала задача увековечить память четырёх Медичи: самого Лоренцо Великолепного, его убитого заговорщиками брата Джулиано, младшего сына Джулиано, герцога Немурского, и внука Лоренцо Урбинского. Работа продолжалась с перерывами более 14 лет, за это время умерли её главные заказчики, а усыпальница Медичи так и осталась незавершённой, породив множество суждений относительно того, что в ней сооружены всего два саркофага. Исследователи творчества великого мастера выдвигали самые разные предположения о том, кто запечатлён в двух мужских изваяниях над саркофагами. Заинтересованный читатель может узнать об этом из глубоко аргументированной статьи, написанной известным скульптором Л. Барановым, который плодотворно работает над увековечением памяти выдающихся представителей мировой истории, литературы и искусства.59
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РАЗРЫВ С ИСКУССТВОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава XXIII РЕКВИЕМ ПО РЕСПУБЛИКЕ
Напрасны эпитафии для славы.
К ней нечего прибавить иль убавить:
Со смертью всем деяниям конец (13).
Создание капеллы Медичи — одна из самых трагических страниц в жизни Микеланджело, когда ему пришлось опасаться за собственную жизнь, став в ряды защитников республики, и пережить личное горе. 2 июля 1528 года у него на руках умер скошенный чумой любимый брат Буонаррото, оставив вдову с двумя сиротами, о которых Микеланджело поклялся умирающему брату заботиться до конца дней своих. Маленькая Франческа была пристроена им в монастырь, чтобы получить достойное воспитание, как и подобает девушкам из знатных благородных семейств. О несмышлёныше Лионардо его знаменитый дядя стал заботиться как о своём единственном наследнике.
Будущая капелла Медичи по замыслу Микеланджело воздвигалась не столько во славу усопших правителей, сколько в память о погребённых там былых надеждах и несбывшихся мечтах о свободе. Начало строительства новой капеллы симметрично к существующей в Сан Лоренцо Vecchia sagrestia — Старой ризнице, построенной ровно сто лет назад, совпало с великими бедами, обрушившимися на Италию.
До 1525 года противостояние между Францией и Испанией, от чего зависело благоденствие Флоренции, не приносило успеха ни одной из враждующих сторон. Но 24 февраля в битве под Павией французы потерпели сокрушительное поражение, а их король попал к испанцам в плен. В письме к матери из Мадрида Франциск I написал слова, ставшие историческими: «Всё потеряно, кроме чести».
В те тревожные дни Климент VII оказался в сложном положении. Перед опасностью вторжения имперских войск начались переговоры с возможными союзниками, которые по поручению папы вёл известный историк и тонкий дипломат Гвиччардини. Вскоре к переговорам присоединился Франциск I, освобождённый в Мадриде из-под стражи под честное слово сохранять лояльность. Но обретя свободу, он тут же нарушил королевское слово. 22 мая 1526 года в городке Коньяк была создана Лига государств, противостоящая дальнейшему продвижению войска Карла V вглубь Апеннинского полуострова. Руководство наземными войсками Лиги было поручено герцогу Франческо Мария делла Ровере, который особенно изощрялся в угрозах по поводу гробницы папы Юлия. При одном упоминании ненавистного имени Микеланджело терял покой. Но на поле брани герцог проявил себя бездарным и трусливым военачальником, который придерживался тактики «постоянно удаляться от неприятеля и наконец одержать победу, не вынимая меча из ножен».
Вместе с испаноимперским войском, несущим смерть и разрушения, не унималась и чума, косившая всех подряд. Видя, что силы на исходе, противники решили пойти на перемирие, пока не утихнет смертоносная эпидемия. 15 марта 1527 года между противоборствующими сторонами было подписано соглашение о прекращении военных действий, и папа объявил о роспуске Лиги. Однако ни Климент VII, ни Карл V уже были не в силах удержать под контролем ситуацию, а их вконец разложившиеся армии превратились в банды мародёров и насильников. В лагере немецких ландскнехтов вспыхнул бунт из-за задержек с выплатой жалованья. Разбежалась по домам и малочисленная папская армия, которую держали на голодном пайке.
Озлобленная голодная орда двинулась на Рим, грабя и сжигая на пути города и деревни. 6 мая, почти не встретив сопротивления, войско Карла V вошло в Вечный город, который был отдан солдатне на откуп. Трагические дни разграбления Рима и творимого там бесчинства вошли в историю под названием Sacco di Roma — «римский мешок», откуда трудно было выбраться живым. Папа Климент в ужасе бежал под защиту неприступных стен замка Святого Ангела и вскоре стал заложником Карла V, потребовавшего выплаты крупной контрибуции.
В том же злосчастном 1527 году не стало одного из выдающихся умов эпохи Возрождения, Никколо Макиавелли, который, как и Данте, ратовал за приход извне смелого и решительного государя-освободителя, и дождался. О страшных зверствах над мирными жителями рассказал флорентийским друзьям вырвавшийся из «римского мешка» Бенвенуто Челлини, которому пришлось с оружием в руках защищать замок Святого Ангела от наседавших ландскнехтов Карла V, жаждущих крови. От него стало известно, что один из головорезов, устроивших погром в залах ватиканского дворца, нацарапал кинжалом на фреске Рафаэля имя Лютера.
Микеланджело был подавлен случившимся, растерян и не знал, каких ещё ждать бед. В нём зарождаются сильные протестные настроения:
— Блаженные избранники судьбы! С небес мученья наши созерцая В чертогах дивных рая, Свободны вы иль, как и мы, рабы? — Нам слышатся мольбы И голоса зовущих. Но лишены мы чувства состраданья. — Ужель позор — удел рабов, живущих Смиреньем без борьбы? Видать, земное наше прозябанье Дано нам в наказанье. Земля, обитель зла, Зачем ты нас на свет произвела? Чем тянется медлительнее время, Тем тягостней и горше жизни бремя (134).* * *
Над Флоренцией нависла смертельная опасность стать жертвой скопища вооружённых грабителей и головорезов. 16 мая в городе вспыхнуло восстание, в результате которого Медичи и их сторонники вновь были изгнаны и объявлены вне закона. Началась мобилизация сил и средств для защиты города. Движение народных масс возглавили патриотически настроенные граждане Каппони, Кардуччи, Джиролами, Ферруччи и другие.
Несмотря на тревожную обстановку в городе, настроение у Микеланджело было тогда приподнятое, что редко с ним случалось. Два важных заказа взбодрили его и подняли настроение, хотя и гложущие душу сомнения его не покидали. Ему часто приходили на память слова из Евангелия от Иоанна о том, что «люди более возлюбили тьму, нежели свет», а потому на земле так много зла и несправедливости. Он корил себя за мысли о задуманном синтезе при проектировании капеллы Медичи и библиотеки, получившей название Лауренциана в честь Лоренцо Великолепного. Всё это уводило от правды жизни и той пропасти бед, в которую ввергнут простой люд, бедный и бесправный.
«К чему теперь этот проект, — мысленно задавался он вопросом, — когда вокруг царит зло и льётся кровь?» Свои мысли и терзавшие душу сомнения он выплёскивал на бумагу:
Покамест я витаю в облаках, От красоты не отрывая взора, Мечты мой разум развевает в прах, Предостеречь желая от позора. «Воскреснет только Феникс на углях, А остальные сгинут без разбора». Но я к советам глух, забыв про страх, И заглушаю всякий глас укора. Видать, сносить лишенья — мой удел, Хоть сердце разрывается на части, И я от бед житейских поседел. Давно меня преследуют напасти, И всё же мысль о смерти я презрел — Живу, покуда не сгорю от страсти (43).Подавляя грустные мысли, он работал одновременно над двумя проектами, и работа спорилась, хотя мешали постоянные ссоры с домашними и выклянчивание ими денег. Особенно настырны были двое младших братьев, которые продолжали бездельничать и водили компанию с такими же шалопаями и выпивохами, как они сами. Недавно зайдя в родительский дом, он не застал там отца, который сбежал в Сеттиньяно, объявив соседям, что сын выгнал его из дома. Микеланджело опешил от безумного поступка родителя, хотя за мессером Лодовико и ранее наблюдались дикие чудачества.
Незаслуженно нанесённая обида заставила его написать отцу целое послание, умоляя положить конец возводимой на него напраслине, когда он всецело занят важным делом. Клятвенно заверив отца в своей любви к нему, он попросил прощения за всё то, чего не совершал, и всю жизнь заботился только о его благе. К счастью, вскоре объявился Сиджисмондо, и он уговорил брата срочно отправиться с письмом в Сеттиньяно. Но мессер Лодовико не внял заверениям знаменитого сына, продолжая капризничать и безумствовать, пока его не удалось чуть не силой доставить домой, запереть и кормить с ложечки. Видя проявляемую сыновью заботу, старик не унимался, ещё больше блажил и капризничал, с чем приходилось мириться и сносить все его сумасбродства, учитывая почтенный возраст мессера Лодовико. Но как же всё это было так некстати и отвлекало от дел!
* * *
К 1525 году Новая ризница, которой по замыслу предстояло стать гармоничным сплавом архитектуры и скульптуры, была увенчана кессонированным куполом, опирающимся на четыре мощные опоры. Увидев возведённый купол с фонарём, украшенным семидесятидвухгранным шаром, который выполнил золотых дел мастер Пилото, старина Баччо д’Аньоло посоветовал изменить немного его форму, дабы не повторять творение Брунеллески над собором Санта Мария дель Фьоре. На замечание друга Микеланджело спокойно ответил:
— Изменить форму, дружище, мне под силу, а вот сделать лучше, чем он, невозможно. Перед Брунеллески всё меркнет.
Его мало занимало, как выглядит Новая ризница внешне, ибо все мысли были направлены на её внутреннее оформление и убранство. Размеры нижнего ряда капеллы с её толстыми стенами Микеланджело украсил коринфскими спаренными пилястрами и консолями из местного камня (pietra serena). Нижняя часть капеллы мало чем отличается от Старой ризницы, но Микеланджело пошёл дальше и дополнительно возвёл верхний ярус с окнами. Облегчённость применённых декоративных элементов порождает ощущение, что пространство сужается кверху.
Сложная структура капеллы, напоминающая архитектонику «Божественной комедии» Данте, состоит из напряжённо динамичного нижнего ряда, который дополнен вторым промежуточным ярусом с окнами, и завершается верхней частью под куполом, создающей при взгляде вверх впечатление «разреженности» пространства и как бы являя собой горнюю сферу духа, возвышающуюся над Чистилищем среднего ряда с окнами и Адом с надгробиями Медичи.
Все скульптурные элементы оформления капеллы вкупе с архитектурным декором отражают «всепоглощающее время», как удачно выразился биограф Кондиви. Эта фраза является ключевой для понимания основополагающей идеи капеллы Медичи. Для создания ощущения текучести времени Микеланджело были задуманы шесть аллегорических изображений рек: Арно, Тибра, По, Метавра, Таро и Рено, дабы подчеркнуть скоротечность бренного существования человека на земле. От задуманных изваяний рек сохранился только глиняный слепок (Флоренция, Академия).
Работа над капеллой Медичи растянулась на несколько лет, и её первоначальный проект претерпел со временем серьёзные изменения. Поначалу, как явствует из одного рисунка Микеланджело (Лондон, Британский музей), он предполагал соорудить сдвоенную гробницу для Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано, но ряд обстоятельств вынудил его отказаться от этой идеи. Немало сил и времени было затрачено на поездки в каменоломни, сопряжённые с неимоверными трудностями и опасностью для жизни, так как по всем дорогам рыскали банды головорезов и грабителей. Как это всегда бывало с Медичи, поначалу они загорались идеей, но со временем их интерес к ней угасал и начиналась нудная унизительная возня с выбиванием средств для продолжения работ, которые требовали немалых затрат.
Капелла Медичи — это редчайший случай в истории искусства, когда интерьер и статуи создавались не только одновременно, но и согласно вынашиваемой годами идее предназначались друг для друга, являя собой синтез двух искусств. По замыслу каждая гробница включает в себя три фигуры, в том числе усопшего, который показан не погружённым в вечный сон, а в образе живого сидящего человека. На покатых крышках саркофагов возлежат две фигуры сопровождения. Но вместо традиционных христианских фигур таких добродетелей, как Смирение и Благочестие, характеризующих покойного, здесь помещены аллегорические изваяния времён суток как напоминание о скоротечности земного бытия.
Первой скульптурой, появившейся в капелле, была фигура «Ночь» — вписанная в круг композиция. Она изображает обнажённую женскую фигуру в полулежачем положении. Её голова склонилась на грудь, а локоть правой руки опирается на высоко согнутую в колене левую ногу. Она жаждет сна, но её сновидения полны беспокойства и трагического предвидения. Изысканность гибкой позы «Ночи» напоминает античные изваяния Леды и Спящей Ариадны, хотя Микеланджело здесь меньше всего интересовало отображение наготы женского тела. Главное для него — показ тщеты земного существования, когда всё неизбежно заканчивается вечным ночным мраком.
Скульптура дополнена декоративными атрибутами: луной и звездой на диадеме, а под левой рукой классическая маска из древнегреческой трагедии как воплощение кошмарных сновидений, свойственных чувственной натуре человека. Позднее кое-кто хотел усматривать в трагической маске автопортрет самого Микеланджело, что весьма спорно. Под согнутым коленом Ночи изображена ночная вещунья-сова, предвестница беды. Ступня левой ноги фигуры опирается на гнездо с вылупившимся из яйца совёнком. Под ступнёй правой ноги оставлено место, предназначенное, вероятно, для изображения мыши, грызущей и без того убывающее с каждым мгновением время.
«Ночь» — одно из выдающихся творений Микеланджело, в котором все части тела находятся как бы в винтообразном движении при полной неподвижности самой фигуры. Он впервые изваял обнажённую женскую фигуру, будучи настолько захвачен работой над скульптурой «Ночи», что из-под его пера вышло одновременно четыре сонета, посвящённых ночному времени и навеваемым им настроениям. Приведём один из них, в котором автор говорит о себе и своей работе:
О, час ночной, хотя покров твой мрачен, Как спорится работа в тишине И любо с думой быть наедине! Ты откровеньем мудрости означен. Пусть я бываю вечно озадачен, Во тьме бодрящей так отрадно мне Полёт мечты лелеять в полусне, Чтоб с явью не был высший смысл утрачен. О, призрак хладной смерти, ты один За все страданья служишь искупленьем И от духовной нищеты спасаешь. Над нашим бренным телом господин, Ты одаряешь праведных терпеньем И слёзы их навечно осушаешь (402).* * *
После завершения скульптуры «Ночь» работа над капеллой Медичи шла урывками или вовсе прерывалась на неопределённое время. Как всегда, постоянно не хватало средств на закупку мрамора и оплату рабочим, а бывали случаи, когда Микеланджело всех отправлял по домам из-за свирепствовавшей в округе чумы.
Однажды его позабавило пришедшее предложение воздвигнуть на площади перед Сан Лоренцо мраморного Колосса. В шутливом письме священнику Фаттуччи, через которого была получена странная просьба папы, он предложил в пустотелой голове статуи устроить голубятню или разместить в ней колокола, чтобы Колосс вопил, как в Судный день, о всепрощении. Более глупую затею трудно было вообразить, когда напряжённая обстановка в городе нарастала, поблизости свирепствовала чума и ежедневно приходили сведения о жестокостях имперского войска вкупе с испанской солдатнёй на захваченных тосканских землях.
Как это не раз с ним бывало, моменты наивысшего творческого подъёма сменялись депрессией и унынием. Доведённый до отчаяния возобновившимися угрозами наследников Юлия отдать его под суд, Микеланджело решил отказаться от ежемесячного папского вознаграждения и от самого проекта, чувствуя, видимо, правоту кредитора. Друзья сочли его поступок очередным чудачеством. Один из них, Леонардо Селлайо, писал из Рима: «Слышал, что Вы отказались от содержания, бросили подаренный дом и прекратили работу. Мне это кажется совершенным безумием. Перестаньте, друг мой, играть на руку своим врагам. Выбросьте из головы гробницу Юлия и получайте свои деньги, коль скоро их дают с охотой».
Шло время, а он продолжал упорствовать, чего никак не могли понять его домашние, а молчаливый Антонио Мини не выдержал и как-то заметил:
— Напрасно, мастер, вы упорствуете и потакаете лишь мздоимцам и казнокрадам, которые прикарманивают полагающееся вам довольствие.
Видимо, замечание толкового помощника возымело действие, и после долгих раздумий он признал ошибочность своего отказа от денег. Поступившись гордостью, он решил обратиться в казначейство с просьбой возобновить выплату пансиона, необходимого для продолжения работ в капелле. Но его решили проучить и сбить гонор — ответа на просьбу не последовало. Он растерялся и промучился неделю в сомнениях, не зная, что предпринять. Тогда ему пришла идея обратиться прямо к папе, от которого всё зависит, и он поручил верному Мини доставить в Рим письмо:
«Святой отец! Поскольку из-за посредников часто происходят большие недоразумения, я осмелился обратиться к Вашему Святейшеству по поводу гробницы Медичи в Сан Лоренцо. Я не знаю, что лучше: зло, которое приносит пользу, или добро, которое вредит. Хоть я и злой, и глупый человек, но я уверен, что если бы мне дали продолжить работу так, как она мною задумана, то весь мрамор уже был бы во Флоренции с гораздо меньшими расходами, чем сегодня. Теперь я вижу, что дело затягивается, и не знаю, чем всё это кончится. Поэтому извиняюсь перед Вашим Святейшеством, чтобы впоследствии, если работа не будет отвечать Вашим требованиям, с меня была бы снята всякая ответственность. Если же Ваше Святейшество предоставит мне полную власть и свободу в моём искусстве и над вверенными мне людьми, то увидите, каких удивительных результатов я достигну».
Письмо возымело действие, ему вернули ежемесячное денежное довольствие. Удовлетворённый достигнутым, он в приподнятом настроении продолжил работу и в капелле Медичи, и над проектом библиотеки Лауренциана, для которой был уже заложен фундамент.
Но чтобы ещё крепче связать обязательствами строптивого мастера, ему было поручено изваяние огромной скульптуры в пару «Давиду» перед входом во дворец Синьории. Для этой цели в его распоряжение передавалась извлечённая со дна Арно утопленная мраморная глыба, предварительно обтёсанная под колонну для фасада Сан Лоренцо. В своё время эта мысль была высказана покойным гонфалоньером Содерини, когда тот хотел во что бы то ни стало помирить его с грозным папой Юлием. Напоминанием о той давней истории остался глиняный слепок «Геракл и Какус» (Флоренция, дом Буонарроти).
* * *
Капелла Медичи создавалась Микеланджело в период неслыханного унижения Италии после разграбления чужеземцами Рима. Пока в городе кипели страсти, он не покидал капеллу, где им было принято окончательное решение ограничиться двумя пристенными надгробиями, тем более что заказчику было не до Новой ризницы, когда шла война. По его замыслу новая капелла в Сан Лоренцо должна была отразить трагическое крушение клана Медичи, с которым тесно связывались судьбы Италии и его самого.
В своей нижней части обе гробницы представляют собой украшенные волютами саркофаги, на чьих массивных крышках возлежат аллегорические скульптуры. Над ними в нишах помещены фигуры усопших. При этом аллегорические скульптуры находятся в реально осязаемом пространстве, а фигуры герцогов — в условном пространстве ниши. Если подойти вплотную к аллегорическим скульптурам, то они заслоняют собой сидящую фигуру в нише, так что всю композицию следует разглядывать на расстоянии, как это происходит с произведениями живописи для получения полноты восприятия картины.
Впервые в итальянском искусстве скульптуры задуманы в тесной взаимосвязи друг с другом, с архитектурой, с окружающей средой и единым источником света. В созданных Микеланджело скульптурах главная роль отведена не только пластической форме, но и свойственному живописи приёму светотеневой моделировки, получившему название «живописной пластики», которая в дальнейшем нашла развитие в работах Бернини, творца римского барокко.
Выбор Микеланджело пал на двух мало чем примечательных отпрысков клана Медичи. Ему, вероятно, было известно, что поначалу свой труд «Государь» покойный Макиавелли намеревался посвятить Джулиано, герцогу Немурскому, а после его преждевременной смерти — племяннику последнего Лоренцо Урбинскому, на которого одно время флорентийцы возлагали надежды как на защитника славных традиций.
По мере того как его изваяния обретали трепетную плоть, а мрамор оживал прямо на глазах, сам Микеланджело сильно сдал — кожа да кости — и еле держался на ногах, вызывая серьёзное беспокойство за его здоровье родных и друзей. Казалось, что все свои силы он вдохнул в скульптуры.
Первым появился герцог Лоренцо, чей незаконнорождённый сын Алессандро стал деспотичным правителем Флоренции, а дочь, Екатерина Медичи — королевой Франции. Лоренцо оставил о себе недобрую память у граждан славного герцогства Урбино, унаследовав от своего отца-неудачника Пьеро Медичи наглость и непомерную жестокость.
Микеланджело явно облагородил фигуру никчёмного внука Лоренцо Великолепного. Его голова увенчана воинским шлемом, обтянутым львиной шкурой. Герцог сидит, скрестив ноги. Левую ногу он поджал под себя, а правая выступает за пределы ниши. Его поза выражает полную отрешённость от мира. Подперев подбородок правой рукой с зажатым платком, он погружён в думу. Но чтобы рука дотянулась до подбородка, пришлось ему под локоть положить декоративную шкатулку с изображением летучей мыши на торцевой стенке, что говорит о беспокойных мыслях, тревожащих душу Лоренцо, и его тайных тёмных планах.
Создавая этот образ как олицетворение Жизни созерцательной (vita conlemplativa), Микеланджело повторил позу задумчивого пророка Иеремии — Il Pensieroso — на сикстинской фреске. У его подножия на крышке саркофага находятся две аллегорические скульптуры. Угрюмый «Вечер» расправил мощную мускулатуру, готовясь к отдыху, но сна нет, а так хочется забыться. После тяжёлого пробуждения «Аврора» никак не отойдёт от тревожных сновидений. Согнув левую ногу и очнувшись, она готова подняться, а рука тянется к покрывалу, чтобы натянуть его на лицо и не видеть пробуждающийся недобрый мир.
Когда кто-то из друзей заметил, что герцог Лоренцо не похож на себя, Микеланджело ответил:
— Похож, непохож… Кого это будет интересовать лет через пятьсот?
В нише у противоположной стены сидит Джулиано, герцог Немурский. Он с непокрытой головой, но в античных доспехах, подчёркивающих его развитую мускулатуру и вызывающих в памяти статуи римских императоров. Беспокойный взгляд герцога устремлён в сторону, на коленях лежит полководческий жезл, но отдавать приказания больше некому, так как армия разбежалась под натиском наседающей вражеской армады. В отличие от задумчивого Лоренцо он должен выражать Жизнь деятельную (vita activa), но от всей его фигуры веет безволием.
Однако между фигурами герцогов нет противопоставления, так как созерцательность и деятельность присущи каждой из них. Лоренцо не только задумчив; в нём чувствуется сила и даже воинственный дух, о чём говорят шлем на голове и латы. А вот воинственный Джулиано, наоборот, впал в задумчивость, а потому у него неуверенные движения рук и отсутствующий взгляд. В своё время это вызывало разноречивые суждения исследователей, предлагавших поменять герцогов местами и считать отныне, что на месте Лоренцо восседает Джулиано, и наоборот. И всё же, как бы там ни было, мы будем придерживаться сложившегося мнения на этот счёт.
Фигуры герцогов помещены в нишах, лишённых какого-либо архитектурного декора, зато окаймляющие их боковые пустотелые ниши увенчаны лепными фронтонами на консолях, чем достигается удивительное равновесие контрастирующих элементов, и диссонанс плавно завершается общей гармонией композиции. Украшенные волютами крышки саркофагов покаты и намного короче лежащих на них фигур, которым приходится делать неимоверное усилие, чтобы удержаться на мраморном ложе и не скатиться вниз по наклонной плоскости. Создаётся впечатление, что крышки саркофагов представлены укороченными и покатыми преднамеренно, чтобы аллегорические фигуры не лежали бы на них неподвижно, а создавали ощущение заключённой в них энергии и предпринимаемых ими внутренних движений.
С тыльной стороны статуи Джулиано латы, прикрывающие плечи, украшены античной маской как намёк на неуравновешенный характер герцога, который был склонен к приступам бешенства, что испытали на своей шкуре его приближённые и челядь. У его подножия расположились погружённая в свои мысли задумчивая «Ночь» и грузный сумрачный «День», недовольно взирающий из-за плеча на людей, от которых не ждёт ничего хорошего.
Микеланджело хорошо знал младшего сына Лоренцо Великолепного, склонного с ранних лет к наукам и проявлявшего интерес к искусству. В трудные дни для Леонардо да Винчи, когда художнику пришлось переходить от одного покровителя к другому, герцог Джулиано добился для него приглашения в Рим ко двору, что делает ему честь. Но Микеланджело ещё в юности столкнулся со вспыльчивостью и надменностью Джулиано.
Однажды, когда по обычаю он ранним утром появился в капелле, ему почудилось, что обе аллегорические скульптуры у подножия герцога о чём-то шепчутся, и тогда в его тетради появились такие строки:
Ведут беседу Ночь со Днём: — Мы нашим бегом быстротечным Сгубили герцога Джульяно, И мысль о мести зреет в нём. Коль смерть его скосила рано, Он покарает нас навечно, Чтоб не сиять нам над землёй. Что стало бы, будь он живой? (14)Действительно, если б жестокий и мстительный Джулиано стал правителем Флоренции, в какие бы беды он её ввергнул? Но судьба распорядилась иначе, не дав развернуться его злобной натуре.
Венчает этот гениальный художественный цикл незаконченная статуя Мадонны Медичи. Она представлена в момент кормления подросшего крепыша-младенца, пытающегося в сложном спиралеобразном повороте добраться до материнской груди. Богоматерь-Млекопитательница символизирует собой образ Церкви — Mater Ecclesia.
Статуя Мадонны расположена у противоположной стены от алтаря справа от входа. Она представляет собой духовный центр капеллы, олицетворяя то истинное блаженство, которое постигает душа человека, презревшего страх смерти бренного тела. Её образ повторяет тип Мадонны virago, то есть сильной мужеподобной женщины, который был представлен ранее в мраморном рельефе «Тондо Питти» и на картине маслом «Святое семейство» или «Тондо Дони». К ней обращён взор герцога Джулиано, как бы моля о заступничестве, но всё тщетно — Мадонна, потупив взор, ещё крепче прижимает к себе младенца, сознавая, что ждёт его в жизни.
Поражает напряжённая композиция скульптуры: одна нога опирается на другую, столь же дифференцировано положение рук, когда тело наклоняется вперёд, а голова склоняется набок. Особенно непривычна поза ребёнка, сидящего на колене матери нагишом животиком вперёд, но совершая винтообразное движение, касается руками материнской груди, уткнувшись в неё личиком. Несмотря на резкие движения от всей скульптуры веет сдержанностью и величавым спокойствием.
По замыслу рядом с Мадонной помещены фигуры святых Космы и Дамиана, считавшихся небесными покровителями семейства Медичи. Они были выполнены позднее по оставленным Микеланджело авторским слепкам учениками Анджело Монторсоли и Рафаэлем да Монтелупо, сыном старого товарища Баччо, не раз приходившего ему на выручку, особенно с заказом для сиенского собора, к которому у него не лежала душа.
Выделяется фигура Космы, смоделированная Микеланджело и исполненная Монторсоли, который ещё недавно вместе с Челлини защищал замок Святого Ангела от наседавших ландскнехтов Карла V. Скульптуру Космы с её напружиненной внутренней энергией впору назвать «умиротворённым Моисеем».
Глава XXIV ГОДЫ БОРЬБЫ И НАВАЖДЕНИЯ
Увы, увы, я предан бессердечно
Потоком промелькнувших мимо лет!
И зеркало не лжёт мне в утешенье —
Мои года нашли в нём отраженье (51).
Пока он трудился в капелле Медичи, восставшие флорентийцы укрепляли оборонительные рубежи, горя желанием отстоять во что бы то ни стало обретённую свободу. Было образовано новое правительство из представителей разных слоёв, цехов и городских районов во главе с гонфалоньером Никколо Каппони.
Эхо бурных событий вызывало у пятидесятилетнего Микеланджело страхи и волнения. Его глубоко опечалило, что во время взятия орущей толпой дворца Синьории была покалечена скульптура «Давид», в чём ему виделось дурное предзнаменование, не сулящее ничего хорошего восставшим. Он даже стал обходить стороной площадь Синьории с одноруким «Давидом», чтобы не видеть нанесённое оскорбление его герою.
В те бурные дни в мастерской Микеланджело появился шестнадцатилетний юнец Джорджо Вазари, который передал ему собранные и сохранённые им обломки левой руки «Давида». Поблагодарив его, Микеланджело предложил смышлёному отроку поработать в его команде. Так началось их знакомство, которое позднее переросло в творческую дружбу, несмотря на большую разницу в возрасте.
Именно Вазари мир обязан подробным словесным портретом Микеланджело. Приведём его с небольшими сокращениями:
«Телосложения был он очень крепкого, суховатого и жилистого. В детстве здоровьем не отличался, а в зрелые годы перенёс две тяжёлые болезни и всё же смог свои недомогания побороть, но в старости страдал от камней в почках… Роста был он среднего, в плечах широк и во всём теле складен.
Старея, стал постоянно носить сапоги из собачьей кожи на босу ногу, которые месяцами не снимал и спал не разуваясь. Но когда пытался их снять, то вместе с ними часто сдирал и собственную кожу… Лицо у него круглое, лоб квадратный с семью морщинами, виски выступают немного вперёд ушей; уши скорее великоваты и оттопыриваются. По сравнению с лицом тело казалось несколько крупным; нос немного сплющен после удара кулаком Торриджани; глаза скорее маленькие, рогового цвета, с желтоватыми и синеватыми искорками, брови редкие, губы тонкие, причём нижняя потолще и немного выступает вперёд, подбородок правильной формы и пропорционален всему прочему, борода чёрная с проседью, не очень длинная, раздвоенная надвое и не слишком густая». Позднее при росписи в римском дворце Канчеллерия Вазари написал портрет Микеланджело в зрелые годы — одно из немногих его достоверных изображений, дошедших до нас.
Необузданный в своих страстях и творениях Микеланджело часто робел и проявлял малодушие, когда жизнь властно требовала принятия твёрдого решения, а у него опускались руки и он поддавался панике. Но на сей раз живущий в нём дух пламенного республиканца взял верх над робостью, подозрительностью и сомнениями. Помимо воли он оказался вовлечённым в гущу политических событий.
В январе 1529 года его избрали в Коллегию девяти и назначили прокуратором всех флорентийских оборонительных сооружений, отдав должное его знаниям инженера и строителя. Он с воодушевлением взялся за порученное дело и совершил несколько инспекционных поездок в Пизу, Ливорно и Ареццо, где проверил готовность крепостей и бастионов к обороне. По просьбе правительства ему пришлось нанести визит в качестве официального посланника в нейтральную Феррару, чтобы ознакомиться с тамошней системой обороны и знаменитым артиллерийским парком. Герцог Альфонсо д’Эсте тепло его принял. После смерти жены Лукреции Борджиа он располнел, заметно сдал и страдал одышкой. Воспользовавшись приездом великого художника, герцог заказал ему картину в обмен на голову папы Юлия, доставшуюся ему после сбрасывания восставшим народом Болоньи бронзовой скульптуры с фронтона собора Сан Петронио.
Ознакомившись с богатой дворцовой коллекцией, где внимание Микеланджело привлекла яркая по живописи работа Тициана «Вакх и Ариадна», он пообещал герцогу на прощанье написать что-нибудь на мифологическую тему, например «Леду и лебедя», как только события позволят ему взять в руки кисть.
Вернувшись, он с головой ушёл в дела города, оказавшегося на осадном положении в ожидании нападения вражеского полчища. В качестве командного пункта им была облюбована колокольня на холме Сан Миньято, откуда вся Флоренция была видна как на ладони и хорошо просматривалось появление неприятеля с любой стороны. Под его руководством шло возведение бастионов на южном направлении, откуда ожидалось наступление главных ударных сил врага. Сама колокольня по его приказу была увешана матрасами и мешками с шерстью для смягчения прямого попадания вражеских ядер.
Чтобы лишить противника манёвра и укрытия, многие загородные дворцы и прочие здания на подступах к городу были разобраны, а виноградники и деревья в садах и парках вырублены под корень. Ему было горько сознавать, что некоторые романские и готические постройки были принесены в жертву во имя спасения республики и что на его долю выпала неблагодарная роль их разрушителя.
Однажды к нему на колокольню поднялись запыхавшиеся Вазари и Понтормо, умолявшие в один голос уберечь от разрушения монастырь Сан Сальви в трёх верстах от южных городских ворот Порта Романа, где в монастырской трапезной находится одна из последних фресок неизлечимо больного чахоткой Андреа дель Сарто «Тайная вечеря». Весть о гибели любимого творения вконец его убьёт.
Монастырь по распоряжению Микеланджело был спасён от разрушения. Его искренне опечалила болезнь художника, который был моложе лет на десять и всегда поражал его своим талантом и сдержанностью в суждениях. Он высоко ценил его за верность традициям флорентийской школы и воспринятую им мягкость леонардовской светотеневой моделировки вкупе с почти венецианской сочностью палитры. Вскоре славного живописца не стало.
Всё жаркое лето напролёт Микеланджело провёл на оборонительных рубежах, руководя возведением крепостных стен и укреплением бастионов. Работал он на подъёме, чувствуя, как с каждым днём силы крепнут и удваиваются. Его поражало, с какой отдачей трудились горожане на земляных и строительных работах независимо от их социального положения. Одни подносили доски, кирпичи и щебень, другие были заняты рытьём глубоких рвов. Их энтузиазм передавался и ему, умножая в нём силы и крепя веру в победу.
На закате он возвращался в капеллу Медичи, чтобы отойти от дневных забот и поработать немного резцом. Но старался действовать тихо, не привлекая внимания прохожих, иначе у повстанцев могли бы возникнуть подозрения, что он продолжает трудиться на врагов республики, а какой-нибудь фанатик, не раздумывая, мог бы и прикончить его на месте.
Он любил эти ночные часы, когда ничто не отвлекало и работа спорилась в тишине, а мир после дневной суеты и треволнений затихал, предавшись сну. В одном из его «ночных» сонетов есть такое неожиданное признание, в котором он старается пояснить причину своей склонности к ночным бдениям:
В дни памятного первосотворения И время создал Бог из ничего. Он, на две части поделив его, Отдал Луне и Солнцу на хранение. Дав людям свет и темень во владение, Не обделил сей долей никого. Меня сдружил Он с ночью одного — Вот отчего чернявый я с рожденья. Уподобляясь суженой своей, Моя душа во мраке пребывает — От грустных дум невесело уму. Но жизнь становится куда милей, Коль невзначай луч света приласкает, Тогда я верю, что рассею тьму (104).Ночные часы импонировали его мрачной натуре, а вот днём у него постоянно происходили стычки с въедливым гонфалоньером Каппони, сыном славного Пьеро Каппони, который порвал на глазах французского короля Карла VIII постыдный пакт, подписанный низложенным Пьеро Медичи. Не в пример отважному отцу-республиканцу младший Каппони старался сдерживать пыл Микеланджело, считая принимаемые им меры излишними и преждевременными, способными вызвать только гнев папы, а там недолго и до отлучения города от церкви. Такое уже случалось в смутное время ожесточённой борьбы между сторонниками и противниками Савонаролы.
Как-то у Микеланджело произошёл бурный разговор с давним другом и товарищем по цеху Франческо Граначчи, который настаивал на его немедленном отъезде из осаждённого города.
— Ну какой из тебя вояка? — убеждал он его. — Ты прежде всего творец и должен быть с теми, от кого зависит твоя дальнейшая судьба. В нашей обезумевшей ныне Флоренции над духом созидания взял верх дух разрушения. Побереги себя и не упрямься.
Ему было неприятно, что друг не понимает его нынешнего настроя души, живущей одной только мыслью — защитить Флоренцию от врага.
— Сегодня моё место среди защитников республики, ставших мне ближе родных братьев.
— Одумайся! Не ровен час, и твои, как ты их называешь, «братья» выдадут тебя с потрохами папским наймитам.
Друг был во многом прав. По городу давно ползли слухи об измене, а вскоре по подозрению в связи с папскими посланцами Каппони отправили в отставку, и новым гонфалоньером был избран Франческо Кардуччи. Микеланджело направился к нему, узнав о падении Пистойи и других городов на подступах к Флоренции, сданных врагу без боя продажными чиновниками. Он счёл своим гражданским долгом предупредить, что один из предводителей отрядов ополчения, Малатеста Бальони, ведёт двойную игру, давая противнику закрепляться на ближних подступах к городу. Но гонфалоньер Кардуччи не стал его слушать и грубо прервал:
— Тебе всюду мерещится измена. Поди-ка хорошенько проспись, на тебе лица нет!
Если бы тогда Кардуччи внял вполне обоснованным опасениям, то не закончил бы свои дни на виселице после предательской сдачи города врагу.
На выходе из дворца Синьории один из стражников с алебардой вручил Микеланджело конверт на его имя, присланный из Пистойи. Но кто мог писать ему оттуда? Старинного друга-литератора Джованни ди Бенедетто, с которым он обменивался шуточными посланиями, давно нет в живых, а других знакомых там у него не было.
Вернувшись к себе, он вскрыл конверт с посланием, полным грязных ругательств, угроз и оскорблений. Оно было в стихах и под ним стояли две неразборчивые подписи. Ему вспомнились два шалопая из Пистойи, которые однажды объявились в школе ваяния в садах Сан Марко и стали закадычными дружками хвастливого Торриджани. Но вскоре мастер Бертольдо, раскусив их суть, отчислил обоих из школы за лень и бездарность.
Микеланджело задело за живое голословное обвинение в измене приютившему его дому Медичи и угрозы за дружбу с повстанцами. Он долго не мог успокоиться от распиравшего его негодования, пока не нашёл нужные слова, чтобы излить свои чувства. В написанном сонете с кодой, ибо переполнявшая его злость переливалась через край отведённых четырнадцати строк, содержится намёк на Данте, чьи настроения так ему импонировали. В XXV песне «Ада» великий поэт гневно осудил предательство:
Сгори, Пистойя, истребись дотла! Такой, как ты, существовать не надо! Ты свой же корень в скверне превзошла!Приведём ответ Микеланджело утерянному посланию анонимных авторов, обвинивших его в измене и прочих смертных грехах:
Посланье получив без промедленья, Я прочитал его раз двадцать пять. Не по зубам стихи вам сочинять, Как и обжорам долгое говенье. Прослышал я без тени удивленья, Что Каин мог бы вашим предком стать, Раз к людям злобой пышете опять Вы — семени гнилого порожденье. Предатели и низкие лжецы, Ликуете, свободу попирая? Себе же вред чините, подлецы. Поэт был прав, Пистойю проклиная. И я проклятье шлю всем вам, льстецы, Христопродавцев и ублюдков стая! Флоренция родная, Хотя свиней вокруг огромна рать, Но нам пред ними бисер не метать! (71).* * *
Тревога не покидала его. Он стал опасаться, что Малатеста, узнав о его разговоре с гонфалоньером, отомстит ему. У этого мясника руки были по локоть в крови, и о его жестокости ходили самые невероятные слухи. В те тревожные дни многие добропорядочные семьи выехали из города — в основном представители имущих слоёв и знати. Простому народу некуда было бежать, и люди, охваченные общим порывом, думали только об одном: как защитить родной город и республиканские устои.
Микеланджело отправил отца и вдову брата с племянником Лионардо в Пизу, куда не доходило эхо войны. За девочку Франческу можно было не беспокоиться, ибо она была под надёжной защитой монахинь-кармелиток за прочными стенами монастыря в горах. Два младших брата, получив от него деньги, сами о себе позаботились и скрылись от греха подальше, ибо высокие цели защиты республики им были чужды.
Предчувствуя трагическую развязку событий, Микеланджело не выдержал нависшей над городом угрозы, ощущением которой был пропитан сам воздух, и объятый паническим страхом, похожим на манию преследования, тайно покинул Флоренцию и вверенные ему позиции. В посланном с дороги письме другу Баттисте делла Палла от 25 сентября 1529 года он объяснил причину своего внезапного исчезновения: «Я уехал, не сказав никому ни слова, в большом смятении духа. Утром во вторник, когда я находился на крепостном валу у Сан Никколо, кто-то шепнул мне на ухо, что если мне дорога жизнь, дальше оставаться во Флоренции опасно… Был ли то Бог или дьявол — я не знаю».
Но если вспомнить подобные ситуации в прошлом, когда он в панике бежал из Флоренции в Венецию осенью 1494 года или его скоропалительный отъезд из Рима в 1506 году, где, как было сказано одним из друзей, гробница скорее понадобится ему самому, а не папе Юлию, то можно утверждать, что «дьяволом» был всё тот же не отпускающий его душу утробный страх, граничащий с паранойей и полностью затмевающий разум.
Окольными путями вместе с сопровождавшим его помощником Мини он достиг Феррары, но не решился воспользоваться гостеприимством герцога Альфонсо д’Эсте, который в шутку предложил ему считать себя пленником, пока вокруг не утихнет война. Герцог рассказал, как когда-то вместе с малолетним племянником Федериго Гонзага оказался заложником папы Юлия II, который потребовал от него ради получения свободы подчинения Феррары и Мантуи его власти.
— Зато благодаря тому «пленению», — весело закончил он свой рассказ, — я смог увидеть подлинное чудо в Сикстинской капелле и оценить силу вашего гения!
Пообещав, что заказанная «Леда» вскоре будет готова, Микеланджело проследовал дальше и вновь оказался в Венеции, которая притягивала к себе всех гонимых судьбой и нуждающихся в трудную минуту в убежище. Среди проживающих там флорентийцев он повстречал опального поэта Франческо Берни, чьи сатирические капитулы в терцинах имели широкое хождение в рукописных списках и ими зачитывались в литературных и художнических кругах. Он даже успел обменяться с ним мнением о положении дел во Флоренции. У Берни появилось немало подражателей, а его лёгкий стиль с присущим ему юмором и желчью получил в литературе название «бернеско». Большой известностью пользовался один из последних капитулов, полный сарказма, посвящённый восхождению на престол папы Адриана VI и начавшемуся при нём гонению на искусство, когда многие мастера были вынуждены покинуть Вечный город.
Он поселился подальше от дворцов патрициев на дальнем острове Джудекка, где обитали в основном рыбаки и беднота. Когда-то там обосновалась после изгнания из Испании богатая еврейская община, дав название самому острову. Приток беженцев особенно возрос во время гонений на испанских марранов — евреев, принявших христианство. После перевода знаменитых стеклодувных мастерских на остров Мурано из-за частых пожаров освободившийся квартал в центральной части города облюбовала пустившая глубокие корни еврейская община, где и появилось так называемое гетто. Это распространённое в мире понятие происходит от итальянского слова getto — отливка из стекла или бронзы.
В Венеции страхи Микеланджело несколько поутихли. Как пишет Вазари, правительство республики проявило большой интерес к его неожиданному появлению. По заказу дожа Андреа Гритти он сделал проект моста Риальто «редкостной красоты». Но кроме Вазари о том проекте больше никто не упоминает.
Все его мысли были заняты намечаемым отъездом во Францию по примеру Леонардо да Винчи. На родной итальянской земле, объятой пламенем войны, он не видел для себя как творец никакой перспективы. Французский посол успел оповестить об этом короля Франциска I, который повелел выделить знаменитому мастеру дом под Парижем и назначить денежное довольствие. В тетради Микеланджело появились такие строки:
Несётся дней безумных хоровод, И близок час заката. К былому нет возврата. Как молоды ещё в груди желанья, И старость их неймёт — Неутолённость жажды в наказанье. Но полон я признанья За мой порыв душевный Лишь Музе, что меня не забывает, Хоть тяжки испытанья. Горит очаг мой верный И сердце напоследок согревает, Да сил запас в нём тает. Не лучше ль в одночасье умереть, Чем старой головешкой в пепле тлеть? (143)Пока шла переписка посла с королём, 30 сентября Синьория постановила признать всех покинувших Флоренцию граждан изменниками и врагами республики, а их имущество конфисковать. Последнее серьёзно озадачило Микеланджело, так как на родине он обладал земельными угодьями и счетами в банке. Но с помощью влиятельных лиц для него было сделано снисхождение, лишь бы он вернулся. «Все ваши друзья без исключения, не колеблясь, — пишет ему 22 октября Баттиста делла Палла, — в один голос заклинают вас вернуться, если вы хотите сохранить жизнь, родину, друзей, имущество, честь и порадоваться новым временам, прихода которых вы так горячо желали и ждали».
Слова друга, который специально выехал ему навстречу, окончательно рассеяли его страхи, и 20 ноября он оказался дома, а через три дня Синьория отменила приговор об изгнании, но лишила его права на три года заседать в Большом совете.
Оказавшись в родной среде, он с энтузиазмом подключился к общему делу — защите республиканских свобод, а по вечерам в мастерской отводил душу, вновь берясь за резец.
Из Болоньи пришла весть о том, что 24 февраля 1530 года Климент VII короновал Карла V в соборе Сан Петронио, провозгласив его главой Священной Римской империи, а тот взамен обещал очистить Флоренцию от бунтовщиков.
Кольцо вражеского окружения затягивалось всё туже. Через него не могли прорваться обозы с провиантом, и горожанам приходилось потуже затягивать пояса. Возникли серьёзные перебои с продовольствием, и над Флоренцией нависла угроза голода. Противник выжидал, намереваясь взять город измором. На стенах многих домов появились начертанные слова: «Нищие и голодные, но свободные!»
Неприятель пока избегал открытых стычек с флорентийцами и выжидал удобный момент для прорыва обороны. Тёплым апрельским днём по случаю четвёртой годовщины восстания и обретения республиканских свобод в соборе Санта Мария дель Фьоре состоялся благодарственный молебен, после которого перед собравшимися выступили с пламенными речами многие известные горожане. Так, молодой литератор Баччо Кавальканти закончил свою речь призывом: «Свобода или смерть!», и толпа в едином порыве проскандировала эти зажигательные слова. А взявший слово Ферруччи заявил:
— Братья и сёстры! Пусть три четверти нас погибнет, зато остальные будут славить свободу!
Его суровые слова вселяли веру в победу. Вскоре пришла радостная весть, что тому же Ферруччи с небольшим отрядом смельчаков удалось проделать брешь в кольце вражеского оцепления и пригнать в город стадо коров и телят. Горожане воспрянули духом, так как в округе давно была изведена всякая живность. Некоторые предприимчивые дельцы воспользовались моментом и выставили на прилавки припрятанное про запас продовольствие по взвинченным ценам, наживаясь на людском горе.
Положение с каждым днём ухудшалось. Хоть силы были неравны, восставшие продолжали стойко держать оборону. Пришла печальная весть: в сражении на подступах к городу пал смертью храбрых Франческо Ферруччи. Микеланджело встречался с ним не раз при обсуждении военного положения. Его поражал этот молодой человек, вышедший из низов, но отличавшийся благородством, трезвостью ума, мужеством и непоколебимой верой в правоту общего дела защиты республики.
История повторилась. Почти полтора века назад чесальщики шерсти Ciompi (чомпи) смело выступили против власти олигархов. Отличие только в том, что Франческо Ферруччи геройски погиб, сражаясь с врагами республики, а предводитель чомпи Микеле ди Ландо трусливо предал своих товарищей.
Позднее, коротая старость в папском Риме, Микеланджело часто вспоминал то счастливое героическое время, когда он с гордостью чувствовал себя частицей своего народа, выступившего в едином порыве за свободу и защиту республики, о чём поведал в беседах с португальским художником Франсиско де Ольянда.
* * *
Свершилось то, что предвидел Микеланджело. Малатеста предал горожан и 2 мая открыл ворота врагу. Началась массовая расправа над республиканцами. На городских площадях вырос лес зловещих виселиц. Первыми были казнены многие друзья Микеланджело, и среди них Баттиста делла Палла, а сам он, охваченный ужасом, укрылся поначалу на колокольне Сан Никколо, а затем в подземелье капеллы Медичи, где ему были известны самые укромные места.
Закрылась одна из самых славных страниц в истории Флоренции. Правление городом перешло в руки папского эмиссара Баччо Валори, под чьим руководством действовали отряды карателей. Вскоре пришло распоряжение Климента VII разыскать прячущегося Микеланджело и передать ему, чтобы он продолжил работу над капеллой Медичи, — папа не держит на него зла. Когда Микеланджело вышел из укрытия и приступил к работе, ему вернули прежнее денежное довольствие.
Однажды под Рождество на соборной площади он увидел, как ряженые перед не убранным после массовых казней эшафотом водили хоровод и пели:
Вставайте с нами в хоровод — Забудемся в весёлом танце. Пустой покуда, эшафот, Не унывайте, итальянцы! Молчи, заупокойный хор! Сегодня праздник и веселье. Но наточил палач топор, И завтра горькое похмелье. Лишенья, войны и чума Безжалостно уносят жизни. Наш грешный мир сошёл с ума И забавляется на тризне.Собравшаяся вокруг толпа в страхе начала расходиться, напуганная мрачными предсказаниями заунывно поющих ряженых. Микеланджело был потрясён пением за упокой на Рождество, самый светлый христианский праздник, когда в душах происходит просветление и зарождаются самые радужные надежды.
Кошмар не кончился, и он вынужден был скрепя сердце снова работать на Медичи, против которых ещё недавно сражался на бастионах осаждённого города. Это были дни невыносимого отчаяния, когда он презирал самого себя за малодушие, трусость, и его охватывала мучительная тоска. Сознание того, что им преданы былые идеалы, не давало покоя ни днём ни ночью. Единственным утешением служило то, что трудился он по воле свыше, чтобы запечатлеть в камне трагедию униженной, поставленной на колени Флоренции и потопленные в крови мечты о свободе.
В те тревожные дни, полные страха и сомнений, была всерьёз поколеблена его вера в собственные силы. Он был подавлен окутавшим его город ночным мраком, сокрывшим истину от глаз. Его мятущаяся душа жаждала ясности и света. Вопреки прежней склонности к работе в ночные часы в его тетради появились строки как антоним былым настроениям, которые теперь подверглись сомнению:
И даже Феб объять не в силах разом Своим лучом холодный шар земной. Нам и подавно страшен час ночной, Как таинство, пред коим меркнет разум. Бежит от света ночь, как от проказы, И защищается кромешной тьмой. Хруст ветки иль курка щелчок сухой Не по нутру ей — так боится сглаза. Глупцы пред нею падать ниц вольны. Завистлива, как вдовая царица, Она и светляков сгубить не прочь. Хотя предубеждения сильны, От солнечного света тень родится И на закате переходит в ночь (101).* * *
Чтобы оградить творца от назойливых попрошаек, жаждущих получить от него пусть даже самое малое его творение, папа Климент своим письменным распоряжением запретил ему под страхом отлучения от церкви отвлекаться на другие работы и велел заниматься только капеллой Медичи и библиотекой Лауренциана.
До папы дошли слухи, что мастер стал часто болеть, и Климент просил Микеланджело поберечь здоровье, чтобы «ещё долгие годы прославлять Рим, свой род и себя самого». А в одном из писем папы говорилось: «Когда у тебя просят картину, привяжи к ноге кисть, сделай три-четыре мазка, и картина готова». Что греха таить, кое-кто напрямую воспользовался советом папы Климента. Так, в начале прошлого века появилась картина «Закат» итальянского футуриста Балла, но, как выяснилось, картина, наделавшая много шума, была написана ослиным хвостом, а в Петербурге в то же время группа художников-авангардистов назвала своё сообщество «Ослиный хвост».
Во Флоренцию вернулся изгнанный ранее Алессандро Медичи, внебрачный сын Лоренцо Урбинского и африканской наложницы, наградившей его смуглым цветом кожи, толстыми губами и чёрными вьющимися волосами. Услужливый Вазари поспешил написать его парадный портрет (Флоренция, Уффици). Недалеко от него ушёл и Микеланджело, который был движим не угодливостью, как Вазари, а страхом, когда в знак лояльности пообещал палачу Валори подарить ему мраморное изваяние на мифологическую тему.
От покойного отца герцогу Алессандро передались спесь и непомерная жестокость. Он привёз с собой эдикт Карла V, в котором этот ублюдок объявлялся пожизненным полновластным правителем Флоренции. Далее в послании говорилось, что в знак особого расположения к папе Клименту VII император решил смилостивиться и простить Флоренции её тяжкую вину, вернув ей прежние привилегии.
* * *
Для Микеланджело начались трудные дни, и он чувствовал, как тучи сгущаются над его головой. Если бы не папская заинтересованность в его работе, ему бы не сносить головы: молодой деспот припомнил бы ему участие в обороне города и жестоко расправился с ним, как и с остальными республиканцами, несмотря на его мировую известность.
Улицы Флоренции опустели, и люди старались лишний раз не попадаться на глаза ищейкам герцога Алессандро, выискивающим заговорщиков или недовольных новыми порядками. Обычно подозреваемых граждан хватали по ночам в постели и, не дав опомниться, уводили на дознание с пристрастием или прямиком на расправу в тюрьму Барджелло. Микеланджело старался как можно реже выходить на люди, постоянно ощущая за собой слежку. В те дни он мысленно перебирал в памяти основные моменты героической обороны Флоренции, закончившейся поражением. Его тогдашним подозрениям не придал значения Франческо Кардуччи. Не поверил в измену и сменивший его новый гонфалоньер Рафаэль Джиролами, окончивший свою жизнь в страшных муках на дыбе.
Среди бумаг Микеланджело сохранился мадригал, сочинённый в дни жестокой расправы над республиканцами, когда, казалось, сам воздух Флоренции был пропитан кровью, а на виселицах раскачивались трупы. В оригинале имеется приписка, сделанная рукой флорентийца Луиджи Дель Риччо: «Стихи мессера Микеланджело, где под обращением “донна” подразумевается Флоренция»:
— Для многих тысяч, донна, любящих сердец Сияла дивная твоя краса. Заснули небеса, И обездоленных забыл Творец. О, горестный венец, Надеждой озари и дай нам сил, Чтоб вскорости добиться вызволенья! — Страданьям тягостным придёт конец. А тот злодей, что света вас лишил, Хоть и живёт во власти вожделенья, Страшится часа грозного отмщенья — Его пугает собственная тень. Да сбудется надежд желанных день! (249)Свою боль и отчаяние Микеланджело выразил также в изваянии, получившем словно в насмешку название «Победа» (Флоренция, Палаццо Веккьо). Впечатляет спиралевидный поворот торса прекрасно сложенного юноши (2,61 метра), одержавшего верх в бою. Упершись коленом в спину поверженного врага, покорно подставившего бородатую голову под удар, победитель медлит, положив правую руку на плечо и отвернувшись от жертвы. В его взгляде — нерешительность и смятение, а одержанной победе он вовсе не рад. Голова воина покрыта венком из дубовых листьев (rovere — дуб), что склонило некоторых исследователей считать изваяние предназначенным для саркофага папы Юлия II, происходившего из рода делла Ровере, на чём настаивал и Вазари.
Однако в те трагические дни Микеланджело меньше всего думал о гробнице папы Юлия, и черты лица молодого воина скорее схожи с чертами герцога Джулиано в капелле Медичи, а от самой фигуры юноши, одержавшего победу, веет той же осознанной безысходностью, как и от всех помещённых там изваяний.
Статуя «Победа» появилась на свет через три десятилетия после легендарного «Давида», когда в сознании Микеланджело произошли глубокие перемены. Как же непохожи эти два обнажённых героя! Один — это сама решимость и воля к победе, а другой — победа с подрезанными крыльями как выражение безволия, неприкаянности и отказа от борьбы. По прошествии лет таким стал и сам Микеланджело, который с болью признался однажды: «Бескрыла жизнь с угасшими страстями!»
После его смерти друзья хотели использовать это изваяние в качестве надгробия как выражение противоречивой сущности самого мастера. И они были правы, ибо нынешнее надгробие во флорентийской церкви Санта Кроче далеко от того, чтобы достойно увековечить гения.
Изваяние «Победа» — это исход борьбы между молодостью и старостью, а саму статую можно рассматривать скорее в автобиографическом ключе, как намёк на те чувства, которые Микеланджело испытывал к молодому другу Герардо Перини, прибывшему из Пезаро и оказавшемуся среди учеников и помощников Микеланджело при работе над проектом библиотеки Лауренциана.
При первом же знакомстве юноша поразил мастера своей красотой и удивительной скромностью, став для него предметом платонического обожания. Юнец активно включился в работу, проявляя завидное трудолюбие, к радости мастера. Но их дружбе не суждено было продлиться — скрытая болезнь вскоре свела юношу в могилу. На смерть друга Микеланджело написал два проникновенных катрена:
Мной правит рок — жестокий властелин, И он развеял все мои надежды. Нет, не гореть мне радостью, как прежде, Её унёс с собой мой господин. Остался я рабом лихих годин… Боль облекаю в камень, как в одежды. Ушёл кумир, сомкнув навеки вежды, А я покуда здесь скорблю один (36).Дружба с Перини в тот период сподвигла его на написание некоторых работ по духу язычески чувственных, как дерзкий вызов пуританскому лицемерию церкви и пессимизму, охватившему значительную часть соотечественников из-за трагических событий. Такова любвеобильная «Леда», написанная темперой на доске. В правом углу — только что вылупившиеся из яиц братья Диоскуры, Поллукс и Кастор. Прибывший из Феррары за обещанной работой посланец герцога Альфонса д’Эсте надменный вельможа нелестно высказался о картине, назвав её «пустяком», ибо ожидал чего-то более значительного для своего патрона. Разгневанный Микеланджело прогнал его, а картину и картон подарил своему помощнику Антонио Мини в награду за его труды и бескорыстную верность.
О той «Леде» сегодня можно судить только по имеющимся копиям. Мини увёз картину и картон во Францию, где оставил на временное хранение у некоего флорентийца Буонаккорси в Лионе, а тот обманным путём продал картину, оставив доверчивого Мини ни с чем. Бедняга не выдержал такой подлости и вскоре умер то ли от болезни, то ли от расстройства. Позднее мать короля Людовика XIII Мария Медичи приказала сжечь картину, сочтя её сюжет непристойным и чрезмерно сладострастным. Следует напомнить, что ещё ранее во Франции затерялись следы превосходной леонардовской «Леды», чью копию хранит ныне римская галерея Боргезе. Создаётся впечатление, что над самой этой темой тяготеет проклятие. В искусстве Возрождения с образом Леды, супруги спартанского царя Тиндарея, в которую влюбился Зевс, связана тема плодовитости и чувственной красоты женского тела, а неоплатоник Микеланджело трактовал её образ как олицетворение всепобеждающей силы природы, памятуя о призыве «Учитесь у матери-природы!», который мальчиком увидел в мастерской Гирландайо и до сих пор продолжал ему следовать. О его пропавшей картине свидетельствует рисунок сангиной головы Леды (Флоренция, дом Буонарроти). Известно, что для прелестного женского профиля позировал один из помощников мастера.
Примерно в тот же период Микеланджело получил из Модены письмо от знакомого поэта Гандольфо Поррино с просьбой написать портрет или изваять надгробие его умершей возлюбленной по имени Фауста Манчини Аттаванти. В одном из трёх посланий к мастеру моденский поэт просил понять и посочувствовать его горю:60
Я б ничего так страстно не хотел, Как вашим заручиться пониманьем, Чтоб Зевс не смел нарушить Леды сон. Никто красу сгубить бы не посмел — Вдохни вы жизнь в неё своим стараньем, И с ней бы вечность пела в унисон.Микеланджело был тронут искренней просьбой поэта, а к собратьям по перу, в отличие от художников, у него было уважительное отношение, что ярко проявилось в случае с поэтом Берни. Но будучи занят другими замыслами, он выразил своё сострадание лишь четверостишием, в котором обыгрывается имя умершей (mancina — левша):
Почила сном прекрасная душа. Она бы с жизнью рано не рассталась, Когда б рукою правой защищалась, Но дева, на беду, была левша (177).Видимо, сочтя четверостишие несколько ироничным и легковесным, что могло обидеть адресата, он послал вдогонку сонет, в котором, стараясь успокоить убитого горем поэта, он искренне признаётся, что ему не под силу в изваянии или портрете оживить его возлюбленную:
И звёздам уготован свой удел, Который правит целым мирозданьем. Услышав страстную мольбу и стон, Всевышний деву юную призрел, Небесным одарив её сияньем — На чудеса способен только Он (178).Тогда же Микеланджело написал для банкира Беттини картон «Венера и Купидон», который воспроизвёл Понтормо на своей одноимённой картине (в дальнейшем утеряна). В тот же период появилось множество рисунков весьма фривольного, а иногда и откровенно эротического содержания. На них молодые пышнотелые матроны, полные вожделения, игриво вырываются из цепких объятий насилующих их самцов, а совсем юные девы жеманно отбиваются от похотливых козлоногих сатиров. Эти рисунки, возможно, стали поводом для появления статьи Томаса Манна «Эротика Микеланджело», в которой автор утверждает, что «высокодуховный, чувственный и сверхчувственный характер, который лежит в основе развития поэтической мысли Микеланджело, позволяет отнести его любовные песни к классическим образцам платонического эротизма.61
Следует отметить, что откровенно эротические мотивы проявлялись только в письмах и рисунках Микеланджело, но были чужды живописным и скульптурным творениям великого мастера. Этот всплеск чувственных излияний был связан с новым увлечением, когда в его кругу появился парень не промах по имени Фебо ди Поджо, который привлёк его своей дерзкой красотой, а в самом имени юнца он узрел солнечное сияние, которое его ослепило, сокрыв подлинную суть красавца. Вскоре парень втёрся в такое доверие к мастеру, что тот не мог дня без него прожить. Но на поверку ди Поджо оказался полным ничтожеством, которого, кроме денег, ничто в жизни не интересовало.
Это увлечение походило на наваждение и даже на какое-то беспамятство, жертвой которого стал почти шестидесятилетний мастер. Правда, его глубоко обижало, что, появляясь в мастерской, любующийся собой красавец равнодушно проходил мимо изваяний и, не одарив их взглядом, заводил, как всегда, разговор о деньгах. После очередной размолвки с нахрапистым парнем Микеланджело, ослеплённый ревностью, униженно умолял его вернуться, засыпая письмами: «Хочу Вам сказать, что, пока я жив, везде, где бы я ни был, всегда буду к Вашим услугам с такой преданностью и любовью, на какую не способен никто из Ваших друзей».
Читая такие послания, адресованные жалкой посредственности, трудно вообразить, что их писал человек, создававший такие величайшие творения, как «Пьета», «Давид» или Сикстинская капелла. Невозможно поверить, что такое могло быть на самом деле, но воображение гения было настолько беспредельным, что его трудно постигнуть разумом. Когда ди Поджо погиб от руки, как полагали, одного из его дружков, таких же, как он сам, подонков, опечаленный Микеланджело откликнулся на его смерть трогательными, но нелепыми по смыслу стихами, которые никак не вяжутся с подлой личностью погибшего парня. Ему посвящены сонет и два четверостишия, в которых, как и в предыдущем случае с Манчини, обыгрывается имя покойного (poggio — холм):
Ты в мир вошёл с лучистыми очами И обделённых одарял теплом. Но вдруг твой пробил час, как вешний гром — Расстался ты с родными берегами. Как птица вольная под небесами, Согрет ты Феба ласковым лучом, Паря весь день над жизненным холмом, А мне, как в преисподней, жить страстями (100).Как бы то ни было, наваждение кончилось, чему не могли не нарадоваться близко знавшие и любившие Микеланджело люди, которые считали покойного парня прохвостом и негодяем. Предпринимались попытки вычеркнуть из памяти неприятный эпизод. Некоторые биографы обошли молчанием эту сторону жизни великого мастера. Но шила в мешке не утаишь. Чего стоят хотя бы весьма нелестные, а порой клеветнические высказывания ниспровергателя всех авторитетов литератора Пьетро Аретино, сына сапожника и шлюхи, попортившего немало крови Микеланджело. Хватало и других клеветников, отравлявших жизнь великого творца своими гнусными наветами.
Здесь уместно вспомнить Пушкина, который, говоря о Байроне, дал резкую отповедь всем любителям позлословить и опорочить великих людей, выискивая у них слабости: «Толпа жадно читает исповеди, записки и т.п., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он, мол, как мы; он мерзок, как мы! Врёте, подлецы: он и мелок, и мерзок не так, как вы. Иначе».62
* * *
Из Рима пришла весть, что Лучани в награду за написанный им парадный портрет папы Климента VII был возведён в сан и получил в Ватикане хлебную должность прикладчика папской свинцовой печати. С тех пор он стал прозываться Себастьяно дель Пьомбо (piombo — свинец) и под этим именем вошёл в историю искусства. Микеланджело искренне порадовался такому назначению — теперь у него при дворе, кишащем завистниками, подхалимами и пустозвонами, одним доверенным лицом больше, а стало быть, он сможет держать руку на пульсе главных событий в Ватикане, где решаются многие интересовавшие его дела.
Он давно собирался съездить в Рим, чтобы проверить сохранность дома и мастерской. К поездке его склонило письмо того же дель Пьомбо, который уговаривал его приехать в Вечный город, где он может стать королём, герцогом или кем угодно, так как папа всё готов для него сделать. Микеланджело хорошо знал краснобая-венецианца и его неприкрытую лесть пропустил мимо ушей, прекрасно понимая, что его прибытие в Рим нужно не столько папе Клименту, сколько самому дель Пьомбо, нуждавшемуся в поддержке и помощи рисунками, в чём он был не силён, хотя старался всячески скрыть свой недостаток.
Папа приветливо встретил мастера и живо интересовался делами в капелле Медичи и библиотеке Лауренциана. Он заметно сдал, хлебнув лиха в последние годы. Было заметно, что Климент изменил отношение к герцогу Алессандро. Его особенно удручали творимое во Флоренции беззаконие, злоупотребление властью и скотский образ жизни племянника. Другой папский племянник, кардинал Ипполито Медичи, затаил злобу на флорентийского деспота и плёл против кузена сети заговора, водя дружбу с политическими изгнанниками. Узнав от них, что Микеланджело понравился один из жеребцов в его конюшне, кардинал распорядился направить приглянувшегося коня великому мастеру и в придачу десять мулов, навьюченных мешками с овсом. Подарок был с благодарностью принят, а вот мулов Микеланджело раздал крестьянам, жившим рядом с его римским домом на Macel dei Corvi и нуждавшимся в тягловой силе.
За время его отсутствия дом пришёл в запустение, но изваяния стояли на своих местах. Грозный вид сидящего «Моисея» приводил в трепет воришек, навещавших пустой дом, где поживиться было нечем, кроме постельного белья и оловянной посуды. Зато буйно разросся сад, где кудахтали соседские куры и разгуливали индюшки. На лужайке были свалены глыбы мрамора, предназначенные для гробницы Юлия. Теперь всё это заросло крапивой и бурьяном. Жившие рядом огородники из уважения к знаменитому соседу приглядывали за садом, обирали вовремя фрукты и заодно подкармливали его любимых кошек.
Для урегулирования спора с наследниками делла Ровере ему пришлось встретиться с ними и подписать четвёртый по счёту договор, согласно которому габариты надгробия были вновь урезаны и установлены новые сроки. К счастью, отсутствовал главный возмутитель спокойствия герцог Франческо Мария делла Ровере, который занимался в Венеции собиранием сил для похода против османских турок, но вскоре приказал долго жить. Ходили слухи, что он был отравлен.
В те дни краткого визита в Рим Микеланджело в компании друзей познакомился с молодым римским аристократом по имени Томмазо ди Кавальери. В горящих глазах молодого человека он прочёл такой неподдельный интерес к своим высказываниям об искусстве, что обратил на него внимание и был поражён его красотой, от которой трудно было оторвать взгляд. Со временем их случайное знакомство переросло в многолетнюю дружбу. Вот что писал Кавальери из Рима 1 января 1533 года, сразу после встречи с Микеланджело, в ответ на его письменное обращение, пронизанное грустью вынужденного расставания:
«Я получил Ваше письмо, которому безмерно рад уже потому, что никак его не ожидал. Не ожидал, ибо не считаю себя достойным получать письма от такого человека, как Вы. Если даже Вам отзывались обо мне с похвалой и если, как Вы уверяете, Вам понравились мои работы, всё же этого явно недостаточно, чтобы человек, обладающий Вашим гением, которому в наше время нет равного на земле, писал юноше, делающему лишь первые шаги в искусстве и совершенно ещё малосведущему. Но я знаю, Вы не можете лгать. Что же до Вашего расположения ко мне, я верю, более того — я убеждён, что в Вас говорит любовь человека ко всем людям, кои посвятили себя искусству и искренне любят его. Я принадлежу к их числу… Можете не сомневаться в моих к Вам чувствах. Никого я так не любил и ничьей дружбы так не желал, как Вашей. Я надеюсь, что смогу быть при случае Вам полезен, и вверяю себя Вашей дружбе…»63
Известно, что в тот же день Микеланджело ответил на письмо Кавальери. В архиве сохранились три черновика этого ответа, по которым можно судить, насколько мастер был тронут словами молодого друга и живо заинтересовался его личностью: «Мне бесконечно больно, что я не могу отдать Вам также и своё прошлое, чтобы служить Вам как можно дольше, ибо будущего мне мало отпущено, и я уже стар».
Двадцать восьмого июня того же года он вновь пишет Кавальери: «Я уверен, что ничто не нарушит нашей дружбы, хотя говорю это слишком самонадеянно, ибо, конечно, Вас не стою». Ровно через месяц он признается в другом письме двадцатилетнему другу: «Забыть Ваше имя для меня так же невозможно, как забыть о хлебе насущном. Нет, я скорее забуду о хлебе насущном, который лишь поддерживает моё бренное тело, не доставляя никакой радости, чем Ваше имя, которое поддерживает и тело, и душу, наполняя их таким блаженством. Пока я думаю о Вас, то не чувствую ни страданий, ни страха смерти».
Во время этой бурной переписки не исключено, что именно Кавальери выслал ему ходившее в списках по Риму «Послание поэта Франческо Берни к фра Себастьяно дель Пьомбо». Как выше было сказано, будучи в Венеции, Микеланджело познакомился с поэтом-изгнанником, который произвёл на него сильное впечатление своей убеждённостью в правоту гуманистических идеалов и верностью республиканским принципам. Но он никак не мог предположить, что Берни столь лестно выскажется о нём и упомянет некоторые его творения, в которых чувствуется, как он отмечал, дух самого Платона. Приятно было услышать о себе такое мнение из уст замечательного поэта, который оказался на удивление близок ему по духу и по республиканским убеждениям. Приведём отрывок из этого послания, которое получило широкую известность в литературных кругах и художественных салонах, хоть и наделало немало шума в кругу собратьев по перу, о которых Берни высказался не очень лестно:64
Я говорю вам: вот он, чародей — Наш Микеланджело Буонарроти. Моим речам не свойственен елей. Подобного творца вы не найдёте, А похвала такому не вредна — Он равнодушен к ней в своём полёте. В его идеях смелость, новизна, Берётся ль он за фреску иль скульптуру — Астрея65 приняла бы их сполна. Задумав в камне изваять фигуру, Ей придаёт неповторимый вид — Нам не постигнуть гения натуру. И никогда себя он не щадит, Чтоб передать всю красоту движенья. Какая сила страсти в нём кипит! Не мне судить великие творенья. Наш мир не видывал таких чудес: В них самого Платона озаренье. Вот новый Аполлон и Апеллес! Так не журчите, родники с ручьями! Умолкните, фиалки, стихни, лес! Он говорит делами, вы — словами. Вас, щелкопёры, чей так сладок стих, Как солнце, затмевает он лучами.Под щелкопёрами здесь подразумеваются эпигоны Петрарки с их стереотипными ручейками, фиалками и пр.
Польщённый высказанным о себе мнением, Микеланджело решил ответить поэту в той же поэтической форме — терцинами, сочинёнными якобы монахом дель Пьомбо. По цензурным соображениям пришлось прибегнуть к иносказаниям, не называя имён ни вымышленного автора, ни других лиц. Как и в сонете по поводу завершения работ в Сикстине, в написанном им капитуле немало горечи, самоиронии, трезвой и даже чрезмерно строгой оценки своих деяний. Но главное в нём — это твёрдая гражданская позиция и готовность, несмотря ни на что, отстаивать свои взгляды до конца. Как ни пытался Микеланджело скрыть своё авторство, в Венеции, куда дошло послание, быстро разобрались что к чему.
Намедни мне доставлено посланье. Трёх кардиналов тотчас я сыскал И выполнил все ваши предписанья. Письмо в стихах вначале показал Старшому Медику, и злой наш гений66 От смеха чуть очки не поломал. Меньшого67 навестил без приглашений. Святоша вам благоволит душой, Хотя горазд до всяких ухищрений. Пока я не нашёл в толпе мирской Секретаря,68 что при дворе всем служит, — Потешился б он вволю над собой. Который год по вам тюрьма здесь тужит, И многие бы предали Христа, Лишь бы петлю на вас стянуть потуже.69 Гневят их эпиграммы неспроста. Мерзавцы палача страшатся вдвое, Дрожат поджилки — совесть нечиста. Ваш римский друг70 вконец лишён покоя. Он словно мясо жёсткое с душком, Рискует угодить попам в жаркое. А наш Буонарроти с огоньком. Он потрясён был добрыми словами — Ваш отзыв оглушил его как гром. Сказал, что повозился бы с камнями Во имя вашей славы на века. Но где резцу тягаться со стихами, Чья рифма столь изящна и крепка! Они годам и тлену неподвластны — В них правдой дышит каждая строка. Признательность вам выражая страстно, Он молвил: «Как ни лестно от похвал, Мои деянья с ними не согласны: Я не достиг того, чего желал. Но Берни смог раскрыть мою натуру И верную идею подсказал. Все прочие смешны и хвалят сдуру — Искусству суесловие во вред. Скорей умру, а жизнь вдохну в скульптуру! Великих дел ждёт от меня поэт. Пусть знает, что я вызов принимаю И высоко ценю его совет». Так он сказал. На сём я умолкаю, Да и в поэзии не преуспел, А потому ход мыслей закругляю. Поставил точку я и покраснел. Пред кем же рифмоплётством занимаюсь? Кому стихами докучать посмел? Ответ готов, и я отнюдь не каюсь. Достанется хула мне — поделом. Но я на вашу милость полагаюсь И, как всегда, готов служить во всём Вам, мастеру большого дарованья, Пусть даже поплатившись клобуком. Лишь угодить — иного нет желанья, И я в лепёшку расшибусь для вас, Хотя достоин в рясе осмеянья. С почтеньем. Выполню любой приказ (85).* * *
Мстительному герцогу Алессандро повсюду мерещились враги, и он страшился даже собственной тени, как об этом сказано в приведённом выше мадригале Микеланджело. Заподозрив в связях с заговорщиками Баччо Валори, он приказал казнить бывшего верного пса, утратившего доверие. Обещанная ему скульптура «Давид-Аполлон» так и осталась в мастерской. Незадолго до расправы над Валори в страшных муках от французской болезни, как тогда называли сифилис, испустил дух предатель Малатеста Бальони, представитель клана перуджинских тиранов.
Молодому Алессандро не давала покоя стоящая перед дворцом Синьории покалеченная скульптура героя, пугающая своим грозным видом. Он решил водрузить рядом другого мифологического героя, готового по силе противостоять «Давиду». Обещанная когда-то Микеланджело мраморная колонна была передана угодливому Бандинелли, который получил титул «первого скульптора герцога». Тот с радостью взялся за работу, мечтая одержать победу в негласном соревновании с творцом «Давида». Но поединка как такового не получилось. Водружённая чуть правее «Давида» скульптура «Геракл и Какус» сразу же стала притчей во языцех, породив нескончаемый поток насмешек и язвительных куплетов, распеваемых в трактирах. Флорентийцы прозвали скульптуру «Истуканом» и высмеивали не только оплошавшего Бандинелли, но и его заказчика:
Очнись! Гераклу спать не время — Насмешек непосильно бремя. Восстань же с палицей в руке И вдарь наотмашь по башке Того, кто выставил уродом Тебя пред всем честным народом.71Убийственную оценку скульптуре «Геракл» дал очевидец тех событий Челлини: «Если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в неё мозг… Его лицо неизвестно, принадлежит ли оно человеку или быкольву».72 Далее Челлини сравнивает фигуру Геркулеса с поставленным стоймя мешком, набитым дынями, а его спину с мешком, в который втиснуты длинные тыквы. У него были давние счёты с «первым скульптором» герцога, которого он чуть было не заколол за порчу картона с купальщиками обожаемого Микеланджело.
В 1540 году тот же Бандинелли воздвигнул неуклюжий монумент кондотьеру Джованни делле Банде Нере на том месте, где когда-то предлагалось соорудить фигуру Колосса, едко высмеянную Микеланджело. Но если бы он увидел этот монумент, то вдоволь бы посмеялся над его аляповатостью и бездарностью.
* * *
Стараясь не обращать внимания на нанесённую обиду, хотя на изъятую глыбу у него были свои виды и планы, Микеланджело продолжал работать над строительством библиотеки Лауренциана, представляющей собой новое слово в архитектуре. В отличие от традиционных читальных залов монастырских библиотек, разделённых на три нефа, он задумал одно вытянутое в длину помещение с предваряющим его торжественным вестибюлем и лестницей, ведущей в читальный зал. Памятуя о совете Климента VII отгородить книгохранилище от соседнего монастыря стеной, иначе, как выразился папа, «пьяный монах когда-нибудь подожжёт и погубит бесценные сокровища», он спроектировал для самых редких книг секретное хранилище, чертёж которого сохранился (Флоренция, дом Буонарроти).
Всё им было продумано в деталях: от пола до потолка, от рабочих пюпитров до скамеек. Чтобы снять нагрузку с ограждающих стен, он применил разработанную им систему контрфорсов, которым внутри читального зала соответствуют тяжёлые пилястры из pietra serena — светлого камня, усиливающие перспективный эффект помещения. Между пилястрами — широкие оконные проёмы, откуда льётся дневной свет.
Со строгостью линий читального зала резко контрастирует помещённый этажом ниже парадный вестибюль, который обрамлён сдвоенными колоннами, встроенными и как бы утопленными в толщу стен. Микеланджело блестяще обыграл разницу уровней читального зала и вестибюля, в котором использовал нетипичные для того времени архитектурные элементы: спаренные консоли в форме волют, являющиеся основанием для колонн, и неглубокие трапециевидные стенные ниши. Все пластичные архитектурные детали выразительно контрастируют с белизной оштукатуренных стен вестибюля.
Поразителен пластический динамизм архитектурного декора парадного вестибюля как предвестник нового стиля барокко. Но подлинной жемчужиной библиотеки Лауренциана является мраморная лестница, которая вторгается в пространство вестибюля как самостоятельная скульптурная форма. С этой лестницей связана любопытная история. Покинув Флоренцию, Микеланджело так и не увидел осуществлённым проект библиотеки. Вот что он писал Вазари 28 сентября 1555 года: «Я вспоминаю, как сквозь сон, разговор о какой-то лестнице, но не думаю, чтобы это была как раз та самая, потому что она мне представляется сейчас страшной глупостью… Овальная часть лестницы должна иметь как бы два боковых крыла, насчитывающих такое же число ступенек, но не овальной формы; последние будут служить для прислуги, а средняя часть лестницы — для господ».
Заметим, что для боковых крыльев не предусмотрены даже ограждающие перила, так что пользоваться ими небезопасно, особенно при большом наплыве посетителей.
Выполненная по рисункам Микеланджело лестница была построена в 1559 году его младшим коллегой Бартоломео Амманнати, уроженцем Сеттиньяно, которому автор выслал в уменьшенной пропорции глиняную модель с пожеланием соорудить лестницу не из камня, а из выдержанного дерева, что будет наилучшим образом гармонировать со скамьями, пюпитрами и дверью в читальный зал. Своё письмо молодому коллеге он закончил словами: «Больше сказать вам нечего. Я слепой, глухой старик с непослушными руками и дряблым телом», — хотя в ту пору в свои 84 года он ещё был в силе и каждодневно верхом объезжал стройплощадки в разных концах города, где по его проектам велись работы. По-видимому, сетования на «слепоту» и «глухоту» вызваны желанием отвязаться от докучливого коллеги. Всё, что он хотел сказать при строительстве библиотеки Лауренциана, им давно было выражено в чертежах и рисунках, и он больше не хотел возвращаться к этому вопросу.
Согласно проекту парадная лестница состоит из трёх маршей. Средний, самый широкий, отличается изогнутостью формы ступеней. Боковые марши состоят из узких ступеней. Создаётся впечатление, что изменились как направление, так и характер движения, когда восхождение сменилось нисхождением, и сама лестница тремя потоками низвергается сверху вниз, настолько динамична её структура, словно препятствуя человеку подняться вверх. Здесь Микеланджело, видимо, хотел показать, сколь труден путь к вершинам знаний, а потому необходимо приложить усилия, чтобы одолеть крутизну подъёма. Вспомним, кстати, многоступенчатую крутую лестницу главного входа в Российскую государственную библиотеку в Москве. Уж не идеями ли Микеланджело руководствовались её проектировщики Гельфрейх и Щуко?
Как отмечалось многими исследователями его творчества, Микеланджело свойственно создавать препятствие на пути движения, чтобы полнее выразить пластичность своих произведений и заключённую в них энергию. Так было при росписи некоторых сцен сикстинского плафона или с лежащими на покатых плоскостях аллегорическими фигурами в капелле Медичи.
* * *
Однажды к нему в мастерскую заявились посланцы герцога Алессандро с предложением следовать за ними. Поборов волнение, вызванное неожиданным вторжением, он всё же поинтересовался, куда его приглашают отправиться. Тогда один из незваных гостей пояснил, что герцог намерен с ним совершить инспекционную поездку за город для определения места строительства задуманной им новой крепости.
— Ведь ещё недавно вы занимались возведением оборонительных сооружений, и его светлость надеется, что ваш богатый опыт послужит для укрепления рубежей родного города.
Предложение, прозвучавшее как приказ, озадачило Микеланджело, но он быстро нашёл что ответить:
— Передайте герцогу, что от Его святейшества папы Климента я имею строжайшее предписание без его ведома не браться ни за какие проекты и заказы.
Услышав его решительный ответ, посетители молча тут же ретировались. Это был не простой визит, а проверка его лояльного отношения к существующей власти. От мыслей о грозящей ему опасности отвлекла смерть отца. Мессер Лодовико скончался 15 сентября 1534 года в возрасте девяноста лет с лишним, но в здравом уме и твёрдой памяти, если не считать обычных стариковских капризов и брюзжания. Будучи при смерти, родитель продолжал поучать Микеланджело, взяв с него слово не оставить своим вниманием младших братьев Джовансимоне и Сиджисмондо, хотя обоим было под шестьдесят. Умирающего отца особенно беспокоила судьба внуков — Франчески и Лионардо. Дав последние наставления, мессер Лодовико тихо почил в бозе.
Для Микеланджело это была тяжёлая невосполнимая потеря. Лишившись отца, который причинял ему немало неприятностей, он вдруг почувствовал гнетущую пустоту и свою боль выразил в незавершённом капитуле в терцинах, который был обнаружен и впервые опубликован в конце XIX века. Терцины вызвали восторг Р. Роллана, который привёл их целиком в прозаическом изложении в своей известной книге «Жизнь Микеланджело».
Среди остальных крупных поэтических откровений в октавах, секстинах и терцинах эта поэма звучит почти исповедально, настолько в ней глубока печаль и искренно выражена любовь Микеланджело к отцу и брату, которую при жизни он так и не успел высказать, безраздельно отдаваясь искусству…
Печали сердце не стряхнуло прах. Вконец придавленное злой судьбою, Надеясь горе потопить в слезах, Как вдруг пришлось расстаться и с тобою. Неотвратимый жизни поворот Безжалостно пытает нас бедою, Подтачивая жизненный оплот. Сперва твой сын навеки мир оставил, Теперь тебя оплакивать черёд. Держались оба вы достойных правил. Моя любовь была к вам так сильна, Что ваш уход вдвойне страдать заставил. Душа о брате памяти полна, Но в сердце отчий знак неизгладимый, И вряд ли будет скорбь утолена. Брат молодым покинул кров родимый, А ты тогда уже был стар и сед, И образ ваш живёт во мне единый. Мы вместе прожили немало лет. Так пусть мне мысль послужит утешеньем, Что в жизни вы оставили свой след. Пред неизбежным времени веленьем Стихает боль, хотя не до конца, И разум управляет чувств движеньем. Но кто ж не плачет, потеряв отца? В подлунной стороне всё в жизни тленно — Таков закон Всевышнего Творца. Как ни креплюсь я духом неизменно, Неласкова ко мне природа-мать, И участь на земле моя плачевна. Пока одно сумел я осознать, Что ты, отец, пройдя чрез испытанья, Познал за муки Божью благодать. Презрев мирские беды и терзанья, Вознёсся ты, оставив сирых нас, В заоблачные дали мирозданья. Но и во мне луч веры не угас, Хоть страх терзает душу изначальный. Мы все обрящем мир в последний час. Девяносто лет ты прожил — срок похвальный. И вот обласкан солнцем, как дитя, Ты, окрылённый, отошёл в путь дальний. Своей душе свободу обретя, Мне посочувствуй, мертвецу живому, — Из корня твоего взошёл и я. Навек сказав «прости» всему земному, Ты вырвался из плена суеты. Как не завидовать концу такому? Оставил жизненные страхи ты. Фортуна ваш порог не преступает — С неё довольно нашей маеты. Над вами вечность тишины витает; Минуют все невзгоды стороной, И неизбежность вас не удручает. Ни солнца луч, ни свет земли дневной Сиянье ваше не затмят отныне. Бесстрастны вы, как ночь, к судьбе людской. Отец мой дорогой, в твоей кончине, Я вижу неизбежный свой исход, Но страха перед смертью нет в помине. Моя душа надеждою живёт, Что в смертный час познает возрождение, Когда Господь на небо призовёт. Коль таково мне будет повеление И сердце я в грязи не растопчу, Оставлю грешный мир без сожаления И радостно навстречу полечу, Чтоб вечное с тобой обресть блаженство (86).Со смертью отца ничто его больше не удерживало во Флоренции, а дальнейшее пребывание там было чревато опасностью. После отказа взяться за строительство новой крепости молодой деспот затаил на него злобу. Пришлось спешно привести в порядок все свои финансовые дела, побеспокоиться о близких, а самому незаметно покинуть налегке дом, словно идя на прогулку, дабы не вызвать подозрения у ищеек герцога Алессандро.
План бегства был заранее оговорён с новым смышлёным слугой Франческо Амадори по прозвищу Урбино, так как его родной городок Кастельдуранте находился неподалёку от этого города. Пока мастер будет прогуливаться, не вызывая ни у кого подозрения, слуга с небольшим баулом ожидал его на почтовой станции у Порта Романа с нанятым экипажем.
С болью в сердце Микеланджело оставил незавершёнными работы в капелле Медичи и в библиотеке Лауренциана, но оставаться дальше было бы безумием. Послушный внутреннему зову, который редко его подводил, он спешно расстался с любимым родным городом, ставшим для него смертельно опасным. Покидая родные места, вряд ли он полагал, что прощался с Флоренцией навсегда.
Глава XXV ПРОДОЛЖЕНИЕ РИМСКОЙ ЭПОПЕИ
Пресытившись, судьба добрее стала,
Но требует взамен, чего уж нет (270).
Двадцать третьего сентября 1534 года Микеланджело прибыл в Рим, в котором останется до конца дней своих. Появился он в Вечном городе за два дня до смерти Климента VII. Папа умер от глубокого душевного расстройства, осознав, насколько губительной оказалась его политика для Италии, ввергнутой в пучину бедствий. Он понимал, что был презираем своим народом, а вынести такое дано не каждому, особенно тому, кто, занимая папский престол, считал себя викарием Христа на земле, но мира и благоденствия для своей паствы так и не добился.
Папа был моложе Микеланджело на три года — все Медичи умирали сравнительно рано, словно в их роду была врождённая червоточина. Ему было искренне жаль папу-неудачника. Горько было сознавать, что Климент, который поддерживал его, а в последние годы заботился и о здоровье мастера, так и не увидел, пусть даже незавершёнными, ни капеллу Медичи, ни библиотеку Лауренциана, ходом возведения которых живо интересовался. При их последней встрече папа завёл разговор о фресковой росписи алтарной стены в Сикстинской капелле. Насколько Микеланджело понял, папе хотелось, чтобы на фреске была отражена трагедия «Римского мешка», в котором он сам чуть не погиб. Идея не могла не вдохновить художника, и он исподволь принялся за эскизы для будущей росписи.
Примерно за полгода до его прибытия Рим покинул после двухмесячного пребывания Франсуа Рабле, великий представитель французского Ренессанса.73 Хотя оба творца непохожи друг на друга, их роднит и объединяет борьба со схоластикой, фанатизмом и невежеством, засорявшими культуру гуманизма. Их гениальные порывы к светлому, истинному и справедливому выражены с одинаковой силой. У Микеланджело они проявились в его пророках и сивиллах на сикстинском плафоне, как и в четырёх едва тронутых резцом скульптурах рабов, оставленных под присмотром Граначчи и Буджардини во дворе мастерской на улице Моцца, а у Рабле — в великом романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Различие лишь в том, что космический титанизм одного имеет патетико-героическую окраску, а у другого он сугубо приземлённый и гротескный.
Началась последняя римская эпопея Микеланджело. Ему было уже под шестьдесят. Позади годы великих свершений и неосуществлённых замыслов. Особенно его беспокоила судьба семи не расставленных по своим местам законченных изваяний в капелле Медичи.
Отныне при рассмотрении последнего периода жизни мастера серьёзным подспорьем послужит рукопись, обнаруженная в начале прошлого века в одной из частных римских библиотек искусствоведом Роберто Лонги, с которым автор этих строк был близко знаком, став составителем его вышедшей в русском переводе в 1984 году книги «От Чимабуэ до Моранди». Считается, что рукопись принадлежит перу молодого друга художника — литератора Донато Джаннотти, автора известного труда «О Флорентийской республике», а также комедий «Старый влюблённый» и «Милезия». Им были написаны также «Диалоги о Данте», в которых в качестве одного из собеседников фигурирует Микеланджело.74 Живя в изгнании, Джаннотти был очевидцем и участником наиболее значимых эпизодов жизни великого мастера в Риме и пересказал их в привычной для того времени стихотворной форме.
По прибытии в Рим Микеланджело первым делом направился к дому Кавальери, который жил неподалёку от колонны Траяна в районе Сант Эустаккьо, но не застал молодого человека, оставив ему у швейцара записку.
За время отсутствия Микеланджело за его римским домом приглядывали друзья дель Пьомбо и Бальдуччи. Но теперь нехитрое домашнее хозяйство целиком легло на плечи слуги и ученика Урбино, мастера на все руки, который сумел привести дом в надлежащий вид — удобный для жилья и для работы. Пока Урбино приводил в порядок жилище, мастер временно поселился в доме друга, Роберто Строцци, старшего сына геройски погибшего в боях за республику Филиппо Строцци. Римский дом Строцци стал местом собраний флорентийских беженцев, включая Луиджи Дель Риччо и Донато Джаннотти. С последним у Микеланджело установились наиболее тесные дружеские отношения.
С каждым днём число флорентийских беженцев в Риме росло — веское доказательство того, что тираническое правление герцога Алессандро становилось всё более невыносимым. Его вскоре оставили даже те, кто способствовал падению республики и приветствовал расправу над восставшими. Во Флоренции проездом побывал португальский король, и герцог, желая похвастаться последним творением своего сбежавшего подданного, решил показать ему капеллу Медичи. Но, увы — на дверях висел кованый замок, ключ от которого так и не удалось найти. Перед отъездом Микеланджело его оставил в надёжных руках. Пришлось королю смотреть через зарешечённое окно, но, кроме горы мусора, он так ничего и не увидел.
Недавно пришло сообщение о том, что вернувшийся из эмиграции опальный поэт Франческо Берни был отравлен сторонниками Медичи. Эта весть болью отозвалась в литературных кругах Флоренции и Рима. Микеланджело горько оплакивал безвременную кончину замечательного поэта, который был непримиримым противником Медичи, за что и поплатился жизнью. «Возможно, и меня постигла бы такая же участь, — с грустью подумал он, — не прислушайся я к зову разума и останься во Флоренции».
* * *
Из Ватикана пришла ожидаемая со дня на день весть: 12 октября 1534 года на конклаве, собравшемся в Сикстинской капелле, новым папой был избран 66-летний хворый кардинал из Пармы Алессандро Фарнезе, принявший имя Павла III. Его избрание считалось временным, учитывая возраст и нелады со здоровьем, но Павел занимал престол в течение целых пятнадцати лет. Как и Юлий II, он отлично понимал, что укреплению власти и авторитету Рима в значительной степени способствует искусство, и с присущим ему пылом взялся за украшение Вечного города.
Выбор конклава мало кого удивил, так как княжеский род Фарнезе был одним из самых влиятельных в Италии. Сестра нового избранника Джулия Фарнезе была последней пассией любвеобильного папы Борджиа, что во многом способствовало возвышению её рода среди прочих аристократических кланов. После бурной разгульной молодости Алессандро Фарнезе принял постриг и вскоре дослужился до кардинальского чина, став одним из учредителей «Совета по улучшению церкви», чтобы очистить её от мусора и грязи, накопившейся за годы правления Борджиа.
Друзья Микеланджело были несколько обескуражены тем, что выбор пал на пармца, а не на флорентийца, что лишний раз подтверждает, сколь сильно было местничество среди итальянцев, которое порой даёт о себе знать и поныне. Через гонца мастер получил предписание пожаловать на аудиенцию к новому папе. Он никак не ожидал личного приглашения от только что избранного понтифика и поначалу отправился к цирюльнику, чтобы привести себя в подобающий вид по такому случаю. Не обошлось без помощи Урбино, посоветовавшего, как и во что следует облачиться поприличнее, хотя кроме куртки и единственных сносных штанов, заправленных в начищенные до блеска сапоги, его гардероб ничем другим не располагал.
Вот как описывается эта первая встреча мастера с новым папой в вышеупомянутой рукописи Джаннотти. В малом зале Апостольского дворца Павел III ждал Микеланджело, отложив все другие встречи. В дверях появился юркий камерарий граф Бьяджо Мартинелли да Чезена:
— Святой отец, вас упреждаю сразу о том, что неотёсанный мужлан посмел прийти в посконном одеянии. Не знал такого срама Ватикан! Вот потомить бы с часик в наказанье за дерзость. Он нарушил этикет, хранимый свято при дворе веками. У нас в приёмной всей Европы цвет!
Павел III поморщился от словесного фонтана изо рта услужливого царедворца.
— Ну как, скажи на милость, быть с глупцами! Да он по делу важному пришёл, — возмутился папа. — Проси! А этикет я ваш порушу. Хотя парчовый на тебе камзол, а дурь в карман не спрячешь — вся наружу.
Открыв дверь в приёмную, Бьяджо объявил:
— Мессер Буонарроти, просят вас.
Павел встретил вошедшего мастера с упрека:
— А сам не мог прийти без принужденья — особый надобен тебе указ? — И принялся рассматривать художника, но сесть не предложил.
— Поди поближе — нас подводит зренье. Ба, как сказались на тебе года!
Микеланджело подошёл и, низко поклонившись, поцеловал папский перстень, пробурчав:
— И вас не пощадили, если глянешь.
— Не слышу. Иль дерзишь ты, как всегда?
— Я говорю, что время не обманешь.
— Да где ж угнаться нам за ним теперь! — согласился папа и, обернувшись к стоящему Бьяджо, сказал: — А ты чего, любезный, задержался? Ступай и за собой закрой-ка дверь.
Камерарий, низко кланяясь, удалился.
— Ты в Риме, стало быть, обосновался?
— Пришлось, — прозвучал ответ.
— Видать, так порешил Господь, — и Павел перекрестился. — Тебе заказан путь в края родные: для них ты как отрезанный ломоть. Бросает взгляды на тебя косые сам князь. Ох, мстительна его рука!
— Правители приходят и уходят — Флоренции же здравствовать века.
— А страсти-то в тебе всё колобродят, — заметил Павел. — Я вижу, ты ершистым стал вдвойне. О чём бишь я? Все мысли разбежались. Запамятовал…
На лице папы появилась растерянность, но он вдруг вспомнил, что хотел сказать, и весь оживился.
— Вот! Сдаётся мне, в начале века мы с тобой встречались на лекциях. Тогда один прелат на Пасху прибыл в Рим из Польши. Как звался, помнишь, польский наш собрат?
— Коперник.75
— Он! С год погостил иль дольше. Тщедушный сам, но с жаром говорил. Ему внимали мы, развесив уши, про космос и вращение светил, и ядом наполнялись наши души.
Павел на миг задумался.
— Чем обернулось? Всё пошло вразброд! Сомненью подвергаются основы, на математике помешан сброд, до исступленья спорят богословы, и ныне их сам чёрт не разберёт.
Микеланджело продолжал хранить молчание.
— В твоей Флоренции Платона школа, где верховодит чуть не сатана. Повсюду, как чума, ползёт крамола, за Альпами крестьянская война…
— Как говорят, так повелел Создатель, — тихо прозвучал ответ мастера.
— Да полно врать! Со мной-то не хитри. Негоже баснями нам жить, приятель. Ты сам глаза раскрой и посмотри. Всё обнажилось, ничего не свято, брожение в умах, кругом разврат! Страна опасной ересью брюхата, которая страшней, чем супостат. Сбывается апостола пророчество, что сгинет род людской, живя во зле. А ты замкнулся в гордом одиночестве, забыв про беды на родной земле.
— Да я…
— Молчи! Перечить неуместно. Пойдёт о важном деле разговор. Хоть мненье о тебе не очень лестно, но всем известно, ты в работе спор и предан делу до самозабвенья.
Папа вновь взглянул на стоящего в молчаньи мастера, стараясь понять его отношение к сказанному. Но тот бровью не повёл в ответ на лестные слова.
— Недавно я в Сикстине побывал и понял, сколь великое творенье во славу Римской церкви ты создал. Плафон твой вызывает восхищенье! Да вот алтарная стена бельмом. Как в судный день, вопит она, нагая. А посему, наш сын, заказ тебе даём: всё мастерство и знанья применяя, за роспись взяться в этом же году.
— Да скульптор я, — чуть ли не с вызовом напомнил о себе мастер, — и вы забыли, видно, что я давно с палитрой не в ладу.
Папу всего перекосило от этих слов:
— Такое слышать от тебя обидно. Ты думай — чепуху не городи. Чего добром гнушаешься, милейший? Ведь прытких мастеров хоть пруд пруди. Им только свистни…
— Да не то, Святейший! Что ж, мне об стенку биться головой?
— Ты горло не дери! Ишь, разорался. Мы не в лесу, и я, чай, не глухой.
— Поймите вы, чтоб я за фреску взялся, мне надо бы силёнок подзанять.
— Ты не обижен Господом на свете. И. нечего меня разубеждать. Я вот постарше и за мир в ответе.
Но Микеланджело продолжал упорствовать:
— В ответе я пред совестью своей, и мне ль не знать, сколь непосильно бремя?
Павел удивлённо всплеснул руками:
— Из камня высекать куда трудней, и зря ты понапрасну тратишь время.
— Сыздетства, отче, я каменотёс.
— Заладил! Да с тобой одна морока. Ты непокладист — задираешь нос.
— Я не привык дела решать с наскока.
Павел начал терять терпение:
— Покойный папа Медичи, как знал, когда решил…
— Да знаю я и помню!
— Тебя он ко двору не подпускал, сослав в каррарскую каменоломню.
— Я был в отместку отстранён от дел, так как клеймил мздоимство, непристойность.
— Да как ты, еретик, сказать посмел, — возмутился папа, — о Римской курии такую вольность! Упрячу в каземат тебя, стервец! Куда пошёл? Совсем отшибло разум.
Микеланджело остановился на полпути к выходу:
— Я думал, аудиенции конец.
— То мне решать. Ты думай над заказом. Сикстина заждалась тебя, глупец.
«И снова кабала, — подумал про себя вслух Микеланджело. — Вот незадача!»
— Чего бормочешь? Я не отступлюсь. Не вздумай только поступить иначе, — пригрозил Павел. — От Юлия ты убежал как трус. Со мной не выкинешь такую шутку. Из-под земли достану, в рог скручу, плясать заставлю под мою же дудку, а за строптивость и поколочу.
Видимо, поняв, что переборщил с угрозами, Павел подошёл к Микеланджело и положил ему руку на плечо.
— Ну, будет — не серчай. Себя не мучай. Отказа никогда я не прощу. Пойми — я тридцать лет ждал этот случай и, папой став, его не упущу!
— Как одолеть мне тяжкие сомненья? — с дрожью в голосе спросил мастер.
— Порукой верной будут гений твой и неустанные мои моленья. Заказчик — время и престол святой, — и Павел осенил художника крестным знамением. — Не подведи нас и работай рьяно. Всё! Порешили, и умерь свой нрав.
С этим напутствием Микеланджело, не отрешившись от всего услышанного, покинул зал, забыв на прощанье преклонить колено. Вслед за ним в зал вбежал Бьяджо:
— Святейшество, он вышел, словно пьяный, в приёмной всех послов перепугав. Вот и нашлась на срамника управа!
— Ты не болтай, а исполняй приказ, — резко оборвал его Павел. — Оповестить все римские заставы, чтоб мастер сей не упорхнул от нас. Впредь дом держать негласно под надзором.
— Весь сыск поставим на ноги тотчас и пост фискалов пред его забором.
— Но чтоб о слежке знать он не посмел, — приказал Павел.
— Соскучилась по бунтарю темница, — потирая руки, сказал Бьяджо.
— Какому бунтарю? Ты ошалел. Умолкни, валаамова ослица!
— Простите, что я брякнул невпопад.
— Он должен мне служить, и непременно! Я знаю, что сманить творца хотят Париж, Мадрид, Венеция и Вена. Но он художник папского двора. Упустите — повешу за измену! Послов на завтра. К трапезе пора.
И папа через скрытую от взора потайную дверь покинул малый зал приёмов.
* * *
Встреча с новым понтификом породила в Микеланджело страхи и сомнения, хотя сам Павел III вызвал у него симпатию своей простотой и дружеским расположением. Пожалуй, с таким папой можно иметь дело.
Вернувшись с аудиенции, он долго не мог прийти в себя.
В нём боролись два чувства: гордость за полученный заказ и страх, что ему не справиться с пугающей размерами алтарной стеной — годы ведь уже не те.
Собравшиеся друзья, увидев его понурый вид после аудиенции у папы, в один голос стали убеждать, что это новый редкий случай украсить Рим достойным его славы творением.
— Творец и власть — извечная проблема, — с грустью промолвил Микеланджело, отвечая на их слова, — терзает и меня который год. Сложна и обоюдоостра тема, а прикоснёшься — в омут засосёт.
Он обхватил голову руками и задумался о своей так бурно начавшейся жизни в папском Риме.
— Не вырваться из позлащённой клетки! Боюсь, что здесь так и зачахну враз…
Чтоб вывести его из подавленного состояния, дель Пьомбо заметил:
— Но росписи в таком объёме редки, и будет ли когда другой заказ?
Микеланджело долго не мог успокоиться, терзаемый сомнениями. Из подавленного состояния его вывел Кавальери. Видя, как нервно мастер работает над рисунками, то и дело разрывая нарисованное в клочья и бросая в корзину, он, положив ему на плечо руку, тихо сказал:
— Только вам и больше никому под силу завершить роспись Сикстины.
В голосе друга было столько искренней доброты и веры в его дар, что он воспрянул духом. Правда, за эскизы он исподволь взялся ещё после памятного разговора с покойным папой Климентом, а поэтому разговор о росписи алтарной стены не был для него в новинку.
Вскоре римский дом Микеланджело стал местом встреч друзей, число которых постоянно росло. К нему стал захаживать и Лео Бальони, располневший и утративший свой былой лоск. После памятной стычки в Поджибонси Микеланджело простил ему предательство. А вот Франческо Бальдуччи ослеп от сидения за конторскими книгами и банковскими счетами, передав своё дело старшему сыну.
К нему нередко заходил также упоминавшийся выше в одном из капитулов Пьетро Карнесекки, протонатарий, то есть член папского суда и активный сторонник церковных реформ. Именно от него Микеланджело впервые услышал имя маркизы Виттории Колонна, ратовавшей за обновление церкви.
Не успел он объявиться в Риме, как на него посыпались со всех сторон заманчивые заказы, в том числе и от коронованных особ. Например, французский король давно лелеял мечту заманить к себе великого мастера. Им заинтересовался и Карл V, посетивший проездом Флоренцию и оставшийся в восхищении от «Давида». Обеспокоенный происками соперников Павел III предпринял шаг, о котором заговорил весь Рим.
Однажды работающий в саду Урбино вдруг увидел, как перед их воротами остановились кареты в сопровождении конного эскорта швейцарских гвардейцев. Он помчался со всех ног в дом оповестить мастера:
— Хозяин, рушатся все ваши планы! К нам гости прикатили невзначай. Кареты цугом, стражники, сутаны…
Оторвавшись от рисунка, Микеланджело строго ответил:
— Чего орать-то без толку? Встречай.
В дверях показался Павел III со свитой.
— Хоть гость незваный хуже сарацина, но принимай, коль сам не кажешь глаз. Проведать блудного решили сына, который, видимо, забыл про нас.
Микеланджело растерялся от таких слов. Подойдя к папе под благословение и поцеловав руку, он промолвил:
— Польщён нежданным вашим посещеньем. Здесь посвежей — пожалуйте сюда!
Павел уселся на предложенный мастером стул у раскрытого окна, а слуги поправили на нём лёгкую пелерину.
— Спасибо! Вижу, ты смущён вторженьем. Испить бы, уморила нас езда.
— Воды, Урбино! — приказал Микеланджело. — Действуй-ка проворно.
Затем он обратился к столпившейся у порога свите:
— Гостиной нет. Не стойте же в дверях и проходите. В мастерской просторно.
Оглядевшись, Павел промолвил:
— Я вижу, здесь радеют о гостях.
Вошёл Урбино с полным подносом в руках.
— Мы чем богаты, тем гостям и рады, — и стал разливать вино по бокалам.
— Так причастимся, как Господь велит, — предложил папа. — О, сколько в молодом вине прохлады! Всё пил и пил бы, кабы не колит.
Протягивая слуге пустой бокал, папа спросил:
— Что не живёшь в соседстве с Ватиканом? Забрался же в такую глухомань. Торчит лишь столп, воздвигнутый Траяном, и ни живой души — куда ни глянь.
— На древнем форуме, как на кладбище, — тихо ответил Микеланджело, — вольготно дышится и тишина.
— Ты славный мастер, а не жалкий нищий, — возразил Павел, — да и обитель больно уж скромна.
— Она мне по карману и по вкусу.
— Уж будто? — удивился Павел. — Я не знал, что ты аскет. Тогда подвергну я тебя искусу — в отъезд собрался?
— Нет, я домосед. Бескрылому, как я, летать негоже.
Стоявший рядом камерарий Бьяджо решил поддержать разговор:
— Жил на широку ногу Рафаэль, имел дворец, как истинный вельможа…
Микеланджело тут же вспылил:
— И нет певца — умолкнула свирель, а был на восемь лет меня моложе. Какой редчайший дар свой загубил! Будь поумереннее, жил бы ныне.
— Ужель безгрешен сам и не блудил? — спросил Павел. — Меня не проведёшь ты на мякине.
Тогда вперёд выступил молодой кардинал Эрколе Гонзага.
— А Леонардо Винчи, ваш земляк? Его-то князем звали все по праву.
— Покоя он не знал от толп зевак, — ответил Микеланджело, — любя безмерно почести и славу.
— Да кто ж из мастеров не будет рад, когда возносятся его творенья? — подивился Павел.
— Уж лучше недовольным быть стократ, чтоб избежать в искусстве пресыщенья. Да разве же понять тут самому, удачен труд иль обернулся крахом?
— Похвальна скромность, — согласился Павел, — крайность ни к чему. Обет безбрачья дал, живя монахом?
— Обета я такого не давал и был с искусством обручён с рожденья. Детей плодил с ним, боль перемогал и подавлял другие искушенья. А чтоб творить, жить надо бирюком, иначе новому не появиться.
— Вот и хочу я крёстным стать отцом дитяти, коему пора родиться, — оживился Павел, вспомнив о главной цели своего визита. — Чем снова нас порадует твой труд?
— Святой отец, работа лишь в зачатке, и рано выносить её на суд.
— Да не стесняйся, право. Что там в папке?
— Урбино, раскрывай большой картон! Всё покажу вам, что имею: план композиции и общий фон. Вы, отче, сами подсказали мне идею о вопиющей в Судный день стене. Добавить боле ничего не смею, и мысль пока воплощена вчерне.
Урбино развернул большой картон, вокруг которого столпились придворные.
— Не застить свет, — приказал Павел, — и запастись терпеньем! Картон расправьте, чтоб я всё узрел. Какая правит силища движеньем! Коловращение гримас и тел меж зевом Ада и вратами Рая.
Поднявшись, он подошёл поближе к картону:
— Вон ангелы на небесах трубят, Господь во гневе, Дева Пресвятая и толпы страждущих вокруг стоят. Кого же боле: правых иль неправых?
Кто-то из придворных попытался пояснить.
— Не верещите! Вижу — не слепой. Размеров фреска будет небывалых. Благодарю тебя, Создатель мой. От благодати на душе истома, мурашки по спине и в горле ком…
Папа вдруг пошатнулся и чуть не упал, если бы не стоящий рядом врач Ронтини.
— Вам худо? Господи, с ним снова кома. Урбино, пособи! Всё кувырком…
Папу осторожно усадили в кресло, а Ронтини дал ему понюхать смоченную из флакона ватку. Павел чихнул и пришёл в себя, не сразу сознавая, где находится.
— Как будто отошло. Воды немного. Где Микеланджело? Пусть подойдёт.
Микеланджело подошёл к сидящему папе.
— Тебе, мой сын, дан редкий дар от Бога. Удастся фреска — знаю наперёд. Отныне главным живописцем будешь и зодчим ватиканского дворца. За гонорар нас тоже не осудишь.
— Но две руки у всякого творца, — возразил мастер.
— Не спорь, а лучше дай ответ — почто в рисунках нагота сплошная?
— Нагим родится человек на свет, и перед Богом суть его нагая. В парче иль в рубище — спасенья нет.
Микеланджело вдруг остановился и оглядел, словно впервые заметил, всех собравшихся в мастерской придворных и слуг.
— Мы ждём со страхом Судный день, не зная, где уготовано нам быть потом: в раю, в чистилище иль в преисподней.
— Но забываете вы о другом, — сухо заметил кардинал Гонзага, подойдя к картону, — что фреска-то украсит храм Господний.
— Тем паче в нём-то и не должно лгать.
Но кардинала ответ мастера не удовлетворил:
— Толпа груба и вас поймёт превратно. Ей дай лишь повод, чтоб погоготать. Иносказательность ей непонятна.
— Да успокойтесь, право, кардинал! Безвкусица у нас поныне в силе, но я такою хворью не страдал.
Наклонившись к папе, Бьяджо промолвил:
— Святейшество, напомнить вы просили.
— О чём же должен я ещё сказать?
— О масле…
— Как же! — радостно вспомнил папа. — Есть такое мненье, что лучше б стену маслом расписать. Фламандцы пишут — просто загляденье!
— Кто надоумил вас, коль не секрет? — недовольно спросил Микеланджело.
— Дель Пьомбо, живописец и прикладник печати папской. Дельный же совет.
— Не знал, что он интригам стал потатчик.
— Попробуем! — предложил Гонзага. — Ведь вы мастак в делах.
Микеланджело всего передёрнуло от этих слов.
— Попробуйте! Я кисти вам вручаю, а сам на пиршествах и на балах жирок на брюхе малость нагуляю.
Послышался недовольный ропот придворных.
— Цыц, всем молчать! — приказал Павел, стукнув посохом.
Микеланджело трясло от негодования:
— О, козни стервеца! Поймите, что идея-то пустая не стоит выеденного яйца. Картина маслом — невидаль какая! Писать горазд им всякий вертопрах. Такая живопись боится света и хороша в работе на холстах.
— Иного от тебя не ждал ответа, — сказал примирительно Павел, — и прямота твоя мне по нутру.
— Коль что не так, прошу не обижаться.
— Тебя к себе жду завтра поутру, — сказал папа, направляясь к выходу. — А ныне с Богом! Нам пора прощаться.
Прежде чем покинуть мастерскую, Павел остановился перед скульптурой, закрытой тканью.
— Под покрывалом что таишь от нас?
— Для Юлия покойного вещица. Храню покуда от сторонних глаз.
— Ужель чуток взглянуть нам возбранится? — с хитрецой спросил папа.
Микеланджело с помощью Урбино снял покрывало:
— Пожалуйста.
— Не Моисей ли?
— Он.
Павел отступил на шаг от изваяния.
— Так вот каков ты, грозный прародитель гонимых испокон веков племён — мудрец, законодатель и воитель! Такого ныне нам недостаёт.
— Наследникам не нравится скульптура, — признал с горечью Микеланджело, — и просят новых у меня работ.
— Вошли во вкус — губа у них не дура! Устроим дело так, как я хочу. Эх, кабы мне такое изваянье!
— Святейшество, как можно?! — воскликнул Микеланджело.
— Я шучу. Прощай, мой друг, до скорого свиданья!
На выходе из мастерской Бьяджо тихо сказал кардиналу Гонзаге:
— Теперь пред ним спины не разгибай.
— Мы гонор охладить его сумеем, — в ответ процедил тот сквозь зубы.
Наконец именитые гости, рассевшись по каретам, укатили восвояси.
— Урбино, окна настежь растворяй! Всё провоняло приторным елеем.
— Какая вам от папы благодать! — воскликнул Урбино, потрясённый визитом святого отца.
— Его манеры льстивы и не новы. Он мягко стелет — жёстко будет спать и незаметно обретёшь оковы.
— Да Павел явно вам благоволит!
— Картоны прибери-ка, утешитель. О Господи, что сей визит сулит, какой он будет, новый покровитель?
Неожиданный визит Павла со свитой в его берлогу, как он сам называл своё жилище, не мог не взволновать и заставил крепко задуматься. Но прямота и простота папы в общении без ханжества и спеси были ему по душе. Польщённый высокой поддержкой, он с удвоенной энергией принялся за рисунки к будущей фреске.
* * *
После долгой разлуки Микеланджело с волнением вступил в Сикстинскую капеллу. Теперь алтарная стена в капелле не так пугала своими размерами (13,70 x 12,20 метра), достаточно ему было поднять голову и взглянуть на расписанный им плафон, который не шёл ни в какое сравнение своими габаритами с алтарной стеной.
Какими же силами он обладал, расписывая потолок капеллы! Единственно, что его беспокоило — это старые фрески, украшающие закопчённую алтарную стену, в том числе «Благовещение» Перуджино. Вспомнив его склочный характер, Микеланджело подумал, что даже с покойным художником лучше не связываться. Но на стене чуть выше были также две его фрески из жизни предков Христа, а над ними — пугающий своим стремительным порывом пророк Иона, сотрясающий всё вокруг.
Как быть? Но всё решилось просто — с позволения папы артель каменщиков приступила к кладке новой алтарной стены, частично разобрав старую. Вновь возведённой стене, согласно чертежам Микеланджело, был придан небольшой наклон, чтобы пыль и копоть не оседали на фреске. Кривизна составляет сантиметров пятьдесят, но для зрителя она станет незаметной.
Работа над эскизами шла полным ходом. Ему постоянно нужны были натурщики обоего пола, так как на новой фреске будет около трёхсот персонажей. Большую помощь в этом деле оказывали Урбино и особенно Кавальери, обладавший тонким вкусом. Это, пожалуй, была самая счастливая пора в жизни мастера, когда каждый день он встречался со своим кумиром. Тот приносил сделанные им рисунки и просил взглянуть. Микеланджело правил их осторожно, чтобы не задеть самолюбие молодого человека, преданного искусству.
Он встречал его каждое утро влюблёнными глазами и с грустью расставался с ним, садясь за эскизы. Однажды Микеланджело похвалил идеально сложенного натурщика, но, отметив скрытую в нём порочность, тихо промолвил, словно вспомнив о чём-то:
— Красота и порок, к сожалению, порою бывают совместны.
Тогда в порыве откровенности Кавальери вдруг рассказал, что ещё совсем недавно бражничал с друзьями и бегал по борделям, за что теперь жестоко себя корит.
— Простите, мастер, — робко спросил он. — А вы в молодости испытывали нечто подобное?
— Как вам сказать, мой друг. Я никогда не принадлежал самому себе. При виде телесной красоты во мне подавлялись все свойственные юности желания, кроме страсти взяться за карандаш или резец и воспроизвести поразившую воображение прекрасную форму.
Взглянув на погрустневшего друга, он добавил:
— Не печальтесь! Даже великого Леонардо за грехи молодости однажды временно изгнали из Флоренции.
Сошлёмся на одно из высказываний биографа Кондиви, который не переставал восхищаться душевной чистотой великого мастера: «Я часто слышал, как Микеланджело рассуждал о любви, и те, кому посчастливилось присутствовать при этом, утверждали, что он говорит о ней как Платон. Я, правда, не знаю, что говорил о любви Платон, но мне известно одно: за долгие годы близкого знакомства с Микеланджело я слышал от него лишь самые благородные речи, способные охладить чрезмерный пыл, порой овладевающий юношами».
Человек глубоко верующий, Микеланджело воспринимал телесную красоту как божественный дар, перед которым испытывал благоговейный трепет, подобный тому, что испытал Моисей перед Неопалимой купиной. Он сам признавал в письме другу Джаннотти: «Когда я вижу человека талантливого или умного, который в чём-то искуснее или красноречивее других, я не могу не влюбиться в него и тогда безраздельно отдаюсь ему, так что перестаю принадлежать самому себе…»
Таким человеком на его пути оказался Томмазо Кавальери, поразивший его красотой, гордой осанкой и, самое главное, трезвым пытливым умом, душевной чистотой и глубокой преданностью искусству, чего так не хватало прежним его кумирам. В тот период им было написано около двадцати сонетов и мадригалов, посвящённых другу, без которого он не мыслил своего существования. Приведём один из сонетов, который современники считали вершиной итальянской лирики XVI века:
Свет чудный вижу вашими очами — Без вас бы одолела слепота. В пути меня подводит хромота, И к цели вашими иду стопами. Бескрылый, вашими парю крылами, И вашим разумом крепка мечта. В озноб и в жар вгоняет красота: Дрожу иль исхожу семью потами. Отдался вашей власти я всецело, И вашим я живу благодеяньем; Дыханьем вашим речь моя согрета. Лишь вам во всём я доверяюсь смело, Не одари вы солнечным сияньем, Я стал бы хладною луной без света (89).Ко времени завершения фрески «Страшный суд» поток лирических излияний несколько поутих, хотя Микеланджело по-прежнему доходил до самоуничижения, преклоняясь перед Кавальери и часто вводя его в смущение при получении им пылких посланий с признанием в любви. Иногда в порыве охватившего его чувства Микеланджело переходил на более доверительное «ты»:
И нет уж мысли для меня дороже, Как шкуру с самого себя содрать. Чтоб из неё пошить тебе наряд, Иль из моей дублёной грубой кожи Хоть пару крепких башмаков стачать — Носи без сноса года два подряд! (94)Своего любимца мастер щедро одаривал рисунками. Как пишет Вазари, «Микеланджело изобразил мессера Томмазо на картоне в натуральную величину, хотя ни прежде, ни после того портретов он не писал, ибо его ужасала мысль рисовать живого человека, если тот не обладает необычной красотой». В дальнейшем картон был утерян. Он никогда не стал бы писать уродливые лица, как это можно увидеть у Леонардо, создавшего целую серию рисунков обезображенных болезнью или гримасами лиц беззубых стариков и старух.
Он подарил Кавальери несколько удивительных рисунков красным и чёрным карандашом, желая научить юношу рисовать. Им были написаны для него Ганимед, похищаемый орлом Зевса, Титий, у которого коршун выклёвывает сердце, падение колесницы солнца с Фаэтоном в реку Эридан и вакханалия младенцев — рисунки, как пишет Вазари, «редкой красоты и изумительного совершенства».
Иногда молодой друг уставал от такого внимания великого мастера к своей скромной персоне и на время исчезал, давая Микеланджело немного поостыть. Возможно, Кавальери не мог не поддаться мнению молвы, косо смотревшей на их дружбу. Бедняга страдал от поклёпов и замыкался в себе, стараясь никого не видеть. Но любовь к искусству брала своё, и он вновь появлялся после домашнего затворничества в мастерской обожаемого мастера, робко показывая ему свои рисунки, над которыми работал дома. Как всегда, Микеланджело внимательно их просматривал, осторожно внося небольшие исправления.
Однако не видя Кавальери какое-то время, Микеланджело приходил в сильное возбуждение, терзаясь подозрениями и ревностью, не находя себе места. Такие моменты отчаяния находили отражение в его стихах:
Ты знаешь всё, мой господин. Ты знаешь, Какой отрадою душа полна И как вблизи тебя она вольна. Так отчего же встречи избегаешь? Коль впрямь надеждой сердце одаряешь И радость скорая мне суждена, Пусть рухнет отчуждённости стена! Безвестностью вдвойне меня терзаешь. Бесценный друг и повелитель мой, Люблю в тебе готовность всем делиться И в сердце искру Божию огня. Духовной я пленяюсь красотой. Толпе бы надо заново родиться, Чтоб по достоинству понять меня (60).Но близкие друзья понимали его привязанность к славному молодому человеку и не видели в ней ничего особенного, зная натуру великого мастера. Микеланджело нередко показывал им свои любовные сонеты. Особенно он дорожил мнением Джаннотти, обладавшего безукоризненным литературным вкусом, и ему он мог полностью довериться, когда испытывал необходимость найти нужное слово или образ, чтобы полнее выразить свои чувства.
Любовь великого мастера к молодому человеку не могла не смутить любого обывателя, будь он даже непредвзято настроен, ибо в католической стране такое чувство могло быть понято превратно. Как всегда, находились радетели чистоты нравов с их гнусными намёками. В одном из писем анонимному адресату мастер разъяснил: «Они создают себе образ Микеланджело по собственному образу и подобию».
Словно предвосхищая приведённое выше суждение Томаса Манна, он пишет:
О, если бы бессмертье красоты Я мог делами выразить хоть малость, Возможно, тот, кому не чужда жалость, Впустил бы в храм любви и доброты. Как прежде, помыслы мои чисты, Но тягостна и непривычна вялость, И бренной плоти чувствую усталость. Мучительны о вечности мечты! Столь нетерпимые всегда в сужденьях, Поймут ли наши умники слова, Всех подгоняя под свою же мерку? Мне незачем таиться в устремленьях, И заблуждается, глумясь, молва. Неправ мой друг, как вышло на поверку (58).Он ничего не мог с собой поделать, и из-под его пера появлялись всё новые стихи, воспевающие красоту молодого друга, хотя такое преклонение пред красотой отвлекало его от работы над эскизами к «Страшному суду» и мешало настроиться на трагический лад, требующий максимальной концентрации усилий в рисунке. Чтобы развеяться, он приказал однажды Урбино оседлать коня и помчался в горы Кастелли-Романи, где перед лицом первозданной стихии немного поостыл и вернулся к эскизам. Но сердце не унималось, и ему хотелось постоянно видеть своего кумира…
Навряд ли я смогу создать картину. Хоть ты — живая плоть, а не видение. Как ни сильно моё воображение, Сей красоты мне не понять причину. Тебя покинув, я попал в пучину. Но бегством не спастись от наваждения, Надеясь обрести успокоение. Амур настиг, усугубив кручину. Как ни тягайся с быстроногой ланью И ни скачи, пути не разбирая, Хитрец обгонит скакуна любого. Глаза мне осушив своею дланью, Он щедро посулил блаженство рая. Но от посулов сердце стонет снова (82).Безумной страсти и пылким излияниям пришёл конец, когда Томмазо Кавальери женился и стал впоследствии отцом многодетного семейства. Но его дружеские и творческие отношения с мастером ещё больше окрепли. Микеланджело всё чаще поручал ему более ответственные задания, касающиеся градостроительных планов, а в его тетради появился преисполненный грусти прощальный сонет, в котором подводится итог былому, когда он был пленником охватившей его страсти…
Ручьи, я столько пролил слёз над вами! Верните их — вы будете рекой: Вас половодье одарит весной, А ныне расквитаемся с долгами. Печаль моя, тебя я ткал годами То вздохами, то тихою мольбой. Не засти свет густою пеленой — Уж перепутались все дни с ночами. Земля, верни шаги моим стопам И скрой следы своим ковром зелёным. Откликнись эхом, сердца прежний стон. Да возвратится свет моим очам, И быть мне новой красотой пленённым, Раз призрачна любовь, как краткий сон (95).Этот прощальный сонет он никому не показывал и хранил среди бумаг и рисунков как дорогую реликвию.
Пылкая натура Микеланджело не знала покоя, и в самый разгар работы над алтарной фреской его посетило новое, доселе неведомое ему чувство увлечения удивительной женщиной, неожиданно повстречавшейся ему на жизненном пути.
Глава XXVI ВИТТОРИЯ КОЛОННА
В твоих очах и жизнь моя, и благость,
Хоть вижу, что тебе я часто в тягость.
Вкушаю радость вперемежку с болью,
И ты не тяготись земной юдолью (122).
Бывая часто во дворце, Микеланджело не раз слышал в кулуарах разговоры о растущей протестной волне с требованиями реформы церкви. Такие голоса с особой настойчивостью раздавались в Венеции, Женеве и Неаполе, где большой известностью пользовался проповедник-испанец Хуан Вальдес, сторонник «протестантского католицизма» и сын личного секретаря Карла V. Не менее известным была основанная кардиналом Гаспаре Контарини, представителем знатного венецианского рода, Collegium de emendanda Ecclesia (Коллегия высшего духовенства), в которую входили некоторые влиятельные лица, в том числе умнейший прелат Лодовико Беккаделли, бывший папский нунций в Вене, где Тициан написал его превосходный портрет (Флоренция, Уффици). У Микеланджело завязались с ним дружеские отношения, и прелат немало порассказал ему о кружке маркизы Виттории Колонна, который собирался каждое воскресенье после мессы во дворике римской церкви Сан Сильвестро аль Квиринале на вершине холма, куда ведёт лестница из 51 ступени.
Недавно его близкие друзья побывали на приёме, устроенном вдовствующей герцогиней Джулией Гонзага, родной тёткой уже знакомого ему кардинала Эрколе Гонзага. Её мужем был Веспасиано Колонна, так что она оказалась в прямом родстве с семейством Виттории Колонна. На приёме они увидели маркизу Колонна в сопровождении тощего кардинала Реджинальда Пола, бежавшего из Англии из-за разногласий с королём Генрихом VIII. Англичанина открыто ненавидели гонимые им протестанты, поскольку именно он провозгласил и обосновал право церкви и государства преследовать ересь, и это право им было широко осуществлено позднее в годы правления Марии Кровавой в Англии, куда он вернулся из Рима, потеряв надежду быть избранным на папский престол.
На следующий день друзья поведали Микеланджело свои впечатления. Особенно их поразила величавая статность маркизы.
— Она смиренна с виду, — начал свой рассказ дель Пьомбо, — а по сути склонна в своём кругу людьми повелевать.
— Не дама, а ходячая колонна, — поделился своим мнением Дель Риччо, — ей имя рода знатного под стать.
Но привлечённые звоном бокалов из банкетного зала с накрытыми столами, оба направились туда, упустив главное — оживлённый разговор кардинала с дамами, касавшийся Микеланджело. А вот трезвенник Джаннотти не последовал за ними, поскольку его интересовала фигура кардинала Пола, который вызывал у него недоверие своими высказываниями. Он ещё более укрепился в своих подозрениях, побывав на том приёме и став очевидцем разыгравшегося во дворце скандала.
Первой заговорила Колонна, обратившись с вопросом к хозяйке дома.
— Так что ты разузнала тихой сапой?
— Вот что поведал мне всезнайка-брат о встрече Буонарроти с папой, — начала свой рассказ Джулия. — Святоша наш устроил маскарад и мастеру настолько льстил умело, что вынудил его согласье дать за новое в Сикстине взяться дело.
— Такую глупость не могу понять, — с удивлением сказала Колонна. — Междоусобных войн бушует пламя, и уж на ладан дышит сам престол.
— Для папы Микеланджело как знамя, — возразил Пол, с трудом подбирая нужные слова по-итальянски, — и в нём союзника он приобрёл.
— У вас богатое воображенье, — резко отпарировала Колонна, — и вы скорей политик, чем прелат.
— Что ж, для успеха нашего движенья готов сменить я требник на булат, — согласился Пол. — Все средства для политика уместны, и прав ваш Макиавелли как стратег.
— Но вера и цинизм столь несовместны, — твёрдо заявила Колонна, — что с вами я не соглашусь вовек.
Пол улыбнулся и продолжил свою мысль.
— Возьмите Микеланджело, к примеру. Не очень-то разборчив в средствах он. Зато в искусстве знает меру и в мастерстве никем не превзойдён.
— Но Микеланджело — орешек крепкий, — заметила Гонзага, — живёт в уединеньи бирюком средь древних капищ. Нелюдим он редкий.
— И всё же ключ к нему мы подберём, — заверил её кардинал Пол. — С поэзией давно он связан тайно, стихи показывая лишь друзьям. И вспомнил я об этом не случайно. Виттория его приблизит к нам.
— Я не давала повода для шуток. Ваш мастер неотёсан, как гранит. Он груб и к мнению других нечуток. В нём дух Савонаролы не изжит.
Но кардинал не отступал, наседая.
— Ваш долг пойти на жертву ради цели.
— В Италии тебя Сапфо зовут, — вторя ему, напомнила Гонзага.
— Его расположить бы вы сумели, — продолжал убеждать её Пол. — Движенью Реформации он нужен, чтоб прозелитов ревностных привлечь. Вот если б с папой мастера поссорить, к чему упорно и клоню я речь.
— Я вижу, что мне вас не переспорить, — сказала Колонна, разведя руками. — Попробую рискнуть — соблазн силён.
Её с радостью поддержала Гонзага:
— К нему легко мы сможем подступиться: в Сан Пьетро ин Винколи бывает он, где будет папы Юлия гробница. Его дружок Дель Риччо весь в долгах — платить по векселям не в состояньи. Растут проценты — он в моих руках и с мастером устроит нам свиданье.
Так хорошо закончившийся разговор неожиданно был испорчен появившимся кардиналом Эрколе Гонзага, который еле держался на ногах.
— Ну, тётушка, гостей я позабавил!
— Какая, брат, я тётушка тебе? — смутилась Джулия Гонзага. — Дал слово и не соблюдаешь правил!
Кардинал тряхнул головой, чтобы прийти в себя, а двое слуг по бокам удерживали его на ногах.
— Забыл, что ты на людях мне сестра. Прости! С тобою нечего лукавить: для храбрости пью с самого утра, чтоб вместе Лютера с амвонов славить.
— Коллега, — обратился к нему Пол, — вам фиглярство не к лицу!
— Имей хотя бы уваженье к сану, — пожурила тётка племянника. — Я чин тебе достала, наглецу.
— Спасибо! Хочешь, на колени стану? — не унимался пьяный Гонзага. — Прости же, тётя. Тьфу! Прости, сестрица.
— Прощаю, но кончай свою гульбу.
Гонзага пьяно осклабился.
— Дай в знак прощенья к ручке приложиться. Я беспокоюсь за твою судьбу. — И понизив тон, продолжил, озираясь по сторонам: — У нас неправый суд вершат ублюдки. Везде доносчики — куда ни глянь, и к власти рвутся даже проститутки. Дела твои, сестрица, право, дрянь. В Италии костры пылают всюду — не обожгись с дружками у огня.
— Ах, негодяй! — возмутилась Джулия. — И я молчать не буду — всё выложу. Попомнишь ты меня.
— Вон папские ищейки рыщут всюду, — пригрозил Гонзага. — Шепну, и мигом вас на эшафот. Как обовьёт верёвка ваши шейки…
— Развратник, недоносок, идиот! — закричала вне себя от гнева Джулия. — Совсем от пьянства ошалел, скотина!
— Чего орёшь? Фискалы у ворот.
— Да уведите вы его, кретина! — приказал Пол стоящим слугам с разинутыми ртами.
Оттолкнув их от себя, Гонзага с наглой улыбкой обратился к Полу.
— Посланец Альбиона, вам совет: на тётку ставьте карту без опаски, и пусть вас не страшит осенний цвет. Зато в награду за любовь и ласки она протащит вас на папский трон. Но, тсс! Ни слова. Действуйте, избранник! Что ж, заговорщики, прощайте!
— Вон! — вслед прокричала Джулия. — Мне в наказанье послан сей племянник. Виттория, куда? Повремени…
Закрыв лицо руками, маркиза поспешила прочь от безобразной сцены.
— Оставьте, — твёрдо сказал Пол, провожая взглядом спешно удаляющуюся маркизу. — Пусть в себя придёт немного. Пойду и я. Господь вас сохрани!
* * *
Однажды Джаннотти показал Микеланджело сонет Виттории Колонна, прочитанный на одном литературном вечере. Сама поэтесса отсутствовала, так как избегала светских сборищ и вела уединённый образ жизни.
Отец небесный и Творец природы, Живу и я ростком лозы земной. В сени её ветвей мой кров родной, Где я защищена от непогоды. Когда б не Ты, житейские невзгоды Застлали б очи мрачной пеленой, А я бы сорной заросла травой — Уж семена сомненья дали всходы. Но очищение души в Тебе. Так утоли святой росою жажду И каплю дай корням Твоей слезы! О истина, внемли моей мольбе И светлой верой укрепи! Я стражду, Что недостойна матери-лозы.76Микеланджело оценил искренность поэтессы и охватившие её сомнения, которые она выплеснула на листок бумаги. Таким сомнениям он сам был подвержен, и ему захотелось поближе познакомиться с маркизой.
Он стал ощущать, как взамен угасающей страсти к возмужавшему Кавальери, обременённому семейными заботами, в нём робко зарождается новое чувство, пока ещё не осознанное до конца, к Виттории Колонна, моложе его на 15 лет, чья подвижническая жизнь и преданность вере глубоко заинтересовали его влюбчивую и впечатлительную натуру. Она происходила из старинного аристократического рода и была внучкой знаменитого урбинского герцога Федерико да Монтефельтро, увековеченного на портрете Пьеро делла Франческа. В роду Колонна были гвельфы и гибеллины, паписты и антипаписты; один из них, Шьяра Колонна, в 1303 году пленил под городом Ананьи неподалеку от Рима папу Бонифация VIII и в опьянении победы прилюдно влепил понтифику пощечину.
Одним из отпрысков этого знатного рода был доминиканский монах Франческо Колумна, ученик знаменитых венецианских братьев-живописцев Беллини. В историю живописи он не вошел, но его имя утвердилось в литературе. Он стал автором нашумевшего романа «Hypnerotomachia di Polifilo» («Любовные битвы во сне Полифила»), в котором делается попытка примирить любовь чувственную с любовью божественной, высшей. Книга вышла в 1499 году в издательстве венецианского гуманиста Альдо Мануцио. Следы рода Колонна присутствуют и в России, где некие его предприимчивые представители основали, как гласит легенда, город Коломна.
Витторию Колонна рано выдали замуж за испанского маркиза Ферранте д’Авалоса ди Пескара. Но муж был равнодушен к жене, заставляя её страдать своими открытыми изменами даже в их неаполитанском доме. Большую часть жизни он провёл по примеру своего отца, Альфонсо д’Авалоса, в походах и в возрасте тридцати трёх лет умер от полученных ран. Вскоре не стало и его усыновлённого Витторией ребёнка. Овдовев, она большую часть времени проводила в родовом замке мужа на острове Искья, где её навещал проповедник Вальдес, чьи идеи оказали на неё сильное воздействие, породив в душе сомнения в незыблемости церковных догм. Выплакав свою неразделённую любовь к неверному мужу, она переехала в Рим, где отдалась волновавшей её с детства поэзии и с головой ушла в религию, делая значительные вклады в монастыри и знаясь со многими лидерами церковной реформы.
По воспоминаниям современников, маркиза Колонна была настоящим воплощением меланхолии. Когда она обращала на кого-то внимание или заводила разговор, её редко покидало выражение изысканной холодности. Ей были присущи королевское величие и столь несвойственный для женщин живой острый ум, который она проявляла весьма сдержанно. Всё это вкупе с благородством чувств и гордой отрешённостью от мирской суетности придавало её личности неповторимое своеобразие.
Виттория Колонна была заметной фигурой в итальянской культуре первой половины XVI века. Она вела переписку с королевскими особами, к её мнению прислушивались Ариосто, Бембо, Джовио, Каро, Кастильоне и другие писатели и поэты. Её сонеты пользовались известностью, снискав ей славу первой поэтессы своего времени. Чеканились медали с её изображением. На них некрасивое лицо маркизы выглядит несколько мужеподобно с высоким лбом, прямым, чуть длинноватым носом с недовольно раздутыми ноздрями, брезгливо приподнятой верхней губой и маленьким ртом, говорящем о высокомерии и молчаливости. Имеется также её портрет маслом, принадлежащий, как считают, кисти всё того же дель Пьомбо (Рим, дворец Венеция), на котором поэтесса изображена непривлекательной с виду, но с проникновенным умным взглядом карих глаз.
Широко известен сделанный Микеланджело рисунок молодой женщины в шлеме (Виндзорский замок, Королевская коллекция). В нём идеализация мужеподобного лица настолько очевидна, что в этом рисунке можно при желании усмотреть образ Виттории Колонна, какой она виделась художнику, преисполненному к ней любви. Имеется ещё один превосходный рисунок (Флоренция, Уффици), который значится в каталоге как «идеальная голова» и вполне может быть принят за воображаемый образ поэтессы.
Он повстречался с ней в ту пору, когда она находилась под сильным влиянием религиозного свободомыслия лидеров движения за реформу церкви — Вальдеса, Окино и Карнесекки. Но Микеланджело, не терпящий соперничества ни с чьей стороны, полностью заполнил её сердце. Свои нерастраченные чувства гордая маркиза отдала великому творцу, живущему отшельником и нуждающемуся, как она ощутила чисто по-женски, в добром понимании и сочувствии. Если бы не её дружба с Микеланджело, она, как и ближайшие её сподвижники по вере, оказалась бы в конце концов в лапах инквизиции, когда был объявлен крестовый поход против инакомыслящих, и закончила бы свои дни на костре, как Карнесекки, Сервет и многие другие сторонники реформ.
Ревностная католичка Виттория Колонна приложила немало сил, чтобы обратить своего великого друга на путь «истинной веры». Но как ни велико было его чувство к ней, её попытки были тщетны, так как он всячески оберегал свой внутренний мир от всякого вмешательства извне. Да и сама его титаническая фигура никак не вписывалась в узкий мирок маркизы с её благочестивым смирением, постами и веригами мученицы.
Если к Кавальери он испытывал мистическое преклонение пред красотой, то к Виттории Колонна, в которой неожиданно пробудилась материнская любовь к неприкаянному отшельнику, — чувство благоговейного обожания и признательности за сочувствие к его бедам.
Вот как в упомянутой рукописи Джаннотти описывается их первая встреча во внутреннем дворике церкви Сан Пьетро ин Винколи, где среди цветущих кустов камелии и олеандра выделялась белизна мрамора «Моисея». Микеланджело появился там вместе с увязавшимся за ним Дель Риччо, который с загадочным выражением лица пообещал ему какой-то сюрприз.
— Водружена скульптура второпях. Ужель тому причина папа Павел? — спросил Дель Риччо, разглядывая изваяние.
— Увидев жадный блеск в его глазах, — ответил Микеланджело, надевая рабочий фартук, — я «Моисея» вмиг сюда отправил.
Желая сделать мастеру приятное, Дель Риччо с уверенностью сказал:
— Сан Пьетрин Винколи и весь приход в своих не ошибутся ожиданьях.
— Но лишь по завершении работ судить возможно о моих стараньях. На днях контракта истекает срок.
— А снял ли возражения заказчик?
Не ожидавший столь болезненного для него вопроса, Микеланджело чуть не выронил резец, которым намеревался подчистить пьедестал:
— Нет, всяк сверчок пусть знает свой шесток! В таких делах никто мне не указчик.
Послышался шум подъехавшего экипажа. Дель Риччо встрепенулся и заволновался:
— Сдаётся, что подъехали друзья. Прошу вас — уделите им вниманье.
— Мне время попусту терять нельзя, — недовольно пробурчал себе под нос Микеланджело и взялся за дело.
Из-за колонн во дворике появился кардинал Пол в пурпуровой мантии и с ним две дамы. Одна, что постарше, в нелепом светлом балахоне, подчёркивающем её чрезмерную полноту; другая во всём тёмном, как монашка.
— Простите, господа, за опозданье, — промолвил кардинал Пол. — Позвольте, где же настоятель сам?
— Он занемог, — последовал ответ Дель Риччо.
— Храни его Мадонна!
Обратившись к Микеланджело, снявшему в смущении рабочий фартук при виде незнакомцев, Дель Риччо взял на себя роль хозяина дома.
— Имею честь, мой друг, представить вам их светлости: Гонзага и Колонна, а с ними их преосвященство Пол.
Микеланджело поклонился гостям, но под благословение к кардиналу не подошёл, который ему не понравился с первого взгляда из-за самодовольной слащавой улыбки, не сходящей с холёного лица.
— Творца такого повстречать — везенье! — воскликнула Джулия Гонзага. — Сегодня нас счастливый случай свёл.
— Чтоб заодно рассеять все сомненья, — поддакнул герцогине Пол.
Откинув вуаль, маркиза Колонна промолвила низким грудным голосом:
— Кто в правоте уверен, монсиньор, зачем тому третейское решенье?
Недоумённо пожав плечами и словно ища поддержки у молчащего Микеланджело, Дель Риччо спросил:
— Поведайте, о чём ваш разговор?
— О вынесенном Данте приговоре, — пояснил Пол, — и о делах давно минувших дней. Мы не пришли к согласью в долгом споре.
— А ваше мненье, мастер? — спросила герцогиня, не сознавая, что задела самую больную струну. — Вам видней.
Вынужденный дать ответ, он заговорил, волнуясь и не спуская глаз с маркизы Колонна, в которой, сам не зная почему, вдруг ощутил в самом её облике, благородной осанке и проникновенно звучащем голосе родственную душу.
— Моя Флоренция себе на горе отвергла лучшего из сыновей. Поборник вольности попал в опалу за то, что был ко лжи непримирим. Но он остался верен идеалу.
— Спор разрешён, — сказала Виттория Колонна, захлопав в ладоши в знак одобрения. — Ответ неоспорим в защиту правдолюбца и поэта.
При этих словах у Микеланджело возникло желание подойти к маркизе и поцеловать ей руку, но он сдержался.
— Чем новым вы порадуете Рим? — спросила Джулия Гонзага.
— В Сикстине занят я с начала лета.
— Но в тайне тема нового труда? — не унималась дотошная герцогиня.
— Помилуйте, да в этом нет секрета! — удивился Микеланджело. — Пишу я сцены «Страшного суда».
Самодовольную улыбку на лице кардинала сменило удивление:
— И вы, послушный папскому веленью, взялись инакомыслие судить?
— Грешно судить людей за убежденья, — с вызовом ответил Микеланджело. — Над подлостью я буду суд вершить.
— «Да не суди и будешь несудимым», — не отставал кардинал. — Не забывайте заповедь сию.
— Так, значит, оставаться к злу терпимым, — ответил, всё более распаляясь, Микеланджело, — и ложью совесть усыплять свою?
С вниманием следя за спором, Колонна решила немного остудить пыл поразившего её с первого взгляда мастера и тихо промолвила:
— Зло одолеть возможно лишь смиреньем, и в нём обрящете себе оплот.
Микеланджело вздрогнул, вспомнив друзей, павших за республику.
— Мне с чужеземным свыкнуться вторженьем, под чьей пятою стонет весь народ?
Он остановился, чтобы перевести дыхание.
— Преступно в наше время быть бесстрастным пред диким мракобесием в стране. Я не могу остаться безучастным — дух итальянца жив ещё во мне.
— Наш долг прощать, — заметил менторским тоном Пол, — терпеть и жить примерно…
Нет, этот любующийся собой англичанин начал его сильно раздражать, и он резко прервал его наставления:
— …чтоб вашим проповедям вторить в лад о том, что догмы церкви вечны, ибо верны? Неправы вы, и спорен постулат!
— На аксиомах зиждется доктрина! — чуть не фальцетом взвизгнул кардинал в ответ.
— И теоремы надобны уму, — не унимался возбуждённый Микеланджело. — А человеку, коль он не скотина, дойти до сути должно самому. Все разговоры о смиренье духа для слабых как спасительный дурман. Повсюду горе, нищета, разруха. Кому же выгоден такой обман?
Его вопрос повис в воздухе, и все молчали. Затянувшуюся паузу прервала Виттория Колонна:
— Но кто докажет ваши теоремы?
— О, дивная синьора, — воскликнул Микеланджело, — этот тон так неуместен для серьёзной темы, когда душа сдержать не в силах стон. Ведь человек умом пытливым славен, но в жизни с незапамятных времён он до сих пор унижен и бесправен.
Видя, как мастер возбуждён, и желая прекратить спор, кардинал предложил примирительным тоном:
— Пред нами, мастер, общая тропа евангельских заветов и традиций.
Но Микеланджело не принял посыл к примирению.
— Риторика воистину слепа, коль вынуждает жить в плену амбиций. Не церковь — души надо возвышать и рабство из сознанья рвать с корнями!
Видимо, осознав, что ершистого собеседника не пронять привычными доводами, Пол решил повернуть разговор на другую тему.
— Мы Божьим словом будем утверждать, а вы своими славными делами. Согласно действуя, пожнём успех.
— Искусством я добился очень мало, — с грустью в голосе признал Микеланджело. — Мне, кроме боли, нет иных утех. Республика в бою неравном пала, а я, избегнув казни, стражду здесь и от отчаяния впал в унылость.
Искренность мастера и боль, прозвучавшая в его словах, тронули маркизу Колонна.
— Но вам порукой вдохновенный труд и гений ваш. А Ватикана милость, поверьте, до добра не доведёт.
— Не вырваться из цепкого капкана, — глядя в пустоту, тоскливо произнёс Микеланджело. — А с Павлом я не ведаю забот — работаю покамест без изъяна.
Кардинал решил слегка заинтриговать несколько сникшего духом мастера.
— Пикантная о папе новость есть: с ним император Карл в родство вступает.
— От вас впервые слышу эту весть, хотя она меня не занимает.
— Напрасно, — с ехидцей промолвил кардинал. — Папой Павлом движет страсть, и преисполнен целей он корыстных, чтоб во Флоренции упрочить власть и Медичи, и всех их присных.
Микеланджело от неожиданности насторожился и с удивлением в упор посмотрел на коварного прелата.
— Не сразу я сумел вас распознать. Вы, вижу, мастер сыпать соль на раны и на больных струнах души играть! Циничны ваши дьявольские планы. Вам, чужестранцу, что до наших бед?
Почуяв неладное, молчавший до сих пор Дель Риччо, никак не ожидавший, что разговор примет такой оборот, решительно встал между разъярённым мастером и смутившимся кардиналом, пытаясь как-то сгладить создавшуюся нервозную обстановку.
— Оставим этот разговор, синьоры! Вы поступаете себе во вред.
— Я здесь не вижу повода для ссоры, — сказал Пол, опасливо отойдя в сторону. — Одумайтесь, мой сын — вот вам совет.
Микеланджело рассмеялся:
— Да полноте! Мы не в исповедальне — держите наставленья про запас.
Кардинал вконец потерял выдержку и перешёл чуть ли не на крик:
— Но tertium non datur77 изначально! Идёте с нами или против нас?
— Читайте-ка труды Платона-грека, тогда поймёте — дан и третий путь, основанный на вере в человека, способного весь мир перевернуть.
Он вдруг заметил в глазах кардинала растерянность и испуг. Ему стало искренне жаль заблудшего прелата и двух его спутниц.
— Как говорил мудрейший Марк Аврелий, не упустите жизнь — бесценный дар. А вы укрылись за стенами келий, где властвует молитвенный угар.
Всё ещё не придя в себя, Пол тихо промолвил:
— Но вспомните Писание…
— Отвечу, — прервал его Микеланджело, — в нём силу черпаю в борьбе со злом. А тот, кто ловко нам подстроил встречу, задуматься бы должен кой о чём.
Дель Риччо встрепенулся и забормотал:
— Да я…
Но Микеланджело повелительным жестом остановил его:
— Ты заслужил за вероломство те тридцать сребреников. Полно лгать!
Отвернувшись от что-то лепечущего друга, он подошёл к Виттории Колонна:
— Маркиза, с вами я ценю знакомство. И если захотите повидать работы разных лет и мастерскую, на Форуме легко сыскать мой дом, хоть, может быть, вас прогневить рискую.
Не прощаясь, он стремительно покинул внутренний дворик. Наступило общее замешательство под гневным оком свидетеля разыгравшейся бурной сцены восседающего на небольшом пьедестале «Моисея».
— Ушёл, — первой нашлась что сказать Колонна. — Всем нам досталось поделом. Он враг лукавства, ханжества и лести.
— Но, дорогая, — воскликнула Джулия Гонзага, — важен сам итог, коль удостоилась ты высшей чести переступить затворника порог!
Её поддержал Пол, обратившись к маркизе:
— От вас зависит наше начинание.
— Я недовольна вами, кардинал, — с решимостью в голосе заявила Колонна. — Неумны были ваши назиданья, которые и вызвали скандал.
Лицо Пола покрылось красными пятнами.
— Я действую в своём привычном стиле и не играю миротворца роль.
— Его слова мне душу опалили, — искренне призналась Колонна. — Как в них пронзительна людская боль!
— Готов своё признать я пораженье, — язвительно сказал Пол, — раз мастер вас действительно увлёк.
Колонна одарила его сожалеющим взглядом.
— Я ухожу, чтоб кончить словопренья. Досадно мне, что вам урок не впрок.
И она вслед за мастером покинула место разыгранной, как по нотам, интермедии.
— К тебе заглянем завтра до обеда! — крикнула ей вслед Гонзага.
— Вот и баталии конец настал, — виновато сказал Дель Риччо.
— Но пиррова одержана победа, — сухо ответил Пол, не глядя на него. — И мне не по душе такой финал.
— Любезнейший, до скорого свиданья, — обратилась к нему герцогиня. — Расписки будут вам возвращены.
— Я рад, что цените мои старанья, — заискивающе ответил ей Дель Риччо.
Направляясь к выходу, кардинал сказал:
— К нему с другой подступим стороны. Он в споре принял нас за глупых пешек, но распалившись, обнажился сам. Вы были правы — крепкий он орешек.
— Виттории он будет по зубам.
Кардинал вдруг остановился:
— Послушайте, но это лишь догадка, а может, проще всё: безумен он? Прошу вас, разузнайте для порядка.
— Вы правы. Мастер странно возбуждён.
Они удалились, даже не взглянув на стоящего в сторонке смущённого, но довольного собой Дель Риччо.
— Как ловко расквитался я с долгами! На грош услуга, а какая мзда.
К нему подошли вышедшие из-за кустарника трое неизвестных. Их решительная походка и неприветливый вид не сулили ничего хорошего.
— Мессер Дель Риччо? Следуйте за нами.
— Позвольте! Что вам нужно, господа?
— Поменьше шума. Мы сыскная служба, и предстоит серьёзный разговор о том, как завязалась ваша дружба с бунтовщиками.
— Спятили, синьор! — возмутился тот.
— И это мне, служителю закона?! — воскликнул незнакомец.
Обернувшись к двум сопровождающим, он приказал.
— Всадите кляп ему в дырявый рот, чтоб не орал, как пьяный поп с амвона.
Те скрутили Дель Риччо руки за спину.
— Утихомирился? А ну вперёд!
* * *
С той подстроенной и бурно закончившейся встречи началась дружба Микеланджело с Витторией Колонна, которая скрашивала его одиночество и одаривала моментами подлинного откровения. Он неожиданно проникся к ней таким доверием, какого ранее не испытывал, пожалуй, ни к кому.
Зарождение этого чувства совпало со временем, когда он напрямую приступил к самой росписи алтарной стены в Сикстине, в чём ему виделись мистическое совпадение и зов свыше. Он стал посещать воскресные встречи в Сан Сильвестро, где показывал маркизе рисунки, дорожа её мнением, и делился с ней самыми сокровенными мыслями о жизни и об искусстве, о чём говорится в одном из посвящённых ей сонетов, который вошёл в антологии итальянской поэзии:
Судьба, о донна, не для всех равна. И вот один пример вам в подтвержденье: Стоят веками в мраморе творенья, Хоть жизнь ваятелю на миг дана. Причина мне, как Божий день, ясна: Искусство не подвластно силе тленья. Скульптуре отдаю я предпочтенье — Ведь с вечностью она обручена. В портрете нашем или в изваянье Я мог бы жизнь обоим нам продлить, Орудуя то кистью, то резцом, Чтоб ваше оценив очарованье, Потомки обо мне могли судить И об удачном выборе моём (239).Судьба распорядилась так, что работа над величайшим творением «Страшный суд» проходила под знаком крепнущей дружбы с поэтессой, которая ратовала за обновление и очищение церкви от стяжательства, находясь под сильным влиянием идей Бернардино Окино, предводителя монашеского ордена капуцинов, автора нашумевших в то время «Диалогов о вере».
Первого сентября 1535 года папским указом Микеланджело был назначен главным скульптором, художником и архитектором Апостольского дворца в Ватикане с годовым жалованьем в 500 дукатов из папской казны, а также из таможенных доходов, взимаемых за переправу через По. Никто из мастеров Возрождения не получал столь высокого вознаграждения.
Работа в Сикстинской капелле шла своим чередом. Он получал отовсюду множество откликов. Из Венеции пришло целое послание от пресловутого Аретино, в котором автор излагал своё видение Страшного суда с «изрыгаемыми из уст Христа огненными стрелами, пронизывающими сверху донизу всю алтарную стену» и прочие благоглупости. Под конец своего многословного послания он пообещал вскоре наведаться в Рим и на месте изложить свои идеи. Странное письмо напористого автора изрядно позабавило друзей художника.
Вскоре пришла радостная весть из дома. Его племянница Франческа, которую он ласково называл Чекка, получив от дяди богатое приданое, удачно вышла замуж за молодого отпрыска знатного рода Гвиччардини. Приходили письма и от племянника Лионардо, который не скрывал своей нелюбви к учёбе и никак не мог найти дело, которое было бы ему по душе. Дядя строго его отчитывал за леность и легкомыслие.
В один из тихих вечеров, не предвещавший никаких сюрпризов, у Микеланджело на Macel dei Corvi собрались друзья, чтобы узнать о последних новостях из Флоренции от прибывшего оттуда Вазари. В последние годы через него Микеланджело следил за всем, что творится в родном городе. Он всегда был рад его появлению, и ему доставляло истинное удовольствие послушать его рассказы об оставшихся во Флоренции друзьях и знакомых.
Повзрослевший Вазари, успевший заявить о себе как о способном и ищущем художнике, дорожил дружбой с великим мастером и проявлял живой интерес к его новой работе. Показывая ему некоторые рисунки, Микеланджело с грустью заметил:
— В изгнанье мы в решеньях не вольны. Но исподволь в работу я втянулся.
Рассматривая разложенные на столе эскизы, Вазари не смог удержаться, чтобы не отметить:
— В рисунках ваших столько новизны, что мир бы обомлел и встрепенулся.
— Наш мир, Вазари, не пронять ничем, — с горькой усмешкой ответил Микеланджело. — Он жаждет одного — обогащенья.
С таким подавленным настроением друзья не могли согласиться, и Джаннотти постарался хоть как-то ободрить мастера.
— Чего-то нынче сникли вы совсем — Флоренция дождётся избавленья.
— Донато, друг мой, ждать невмоготу! Мне по ночам родной наш город снится. Как одолеть заветную черту и вырваться на волю из темницы?
Слова Джаннотти поддержал Вазари.
— Успех сопутствует вам столько лет, и всюду вы окружены почётом.
— Что мне почёт, когда свободы нет, а мы смирились и живём под гнётом? — из груди Микеланджело чуть не вырвался стон. — Ослепли все, не видя свой позор, и мой «Давид» глядит на нас с презреньем.
Он резко поднялся из-за стола, собрав разложенные на нём рисунки.
— Стыдливо от него отводим взор. Скорей умру, чем свыкнусь со смиреньем!
Молчавший доселе Дель Риччо, державшийся последнее время в тени, решил возразить мастеру.
— Упрёк ваш справедлив, но не во всём. Живём мы не без дела на чужбине, и вскоре прогремит отмщенья гром.
Послышались раскаты грома и сверкнула молния.
— Уже грохочет — лёгок на помине, — воскликнул Микеланджело. — Знать, час чревоугодия настал. Урбино, принимайся-ка за дело!
Урбино, откликнувшийся на зов, стал накрывать на стол.
— Ну наконец-то голод вас пронял! Жаркое чуть в печи не подгорело.
Все с готовностью стали рассаживаться за накрытый стол с яствами и напитками.
— Перед отъездом к вашим я зашёл, — сказал Вазари, принимаясь за еду. — Застал племянника — просил вам кланяться.
Разливая вино по бокалам, Урбино промолвил недовольно:
— Недавно сам был здесь и день провёл.
— Как был? — возмутился Микеланджело. — Вот за враньё тебе достанется!
— Я вру? Да как подумать вы могли! — не на шутку обиделся Урбино. — Он после Рождества сюда примчался, проведав, что в горячке вы слегли. Но в дом к вам не вошёл — чумы боялся. Поговорил со мной и был таков.
Микеланджело был поражён этой новостью. Ему было неловко перед товарищами за безобразный поступок племянника.
— Ах вот что! Наградил Господь семейкой и насажал на шею едоков. Как крохобор, трясусь я над копейкой и им последнее отдать готов…
Послышался громкий стук в ворота.
— Пойду узнаю, — сказал Урбино, — что за наважденье! Кого там на ночь глядя принесло?
Во дворе слышны были голоса:
— А, преподобный, прямо к нам с моленья?
— Попридержи язык, трепло!
На пороге появился сияющий дель Пьомбо.
— Привет, друзья! Но где аплодисменты? Не вижу радости, а повод есть, и с вас мне причитаются проценты за то, что я принёс благую весть. Сейчас скажу — переведу дыханье.
Он обвёл всех торжествующим взглядом.
— Пал Алессандро Медичи, тиран! Хоть поздний час, но в Риме ликованье, и лишь притих в унынье Ватикан. Ещё смердит в гробу злодей-ублюдок, а папа флорентийцам шлёт гонцов.
— От радости мутнеет мой рассудок! — воскликнул Микеланджело, еле сдерживая себя. — Флоренция свободна от оков!
— А кто, дель Пьомбо, не страшася риска, — спросил Джаннотти, — правителя Флоренции убил?
Чувствуя, как все с нетерпением ждали ответ, дель Пьомбо выдержал паузу, как заправский актер на подмостках, а затем выпалил:
— Да Лорензаччо, родственничек близкий, дражайшего кузена порешил.78
— Но что там в кулуарах говорится? — в нетерпении спросил Вазари. — Скажите — вы ведь фаворит двора.
— Я голоден, как римская волчица, — сказал дель Пьомбо, — во рту росинки не было с утра. Милей попов Урбино мне. Негодник, а ну-ка шевелись и наливай!
— Побойся Бога, старый греховодник, — сказал, смеясь, Микеланджело. — Сутана на тебе — не забывай.
— Для возлиянья не помеха ряса, — весело отпарировал дель Пьомбо, подняв полный бокал. — Вот живопись мою не ценит клир.
— Он хорошо вас знает, лоботряса, — шутливо заметил Дель Риччо.
— Заполонили фарисеи мир, — с грустью сказал Микеланджело. — Что за беда, коль росписи в часовне им не по вкусу? Время нам судья.
— Вот кто Платону в рассужденьях ровня! — воскликнул обрадованно дель Пьомбо. — В рисунках, мастер, вновь нуждаюсь я.
— Ты заслужил их.
Дель Пьомбо поднялся с бокалом в руке:
— Выпьем за удачу, и будь благословен наш славный труд!
— Виват! — поддержал его Дель Риччо. — Поднимем тост за Лорензаччо — и в наши дни сыскался новый Брут!
Микеланджело метнул в его сторону гневный взгляд:
— О нет, друзья. Я выскажусь иначе. Пью за свободу, а она близка!
— Переиначивать — дурное свойство, — сказал с обидой Дель Риччо.
— Паук загрыз другого паука. Какое здесь, скажите мне, геройство?
Решив блеснуть своей начитанностью, Дель Риччо ответил с вызовом:
— Вот вам Боккаччо вещие слова: «Всегда угодна Богу жертва эта, когда летит с тирана голова».
Микеланджело тут же осадил зарвавшегося спорщика:
— Не надо передёргивать поэта и говорить такую ерунду! Напомню вам, что Брута за убийство великий Данте поместил в аду.
Вся компания закричала «браво» и ещё долго обсуждала ответ мастера на выпад обиженного друга. Крепко досталось тогда Дель Риччо за витийство и так некстати приведённый стих.
Послышались удары колокола. Урбино стал убирать со стола посуду, всем своим видом показывая гостям, что пора и честь знать.
— В соседней церкви полночь отзвонили, — напомнил он гостям. — Под ваши споры даже дождь утих.
— И впрямь, друзья! — воскликнул Вазари. — Про время мы забыли, а завтра ждёт нас день не из простых.
Микеланджело пошёл проводить друзей.
— Спасибо вам за доброе участье — иначе можно спятить от тоски.
— Не выходите — на дворе ненастье, — остановил его дель Пьомбо. — У нас плащи надёжны и крепки.
Он остался один, пока Урбино провожал гостей и запирал ворота. О, как бы ему хотелось помчаться стрелой во Флоренцию! Но риск велик, и он по рукам связан папским заказом.
— Италия, твой непутёвый сын, — так он сам назвал себя, — не может от сомнений отрешиться и смелости ему недостаёт.
Он долго не мог сомкнуть глаз и почти до рассвета просидел над рисунками при зажжённых свечах. Для него заботы прожитого дня были ничтожны пред высшим озарением ума, а все мирские представленья ложны, коль вечность говорила с ним сама.
Но вскоре он почувствовал, как руки стали неметь от усталости, а веки слипаться. В полудреме ему вдруг почудилось, что перед ним выросла фигура в белом саване, и он очнулся от испуга.
— Сгинь, призрак, прочь! — закричал он. — Я отдан на поруки искусству. Говорить мне недосуг.
Перед ним оказался, кутаясь в простыню, Урбино.
— Вот до чего доводят ваши бденья!
— Урбино, ты? Почудилось мне вдруг… Как славно! Растворилось привиденье, и уж рассвет багряный с бирюзой.
— Не спите вы. На что это похоже? Волнуется и наш шпион ночной. Взгляните — за окном маячит рожа.
Заметив, что его обнаружили, соглядатай тут же исчез. Последовав совету Урбино, он отправился к себе наверх в спальню.
— Раскрой свои объятия, Морфей, и дай забыться сном на ложе сиром. Мне надо сил набраться поскорей — неладное творится с нашим миром.
* * *
В память о том вечере в мастерской появился мраморный бюст Брута (Флоренция, Барджелло). Микеланджело решил воздать должное тираноубийце, сразившему диктатора. Прежде он успел обсудить эту идею с маркизой Колонна, которой сама мысль об отмщении была чужда. Но ей не удалось отговорить своего друга, загоревшегося мыслью воссоздать в мраморе образ Брута. В этом прекрасном изваянии отражены мечты — и чаяния Микеланджело о свободе.
Поначалу возникла проблема с моделью. Но друзья в один голос предложили для позирования Кавальери, чей образ так и просился быть запечатлённым в мраморе.
— Прекрасная мысль, — согласился Микеланджело. — Если бы я взялся ваять Аполлона, то лучшей модели не найти. Но мне нужна не красота, друзья, а сильное волевое мужское начало.
Он заметил, как по лицу Кавальери пробежала тень обиды и недовольства. Его не было видно несколько дней после того разговора, пока сам Микеланджело не пояснил молодому другу, что для облика тираноубийцы он никак не подходит, поскольку сама его натура восстаёт против жестокости.
— При всём старании, — сказал Микеланджело в присутствии друзей, — я не смог бы изобразить нашего друга Томмазо с кинжалом в руке.
Эта временная размолвка с молодым другом оставила след в душе Микеланджело, и он долго не мог успокоиться, что нашло отражение в терцетах одного сонета, звучащих гимном мужской дружбе…
Коль каждый любит до самозабвенья И бескорыстен той любви союз, Коль общей целью и мечтой согреты, Всё суетное блекнет от сравненья С нерасторжимостью сердечных уз, Хотя страшны бывают и наветы (59).При создании «Брута» Микеланджело использовал волевые черты лица мужественного республиканца Джаннотти, что было отмечено всеми, а сам Джаннотти, узнав себя в изваянии, сказал однажды:
— Дорогой Микеланьоло, я польщён вашим выбором. Но сдаётся мне, что из-за нашей дружбы вы несколько меня приукрасили, и теперь мне не страшно предлагать любой красавице руку и сердце.
Позднее, не договорившись в цене с молодым кардиналом Никколо Ридольфи, племянником незабвенной Контессины, Микеланджело подарил этот бюст Джаннотти в знак дружбы и в память о прогулках по Риму, имевших место весной 1546 года. В тех прогулках приняли участие также Луиджи Дель Риччо, Антонио Петрео и Франческо Прешанезе, типограф и издатель. Все они были флорентийскими изгнанниками, оказавшимися не по своей воле, как и их кумир Данте, вдали от родины. Судьба великого поэта-изгнанника была им близка и понятна.
Бродя по Капитолийскому холму и среди руин имперских форумов, собеседники старались понять, как долго продлилось хождение Данте в аду и в чистилище. Особенно их занимал вопрос, почему поэт поместил в ад Брута и Кассия за убийство Юлия Цезаря. Памятуя об убитом тиране Алессандро Медичи, Микеланджело в споре с молодыми земляками заявил в оправдание героя, запечатлённого им в мраморе:
— Поймите, друзья, что Брут заколол не человека, а нелюдь в человечьем обличье. Но у Данте были о нём свои соображения, и для него любое убийство заслуживало адских мук.
В подтверждение высказанной мысли он прочитал по памяти нужные строки из «Божественной комедии».
В дни празднования 500-летия Микеланджело, широко отмечаемого во всём мире, микеланджеловский «Брут» побывал в 1975 году в Москве, где был выставлен в ГМИИ им. Пушкина.
* * *
За свои выдающиеся заслуги 10 декабря 1537 года на Капитолии Микеланджело был торжественно провозглашён почётным гражданином Рима. Отовсюду пришли поздравления, но он спокойно воспринял этот акт как нечто само собой разумеющееся, ибо в Риме находились многие его творения, вызывающие восхищение горожан и армии паломников.
Тем временем во Флоренции Совет восьми, состоящий из самых влиятельных лиц, избрал флорентийским герцогом ничем не примечательного восемнадцатилетнего Козимо I, сына известного кондотьера Джованни делле Банде Нере из второй ветви клана Медичи — Пополани, для которых когда-то был сотворён мраморный «Джованнино». Таким избранием был закреплён принцип престолонаследия, и республиканские порядки окончательно ушли в прошлое, что вызвало в городе волну возмущения.
Горя желанием вернуть великого творца на родину и придать своему правлению ещё большую значимость и вес, Козимо Медичи, став полновластным хозяином Флоренции, выделил средства на восстановление искалеченной скульптуры Давида. Хранивший верность республиканским принципам Микеланджело, несмотря на щедрые посулы правителя, передаваемые через преданного герцогу услужливого Вазари, не пожелал вернуться на родину, где царил ненавистный ему режим Медичи.
В самом начале работы над «Брутом» через Вазари было получено пожелание Козимо заказать Микеланджело свой бюст, словно ему были неведомы республиканские убеждения скульптора. В разговоре с друзьями тот заявил, что последнее время ему не раз приходила идея создать мраморный барельеф с изображением мерзкого спрута, который своими щупальцами душит гражданские свободы. Такое изображение могло бы стать, по его мнению, истинным портретом этого «сиятельнейшего и преданнейшего христианству» герцога, как его назвали подкупленные выборщики. Позднее Челлини, обласканный Козимо I, который потерял всякую надежду заполучить к себе Микеланджело, изваял бронзовый бюст герцога (Флоренция, Барджелло), что вызвало неудовольствие Микеланджело:
— Как ты мог, Бенвенуто, решиться на создание бюста душителя республиканских свобод? — возмущался он.
— Тебе легко рассуждать, сидя здесь, в Риме. Зато герцог согласился на установку моего «Персея» в лоджии Ланци, — пытался оправдаться Челлини. — Для меня, возможно, это главная работа всей жизни.
Открытое неприятие нового флорентийского режима Микеланджело выражал при написании алтарной фрески в Сикстине. Его гнев смягчался только на воскресных встречах с обожаемой подругой в доминиканском монастыре Сан Сильвестро, где их души сливались воедино, следуя пророческому напутствию апостола Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий».
Со временем маркиза Колонна стала для Микеланджело Беатричей и Лаурой его музы, хотя превосходила юных возлюбленных Данте и Петрарки как силой ума, так и величием духа. Следует отметить, однако, что Микеланджело волновали не столько поэзия Виттории Колонна, сколько её стремление к духовному совершенству и глубокая вера. Общаясь с ней, он показывал ей эскизы и обсуждал темы очередных фресок, дорожа её мнением, как об этом говорится в одном из посвящённых ей мадригалов…
Когда, о донна, истинный ваятель Фигуру сотворяет — От глыбы отсекает Всё лишнее резцом, Чтоб вырвать мысль из каменных объятий. Так будь и ты творцом И вызволи мою из плена душу. Упрятана она, полна сомнений, И страх лишь ей знаком, А с нею сам я трушу. Вдохни в меня надежду, добрый гений! (152)Присутствовавший иногда на встречах в Сан Сильвестро Франсиско де Ольянда приводит следующее высказывание Микеланджело об искусстве, навеянное беседами с маркизой: «Хорошая живопись — это как бы сближение, слияние с Богом… Она лишь копия его совершенства, тень его кисти, его музыка, его мелодия… Поэтому художнику недостаточно быть великим и умелым мастером… Его жизнь должна быть возможно более чистой и благочестивой, и тогда Святой Дух будет направлять все его помыслы».79
* * *
Безрадостные вести о творимом во Флоренции беззаконии не могли оставить Микеланджело безучастным. В упомянутой рукописи Джанноти рассказывается о тайной встрече, состоявшейся в одном из трактиров на Трастевере, где собрались добровольцы перед походом на Флоренцию. В темноте Микеланджело в сопровождении Урбино, Вазари и дель Пьомбо долго бродили по переулкам в поисках места назначенной встречи. Впереди блеснул огонёк из раскрытой двери одного изломов.
— Вон, видите, условный дан сигнал, — сказал своим спутникам Микеланджело. — А мы впотьмах по закоулкам лазим.
— Простите, мастер, — остановил его Вазари, — сразу не сказал. На днях предстану я пред новым князем. Мне посулил он выгодный заказ.
— Вас не неволю — за углом карета, — недовольно промолвил Микеланджело. — Идём, дель Пьомбо, там заждались нас.
Тот остановился в нерешительности:
— На мне сутана, видишь ли, надета. Неловко в ней туда совать мне нос.
— Я повидаю одного повстанца, — постарался его успокоить Микеланджело. — Побудешь подле, и с тебя весь спрос.
— Что толку от меня, венецианца? — продолжал упорствовать дель Пьомбо. — Я так далёк от флорентийских бед.
— Но дружба в бедах-то и познаётся, — напомнил ему Микеланджело.
— В политику мешаться мне не след, — отпарировал монах. — Чего тебе, как людям, не живётся? Идём домой, пока не поздно.
— Нет!
В спор решил встрянуть Вазари:
— Наш долг, а он не терпит отклонений — прекрасное в искусстве отражать.
— Желаю вам приятных сновидений, — язвительно ответил Микеланджело. — Но не проспите — жизнь не будет ждать.
— Не забывай о кознях иезуитов, — напомнил дель Пьомбо. — Зачем ты глупо лезешь на рожон и нас толкаешь в логово бандитов?
— У каждого есть в жизни Рубикон, — задумчиво ответил Микеланджело, — как эта узкая полоска света. Перешагнуть её дано судьбой. Пишите же парадные портреты — оно покойней, да и куш большой. В искусстве не перевелись клевреты и мастера прекраснодушных фраз.
Он обернулся к стоящему в молчании помощнику:
— Пойдём, Урбино! Ты — мой провожатый.
В дверях их встретил Дель Риччо:
— Мы уж не чаяли дождаться вас!
— За нами увязался соглядатай, — пояснил Микеланджело, входя в трактир, — пришлось нам переулками петлять.
Дель Риччо представил ему молодого воина в латах:
— Вот человек, прибывший от повстанцев.
— Простите — не могу себя назвать, — сказал тот, крепко пожав руку мастера. — Веду я пополненье новобранцев. Покуда в тайне наши имена. Но встреча с вами словно нам награда. Поддержка ваша так сейчас важна. За помощь щедрую и за…
— Не надо! — резко оборвал его Микеланджело. — Я флорентиец, друг мой, как и вы.
Он вынул из кармана конверт и кожаный мешочек со звонкой монетой.
— Конверт для Строцци, деньги для отряда. Как бы хотелось с вами в путь! Увы, дам только лишний повод наговорам.
— Единая нас связывает цель, — поддержал его повстанец.
К ним подошёл Урбино:
— Простите, что мешаю разговорам. Ребята развели тут канитель. Их впору бы отвлечь и успокоить.
— Урбино прав, — согласился Дель Риччо. — Бойцов пора встряхнуть.
Все направились в зал, откуда доносились возбуждённые голоса. Там набилось около сотни молодых парней.
— Ребята, тишина! — властно приказал повстанец. — Не время спорить. Пришёл нас проводить в далёкий путь сам Микеланджело, республиканец.
В едином порыве новобранцы закричали:
— Защитнику республики ура! Да здравствует великий итальянец!
Выждав, дабы подавить внутреннее волнение при виде крепкой и задорной юной поросли, Микеланджело обратился к ребятам со словами:
— Родные земляки, пришла пора помочь Флоренции многострадальной. Она давно от нас подмоги ждёт. Доносится оттуда звон кандальный — в неволе изнывает наш народ. Я верю в силу вашего удара. Удачи вам!
— Свобода! Смерть врагам!
Дель Риччо подошёл к Урбино, сидящему среди повстанцев на краю стола:
— Держи, Урбино, — вот тебе гитара. Куплеты на дорогу спой друзьям.
Тот не заставил себя долго упрашивать и, настроив гитару несколькими аккордами, лихо запел тенорком, а обступившие его тесным кольцом ребята стали дружно подпевать, отбивая такт в ладоши и притоптывая ногами. Микеланджело вдруг почувствовал себя помолодевшим в компании юнцов, жаждущих ринуться в бой.
Как над Арно рекой Молнии сверкали, А враги в час ночной Шумно пировали. К ним пришёл во дворец. Сей вертеп разврата, Лорензаччо-наглец, Чтоб прикончить брата. Знать, не зря на суку Каркала ворона. Кровь течёт по клинку — Пал злодей без стона. Эх, земная юдоль, Сколько бед от злата! За страданья и боль Медичи расплата. Флорентийский набат Вдруг забил тревогу. Собирайся, отряд, В дальнюю дорогу. Закусив удила, Кони мчатся птицей, А душа весела За свободу биться!Подхватив последний куплет, молодёжь весёлой гурьбой покинула трактир.
— Прощайте, мастер, — ждут меня бойцы.
— Прощайте! Сколько лет вам?
— Двадцать скоро.
— О Господи, какие все юнцы, — пожимая руку повстанцу, заметил Микеланджело. — Достойная нам смена и опора.
С улицы раздались цоканье копыт и возбужденные голоса отъезжающих бойцов. Проводив отряд, вбежал Урбино:
— Послушайте! Повстанец-то — девица! Я только при прощании узрел.
— Да что ж на белом свете-то творится, — подивился Дель Риччо. — Не меч, а прялка — девичий удел.
Не в силах скрыть волнение, Микеланджело перекрестился:
— Услышь молитву, Пресвятая Дева, и в ратном деле защити юнцов. Не дай им сгинуть — огради от гнева. Пусть отомстят за кровь своих отцов…
* * *
До Ватикана дошла тревожная весть о выступлении повстанцев, всполошившая весь двор. Папе нездоровилось в те дни, и от него не отходил врач Ронтини.
— Ну что там у меня — чего умолк? — недовольно спросил Павел. — Да говори же!
— Язва, к сожаленью. Скрывать не стану — не велит мне долг.
— Как думаешь, возможно исцеленье? — робко спросил папа.
— Святейшество, в такие-то лета!
Ответ рассердил Павла.
— Для всех мой возраст — камень преткновенья. А я прожить собрался лет до ста, чтоб зависть злопыхателей заела. Ты доктор — так лечи, озолочу!
— Лечение — не шуточное дело, — ответил Ронтини.
— Старайся же, мой лекарь. Жить хочу!
— Отныне меньше всяких треволнений и должно впредь диету соблюдать: отказ от острых специй и солений, и главное — хмельного в рот не брать.
— Да как откажешься? — удивился Павел. — Прислал бочонок мне доброго тосканского вина…
— Кто?
— Микеланджело.
Ронтини всплеснул руками:
— Вы как ребёнок! Такая невоздержанность вредна и осложненьями для вас чревата.
— А он там как? — спросил Павел.
— О, пресвятой отец, храню я тайну пациента свято.
Услышав это, папа рассердился.
— Чего со мной юродствуешь, хитрец? Приставлен ты — тебе известны цели — не ради любопытства к нему.
— На Форуме я трижды на неделе, — заверил его Ронтини, — и беспокоиться вам ни к чему.
— Такой, как он, — задумчиво промолвил Павел, — раз в тыщу лет родится, чтоб вызволять из грязи род людской. Но многим неугоден он в столице, и сплетня поползла о нём змеёй.
Его слова поддержал Ронтини.
— За Буонарроти надобен уход, а от Урбино никакого прока. Сам мастер скуповат — слуга же мот, да и с хозяйством сущая морока.
— Без глаза женского дом сирота, — с пониманием согласился Павел. — Ну кто бельё помоет, залатает? Художник и корыто — срамота! Ни ласки, ни заботы он не знает, а трудится без устали, как вол, и не намерен ослаблять подпругу.
— На днях портному заказал камзол, — поделился новостью Ронтини, — и вычистил до блеска всю лачугу.
— С чего бы? — подивился Павел.
— Да увлёкся, как юнец.
— Зазноба-то Виттория Колонна?
— Она.
— Ах, Микеланджело, шельмец! — воскликнул Павел. — Гордячка-то к нему хоть благосклонна?
— По-моему, она со всей душой, хотя порою знатностью кичится и избегает встреч с ним в мастерской.
— Ишь ты. Для блуда монастырь годится, — недовольно заметил Павел. — Ну и ханжа! Попробуй в душу влезь. А чем прельстила-то, срамница? Ни красоты, ни стати — только спесь. Она не потаскуха Форнарина, по коей сохнул бедный Рафаэль. Но кабы не сикстинская картина, охотно б шуганул её отсель!
Видимо, вспомнив, с какой теплотой его принял мастер в доме на Macel dei Corvi, папа признал:
— А мастера мне жаль — маркиза дура. Да ничего тут не поделать с ним. У гениев особая натура, и общий к ним аршин неприменим.
Услышав шум, папа отпустил врача и велел впустить кардинала Гонзага и камерария Бьяджо, которые сообщили, перебивая друг друга, что отряд повстанцев, насчитывающий около двух сотен бойцов, направляется в сторону Флоренции.
— Давно по флорентийцам плачет кнут, хоть с князем-сопляком у нас согласье, — заметил Павел.
— Пока повстанцы подкрепленье ждут, — продолжил своё донесение Гонзага, — и бесконечные ведут дебаты, накинем сеть — не вырваться из пут, а остальное довершат солдаты.
— И император Карл оповещён? — спросил папа.
— Его испанцы будут палачами, — заверил кардинал.
— Вот это мудро, — похвалил Павел. — Тут большой резон: мы в стороне и с чистыми руками. А кесарю раз плюнуть на закон.
— И к свадьбе будет вроде подношенья, — угодливо заметил Бьяджо.
— За дочку Карла внука выдаю, — поделился радостью Павел, — на что монаршье есть благословенье.
— Вас поздравляем!
— Весть пока таю, — признался Павел. — Как только передушим всех повстанцев, тогда мы и закатим пир горой. Покуда вся надежда на испанцев.
Гонзага переглянулся с Бьяджо и тихо промолвил:
— Святейшество, тут казус небольшой. Допрос устроив, мы легко дознались, кто средствами снабдил бунтовщиков.
— И кто же? — грозно спросил папа. — Говорите. Что замялись?
— Буонарроти, — процедил Гонзага.
— Он на всё готов, — поддержал его Бьяджо. — Не зря о нём такие ходят слухи, что страх берёт.
— Да сплетни-то при чём? — возмутился Павел. — Молчи, дурак! Ты хуже римской шлюхи, готовой переспать с родным отцом.
Осмелев, Гонзага предложил:
— Вот повод, чтоб лишить его заказа, а роспись ту дель Пьомбо передать. От Микеланджело идёт зараза…
Но тут Павел не выдержал и закричал:
— Гонзага, нет! Такому не бывать! Его оклеветали, вне сомненья, завистливые злые языки. Ему на подлецов везенье, особенно злословят земляки.
И папа принялся объяснять придворным, что мастер нищий, сознательно дав бедности обет, в пристойном отказав себе жилище.
— Да у него гроша в кармане нет, — продолжал рассуждать Павел вслух, словно разговариваая с самим собой. — Ведь всё, что получает за работу, он попрошайкам братьям отдаёт, а те транжирят денежки без счёту и благоденствуют из года в год. Теперь он о племяннике радетель и думает балбеса обженить.
Его рассуждения осторожно прервал Бьяджо, напомнив, что в приёмной дожидается свидетель, готовый сказанное подтвердить.
— Кто выискался таковой?
— Дель Риччо, ходатай по делам и приживал.
— Тот флорентиец? — удивился папа. — Предал он вторично. Тащи его, ретивый кардинал!
Подталкивая вошедшего, Гонзага объявил:
— Пред вами грешник.
— Ближе, образина! — приказал Павел упавшему перед ним на колени перепуганному Дель Риччо. — Так ты, хамелеон, поклёп возвёл на нашего любезнейшего сына? Знай, клевета — тягчайшее из зол. А я-то полагал, что мастер славный разборчив в людях и в своих друзьях, среди которых, говорят, ты главный. Что, снова проигрался в пух и прах и подличаешь, задолжав всем разом?
— Святейшество, — залепетал Дель Риччо, — да я… да он… Клянусь! Пред палачом в подвале меркнет разум, и я…
— Оклеветал. Презренный трус! — закричал папа, всё более озлобляясь. — Уже пустил с испугу лужу, шельма! Да не сучи ногами, как сатир, а лучше думай. Что ты пялишь бельмы? Кто деньги дал?
— Мне их вручил банкир…
Гонзага с силой встряхнул его:
— Ты говоришь не то!
— Дал деньги Строцци, — решительно заявил Дель Риччо, почувствовав, что такой ответ будет папе по нутру.
Павел облегчённо вздохнул:
— Всё ясно, кардинал. Я так и знал. Чтоб выйти из тюремного колодца, он благодетеля оклеветал.
— Простите…
— Чтоб тебе быть целу, о нашем разговоре никому. Вон из дворца!
Когда тот чуть не бегом выскочил из кабинета, Гонзага спросил:
— Какой же ход дать делу?
— Ужели не понятно самому? — подивился Павел. — Да Строцци с Медичи — два разных клана, всю жизнь враждующих между собой. Они втянули этого болвана в свою игру, и тут вопрос простой.
Папа обвёл взглядом придворных, желая удостовериться, что удалось их убедить.
— Буонарроти дорогого стоит, и с ним у нас хлопот хоть отбавляй. Попробуй тронь творца — Европа взвоет, подняв из каждой подворотни лай.
Почувствовав колики в животе, Павел решил поставить точку в затянувшемся разговоре.
— Пока он с нами, недругам завидно и хочется союз наш оболгать.
— Но что-то утаил Дель Риччо, — словно про себя сказал Гонзага.
— Стыдно, — оборвал его папа, — облыжным обвиненьям доверять! Со временем шагает мастер в ногу и полон новых планов и идей. Горит в работе, ну и слава Богу! Лишь бы в систему нашу врос скорей и не считал бы Рим своей темницей.
— Да ведь ему ничем не угодишь, — пожаловался Бьяджо.
— Воздастся за терпение сторицей, — сказал папа. — Гонзага, что молчишь?
— К сторонникам реформ он расположен.
— Но льнут они к нему, а он к ним нет, — решительно отрезал Павел. — Виттории Колонна круг ничтожен. Итак, договорились обо всём.
Он с укоризной посмотрел на придворных:
— Кого нашли взамен ему? Дель Пьомбо — распутника, обжору и рвача. Он, как индюк, надулся от апломба. Ступайте и верните мне врача.
Когда все удалились, Павел задумался, понимая, что Микеланджело с огнём играет, встревожив весь Ватикан.
«Держись-ка от политики подале, — мысленно посоветовал он мастеру, — она грязней клоаки городской. Благое дело вместе мы зачали и связаны верёвочкой одной. Покуда жив, я ей не дам порваться, но за тобой ужесточу надзор. Не должен ты с еретиками знаться, иначе с ними угодишь в костёр!»
И такая угроза была нешуточной, ибо по всей Италии вместо «костров тщеславия», на которых сжигались когда-то богохульные книги и картины, теперь заполыхали костры инквизиции для сжигания живьём еретиков.
* * *
Пришло сообщение, что отряд добровольцев попал в засаду на подступах к Флоренции и полностью уничтожен. Рухнули все планы, тщательно подготовленные Джаннотти, Строцци и другими патриотами, а надежды Микеланджело увидеть Флоренцию свободной обернулись крахом.
Со своими невесёлыми мыслями он направился в монастырь Сан Сильвестро к Виттории Колонна, где застал её вместе с герцогиней Джулией Гонзага, присутствия которой никак не ожидал.
— День добрый вам, сиятельные донны! Брожу слепцом — в глазах сплошная тьма, — и он в изнеможении опустился на стул. — Мне постоянно жизнь чинит препоны, от коих скоро я сойду с ума.
Колонна вздрогнула от неожиданности:
— Мой друг, ужели нелады в Сикстине? Таким я вас не знала никогда.
Он заверил её, что дела идут неплохо там поныне, но под Флоренцией стряслась беда. Республике из праха не подняться — последний рухнул чаяний оплот.
— Да как же вдруг могло такое статься? — с болью в голосе спросила Колонна. — Вы так надеялись на тот поход…
Микеланджело, оглядевшись по сторонам, тихо ответил:
— Сейчас не время говорить пространно. Узнаете чуть позже обо всём.
Сгорая от любопытства, Гонзага всё же поняла лишним своё присутствие.
— Хоть встрече с вами несказанно рада, но лучше я оставлю вас вдвоём.
Проводив герцогиню, Колонна подошла к Микеланджело:
— Никак не отойду я от испуга. У вас какой-то отрешённый взгляд.
— Сказать мешала ваша мне подруга, из-за чего и как погиб отряд.
Помолчав немного, он продолжил:
— Когда повстанцы все собрались с духом, им западню устроил вражий стан.
— Кто предал вас?
— Коль верить слухам, всё тот же всемогущий Ватикан. А Медичи с его благословенья устроили резню — таков исход.
Он крепко сжал руки и добавил:
— На этом не кончаются мученья. Для Аретино наступил черёд: он снова в Риме.
— Вот так совпадение! — в ужасе воскликнула Колонна, не веря своим ушам. — Такого пасквилянта свет не знал. Его страшусь я, как исчадья ада.
— Меня он в Ватикане разыскал и взялся нудно поучать, как надо писать на тему «Страшного суда».
— Вас поучать? Неслыханная дерзость! — воскликнула Колонна, всё ещё не отойдя от испуга.
— Советы я отрину, как всегда. Но он способен на любую мерзость.
Колонна была в недоумении.
— От вас чего же хочет лиходей?
— Пустяк, — спокойно ответил Микеланджело. — Сей графоман и вымогатель, которого зовут «бичом князей», всем объявляет, что он мне приятель и что радеет обо мне душой. Взамен непрошеный благожелатель хотел бы в дар картину.
— Боже мой!
Вошла молодая инокиня, объявив, что прибыл Его преосвященство Пол с поклоном.
— Нет, нет! — заволновалась Колонна, привстав со стула и чуть ли не собираясь бежать. — Его сегодня не приму.
— Хотя вы отказали строгим тоном, — с грустью заметил Микеланджело, — скажите, дорогая, почему он подле вас ужом всё время вьётся?
— Был мною избран он духовником, так как о вере ревностно печётся.
Микеланджело стало не по себе от таких слов.
— Печётся перевёртыш о другом, надевши реформатора личину…
Но Колонна жестом остановила его:
— Вам скучно быть со мной наедине?
— Близ вас готов сносить я боль, кручину, и больше ничего не нужно мне.
— О если б! — заметила она, покачав головой. — Вы с искусством побратимы, и в нём отрада высшая для вас.
Но Микеланджело не поддержал её, тихо заметив:
— Пути Господни неисповедимы, и выбор их зависит не от нас.
— Вы правы, — согласилась Колонна. — Нам дано познать разлуку, а не бесед духовных благодать.
Микеланджело от волнения не мог усидеть на месте.
— Зачем усугубляете вы муку? Не надо, дивный светоч, так пугать.
— Судьба в своих решеньях непреклонна — печальный уготован нам конец.
Нет, с этим он никак не мог согласиться, ибо рушился его мир, в котором он творил, страдал, сомневался, а в любви находил поддержку и понимание. Он готов был разрыдаться и пасть перед ней на колени.
— Моя кариатида и колонна, на вас я опираюсь как творец. Пишу сейчас Христа и самарянку,80 желая дать в картине ваш портрет, чтоб гордую прославить итальянку, в которой чувств ко мне ни грана нет. Во всём я вижу ваше превосходство и сознаю пред вами свой изъян. Мне незачем скрывать своё уродство, но пусть продлится сладостный обман!
Страстный монолог друга глубоко тронул маркизу, и она с грустью сказала:
— У каждого из нас свой долг пред Богом, и в жизни разные даны пути, которые расходятся во многом. Безропотно нам должно крест нести.
Но он не мог согласиться с такой позицией, противоречащей его натуре.
— Скажите прямо, что я вам не пара и в излияньях пылких чувств смешон!
— Мой Микеланджело, — и она взяла его за руку, чтобы успокоить, — грозит нам кара, и тучами затянут небосклон. Мы с вами оказались в чёрном списке — фискалы папские донос строчат.
Его как огнём обожгло прикосновение её руки.
— Раз наши души родственны и близки, бежим скорей куда глаза глядят, оставив в Риме страхи и сомненья.
— Куда бежать? — воскликнула она, подойдя к образу на стене. — Иной вам жребий дан, а вот меня на днях ждёт постриженье. И знайте, огнедышащий вулкан, что я лишь хрупкая свеча, не боле.
— Я в вас нуждаюсь, как в поводыре, чтоб не зачахнуть одному в неволе.
— Да разве же для вас мой аналой? — упорствовала Колонна. — Не келья вам нужна — простор Вселенной. Наделены вы силой неземной. Я верю в ваш удел благословенный, и он не для молитвенной тиши.
Но он словно не слышал её слов и, движимый страстью, настаивал на своём.
— Тогда презрев условности каноны, уединимся где-нибудь в глуши.
— Умерьте же свой пыл — вокруг шпионы. У инквизиции длинна рука, и никакой пощады вольнодумцам.
Но он уже был охвачен идеей бегства.
— Прошу — не обессудь, святой Лука!81 Пусть кое-кто сочтёт меня безумцем, я ради вас с искусством распрощусь.
Чтобы остановить его, она решительно отрезала:
— Такая не нужна от вас услуга, и с ней я никогда не соглашусь!
— Судьбою сведены мы друг для друга, и в целом мире нет прочнее уз. Без вас я вижу зависть, зло, измену, двуличие друзей и неприязнь. Просвета нет, хоть бейся лбом о стену. Вас умоляю — отведите казнь!
В его глазах была такая мольба, что она не знала, как и чем его успокоить.
— Мне этой жертвы не простят потомки, а вы принадлежите им сполна. Что будет завтра — для меня потёмки. Сегодня же я сердцем вам верна. Молю, чтоб дольше полыхал в вас пламень, дарящий людям веру и тепло.
Микеланджело наклонился и поцеловал ей руку.
— Благодарю. Хоть вы не сняли камень, но на душе немного отлегло.
— Из Апокалипсиса откровенья вы склонны снова вместе почитать?
— Чтоб ваше заслужить расположенье, готов я на кресте себя распять. Хотите, дам обет носить вериги иль папу в смертных обличать грехах похлеще даже Лютера-расстриги! Вот вижу и улыбку на устах.
Он вынул из кармана блокнот и карандаш:
— Виттория, замрите на минутку — мне нужно дивный миг запечатлеть!
— Серьёзное вы обратили в шутку. Как долго я должна ещё терпеть?
Он быстрыми движениями водил карандашом.
— Один лишь штрих — и вот улыбки трепет. О, как он будет душу бередить!
— Дивлюсь на вас. Какой-то детский лепет!
— Не могут руки без движенья быть. А им дано в рисунке вас касаться — вот и безумствует мой карандаш.
— Договорились делом мы заняться. Оставьте же мальчишескую блажь!
Довольный полученным рисунком, он весело объявил:
— На всё готов, мечтая лишь о малом.
— О чём?
— Чтоб нам сидеть пред камельком и наслаждаться счастьем запоздалым.
Сдерживая улыбку, Колонна поднялась:
— Несносны вы! Давайте в сад пройдём, где всё уже для чтения готово. Я вижу, в голове у вас содом — послушаем Иоанна Богослова.
От двери отпрянула инокиня, смотря им вслед:
— Пока воркуют голубки в саду, всё слышанное мигом на бумажку и к матери игуменье пойду. Иль утаить? Но не простят промашку. Никто не говорил мне нежных слов, хотя о счастье я молила Бога.
Она перекрестилась.
— А мастер-то в любви на всё готов. Зачем ему маркиза-недотрога?
Неслышно ступая, появился Пол:
— Подслушивала, детка? Ай-ай-ай! Тебе к игуменье идти не надо. Вознагражу, но глаз с них не спускай. Ко мне, когда стемнеет, для доклада. Будь умницей, старайся! Я пошёл.
Инокиня проводила его недобрым взглядом:
— С тобою мне якшаться не пристало. Ты мягко стелешь, преподобный Пол, но мёдом потчуя, вонзаешь жало.
* * *
Много позже Микеланджело изрядно удивили восторженные слова Вазари в его «Жизнеописаниях» о кардинале Поле, с которыми ни он, ни друг Джаннотти никак не могли согласиться, зная двурушническую натуру англичанина.
Воскресные чтения служили для Микеланджело отдушиной, укреплявшей в нём веру и поднимавшие дух. Они вдохновляли его при написании трагической фрески, работа над которой близилась к завершению. Принято считать, что с этого мадригала начинается цикл стихов, посвящённых Виттории Колонна:
Ужель, моя синьора, Ты так же можешь, как и мы, дышать, Плоды земли вкушать И одарять нас, смертных, лаской взора Без всякого укора? Любой, забыв сомненья, возгордится И бросится в погоню за мечтой. Кому же ум — опора, Вослед не устремится. Коль не прав, смути и мой покой Небесной красотой. Но камень нем, как и листок бумаги, Когда творцу недостаёт отваги (111).Однажды во время чтения «Откровений святого Иоанна Богослова» старый монах Амброджо особенно выделил проникновенным голосом следующий отрывок:
«И увидел подобного Сыну Человеческому. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень, огненны… Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего…»
Микеланджело вдруг почувствовал, что его душат исходящие из глубины души рыдания. У него перехватило дыхание, и он низко опустил голову, стараясь скрыть волнение.
Обеспокоенная его состоянием, маркиза попросила монаха прерваться.
— Скажите, мастер, отчего вы так разволновались?
— Оттого, маркиза, что я тоже с седыми волосами, как и повстречавшийся Иоанну Богослову человек.
После неожиданно прерванного чтения Виктория Колонна, которой передалось волнение друга, была так нежна и приветлива к своему другу, что он вдруг почувствовал что-то неладное в её поведении, а в его тетради появились странные терцины:
От резких смен страдает наш покой. В испуге сердце бьётся учащённо — Его погубит горе или счастье. Чтоб порождённая твоей красой Любовь ко мне была бы благосклонна, Умерь порывы пылкого участья! (150)Воскресные встречи продолжались, служившие передышкой после работы в Сикстинской капелле. Как свидетельствует Кондиви, Микеланджело нарисовал по просьбе Виттории Колонна Христа. Снятое с креста тело поддерживают два бескрылых ангела, чтобы оно не рухнуло к ногам Пресвятой Девы Марии. Она сидит у подножия креста, и лицо, залитое слезами, выражает невыносимое страдание, а её распростёртые руки обращены к Небу. На деревянном кресте надпись: «Non vi si pensa quanto sangue costa» — «Не думают, какою куплен кровью» (Виндзор, Королевская коллекция). Этот рисунок явился прообразом для последующих трёх изваяний «Пьета».
Со временем появились и другие рисунки, которыми Микеланджело одаривал свою обожаемую подругу. Так появился рисунок распятого Иисуса Христа, но не мёртвым, как его обычно изображают, а ещё живым. Обратив лицо к своему Отцу Небесному, Христос взывает: «Эли! Эли!» (Лондон, Британский музей).
В память о тех встречах сохранилось множество писем и стихотворных посланий, которыми обменивались художник и поэтесса. Виттория Колонна одаривала Микеланджело чисто «духовными» сонетами, от которых часто веяло запахами травы и полевых цветов, а он направлял ей сонеты и мадригалы, полные страсти, любви и обожания…
За годы дружбы с поэтессой из-под его пера вышло 42 поэтических послания, преисполненных не только любви, но и мыслями о вере и об искусстве. Одновременно с циклом посвящений Виттории Колонна появилось 40 стихов, посвящённых, как было указано в рукописи, «А donna bella е crudele» — «Прекрасной и жестокой донне», — ни в чём не уступающих по выразительности и накалу страстей. По всей вероятности, образ этот вымышленный, который понадобился Микеланджело, чтобы показать Виттории Колонна, сколь пагубна для любящего холодность любимой, от которой он часто страдал, заявляя, что «не из камня сделаны сердца». Возможно, ему хотелось вызвать у неё ревность. Какая женщина устоит, когда не ей, а другой посвящаются страстные признания?
Не исключено также, как об этом было сказано выше, что под образом «прекрасной и жестокой донны» подразумевалась любимая Флоренция, ставшая для Микеланджело далёкой и недоступной. Мысли о ней не покидали его, о чём говорят такие строки:
О, как же эта женщина смела, Раз мне погибелью грозя заране, Вонзила нож и держит в свежей ране! В её очах прелестных столько зла, Что оторопь взяла. Я задыхаюсь, скорчившись от мук, Уж тает жизни звук И рядом смерть. Но вдруг Исчезло всё, и прежние невзгоды Мне продлевают горестные годы (124).В его воображении мысли о маркизе, жестокой донне и не отвечающей ему взаимностью Флоренции нередко вызывали путаницу. Чтобы не вводить в заблуждение самого себя и переписчика его стихов набело Дель Риччо, в одном из стихотворений он раскрывает секрет «прекрасной и жестокой донны», которая будоражила его чувства и воображение:
Улыбки, лепет, жемчуг и парча — Тут всякий сгоряча Падёт в божественном благоговенье. А злато и каменья Вдвойне огнём слепят. Но потускнел бы яркий твой наряд, Когда б не взгляд мой, полный восхищенья (115).Друзья, а особенно Кавальери, ревниво относились к дружбе мастера с маркизой Колонна и совсем терялись в догадках, когда узнавали о наличии ещё одной тайной пассии. Пожалуй, один лишь умница Джаннотти понимал правду и уважительно относился к чувствам великого друга и неожиданным всплескам его воображения.
Испытывая боль за людские страдания, Микеланджело в работе над фреской нуждался в поддержке Виттории Колонна и чутко прислушивался к её голосу…
Мужчина в женщине иль Божий глас Мне истины вещает, А слух речам внимает, И слёзы умиления из глаз. В благословенный час Я сам не свой, и мнится, Что, воспарив над суетой мирской, Себя от кары спас. Все остальные лица От взора скрыты тленной пеленой. О, донна, будь со мной! Веди чрез воды, огнь стезёй счастливой, Чтоб мне не знаться с долею постылой! (235)«Те, кто восхищаются творениями Микеланджело, — говорила Виттория Колонна, — восхищаются лишь малой толикой его сути». Проявив свой недюжинный ум, в одном из писем художнику она проявила глубокое понимание подлинной сути своего великого друга: «Считаю достойным восхищения, что Вы сумели отрешиться от мира, от ненужных славословий и посулов князей, дабы в полном одиночестве следовать своим путём и безраздельно отдаваться труду, превратив всю свою жизнь в одно-единственное творение». Она была права и чисто по-женски понимала, что ей, столь же одинокой и отрешённой от суетного мира, как и он, нет места в его жизни, целиком отданной служению искусству с его неуёмными почти космическими взлётами творческой фантазии.
После такого признания обожаемой подруги мастера в некоторых публикациях странно читать о «пагубном влиянии» Виттории Колонна на творца.82 Это ошибочное мнение легко развеять, сославшись на многие его сонеты, посвящённые гордой и неприступной маркизе, в которых он признаёт:
Ты предо мной Вселенную открыла. Так преврати всего меня ты в око, Чтоб каждой порой кожи я глядел! (166)Позднее один из посвящённых ей мадригалов он заканчивает столь же неожиданным странным признанием:
По милости твоей парю высоко И возлюбил, чего не видит око (258).Вот оно — неуёмное желание человека Возрождения охватить весь мир пытливым оком и дойти в своём понимании до самой сути, дав полное и правдоподобное изображение того, что считалось непостижимым и бесконечным! Стремление к грандиозному и безмерному является парадоксом Позднего Возрождения в его страстном желании превзойти природу, а особенно природу самого человека, что было дерзкой попыткой превзойти себя и выразить сверхвозможное. Таким был Микеланджело.
Дружба с Витторией Колонна — одна из ярчайших и самых плодотворных страниц в жизни великого мастера, обрёкшего себя на отшельническое существование. Микеланджело был бесконечно благодарен судьбе за то, что на его пути в жестокий век повстречалась добрая душа, перед которой он испытывал благоговение. Но сколь бы ни были велики его любовь и преклонение перед гордой маркизой, он оставался самим собой, храня верность искусству.
Глава XXVII «СТРАШНЫЙ СУД» И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ
Ужель, Господь, я буду осуждён,
Хоть обращаюсь лишь к Тебе в молитвах,
За позднее раскаянье в грехах? (294)
Когда-то под нажимом папы Юлия II он с явной неохотой взялся за роспись потолка в Сикстинской капелле. Спустя почти тридцать лет ему пришлось приняться за написание фрески «Страшный суд». Берясь за новую роспись, Микеланджело не стал принимать в расчёт ранее расписанный плафон, словно отрешившись от него и времени его создания, когда он был обуреваем другими чувствами и настроениями, полон сил и радужных надежд. Поэтому ныне при одновременном рассмотрении обеих фресок невозможно отделаться от чувства дисгармонии. В полном диссонансе с эпически спокойной росписью потолка на алтарной стене вскрылся окончательный разрыв с традициями Возрождения. Нет даже намёка на пропорциональную соразмерность и на использование прямой перспективы, что свойственно классическому стилю. Здесь раскрывается глубинная страсть постаревшего мастера к объёмам, господствующим над всем остальным.
Три горизонтали делят картину на четыре неравновеликие части. Самый верх её поделён вторгшимся с плафона неистовым пророком Ионой на две полусферы, на которых летящие ангелы несут орудия казней Христовых: терновый венец, крест и колонну, у которой он был подвергнут бичеванию. Центром композиции является мощная фигура Христа, готового подняться во весь рост. От его грозно воздетой длани исходит колоссальная космическая сила, которая сотрясает всю Вселенную. В образовавшемся от грозного жеста вихревом круговороте всё смешалось — святые, праведники, ангелы, демоны и ждущие своей участи грешники. Их обнажённые тела корчатся и извиваются в ужасных конвульсиях, сшибаясь друг с другом и сливаясь в колоссальные объёмы. В отличие от дошедших до нас эскизов на фреске почти нет дробления на частности, и единичное теряет своё значение, поскольку вся поверхность алтарной фрески заполнена сгрудившимися воедино телами.
Дикая круговерть на фреске напоминает один из кругов Дантова ада. Различие лишь в том, что при сочинении песен «Ада» Данте выступал обвинителем и судиёй, ведомый по кругам Ада своим верным провожатым Вергилием, а Микеланджело при написании «Страшного суда» отвёл себе роль кающегося грешника. Гигантская фреска на алтарной стене — это своего рода теа culpa великого творца, сознающего по опыту, что ничто в жизни не остаётся безнаказанным, и не побоявшегося прилюдно покаяться в своих грехах перед собственной совестью и Высшим судиёй.
При написании фрески «Страшный суд» Микеланджело использовал всё накопленное им богатство знаний и опыт при изображении разнообразия движений, судорог, резких жестов и гримас ужаса, отчаяния и смятения. В этой полифонии криков и скрежета зубовного преобладают трагические ноты, усугубляемые звуками трубящих ангелов, призывающих мёртвых восстать из могил. Но неожиданно сквозь сумбурное звучание криков и стонов прорываются нотки радости спасённых душ, и среди них выделяется фигура матери, умоляющей Всевышнего о спасении дочери.
Любого, кто подходит к фреске, прежде всего потрясает фигура перевозчика душ Харона. С горящими адским огнём глазами он загружает свою ладью проклятыми и веслом подгоняет замешкавшихся грешников. Несчастные, покорно согнувшись, увёртываются от ударов злобного старика, смирившись со своей судьбой. Вот как об этом сказано у Данте в «Божественной комедии»:
А бес Харон сзывает стаю грешных, Вращая взор, как уголья в золе, И гонит их, и бьёт веслом неспешных.Никогда ещё отчаяние осуждённых грешников не было выражено в живописи столь выразительно и полно. В самом низу у входа в преисподнюю осуждённых на вечные муки встречает пугающий своим видом адский судья, безобразный Минос.
Сама фреска выглядит непомерно большой для интерьера капеллы, занимая всю алтарную стену и не только подавляя собой прежнюю живопись мастеров Кватроченто, но и нарушая установившиеся веками каноны истолковании темы Судного дня. У Микеланджело Христос с поднятой в грозном жесте дланью предстает не милосердным Спасителем, а гневным карающим мстителем, куда более походящим на античного Зевса Громовержца, чем на христианского милосердного Бога из «Тайной вечери» Леонардо да Винчи или «Преображения» Рафаэля.
Рядом с Сыном, посылающим вечное проклятие осуждённым, опустившая очи долу Богоматерь, исполненная горестного участия и сострадания к грешникам. Она является носительницей столь дорогой всему христианскому миру идеи Искупления. Её хрупкая фигура в бирюзовом хитоне ещё больше подчёркивает титаническую мощь, заключённую в Христе, который вершит правый суд. Мария в страхе прильнула к Спасителю, но отвернула от него голову, словно сознавая своё бессилие смягчить его гнев.
На написание фрески о всемирной катастрофе ушло семь лет, которые прошли в крепнущей из года в год дружбе и духовной близости с Витторией Колонна. К её мнению Микеланджело прислушивался, и вполне уместно предположить, что при написании Девы Марии он мысленно исходил из образа своей мудрой подруги, как когда-то в работе над рельефом «Мадонна у лестницы» запечатлел профиль Контессины Медичи, будоражившей его юношеские чувства и воображение. Маркизе Колонна не раз приходилось сдерживать всплески неистового гнева её гениального друга и призывать его к сдержанности, которой ей редко удавалось добиваться. При всей своей любви к ней Микеланджело вырывался из её представлений о благочестивом смирении, которое было несовместно с его натурой.
В какофонию стонов и воплей на алтарной стене то и дело вторгаются трагические ноты звучания, напоминающие мощные аккорды «Dies irae» из гениального «Реквиема» Верди, который, безусловно, видел это творение, и оно не могло его не потрясти. Ничего подобного мировая живопись не знала и не знает.
Фреска «Страшный суд» звучит удивительно современно в наш XXI век с его прагматизмом, бездуховностью, жестокостью и апокалиптическими настроениями. О ней написано множество исследований, в которых высказывались самые различные соображения. Среди них, например, преобладает мнение, что на своей фреске Микеланджело использовал приём двойников, смысл которого сводится к тому, что зло трактуется им не как что-то привнесённое извне, а как присущее человеку и существующее внутри его самого. Приведём одно из таких высказываний: «Микеланджело изображает не стихийную катастрофу, а духовный Страшный суд, более близкий Достоевскому и нашему современному сознанию, чем представлениям окружающей художника среды».83 С таким суждением вполне можно согласиться, так как парадигма двойничества получила широкое распространение в литературе и искусстве Возрождения. Проблема раздвоенности личности всегда занимала неоплатоника Микеланджело, о чём он сам говорит:
А жизнь из разных нитей сплетена: Добро и зло — друг в друге отраженье (53).Однако основной замысел фрески в другом — это показ тщеты всего земного, тленность плоти и беспомощность человека перед велением судьбы. И всё же Микеланджело остаётся верен себе и вопреки замыслу населяет фреску мощными широкоплечими фигурами с развитой мускулатурой торса и конечностей, хотя все они уже не в силах противостоять судьбе, отчего их лица искажены гримасой ужаса и отчаяния.
На первый взгляд трудно разобраться в этом вихре летящих тел, показанных в самых невообразимых движениях и позах. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что в одном и том же движении выступает всего одна фигура, изображённая во всевозможных, но противоположных друг другу ракурсах. Каждой фигуре соответствует обратное движение её тёмного двойника. Получается головокружительное вращение в себе и постоянный переход из мнимого мира в реальный.
Каждая фигура на фресках Микеланджело представляет собой единое целое, замкнутое в себе, и порой настолько не связанное с другими фигурами, что нарушается целостность композиции. Так случилось с картоном «Битва при Кашине» или в сцене Всемирного потопа на плафонной росписи в Сикстинской капелле. Такая разобщённость с особой очевидностью проявилась во фресках, украшающих люнеты, на которых, как было выше отмечено, показан народ Израилев в пленении. В этих сценах можно видеть, как мужчина и женщина, по всей видимости, муж и жена, сидят друг к другу спиной, а находящиеся рядом дети никак не радуют родителей, преисполненных тревоги за их будущее.
На плафонной фреске с её мажорным звучанием и компактной целостностью гигантской композиции проявления раздвоенности личности не были столь заметны. Эта тенденция в полной мере выражена на алтарной фреске, где отчуждённость обретает космические размеры, а личность, противопоставленная космосу, корчится от ощущения беспредельного ужаса собственной беспомощности и трагического одиночества.
«Страшный суд» отразил весь трагизм эпохи Позднего Возрождения, когда возвеличенный лучшими умами того времени человек так и не стал свободным. В одном из последних сонетов Микеланджело имеются такие строки:
Достигнув в подлости больших высот, Наш мир живёт в греховном ослеплении. Им правит ложь, а истина — в забвении, И рухнул светлых чаяний оплот (295).В своём апокалиптическом восприятии мира Микеланджело даёт понять фреской «Страшный суд», что все здравствующие ныне люди по натуре грешны, а потому пребывают в житейском аду. В этом убедится любой человек, рассматривающий алтарную фреску в Сикстинской капелле. Сколь бы ни был высок он ростом, ему не удастся стать вровень с чистилищем, на которое он вынужден смотреть снизу вверх, запрокинув голову. Это неожиданное открытие способно потрясти каждого, заставляя задуматься о своей жизни. Но Микеланджело, преисполненный глубокого сострадания к людям, погрязшим в грехах, не лишает их надежды на спасение.
Слева внизу на фреске среди сгрудившихся тел один из ангелов своею мощной дланью вытаскивает из преисподней, словно на канате, двух раскаявшихся грешников, уцепившихся руками за протянутые им чётки. Значит, путь к спасению имеется, что не может не утешать. А вот справа увлекаемый демонами в преисподнюю другой грешник утратил всякую надежду на спасение. В отчаянии он закрыл лицо рукой, и виден один только широко раскрытый глаз, устремлённый на ныне здравствующих, для которых нет иного пути к спасению, как через раскаяние в грехах. Это широко открытое око, взирающее на мир, выражает трагедию личности, противопоставленной космической бесконечности в своём одиночестве и сознающей собственную беспомощность перед безразличной к нему Вселенной. Возможно, при написании фигуры этого одноокого грешника у Микеланджело появились такие покаянные стихи:
Нет твари, чтоб была меня подлей. Забыв Тебя, я жил без покаянья, Но живо сокровенное желанье Порвать оковы собственных цепей. Господь, из плена вызволи скорей, Чтоб высшее познать благодеянье! О вере говорю не в оправданье — Грешил нередко небреженьем к ней. Она средь всех даров — наш клад бесценный, И без неё всяк смертный обречён: Его душе не будет утешенья. Ты пролил кровь за беды всей Вселенной. О жертве знает мир, но он лишён Ключей от Неба. Как обресть спасенье? (289)И он ищет эти ключи, глубоко сознавая, что только вера способна вырвать человека из бездны отчаяния, в которую он неминуемо попадает в моменты политических, экономических и духовных катаклизмов. Но как одолеть зло? И Микеланджело снова идёт навстречу людям. В нарушение общего замысла он готов пойти даже на сделку с собственной совестью, показывая, как откуда-то сверху, с потолка Сикстинской капеллы с её ветхозаветными историями на алтарную фреску льётся ослепительный свет надежды на спасение — это, согласно Евангелию от Марка, на людей снисходит Святой Дух в виде голубки.
Безусловно, это была уступка официальной доктрине. Не исключено, что сам папа Павел упросил Микеланджело пойти на этот шаг ради спасения алтарной фрески, вызвавшей смущение у священнослужителей. Но после реставрации, проведённой в Сикстинской капелле в конце прошлого столетия, фреска обрела свой первозданный вид. Память о той уступке с появившейся голубкой хранит копия Марчелло Венусти, одного из учеников мастера, которую тот написал на холсте в серовато-дымчатых тонах (Неаполь, Каподимонте).
Эта копия являет собой первый пример начавшегося повсюду сознательного искажения известного сюжета в угоду требованиям, навязанным искусству идеологами Контрреформации. Появилось множество таких «исправленных» копий в различных странах Европы на волне повсеместного наступления клерикальной реакции. Пожалуй, только Рубенс не пошёл ни на какие уступки и написал в 1614 году в духе Микеланджело свой «Страшный суд» (Мюнхен, Старая пинакотека).
* * *
Папа Павел живо интересовался работами в Сикстине, но зная о нетерпимости мастера к присутствию посторонних во время росписи, старался появляться там только в отсутствие художника. Вняв уговорам Гонзаги и Бьяджо, которым не терпелось взглянуть на фреску, он как-то пришёл в капеллу к концу дня, где через леса у алтарной стены проступала сочная бездонная синева.
— Да, скоро фреску будем освящать. Не зря молился — близко завершенье.
— Со всей Европы понаедет знать, — поддакнул папе Гонзага, — и к празднествам идут приготовленья.
— Таких хлопот, — подтвердил Бьяджо, — наш двор ещё не знал: намечены приём, балы, гулянья и напоследок римский карнавал.
Довольный папа подошёл к алтарной стене. За ним последовали Гонзага и Бьяджо.
— Мы оправдаем ваши ожиданья, — заверил папу уверенным тоном кардинал. — В окрестные деревни к мужикам гулящих девок вывезем на время…
— Весь Рим заполонили шлюхи. Срам! — не мог не возмутиться папа. — Подале от соблазна сучье племя. Лишь здесь для нас покой, благообразие…
Он вдруг остановился, стараясь что-то вспомнить, и, обратившись к Бьяджо, спросил:
— Напомни-ка, зачем сюда пришли?
— Хотели вы взглянуть на безобразие.
— Рехнулся. Что ты говоришь, балда? — возмутился Павел. — Да это же Сикстинская капелла!
— Вы сами давеча…
— Ах да. Не ной! Мышиная возня мне надоела, — и папа обратился к кардиналу. — Ты в коридоре у дверей постой. На днях я Микеланджело поклялся, что без него закрыт в Сикстину вход. Зачем я только с вами увязался? Ох, не ровен час мастер подойдёт!
— Покараулю — вздорного он нрава, — с готовностью ответил Гонзага, удаляясь.
— Так где твой лик? Показывай, герой, — приказал папа.
— А вон в аду Минос, стоящий справа.
Павел с интересом стал разглядывать сцену сошествия в Аид.
— Чего ж серчать? Ты вышел как живой, хоть корчишься в объятиях удава.
— Ославил и не посмотрел на чин, — захныкал тот. — Я умолял, чуть не в ногах валялся!
— Ты сам его сподвигнул на почин, когда куда не надобно совался, без умолку болтая языком.
Павел поднялся на две ступеньки и принялся рассматривать почти готовую роспись со множеством обнаженных мужских и женских тел, пытающихся из последних сил удержаться в чистилище.
— Ба, сколько лиц знакомых! А похожи. Весь льстивый двор представлен нагишом. Меня не видно… Слава тебе Боже!
— Так пособите мне! Пошла молва, насмешки, — слёзно взмолился бедняга Бьяджо. — Оградите от напасти!
— Как пособлю я, дурья голова? — с хитрецой в голосе ответил Павел. — Над преисподней не имею власти. Будь ты в чистилище — куда б ни шло.
Папа посмотрел на обескураженного Бьяджо, словно стараясь убедиться, насколько точно он с его крючковатым носом изображен на фреске.
— Хоть сатана в аду делами правит, ты влез в историю чертям назло, и эпитафия тебя прославит.
— Не пишут эпитафии живым, — чуть не плача, возразил Бьяджо.
— Не нам с тобой судить. А вот художник не терпит ни подсказку, ни нажим.
— Он всех придворных очернил, безбожник!
Павел задумался.
— Забросил камешек в наш огород, грозя нам, грешным, карой неизбежной. От нас ему и ласка, и почёт. Когда ж угомонится дух мятежный?
— Да разве это фреска?! — воскликнул обиженный и хныкающий придворный. — Сущий бред, написанный в горячечном экстазе!
Вбежал Гонзага:
— Явился мастер в довершенье бед! С дель Пьомбо лается у коновязи.
Павел оторопел и заметался.
— О Господи, мы словно в мышеловке! Гонзага, действуй же! Чего ты стал? А всё наветы ваши и уловки. Я из-за вас как кур в ощип попал…
Подобрав сутану, папа и Бьяджо поспешно удалились через боковую дверь. Едва она закрылась за ними, как вошёл разгневанный Микеланджело в сопровождении Урбино и дель Пьомбо. Стоящий у входной двери Гонзага пытался что-то сказать в своё оправдание.
— Не лгите! — оборвал его мастер. — Заперта была капелла. Шпионите? Да я не так-то прост и не позволю вмешиваться в дело. Впредь будет у двери швейцарский пост.
— У каждого из нас свои заботы, — принялся объяснять Гонзага. — Ужель вам мало светового дня? Смеркается. Какая тут работа?
— Не вам, любезный, поучать меня. В Сикстине я не потерплю обмана и не держу вас боле, кардинал. Ступай и ты, дель Пьомбо Себастьяно!
— С каких-то пор помехою я стал? — недовольно спросил тот.
— Об этом знаешь ты и сам прекрасно, вбивая между мной и папой клин.
— Помощником хочу я быть.
— Напрасно. Я смолоду работаю один.
— Друг другу надо помогать, — угрюмо промолвил дель Пьомбо.
— Мы квиты. Тебе я помогал, как никому. Мои рисунки все тобой забыты?
— Обидно мне. Попрёки ни к чему.
— С твоей обидой зависть неразлучна, а потому тобою движет зло, которое с искусством несозвучно. Так знай, оно не просто ремесло, но и порывов добрых побудитель.
— Так вот как ты заговорил, непогрешимый мудрый наш учитель!
— Оставь. Учить желанья нет и сил. С самим собою разобраться впору.
Тогда дель Пьомбо решил ударить побольней, зная о его неприязни к знаменитому литератору:
— Прав Аретино, что в кругу друзей тебя подверг жестокому укору…
— О нём напоминать мне здесь не смей!
— Уж больно ты заносишься, приятель. А чем же плох отважный «бич князей», прославившийся всюду как писатель? Но кровью руки он не обагрил…
— Несчастный, убирайся вон отсюда, пока тебя взаправду не прибил, как подлого двурушника. Иуда!
К дель Пьомбо подошёл Урбино.
— Чего стоишь? Вот Бог, а вот порог — иль пришибу без шума и огласки.
— Попробуй тронь! — ответил тот, ретируясь. — Тебя пора в острог.
Они остались одни в капелле.
— Поставь мне на леса свечу и краски, — приказал Микеланжело. — Известка не усохла ли? Проверь.
— Она свежа, — заверил Урбино, — раз в полдень слой положен.
— Иди домой. Закрой плотнее дверь. Сейчас я говорить не расположен — мне надо одному побыть в тиши.
— Но, мастер, я…
— Ступай! Иль быть нам в ссоре, — и он по ступенькам поднялся на леса.
Взяв лежащую там палитру и кисть, он никак не мог приступить к росписи — настолько стычка с дель Пьомбо его вывела из себя. Он задумался. Если разобраться, он чужаком живёт в своей отчизне, где мерзка и глумлива мира суть. Судьбою поднят он на дыбу жизни, и нескончаем на Голгофу путь…
Пока он размешивал краски на палитре, в голове роились грустные мысли: «От прытких палачей невольно взвоешь, а клевета, как оспа, на лице. Её ничем не ототрёшь, не смоешь, и в гроб сойдёшь с позором на челе».
Выбрав нужный тон, он вплотную подошёл к стене.
— А судьи кто? — прозвучал гулким эхом его вопрос в тишине. — Подлецы с ворами. Им наизнанку душу подавай, чтоб в ней копаться грязными руками.
Нет, он ещё с ними поборется, и в его сознании мелькнула дерзкая мысль…
— Стена, посыл последний принимай!
Быстрыми мазками он принялся писать автопортрет: содранная кожа в виде лица-маски, выражающей боль и страдание. Этот странный автопортрет он пририсовал к левой руке святого Варфоломея, в котором легко узнаваем главный клеветник Аретино с характерным лысым черепом.
Стало темнеть, и пришлось зажечь свечу. Отойдя на шаг от стены, чтобы получше разглядеть написанное, Микеланджело перекрестился и произнёс вслух, словно разговаривая с самим собой:
— Прости, Господь, что, упредив решенье, себя заране поместил в аду. Мне не дождаться часа искупленья — я был не раз с тобою не в ладу.
Спускаясь вниз, он оступился. От резкого движения голова пошла кругом, и свеча выпала из рук. В кромешной темноте послышались шум падения и стон. Резко распахнулась дверь, и в освещённом проёме возникла фигура Урбино. Увидев распластанного на полу мастера, он закричал:
— Врача! Он в папской был опочивальне.
Вбежала стража с фонарями. Урбино склонился над Микеланджело, стараясь понять, что с ним.
— Я только вышел, дверь слегка прикрыв. Ужели всё, и вот конец печальный?
От лежащего на полу Микеланджело послышалось бормотанье:
— Пришла за мной…
— Он что-то шепчет. Жив! — радостно закричал Урбино.
Вбежал доктор Ронтини.
— Всем расступиться! Больше света! Тише, — и он нагнулся над лежащим мастером. — А кости целы, хоть удар силён. Хрип, пена изо рта, пульс еле слышен. Буонарроти!
Доктор привстал:
— Без сознанья он. Соорудите из плащей носилки!
— Домой не донести его живым, — запричитал Урбино. — О Господи, трясутся все поджилки!
Обернувшись к стражникам, Ронтини приказал:
— В соседний зал несите! Там решим. Приподнимайте очень осторожно!
Стража вынесла мастера из капеллы, высоко подняв на руках, словно воина с поля брани.
Тронув Ронтини за рукав, Урбино указал ему на стену:
— Глядите, доктор! Вон портрет его.
Ронтини подошёл поближе.
— Непостижимо! Господи, как можно так вывернуть себя же самого? Какая сила самобичеванья и боль за грешный мир в чертах лица! — Ронтини перекрестился. — Дай Бог, чтоб людям странное посланье не стало бы последним от творца.
Узнав о случившемся, в капеллу вбежали взволнованные придворные.
— Самоубийство иль несчастный случай? — спросил Гонзага.
— Да говорите, доктор! — взмолился Бьяджо. — Страх какой.
— Я верю в организм его могучий, и передайте папе — он живой.
Но тут Урбино не выдержал:
— Чего раскаркались, воронья стая? Он всех вас, сволочей, переживёт!
К нему подошёл дель Пьомбо:
— Тебя, брат, укусила муха злая?
— С кем разговариваешь, обормот! — возмутился Гонзага.
— Вы довели его до исступленья своим паскудством, сукины сыны!
Кардинал в ответ пожал плечами:
— Он пьян или объелся белены.
Стараясь его успокоить, дель Пьомбо по-дружески посоветовал:
— Чего ты распаляешься, приятель? Оставь свой неуместный дерзкий тон.
Но Урбино не поддался на уговоры:
— Сюда лишь папа, наш работодатель, имеет доступ. Вы, мерзавцы, вон! — и он схватил железный прут. Увидев, что малый готов от угроз перейти к делу, все поспешно покинули капеллу.
* * *
Дома, придя в себя, Микеланджело никого не хотел видеть. Но с помощью толкового Урбино доктору Ронтини удалось через окно проникнуть в спальню мастера и уговорить принять кое-какие успокаивающие лекарства. Дело-то было серьёзное, поскольку шестидесятишестилетний художник упал почти с десятиметровой высоты на каменный пол. К счастью, не был повреждён тазобедренный сустав. Но удар был столь силён, что вызвал нарушение внутренних органов и перелом берцовой кости, приносящий нестерпимую боль. Пришлось наложить на сломанную ногу шины.
Друзья окружили его вниманием и заботой, а от папы то и дело появлялся посыльный с гостинцами и пожеланием скорейшего выздоровления. Он изо дня в день ждал появления Виттории, приказав Урбино навести в доме чистоту и порядок. Но маркиза Колонна не смогла, видимо, преодолеть сословные предрассудки. Навестивший его вездесущий португалец де Ольянда рассказал, что она денно и нощно молится о нём и его выздоровлении. Он был благодарен ей за поддержку в трудную минуту и передал с гостем посвящённый обожаемой донне мадригал, который сочинил в дни болезни:
То спотыкаясь, то вовсю хромая, Я меж грехом и благостью мечусь И о душе пекусь. Иссякли силы — сердце охладело. Слепой и ковыляя, С прямой стези сбиваюсь то и дело. Вот лист бумаги белой. Так подскажи, о донна, те слова, Чтоб не обманом — правдою дышать, Соблазн отринув смело, А подлая молва Остаток дней не сможет омрачать. О, если б только знать, Какую участь мне готовит небо, Раз никогда я праведником не был? (162)* * *
В Сикстинской капелле были убраны леса и шли последние приготовления, чтобы достойно представить миру новое творения Микеланджело. Но сам художник устранился от суеты, связанной с подготовкой к открытию.
Торжественное освящение фрески состоялось на Рождество 1541 года в присутствии коронованных особ и знатных гостей, прибывших из разных стран. На следующий день доступ в капеллу был открыт для широкой публики, напор которой с трудом сдерживала швейцарская гвардия, облачённая по такому случаю в новую униформу, пошитую по рисункам Микеланджело.
В те праздничные дни в доме Виттории Колонна, выходящем фасадом на улицу, которая вела к соборной площади, собрались её знакомые.
— Толпа не убывает. Что за люди! — с возмущением промолвил Пол, отойдя от окна. — Безумцы — всех бы в сумасшедший дом.
— Наплыв в Сикстину ещё больше будет, — заверила Джулия Гонзага. — Молва сейчас растёт как снежный ком, и вряд ли холод пыл толпы остудит.
Пошевелив кочергой угли, Пол расположился у камина.
— Мы, Джулия, прервали ваш рассказ.
— Так что там после мессы приключилось? — поинтересовалась хозяйка дома.
— Когда открыли фреску напоказ, молчанье гробовое воцарилось. Едва похвал начался робкий хор, как папа Павел весь преобразился, и радостью его зажёгся взор. Но автор как сквозь землю провалился.
— Он нездоров, — пояснила Колонна.
Поднявшись с кресла, Пол резко возразил:
— Нет, он заранее знал, что выслушать придётся и другое. Чуть позже фреска вызвала скандал и многих лиц задела за живое. О ней идёт недобрая молва. Жаль, что вас не было на освященье.
— Не по душе мне эти торжества, — ответила Колонна. — К заутрене пойду я в воскресенье, когда не будет шумной суеты.
— Но скоро фреска будет под запретом, — предупредила Джулия.
Колонна взглянула на неё с укоризной:
— Как можешь вздорным слухам верить ты? Они сродни лишь сплетням и наветам. Картина с вечностью породнена, и люди запретить её не властны.
Но Пол её не поддержал.
— В искусстве ясность замысла важна. Без таковой старания напрасны. Ваш друг жестокий потерпел провал, и с этим все согласны без изъятья.
— Да что случилось с вами, кардинал? Откуда вдруг такое неприятье, и ваши ль это говорят уста?
— В Сикстине хаос и столпотворенье, — не унимался Пол. — Им осквернён святой престол Христа!
— Как голословно ваше утвержденье, — решительно возразила Колонна. — Нам ныне всем необходима встряска, чтоб осознать ошибок глубину.
— Да, на стене алтарной свистопляска, — воскликнула Джулия, — и кажется, что мир идёт ко дну!
Её поддержал кардинал.
— Ниспровергатель всех авторитетов да будет сам за дерзость осуждён.
Джулия Гонзага рассказала, ссылаясь на брата, что орден иезуитов удручён, узрев крамольных мыслей подоплёку.
— О Боже! — воскликнула Колонна. — Значит, травля началась, коль так охотно вы ввязались в склоку. Хотя чего же ждать ещё от вас?
— Маркиза, что за тон? — спросил Пол в недоумении. — Вас не узнать. Где нынче благочиние былое, иль фреска вам святых основ милей?
— Взамен искусства зрелище иное, — заявила Джулия, — сожженье на кострах живьём людей нам уготовил инквизитор бравый. Добьётся Павел своего, поверь!
— Решил помериться наш папа славой, — поддержал её Пол, — с испанцами, лютуя, точно зверь.
Гонзага рассказала, что негласное есть знати предписание на аутодафе почаще быть.
— Идём сегодня, словно в наказанье, — призналась она, — чтоб белыми воронами не слыть.
Она вдруг вспомнила о юной инокине из Сан Сильвестро, которая оказалась в руках у судей строгих.
— Мой друг, — обратилась Джулия к Полу, — в чём её вина?
— Типичная сейчас, увы, для многих, — ответил спокойно кардинал. — Сомненья породил в ней сатана, и с ним она связалась без боязни, за что и будет нынче сожжена.
— Вы опоздаете к началу казни, — не без язвительности напомнила Колонна.
— Да, ты права, — согласилась Гонзага, не почувствовав колкости в словах подруги, — минуты больше нет. Тебя мы ждём на завтрашнее чтенье. Дель Пьомбо дал на пару дней памфлет. Прелюбопытнейшее сочиненье, и сколько едкости в его словах!
— Известно, что способен всё святое ошельмовать завистливый монах, — напомнила ей Колонна.
Но Гонзага с ней не согласилась, решительно возразив:
— Зато о Микеланджело такое он поведал, что весть звучит, как гром.
Вторя ей, кардинал добавил:
— Дель Пьомбо другом слыл Буонарроти и с подноготною его знаком.
— Лжеца себе в союзники берёте? — не удержалась Колонна.
— Он в преступленье уличил творца, о коем мир наш не имел понятья, — заявил в своё оправдание кардинал. — Ваш друг сгубил натурщика-юнца, чтоб выразить агонию в Распятье.
— У вас, я вижу, хватка паука, — строго взглянув на него, сказала Колонна. — В интригах вы достигли совершенства — неиссякаем пыл клеветника.
Лицо кардинала исказилось злобой, но на выходе его окликнула Гонзага:
— Прощай! Идёмте же, преосвященство.
Колонна была вне себя от всего услышанного.
— Двурушникам я верила сполна. Как непростительна моя ошибка. Но ныне я отрезвлена сполна.
Она понимала, что почва под ногами зыбка, раз о злодействе пущен мерзкий слух в отместку за великое бунтарство. К таким вестям порочный мир не глух. Он падок на юродство, ложь, коварство и ищет уязвимые места. Над мастером готовится расправа, и гнусная змеится клевета, которая страшнее, чем отрава.
Маркиза подошла к висящему на стене Распятию и преклонила колена:
— Нет выбора — я жертвую собой во имя твоего, мой друг, спасенья. А я стою пред роковой чертой и жажду только одного — забвенья. За бегство, Микеланджело, прости! Устала я от суетного мира. Тебе помехою я на пути, и для борьбы моя негодна лира…
На следующий день, не предупредив никого, маркиза покинула свой римский дом и отправилась в один из монастырей под Витербо, откуда послала письмо великому другу с извинениями за своё бегство. Получив от него ответное письмо, написанное второпях, она, видимо, почувствовала некую отстранённость мастера, теряясь в догадках — чем она могла быть вызвана? Кто или что настолько отвлекло её великого друга? В её душу закралось чувство ревности, и она почувствовала острую необходимость в его присутствии рядом. В одном из своих посланий она пишет, что если и далее продолжать переписку из вежливости и чувства долга, то ей придётся покинуть монастырь и лишиться общества монахинь и общей с ними молитвы, а ему следует прервать свои дела и лишиться животворного общения с живописью.
«Однако, — продолжила она свою мысль, — веря в нашу прочную дружбу, я её скорее выражу не ответами на ваши послания, а молитвами, обращёнными к Богу, о котором вы говорили с такой проникновенностью и болью в сердце при последней нашей встрече до моего отъезда из Рима».
Подозрительный Микеланджело узрел в том письме что-то неладное и, оставив все дела, помчался в Витербо, где нашёл маркизу в монастыре Святой Екатерины. Похудевшая, бледная, с потухшим взором Виттория Колонна, принявшая постриг, произвела на него удручающее впечатление. В первый момент ему даже показалось, что перед ним лишь тень маркизы, которую он знал ещё совсем недавно. Слабеющим голосом она поведала о своей полной отрешённости от мира. Ей нелегко было говорить, и каждое слово давалось с трудом. Его угнетала мысль, что дорогое ему существо скоро угаснет, и он старался сдержать своё волнение и не единым словом не потревожить эту святую душу, пребывающую в состоянии высшего озарения.
* * *
Вокруг алтарной фрески продолжали разгораться страсти, отголоски которых были слышны и в самой Римской курии. Однажды папе Павлу пришлось столкнуться с недовольством даже самых преданных ему кардиналов, которые неожиданно нагрянули в его рабочий кабинет.
— Святой отец, у нас дурные вести, — заявил Караффа, который по старшинству взял на себя главную роль докладывающего о положении дела. — Весь Рим бурлит, как бешеный поток, и кое-где слышны призывы к мести.
Папа подошёл к окну:
— Я слышу гул, а мне и невдомёк. Ишь собрались как будто бы на праздник! Почто толпа устроила галдёж?
— Народ, известно, хам и безобразник, — пояснил Гонзага. — Ему попасть в Сикстину невтерпёж.
— Впустите. Места хватит всем во храме, — предложил Павел. — Чего ж предосудительного тут?
— Да чернь, погрязшую в постыдном сраме, — гневно заявил Червини, — как раз и взбудоражил «Страшный суд»!
Папа никак не ожидал такого оборота.
— Нашли причину неурядиц? Браво! На живопись-то нечего пенять, коль сами проворонили ораву смутьянов наглых. Где вам их поймать. Куда расстриги скрылись от расправы?
— Наш государь, — начал Караффа, — сыскная служба…
— Врёшь! — заорал Павел. — Кальвин их принял. Подлая Женева! Цена хвалёной вашей службе грош! О ней нельзя не говорить без гнева. Что скажешь, Пол, про давешних дружков?
Тот побледнел и не без волнения в голосе ответил:
— С изменниками не дружил я сроду. А фреску надо сбить без лишних слов. Её нельзя показывать народу.
— Ужель на ней сошёлся клином свет? — подивился Павел.
— Она противоречит всем догматам. А главное, что святости в ней нет, и это на руку врагам заклятым. Искусство оставлять на самотёк не должно — слишком велика опасность. У нас что ни художник, то пророк.
Его поддержал Червини.
— Чревата ересью любая гласность. По Риму неспроста прошёл слушок, что новый явится Савонарола и что возмездья час уж недалёк. Улики налицо — ползёт крамола и зубоскалят римляне не зря.
— Добавлю я к словам преосвященства, — вновь выступил вперёд Гонзага, — в Сикстине оскверненье алтаря. И ропщет не одно лишь духовенство, и недовольных наберётся рать. Вчера пришло письмо от Аретино. Он требует анафеме предать и автора, и гадкую картину, на коей, точно в бане, сущий срам.
Такое облыжное обвинение вконец взбесило Павла:
— Писака, пакостник и попрошайка, как смеет он советы нам давать? Не ты ли надоумил, отвечай-ка, когда водил его по кабакам? Всё о похабных выходках известно. А тётку Джулию куда ты дел? В подвале пытошном ей, дуре, место. Плевать на знатность рода я хотел и выдам с потрохами стражам веры!
Чтобы отвести гнев папы от молодого коллеги, Караффа робко заявил:
— Вас прогневить бы снова не посмел, но есть писулька пострашней холеры. Пусть камерарий вслух её прочтёт.
В испуге Бьяджо отпрянул в сторону:
— С какой же стати? Почерк неразборчив. Я не любитель уличных острот…
Но папа, гневно взглянув на него, приказал:
— Ты не кобенься — простачка не корчи.
Взяв из рук Караффы листок и нацепив окуляры, Бьяджо принялся читать:
Украшен росписью алтарь. В Сикстине суд вершится правый. К стенаньям глух наш государь И льстивой окружён оравой. Он насаждает кумовство: Ему родня всего дороже. Поборы, взятки, воровство — Житьё такое нам негоже. Ханжи-монахи неспроста Набросились на фреску яро. Пугает их не нагота, А неминуемая кара. Зовёт Италию на бой Буонарроти, гений грозный, Чтоб кончить с вековой нуждой И всякой нечистью навозной.Папа обомлел от такой неслыханной дерзости.
— А сочинитель кто? На эшафот и всенародно сжечь для устрашенья!
— Да сочинитель дерзких строк — народ, — осмелился высказаться Пол. — Но как держать его в повиновенье, коль станем развращать искусством сброд и к вольнодумству поощрять стремленье?
— Не корчи, англичанин, знатока! — резко осадил его Павел. — Ars longa, vita brevis. Помни это. Искусство вечно, жизнь-то коротка. Впредь глупого мне не давать совета! Иль новым Геростратом хочешь слыть? Вероотступников лови повсюду и проявляй в защите веры прыть.
— В делах удвою рвенье, — заверил Пол. — Злее буду!
— Полезно рвенье, коль оно с умом. В политике не обойтись без хитрости — когда и пряником, когда кнутом, чтоб из народа дух свободы вытрясти.
Желая закончить неприятный разговор, папа сказал в назидание стоящим перед ним кардиналам:
— На память завяжите узелок: «Aliena vitia in oculis habumus, a tergo nostra sunt». — «Всяк, видящий в чужом глазу соринку, да прежде в собственном узрит сучок».
— Наказы ваши всякий раз в новинку. Надолго нам запомнится урок, — заверил Бьяджо.
— В реченьях ваших слышится такое, — подобострастно заявил Гонзага, — как будто заново на свет рождён.
Павел, кажется, успокоился и обрёл самообладание, услышав привычную лесть.
— Оставьте Микеланджело в покое — великими делами занят он.
Поднявшись с кресла и оглядев стоявших перед ним вытянувшихся по струнке кардиналов, Павел заявил:
— В ближайший праздник — День Богоявленский — мы после мессы огласим указ, что созывается Собор Вселенский. Пойдём в поход на ересь — пробил час!
* * *
Поначалу правление папы Павла III выглядело вполне терпимым к реформистским настроениям. Однако после отлучения от церкви возмутителя спокойствия Лютера Ватикан зорко следил за ситуацией и карал за малейшее проявление инакомыслия. Даже император Карл V, обеспокоенный волнениями на религиозной почве, предпринял попытку сближения католиков и протестантов своим эдиктом «Interim». Но его попытка окончилась провалом.
В 1534 году был утверждён орден иезуитов, основанный мелким испанским дворянином Игнасио Лойолой. Он выработал организационные и моральные принципы ордена, изложенные в сочинении «Духовные упражнения», главной целью которых было подавление воли человека и превращение его в послушное орудие церкви «Ad majorem Dei gloriam» — «Ради вящей славы Божьей». Этим девизом оправдывались жестокость и злодеяния, исходя из принятого на вооружение орденом иезуитов принципа, что цель оправдывает любые средства. Вскоре в Италии стал действовать трибунал инквизиции, получивший неограниченные права преследовать еретиков и любых врагов веры.
Когда вместе с другими инакомыслящими известный проповедник Окино подвергся гонению, перед бегством из страны он оставил на хранение свои рукописи у Виттории Колонна. Но в страхе перед расправой и в состоянии глубокой депрессии маркиза предала своих единомышленников по вере и отдала вверенные ей рукописи в руки инквизиции.
Не меньший страх обуял и её великого друга. Как и в случае с карателем Валори, когда Микеланджело смалодушничал и пообещал изваять для него мраморное изваяние, он и теперь предложил одному из главных хулителей его фрески, генералу ордена иезуитов Лойоле, поработать над проектом главной иезуитской церкви Джезу, но тот его предложение не принял, усомнившись в искренности раскаяния великого мастера. По свидетельству Джаннотти, когда Микеланджело узнал о смерти Лойолы в 1556 году, он жестоко корил себя за опрометчивый шаг, сделанный в минуту слабости.
В атмосфере углубляющегося религиозного раскола и в целях окончательного закрепления церковных основ и догматов в 1545 году Павел III созвал Вселенский собор. По настоянию Карла V, который ссудил через одного своего подданного, монополизировавшего торговлю специями, значительные суммы на проведение собора, собравшегося не в Болонье, как предполагалось, а ближе к Германии, в Тренто, на берегу бурной Адидже, а потому собор стал называться Тридентским, прозаседав с перерывами вплоть до 1563 года и положив начало движению Контрреформации.
Напуганная небывалым распространением ереси и инакомыслия римская коллегия кардиналов ужесточила цензуру и ввела «Индекс запрещённых книг» (отменённый лишь в 1967 году!), куда вошли творения Джованни Боккаччо, Джироламо Савонаролы, Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Франсуа Рабле и других выдающихся умов. Не повезло и Данте — его сочинение «О монархии» тоже угодило в пресловутый «Индекс». Ретивые цензоры не осмелились поднять руку на главное творение Данте, названное «божественным», хотя иезуит Карло д’Акуино поспешил всё же выпустить на латыни «исправленную» им версию «Божественной комедии», изъяв из великого текста обличительные строки поэта против папства и лихоимства церкви.
Наступление на ересь шло по всем направлениям. Особое внимание было обращено на религиозную живопись, оказывающую сильное эмоциональное воздействие на души верующих. Навязанные Тридентским собором Геркулесовы столпы Микеланджело осмелился преодолеть своим «Страшным судом» задолго до знаменитой фразы Галилея «Eppur si muove», вызвавшей переполох в богословской среде. Его великое творение явилось высшим проявлением независимости его творческого духа, породив сомнения и тревогу у пяти сменявших друг друга римских пап. Во время службы в главной капелле христианства «Страшный суд» был для них бельмом на глазу, пугая своим резким разрывом с канонической иконографей. На требования одного из них исправить фреску Микеланджело с горечью и не без доли иронии ответил:
— Скажите папе, что эту мелочь очень легко поправить. Пусть Его святейшество позаботится о том, чтобы навести порядок в мире, а придать должный вид моей фреске — дело пустяшное.
Идеологи Контрреформации предприняли немало усилий, чтобы принизить значение Микеланджело. Ему не нашлось места в официальных каталогах искусства, где превалировали имена фра Беато Анджелико и Гвидо Рени. По этому поводу Гёте заметил: «Вера возвысила искусство, а предрассудки его принизили». Свои суждения о фреске и создавшем её мастере оставили крупнейшие философы, историки искусства, литераторы и музыканты. Фигурой Микеланджело живо заинтересовался Ницше, ставивший его гораздо выше Рафаэля и считавший, что, несмотря на все церковные препоны и предрассудки своего времени, Микеланджело «не убил в себе героя», а узрел идеалы новой культуры. И если бы герой Ницше Заратустра увидел «Давида» или «Моисея», то вполне мог бы воскликнуть: «Пред этой красотой из камня зарделось сердце пылкое моё!»84 О фреске «Страшный суд» сохранилось любопытное высказывание Вагнера, который по силе воздействия и мощи духа сравнивал Микеланджело с Бетховеном. Говорят, что оказавшись однажды в Сикстинской капелле, Вагнер сказал: «Как и в моём театре, здесь не шутят».
Страсти вокруг «Страшного суда» не утихали веками. Например, Стендаль в «Прогулках по Риму» вспоминает, как в 1828 году ему пришлось видеть, что во время праздничной литургии фреска Микеланджело была стыдливо завешена огромной, во всю стену шпалерой с «Благовещением» Федерико Бароччи, главы римского маньеризма. Восхищаясь фреской, многие сравнивали её с гениальным творением Данте.
При всём родстве душ двух великих итальянцев, к «Божественной комедии» скорее тяготеют рисунки Леонардо да Винчи о конце света или «Потерянный рай» Мильтона, нежели «Страшный суд». Даже в платонической интерпретации Фичино и Ландино «Божественная комедия» не в состоянии прояснить ни одно из откровений Микеланджело на алтарной фреске, вызвавшей неприятие клерикальной реакции. Отголоски Контрреформации, с которой столкнулся Микеланджело, слышны и в «Легенде о Великом инквизиторе» Достоевского.
* * *
Тем временем Микеланджело усиленно работал над новым заказом папы — эскизами для фресковой росписи капеллы Паолина рядом с Сикстиной, построенной Антонио Сангалло Младшим. Это было одно из последних проявлений тщеславия стареющего папы, небесным покровителем которого был апостол Павел. В подмогу Микеланджело был приглашён один из самых даровитых учеников Рафаэля Джованни да Удине для украшения лепниной карниза, окаймляющего потолок капеллы. Над двумя большими фресками (каждая 6,25 x 6,61 метра) «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра» работа велась с 1542 по 1550 год с большими перерывами из-за болезни мастера. Только благодаря неимоверному напряжению сил Микеланджело смог завершить роспись.
Эти две фрески принято рассматривать в качестве своего рода живописного завещания художника. Их сюжеты связаны с темами из новозаветной книги «Деяния святых Апостолов». В «Обращении Савла» прослеживается прямая связь с алтарной фреской «Страшный суд». Это особенно заметно в появлении летящей фигуры Христа в окружении целого сонма ангелов, праведников и грешников, охваченных хаотичным вихреобразным движением. Утвердилось даже мнение, что это выражение «господства первородных абстрактных космических сил» над судьбами людей. Существует и другое мнение, согласно которому на фреске представлены две основополагающие христианские концепции: обретение Благодати и Веры.
«Обращение Савла» выделяется мощью, по-прежнему присущей Микеланджело, несмотря на возраст и недуги. Он прекрасно знал, как добиться наибольшей выразительности, и поместил в верхнем углу летящего Христа, настигающего грозным световым лучом скачущего мытаря Савла. Неожиданно упав с лошади, будущий апостол Павел лежит на земле, устремив взгляд в пустоту за пределы картины. Он напряжённо вслушивается в голос, раздавшийся с высоты у него за спиной: «Савл, Савл, почто ты меня гонишь?» В валяющемся в придорожной пыли Савле, возможно, Микеланджело изобразил самого себя — тогдашние критики не раз удивлялись, что молодой мытарь изображён художником стариком. Им трудно было понять душевное состояние престарелого мастера, который постоянно прислушивался к внутреннему голосу собственной совести и просил в молитвах о снисхождении.
Парная композиция «Распятие апостола Петра» построена на тех же кричащих диссонансах. Но, памятуя о злобной критике, обрушившейся на алтарную фреску в Сикстине, и видя, в каком подавленном состоянии пребывал папа Павел, Микеланджело изобразил несколько обнажённых фигур только в окружении летящего Христа, дабы не тревожить особо рьяных ревнителей чистоты веры.
Роспись капеллы Паолина — это последняя живописная работа Микеланджело и, пожалуй, самое выстраданное его творение, в котором не осталось и следа от прежней гармонии, отличающей плафонную роспись Сикстинской капеллы с её мощным жизнеутверждающим началом и верой в человека. Здесь, как и в «Страшном суде», бушуют страсти вне времени и вне веры, а выраженное на обеих фресках беспросветное отчаяние обречено поедать самое себя.
Незаконченная роспись капеллы из-за смерти заказчика и болезни художника пострадала во время пожара, когда рухнул потолок, вскрывший серьёзные недочёты в проекте Сангалло Младшего. К сожалению, сегодня Паолина недоступна для массового зрителя, так как входит в комплекс приватных помещений папы римского.
* * *
Работа над фресками продолжалась, и Микеланджело горел одним лишь желанием — закончить оформление частной капеллы папы Павла III, с которым у него были очень добрые отношения. При написании последней фрески «Распятие апостола Петра» он не переставал думать о смерти — эти мысли его начали посещать ещё в юности.
Не смерть, а порождённый ею страх Заставил впопыхах Бежать куда глаза глядят от гнева, Которым пышет дева. Чтоб погасить в груди огонь страстей. Мне напоследок дней Лишь саван может верной стать защитой, Тогда душа с Амуром будет квитой (127).Как вспоминает Джаннотти, Микеланджело хотел убрать из этого стихотворения слово «страх», так как давно смирился с мыслью о смерти. Во время дружеской вечеринки в доме Строцци с ним произошёл удар. Врачи велели оставить больного на месте, прописав лекарства и строгий постельный режим, пока пациент не придёт в себя.
Болезнь так некстати выбила его из колеи, когда все мысли были о росписях капеллы Паолина. А тут ещё из дома пришла неприятная весть. Как писали братья, племянник Лионардо совсем от рук отбился, грубит взрослым и издевается над старой моной Маргеритой, живущей в их доме с незапамятных времён. Вспомнив, как родитель на смертном одре просил его не оставлять своим вниманием старушку, он тут же отписал Лионардо грозное письмо, потребовав от него уважительного отношения к старой служанке, которая не только принимала его при родах, но и выхаживала и холила, заботясь о здоровье балбеса, а потому он должен относиться к ней как к родной бабке.
Но вскоре его порадовала новость о рождении ещё одного внука. По всему видать, что племянница Франческа и её муж Микеле Гвиччардини живут душа в душу, и у них теперь четверо ребятишек.
Больше двух месяцев ему пришлось проваляться в постели в доме друга. Желая отблагодарить его за гостеприимство и заботу, он подарил Строцци двух пленённых рабов, которым не нашлось места после последней исправленной редакции контракта на гробницу Юлия. Позднее два шедевра оказались во Франции (Париж, Лувр).
Пока шло медленное выздоровление, Дель Риччо, работавший управляющим в доме Строцци, обратился к Микеланджело, который даже в постели не мог бездействовать, с просьбой подумать над проектом надгробия для безвременно скончавшегося своего племянника Чеккино Браччи, сына флорентийского изгнанника. По-видимому, идея не увлекла Микеланджело, но чтобы не обидеть друга, он взялся за работу, сделав несколько эскизов, однако ни один из них не удовлетворил его.
Вскоре ему стало известно, что с просьбой сочинить эпитафию к надгробию Дель Риччо обратился к Джаннотти и другим знакомым поэтам. Это задело Микеланджело за живое, и он принял вызов, загоревшись идеей превзойти соперников как количеством, так и качеством сочинённых эпитафий. Из-под его пера вышли стихи, воспевающие красоту юноши, но все они окрашены трагическим мотивом смерти. В написанном им цикле эпитафий жизнь и смерть словно играют в прятки друг с другом, отчего стихи звучат игриво и естественно, без надрыва и патетики. Всего из-под его пера вышло 48 четверостиший, сонет и мадригал. Проснувшиеся в нём азарт и состязательный дух заставили на время забыть о капелле Паолина, и он загорелся идеей. Сочинённые им стихи обрели лёгкую задорность и не свойственную эпитафиям иронию, как, например, в одном из первых четверостиший этого цикла:
Из рода Браччи он происходил. Видать, от рук исходит их прозванье. Имей он также и к ногам призванье, То смерти б избежал в расцвете сил (184).Здесь шутливо обыгрывается фамилия умершего юноши (braccio — рука). В другой эпитафии им раскрывается вполне банальная причина, сгубившая жизнерадостного юнца в расцвете лет, когда ничто, казалось, не предвещало трагического конца:
Подстерегла костлявая рука, И Браччи мёртвым найден был в постели. Он был сражён не шпагой на дуэли — Сквозняк зимой смертелен для цветка (218).В сочинённых им эпитафиях выражены самые чистые чувства, граничащие чуть ли не с идолопоклонством. Ему хорошо был известен племянник Дель Риччо, чьей юной красотой он восхищался. Сочинение эпитафий шло легко, словно его забавляла игра со словом. Когда заказчик попросил также написать портрет или изваять покойного племянника в мраморе, Микеланджело ответил в сонете не без иронии:
Мой друг Дель Риччо, горе безысходно, И лик Чеккино нам уж не видать — Ничем не воскресить из праха тело. Коль скоро души любящие сходны, Его портрет придётся с вас ваять, Раз мне натура надобна для дела (193).Заказчику пришёлся не по вкусу сонет с сокрытой в нём иронией, и он упрятал его подальше от глаз. Что же касается самого надгробия, оно было установлено по рисунку Микеланджело умелым Урбино с помощниками в старинной римской церкви Арачели, что на Капитолийском холме.
Помимо стихов, которые по качеству не все равноценны, особый интерес вызывают любопытные приписки автора к некоторым стихам, которые отсылались небольшими порциями, и заказчик всякий раз одаривал мастера, словно подбадривая, всякими лакомствами, до которых был особенно охоч слуга и помощник Урбино, в обязанности которого входило быть посыльным между заказчиком и исполнителем.
Например, после одной из эпитафий Микеланджело пишет: «Не хотел отсылать, так как звучит смехотворно. Но присланные Вами форель и грибы трюфели заставят заговорить само Небо». Другой раз он признаёт: «Поскольку сегодня ночью поэзия меня не посетила, возьмите взамен три добротных стихотворения, сочинённых беднягой, страдающим запором». Под «беднягой» подразумевался Джаннотти, тоже включившийся в состязание.
Весьма интересна приписка к отосланному заказчику мадригалу: «Чтобы никто потом меня не корил за грамматические ошибки, за которые не избежать мне стыда, в этом деле я целиком полагаюсь на вас». Говоря о грамматике, автор подразумевал латынь, в которой не считал себя сведущим. И действительно, в седьмой строке мадригала стоит «sine peccata», что рифмуется со словом «nata», а надо «sine peccatis» или «sine peccato». Вероятно, некоторые эпитафии, как и было принято в те времена, были написаны им на латыни.
Однажды у заказчика вызвали неудовольствие две последние строчки одной из эпитафий:
Воспоминанья обо мне прекрасны. В постели были ласки хороши.Микеланджело был вынужден переписать эпитафию:
Останки обрели покой в тиши, И сожаленья о былом напрасны. Как ни были дни юности прекрасны, Земная жизнь — темница для души (197).Но он не успокоился, и его, видимо, удивило, что Дель Риччо так легко открещивается от былого. Отсылая следующее четверостишие, он благодарит в записке за присланный салат с укропом. Здесь скрытый намёк на известные ему былые интимные отношения заказчика с юным племянником, так как в переносном смысле слово «укроп» (finocchio) означает по-итальянски «извращенец».
Вся эта история несколько отвлекла Микеланджело от не покидавших его грустных мыслей, связанных с болезнью Виттории Колонна, от которой не было вестей.
Вероятно, полученная взбучка подействовала на племянника Лионардо, и чтобы умаслить больного дядю, он прислал ему несколько головок овечьего сыра pecorino и сорок больших фьясок доброго «Треббьяно». Микеланджело решил часть отослать папе Павлу и раздать друзьям, а остальное оставить для себя и Урбино, большого охотника пропустить стаканчик.
Когда после окончательного выздоровления он вернулся в дом на Macel dei Corvi, ему стало известно, что Дель Риччо, окруживший его особым вниманием во время болезни, предпринял попытку самовольной публикации некоторых его поэтических откровений, имея доступ к рукописям, так как некоторые из листов ему поручалось переписывать набело. Видимо, неверный друг усомнился в счастливом исходе болезни старого мастера и не смог удержаться от соблазна извлечь для себя выгоду, вечно нуждаясь в деньгах и сознавая, сколь высоко ценится каждый рисунок или стихотворение великого мастера.
Сохранилось письмо, в котором в знак былой дружбы Микеланджело умоляет Луиджи Дель Риччо сжечь оставшиеся у того бумаги и типографские оттиски. Об этой тёмной истории известно лишь то, что перепуганный Дель Риччо клялся и божился, всё отрицая, а замешанный в деле некий издатель просто его оболгал. Но Микеланджело был непреклонен. Такого он не мог простить и ответил вероломному другу гневным сонетом:
Назойливым и льстивым обхожденьем Легко обиду нанести порой. И вот я тягощусь самим собой, Раз низости обязан исцеленьем. Коль к ближнему проникся уваженьем, Не лги ему и не криви душой: Тем паче старца не смущай покой — Ему-то жить негоже заблужденьем. Святые чувства преданы огню, А жизнь, Луиджи, всякого карает, Кто подло выгоду извлечь посмел. Тебе известно — дружбу я ценю, Но ныне гневом вся душа пылает — Терпенью моему настал предел! (251)* * *
В Риме по приглашению Павла III объявился Тициан. Папа тепло принял прославленного художника, захотев по примеру императора Карла V, чтобы обласканный им живописец увековечил его для потомства. После аудиенции у папы, где были оговорены детали будущего портрета и гонорар, Тициан решил нанести визит вежливости Микеланджело, с которым давно желал лично познакомиться. Да и повод был подходящий — желание навестить больного собрата по искусству. За ним увязался было земляк и бывший ученик Лучани, сиречь дель Пьомбо. Но прослышав о недавней размолвке между двумя мастерами, мудрый Тициан отправился на Macel dei Corvi с предложившим свои услуги Вазари, с которым он прибыл в одном почтовом дилижансе из Флоренции по завершении работы в Санто Спирито. Тот же Вазари попросил великого мастера не упоминать в разговоре с Микеланджело имя герцога Франческо Мария делла Ровере, чей блистательный портрет был недавно написан Тицианом (Мадрид, Прадо), и своего друга писателя Аретино, с которым у хозяина дома особые счёты.
По настоянию врачей Микеланджело большую часть времени проводил в саду на свежем воздухе. Раздался полуденный пушечный выстрел, поднявший в воздух тучу ворон и голубей.
— Пушкарь Святого Ангела палит, — объявил подошедший Урбино, — а стало быть, пора принять лекарство.
Микеланджело поморщился, принимая из рук Урбино мензурку с микстурой.
— От вида снадобий меня тошнит. Осточертело мне твоё знахарство!
— При чём тут я? — подивился Урбино. — Ронтини, лекарь ваш, вас просто чудом вытащил из гроба.
— Коль так, ищи в дорогу справный экипаж, — приказал Микеланджело, — раз мной одолена хвороба.
— В какие же края, позвольте знать?
— К Виттории в Витербо. А куда же? Договорились через день писать — ни строчки не было на Пасху даже. Я вижу, хочешь что-то мне сказать?
Урбино замялся.
— Пришёл с повинною Дель Риччо, — робко начал он. — Все рукописи им возвращены. Божится, что вам не желал худого и что в подлоге нет его вины.
— Не всепрощенец я. О нём ни слова! — строго заявил Микеланджело. — Мне от него не надобно услуг. Не смей перечить и не будь, как сводня! Кого я вижу?!
На дорожке показались Тициан и Вазари.
— Здравствуйте, наш друг! — радостно приветствовал его Тициан.
— Вас, мастер, просто не узнать сегодня! — воскликнул Вазари. — Полезен вам на воздухе досуг.
Микеланджело был безмерно рад их появлению. Ему было известно, что прославленный венецианский мастер ненамного моложе его, и он невольно залюбовался статной фигурой гостя, излучающей достоинство и благородство.
— Друзья, располагайтесь, — предложил он, убирая в сторону рисунки со стола. — В доме душно. Как вам живётся в Риме, Тициан?
— Святым отцом я принят столь радушно, что в Бельведере жить приказ мне дан.
— Там Леонардо обитал когда-то, вынашивая грандиозный план, — пояснил хозяин дома. — Жаль, что казна была не торовата.
— Я слышал, был он страстью одержим к наукам, преисполненный дерзаний, — заметил Тициан.
— Он, как природа, был непостижим и представлял собою кладезь знаний.
— А я вот вычитал не так давно, что Леонардо часто ошибался, — решил высказаться Вазари, чтоб показать свою осведомлённость.
— Судить-рядить об этом всем вольно, — ответил Микеланджело, дабы сменить тему. — Скажу лишь, что тогда с ним мало знался.
Но Тициана давно занимала эта тема, и оказавшись перед очевидцем того славного времени, когда во Флоренции, а затем в Риме безраздельно господствовала в искусстве славная триада, а за её соперничеством следила вся Европа, он не удержался и сказал с грустью:
— Мир Рафаэль покинул слишком рано. А каково на сей счёт ваше мненье?
— Хотя в искусстве он не знал изъяна, но вскоре наступило пресыщенье.
Разговор пошёл о нынешних временах, когда бал правят цинизм и стяжательство, а человек по-прежнему несвободен и подвергается насилию.
— Трагедию воспринимает каждый, — сказал Тициан, — кто сердцем слышит стон сикстинских стен.
— Вы побывали там? — поинтересовался Микеланджело.
— И не однажды. От ваших фресок в жилах стынет кровь… А у коллеги нашего во взгляде охотничий азарт зажёгся вновь. Чего он там строчит в своей тетради?
— С ним ухо надобно держать востро, — шутливо предупредил Микеланджело. — Мой молодой земляк не шутки ради, забросив кисти, взялся за перо.
Вазари зарделся от неожиданности.
— Да много ли в моих писаньях проку? Записываю разные слова…
— Для вас отныне всяко лыко в строку. А вставите — пойдёт гулять молва. Чем вас прельстили лавры летописца? — поинтересовался Тициан.
— История искусства — мой конёк, — прозвучал ответ.
Микеланджело поддержал молодого друга:
— Мы прежде знали вас как живописца и будем рады оценить ваш слог.
Вазари был благодарен Микеланджело за поддержку.
— Тетрадь раскрыл я, мастер, по наитию. В ней есть помета — Медичи наказ. И я отнюдь не сделаю открытия, сказав, как наш правитель любит вас…
Его недовольно прервал Микеланджело.
— Печальную затронули вы повесть. Зачем больные раны бередить? У каждого творца заказчик — совесть, и с нею надобно в согласье жить.
— Вам неугодна милость мецената? — с удивлением спросил Вазари.
— Такая милость хуже, чем узда. Художник, будучи под властью злата, дерзать уже не сможет никогда. Губительно монаршье покровительство, и никому не вырваться из пут.
Но Вазари был несогласен с такой позицией и продолжал наседать.
— Вернуться умоляет вас правительство, и во Флоренции заказы ждут!
— Не вычеркнуть былое из сознания, и деспотизм доселе не изжит.
— Что за причуда ваша жить в изгнании, — искренне подивился дотошный молодой коллега, — когда на родину вам путь открыт?
Тициан с нескрываемым интересом следил за словесной дуэлью великого мастера с учеником. Его симпатия безусловно была на стороне мудрого учителя, который как-то сник и погрустнел.
— Смирился я с судьбой анахорета, и душу мне не разъедает стыд, — тихо промолвил Микеланджело. — А кстати, вот катрен вам для ответа:
Оставив в жизни хоть какой-то след, Приму я смерть как высшую награду, Коль обойду заветную преграду, Куда живому мне возврата нет (202).— Звучит почти, как Ганнибала клятва, — заметил Вазари, — хоть вам благоволит любой монарх.
— Богатая для летописца жатва. Вам карты в руки, будущий Плутарх! А мне князьям осанна режет ухо. Мои кумиры — Дант, святой Франциск: обязан им раскрепощеньем духа.
Но Вазари не сдавался, настаивая на своём:
— Упорствуя, идёте вы на риск!
— Вазари прав, — не выдержав, решил вмешаться в спор Тициан. — Тлетворен здешний климат. Вы для Венеции желанный гость, где с превеликой радостью вас примут.
Микеланджело никак не ожидал таких слов от Тициана.
— И вы решили мне подбросить кость?
— Я не хотел обидеть вас, дружище, — извиняющим тоном ответил венецианец, — и от души желаю вам добра. О Господи, какая духотища!
— А для меня привычная жара.
Тициан решил сгладить создавшееся напряжение.
— Позвольте вам сказать не в назиданье, что истинный творец в любой стране способен обрести себе признанье.
— В любой? — подивился Микеланджело. — Я однолюб. Скажите мне, чтоб убежденьями не поступаться, себе не лгать и не кривить душой, пред власть имущими не пресмыкаться, не лучше ль бросить всё и на покой?
— Зачем вдаваться в крайность? — осторожно заметил Вазари. — Жизнь — как театр, и каждому своя на сцене роль.
Тогда Микеланджело то ли шутя, то ли всерьёз спросил:
— Так, стало быть, мой друг, я гладиатор, раз мне отпущена по роли боль?
— Признайтесь, вам не по нутру беседа, — сказал Вазари, успев записать последнюю фразу мастера в тетрадь, — и дух противоречья в вас засел.
— Слова, слова… я их боюсь, как бреда. А у меня край непочатых дел.
Появился Урбино.
— Синьоры, что разговор всухую! Я на прохладе стол накрыть успел.
— И впрямь, друзья, — поддержал его Микеланджело, — пройдёмте в мастерскую.
Все направляются к дому, а из-за кустов жимолости появились два свидетеля разгоревшегося спора между хозяином и гостями.
— Ушли. По-прежнему он полон сил, — с тоской в голосе заметил Дель Риччо.
— Как ловко обольщал его Вазари, — подивился дель Пьомбо.
— Не обольщал, а правду говорил. Какой же он судьбой гонимый парий, раз к Риму сердцем сам давно присох?
Их разговор неожиданно прервал появившийся Урбино.
— Как вы вошли?
— А прямо по дорожке, — нагло ответил дель Пьомбо.
— Побойтесь Бога, — сказал с укоризной Урбино, — мастер очень плох.
— Гостинцы передал ему в лукошке? — спросил Дель Риччо.
— Он даже взглядом их не одарил.
— А письма-то мои он хоть читает?
— Для нужника он их определил.
Лицо Дель Риччо перекосило от гнева.
— Не ёрничайте. Что вас разбирает?
— Сейчас схожу, — успокоил его Урбино. — Ответ для вас готов.
— Не будет благодарности. Поверьте! — решил успокоить товарища дель Пьомбо.
— А кто созвал известных докторов, когда он был на волосок от смерти? — чуть не со слезами в голосе спросил Дель Риччо. — Я, переписчик всех его стихов.
— Вы умыкнули их.
— Да что вы лжёте? Их у себя издатель придержал, узнав, что при смерти Буонарроти.
— Но Аретино трюк ваш разгадал, — возразил дель Пьомбо.
— Большую мне окажете услугу, сказав дружку, что он подлец и лгун.
— Да я поколочу тебя, ворюгу!
— Заткнись, монах! Бездарнейший пачкун.
Дело бы дошло до рукоприкладства, не появись Урбино с письмом в руках.
— Чего разлаялись на всю округу? Ступайте вон! Устроили тут гам.
Дель Риччо вскрыл конверт.
— Какой-то бред. Вы полюбуйтесь сами.
— Да не канючьте! Что он пишет вам?
— Терпенье. Строчки пляшут пред глазами…
Преодолев волнение, Дель Риччо расправил листок и никак не мог начать чтение вслух мадригала, хотя ему, как никому, хорошо был известен корявый почерк автора:
Щедротами я сыт По горло и польщён. Но вижу в том свободы ущемленье. Душа моя дрожит, Я словно уличён, С поличным взят на месте преступленья. Слепое обольщенье! Так наше зренье остроту теряет, Когда на солнце устремляем взгляд. Чрезмерно одолженье, А неоплатный долг отягощает. Вот почему дарам твоим не рад — От них исходит яд. Чтоб дружбе верность сохранить, И в помыслах бы честным надо быть (252).— Ну что я говорил? — сказал дель Пьомбо.
— Вы были правы. Безумен он, и я попал впросак.
— Собрат в беде, — сказал дель Пьомбо, — в лучах великой славы купались вдоволь мы. Пойдём в кабак! Для нас закрыта впредь сия обитель.
Провожая их взглядом, Урбино промолвил:
— Вот уж когда, желая покарать, лишает здравого ума Спаситель.
Он был явно озадачен, не зная, что предпринять и как поступить с письмами маркизы Колонна, которые боялся показать мастеру, хотя и знал, что за такое самоуправство ему несдобровать. От врача Ронтини ему стало известно, что маркиза вконец иссушила плоть постами и сейчас не совсем в своём рассудке.
— Виттория Колонна, не сердись, — сказал Урбино, перекрестившись. — Сейчас ему никак нельзя в дорогу. За нас, коль сможешь, грешных, помолись. Отныне ты подвластна только Богу.
* * *
Вопреки ожиданиям и заверениям врачей выздоровление продвигалось медленно, но Микеланджело не терял присутствия духа и потихоньку, насколько хватало сил, работал, то и дело появляясь, прихрамывая, в капелле Паолина. В такие дни он особенно нуждался в духовной поддержке своей славной подруги, от которой не было вестей из Витербо. Он терялся в догадках и не находил себе места.
Пока Микеланджело в мыслях о Виттории Колонна трудился в капелле, Тициан писал портрет папы. Сидя перед мольбертом, он старался передать главное в образе, замечая, однако, что позирование утомляет старого понтифика и он начинает дремать, слегка посапывая.
— Святой отец, ещё два-три мазка, и нынче ваши кончатся мученья.
— А отчего же в голосе тоска? — подивился Павел его словам, очнувшись. — Близ вас я полон умиротворенья, забыв о кознях праздного двора.
— Но кардиналы заждались в приёмной. Они сидят там с раннего утра.
— Пусть поостынут в прыти неуёмной. Я чую: вновь с наветами пришли мои советчики, льстецы и слуги. А как вы Микеланджело нашли, с Вазари побывав в его лачуге?
— Он поправляется, слегка хандрит. Хоть со здоровьем у него неладно, но, как и прежде, взор его горит, а сам он полон замыслов.
— Отрадно. Что скажете о фреске «Страшный суд»?
Тициан давно ждал такой вопрос, и у него был на этот случай готовый ответ, а потому, не задумываясь, ответил:
— Таких вершин искусство не знавало. Но автор сам считает, что сей труд способен породить глупцов немало, когда манере станут подражать.
Павел горько вздохнул, думая о своём.
— На свете дураков всегда хватало. Но как непросто ими управлять!
— Всё сложно в мире, — согласился Тициан. — Взять хоть освещенье: меняется и глушит колорит. Тут не поможет никакое рвенье. Природа света много тайн хранит. Вот почему сеанс наш прерываю, иначе тень портрету повредит.
Павел с трудом поднялся, чтобы расправить затекшие ноги.
— Я с неохотою вас отпускаю. Признайтесь мне: возможно ль что-нибудь исправить в росписи стены алтарной?
— Подправить можно, не задевши суть. Но кто отважится? А шаг коварный, и не поднимется ничья рука. В Сикстине гениальное творенье, и ваша в том заслуга велика. Оно прославит мудрое правленье, о чём веками память будет жить.
В этот момент у папы возникло желание обнять художника, но он сдержался и тихо промолвил:
— Вы сняли груз — развеяли сомненья. Не знаю, как мне вас благодарить. Без вас я так терзался безутешно.
— К вам завтра я ни свет и ни заря, чтоб поработать поутру неспешно.
Папа проводил его восхищённым взглядом.
— Какое благородство! Знать, не зря сам император Карл им очарован и мастера готов озолотить.
Он вспомнил рассказанную ему недавно историю, как во время позирования император, заметив оброненную кисть, встал и подал её Тициану. Этот благородный жест поразил тогда всю Европу.
Павел подошёл к мольберту с закреплённым на нём холстом.
— Вот я волшебной кистью нарисован. Эх, кабы несколько годков скостить! Ты мог бы это сделать безусловно, когда бы захотел, мой Тициан. Цена-то за портретик баснословна. Чего глядишь, согбенный старикан?
Не выдержав взгляда колючих глаз, он отвернулся от холста. Ему припомнились все те мытарства, через которые он взошёл на трон, так как на подлости, коварстве любой престол держался испокон. О, если бы не подлая политика, он чаще б с Богом был и не грешил, а ныне стал похож на злого нытика, оставшись в одиночестве без сил. Почувствовав колики в животе, Павел поспешил к себе в опочивальню.
Наступил знаменательный день для Тициана. 19 марта 1546 года на Капитолийском холме произошло торжественное событие, на котором присутствовали римская знать, художники, поэты и музыканты. Под звуки фанфар Тициан Вечеллио был провозглашён почётным гражданином Рима. Девять лет назад такой чести удостоился и Микеланджело, который на сей раз отсутствовал из-за недомогания, а главное, ему не хотелось показываться там немощным и хворым, да и приличествующего для того события одеяния в его гардеробе не нашлось. Он послушался умного Урбино, который отсоветовал показываться на Капитолии прихрамывающим и в затрапезном виде.
После торжеств на Капитолии Микеланджело посетил Тициана с поздравлениями в Бельведере, где увидел его работу «Даная», осыпаемую золотым дождём Зевса. По лицу автора было видно, что ему не терпелось услышать авторитетное мнение коллеги. Микеланджело отметил великолепную по колориту картину, но дальше не стал вдаваться в тонкости, чтобы неосторожным словом не обидеть и не нарушить душевный покой благородного мастера и человека, привыкшего выслушивать самые лестные отзывы от монархов и князей. Да и не настолько они хорошо знали друг друга, чтобы по-товарищески высказать ему свои критические замечания, которые у него сразу же возникли при рассмотрении картины.
Вернувшись к себе, он отметил в разговоре с Вазари, что превосходно положенные на холст краски — это ещё не живопись.
— Мне искренне жаль венецианских мастеров, — отметил он. — В погоне за красивостью и изощрённой звучностью палитры они жертвуют рисунком.
Верный традициям флорентийской школы Вазари с ним полностью согласился.
Больше двум великим мастерам не довелось повстречаться.
* * *
Живя в Бельведере, Тициан окунулся в атмосферу папского двора, где процветали наушничество, доносительство и зависть. Но для него это не было внове — то же самое ему приходилось видеть и при других европейских дворах. За годы служения своим искусством сильным мира сего у него выработалось противоядие против дворцовых козней и интриг. Он искренне позавидовал Микеланджело, который позволял себе роскошь жить на отшибе в гордом одиночестве и чувствовать себя независимым от капризов власть имущих.
Тициан написал в общей сложности три портрета Павла, принадлежащих ныне музеям Неаполя, Вены и Петербурга. Существует легенда о том, что когда один из портретов стоял на мольберте в дворцовом зале, папа на нём выглядел настолько выразительно и естественно, что придворные и челядь, проходя мимо, принимали стоящий холст за живого Павла III и преклоняли перед ним колена.
Побывав во Флоренции, Тициан безусловно видел прекрасный групповой портрет кисти Рафаэля, изобразившего на холсте папу Льва X в окружении двух кузенов-кардиналов. Ему захотелось сделать семейный портрет Павла III. Работая на папу, он втайне надеялся, что тот предоставит его сыну Помпонио обещанную выгодную должность.
Конец пребывания Тициана в Риме был неожиданно омрачён неприятным казусом. Наступил день презентации последней картины, на которую собрались близкие папы и некоторые придворные. Когда Тициан снял покрывало, перед собравшимися предстал холст, на котором Павел был изображён с двумя взрослыми внуками, один из которых стал зятем Карла V. Наступило гробовое молчание. Все присутствующие в зале смотрели не столько на картину, сколько на папу в желании понять его отношение к работе знаменитого мастера.
Взглянув на картину, Павел обомлел, увидев в глазах ненавидевших друг друга внуков жадный блеск. А чего стоят его сгорбленная фигура и песочные часы на столике, отсчитывающие отпущенное ему время, или высовывающаяся костлявая рука из-под красной бархатной накидки, как когтистая лапа стервятника! Любимый художник Карла V сыграл с ним злую шутку, вскрыв всю его подноготную.
Не промолвив ни слова, Павел удалился, а через секретаря передал художнику, что от заказа отказывается и больше в его услугах не нуждается. Оскорблённый Тициан тотчас покинул Рим, заявив в сердцах, что больше он сюда ни ногой.
Почётный гражданин Рима вернулся ни с чем к себе в Венецию, где его авторитет был непререкаем.
Глава XXVIII НОВЫЙ ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Зачем печалюсь я, объят тоской,
А сердце гложут горькие сомненья.
Да разве смог бы я познать горенье,
Когда б не дар, ниспосланный Тобой?(301)
От папы поступила новая просьба — к предстоящему приезду в Рим императора Карла V необходимо было привести в порядок и обустроить Капитолий, который с незапамятных времён оставался главным центром римской общественной жизни, Микеланджело с радостью принялся за новое дело, вспомнив, как около полувека назад впервые оказался в Риме и с высоты Капитолийского холма любовался панорамой Вечного города с его Колизеем, форумами, акведуками, другими античными памятниками, впечатляющими своими габаритами.
По папскому приказу на Капитолий была перенесена с Латеранского холма конная статуя императора Марка Аврелия, а для восхождения на Капитолий возведена великолепная лестница, названная римлянами Кордоната, так как по ней на холм могли взобраться даже люди, страдающие одышкой. Для сравнения обратим внимание на расположенную рядом крутую лестницу, ведущую к церкви Санта Мария д’Арачели. Она насчитывает 124 ступени и была построена в 1348 году; первым по ней поднялся народный трибун Кола ди Риенцо.
Работа на Капитолии началась в 1544 году и с перерывами заняла целое десятилетие. Микеланджело загорелся идеей, поддержанной папой, провести полную реконструкцию Капитолийского холма, своего рода римского Акрополя, где недавно он был торжественно провозглашён почётным гражданином Рима. К работе по реконструкции холма он привлёк друга Кавальери, который проявил себя с наилучшей стороны, и ему было поручено руководство главными работами. Молодой человек каждое утро заезжал в пролётке за мастером, чтобы вместе ехать на Капитолий.
Благодаря гениальному прозрению Микеланджело открывает новые перспективы в зодчестве, создавая ансамбль зданий и вскрывая новые отношения между отдельным зданием и площадью, что было тогда абсолютным нововведением в практику градостроения. По его замыслу площади придана трапециевидная форма, торцовая часть которой ограничена старым дворцом Сенаторов. Торжественная лестница, ведущая во дворец, и чаша фонтана перед ним выполнены по рисункам Микеланджело. По бокам он разместил дворец Консерваторов и возводимый Капитолийский дворец. Эти два боковых здания подчёркивают пространственную перспективу, а их поворот составляет 80 градусов относительно оси центрального дворца Сенаторов. Они сходятся под углом к недавно возведённой великолепной парадной лестнице. Но люди не замечают никакого отклонения по оси и воспринимают площадь как правильный прямоугольник, благодаря чему её размеры возрастают и она представляется более широкой и свободной. Но главное отличие площади в том, что с неё открывается панорама на простирающийся внизу город, а сама она наполняется движением воздуха и становится частью городского пейзажа. Слияние архитектуры с пейзажем, которое было незнакомо зодчим Возрождения, является выдающимся завоеванием Микеланджело-архитектора.
Неизгладимое впечатление получает зритель, поднимающийся по расширяющимся ступеням лестницы Кордоната. Перед его взором вырастает конная статуя Марка Аврелия, парящая над площадью как символ былого величия Рима. Особую праздничность площади Капитолия придаёт её покрытие плитами эллиптического орнамента, повторяющего звёздчатую форму площадки, на которой установлена конная скульптура Марка Аврелия. Статуя была позолоченной, и в народе бытовало поверье, что, когда к ней вернётся вся позолота, наступит конец света. Видимо, чтобы не волновать людей, а главное, уберечь античный шедевр от воздействия атмосферных осадков, статуя была установлена под крышей музея, а её место на площади в конце прошлого века заняла точная копия на пьедестале по рисунку Микеланджело, ставшая подлинным центром пространства.
Отныне Капитолийский холм как одна из самых главных достопримечательностей Рима несёт на себе отпечаток гения Микеланджело.
* * *
В сентябре 1546 года умер Антонио Сангалло Младший, который возглавил строительство собора Святого Петра после Рафаэля и Перуцци. За четверть века работы мало продвинулись, хотя поступления из папской казны не прекращались. Вскоре Павел III пригласил Микеланджело взглянуть и оценить оставленный покойным архитектором макет собора, который обошёлся казне в три тысячи золотых дукатов.
Микеланджело уважил просьбу папы и за две недели сделал новый макет, выставив счёт на 25 дукатов. Папа был потрясён, увидев великолепный макет, исполненный с такой быстротой и за столь незначительную цену. Но на его предложение возглавить строительство собора мастер ответил отказом, заявив, что архитектура — не его дело. Как в своё время Юлию II, Павлу III всё же удалось посулами и уговорами добиться согласия упрямого мастера.
Первого января 1547 года своим бреве Павел III назначил Микеланджело префектом и главным архитектором строящегося собора с правом возводить и сносить что угодно, увеличивать, уменьшать и видоизменять проект как ему заблагорассудится, и подчинил его воле всех помощников. Восприняв это назначение как знак свыше, Микеланджело отказался от гонорара, что породило немало пересудов среди собратьев по искусству. Особенно изгалялся небезызвестный Бандинелли, считавший, что отказ Микеланджело от жалованья — это всего лишь «хитрый тактический ход, продиктованный его непомерной жадностью».85
Полностью доверяя своему главному архитектору, папа попросил его взглянуть свежим глазом на недостроенный покойным Сангалло Младшим дворец Фарнезе. Микеланджело критически высказался о проекте. Тогда по распоряжению папы был объявлен конкурс на завершение строительства дворца, принадлежавшего папскому семейству. В конкурсе приняли участие Вазари, ученик Рафаэля Перин дель Вага и ещё несколько мастеров. Вздумал в нём участвовать и дель Пьомбо, неожиданно возомнивший себя зодчим.
Победителем оказался Микеланджело. Он увеличил высоту парадного этажа и поднял вверх главный межэтажный карниз, благодаря чему здание приобрело большую внушительность и монументальность. При завершении строительства он использовал травертин, придающий светотеневые эффекты архитектурным формам, особенно окнам последнего этажа дворца. Они помещены на консоли и украшены арочным фронтоном с фризом и фестонами, что в ту пору для Рима было в новинку. Венчающий дворец великолепный карниз до сих пор считается одной из главных римских достопримечательностей.
Эти новации не всеми тогда были поняты и оценены, хотя Микеланджело пришлось вступить в состязание с мастерами намного моложе его. Он попытался здесь решить сложную задачу примирения новых форм со старыми, отживающими. Выступая в проекте хранителем славных заветов классического наследия, он в то же время расшатывал устои старого стиля, расчищая дорогу новым идеям и новым творцам. В последние годы жизни великий старик пошёл нога в ногу рядом с молодой порослью.
Одно из последних творений Микеланджело — дворец Фарнезе — пополнило перечень самых значительных архитектурных памятников, придающих Риму его неповторимое своеобразие. Не случайно долгие годы во дворце размещалась Академия наук Италии, а теперь там располагается посольство Франции. У мастера была задумка соединить дворец Фарнезе, чьи сады спускаются к Тибру, на другой стороне которого стоит приземистое строение, построенное по проекту Перуцци для банкира Агостино Киджи, чьи интерьеры расписаны фресками Рафаэлем. Теперь эта великолепная вилла перешла в собственность папского семейства и носит название Фарнезина.
Увлечённый идеей включения архитектуры в пейзаж, Микеланджело предложил соединить посредством моста через Тибр в единый ансамбль два дворца, включив в него только что найденные в термах Каракаллы скульптуры Фарнезского быка и Геракла, относящиеся к IV веку до н. э. Он загорелся проектом, в котором стремился раскрыть наличие неразрывной связи идеалов Возрождения с античностью. Ему уже виделось, как величественный мост украсят другие античные изваяния. Но этот смелый замысел так и остался non finite, а два античных шедевра оказались в Парме, вотчине семейства Фарнезе, а затем в Неаполе. Туда же ушёл и злополучный тициановский портрет Павла III с внуками (ныне в музее Каподимонте).
* * *
Ему было за семьдесят, а он взвалил на себя новое тяжёлое бремя, которое будет давить на него в течение семнадцати лет — а это были годы невосполнимых потерь дорогих ему людей и близких. Кисть и резец были им окончательно заброшены, и все его мысли были только об архитектуре. Ему представлялось, что именно в этом виде искусства он ещё сможет на исходе сил осуществить необъятность своего мировосприятия, лишённого условностей и навязанных реальностью схем.
На первых порах, как только он ступил ногой на стройплощадку собора, ему пришлось столкнуться с открытой неприязнью «сангалловой клики» (cricca sangallesca), состоящей из целой армии подрядчиков, строительных рабочих, каменотёсов и поставщиков, где тон задавал некий Нанни ди Баччо Биджо, личность злобная и коварная, который принимал в штыки любое указание нового главного архитектора, заручившись поддержкой некоторых влиятельных лиц, входящих в попечительский совет собора и близких к Римской курии.
После тщательного осмотра сделанного за последние годы Микеланджело обнаружил ничем не оправданные отклонения от первоначального проекта Браманте, который был им высоко оценён несмотря на неприязнь, которую он испытывал к покойному архитектору. В письме Амманнати, с которым был связан по работе над проектом парадной лестницы в библиотеке Лауренциана, он пишет: «Нельзя оспаривать превосходство Браманте над всеми архитекторами, начиная с древних. Он первый составил план для собора Святого Петра, не запутанный, а простой и ясный, светлый и со всех сторон открытый, так что не портит ни одной части Апостольского дворца; его считали чудной вещью, как это и сейчас ещё видно. А поэтому всякий, кто уклоняется от указаний Браманте, как это сделал Сангалло, удаляется от истины. Во-первых, Сангалло, округляя постройку с внешней стороны, лишает её того света, который она имеет у Браманте. Сверху и снизу у Сангалло множество тёмных углов и закоулков, которые могли бы служить грязным намерениям. Можно подумать, что он был тайным пособником бандитов, фальшивомонетчиков, беременных монахинь и других негодяев. Вечером после закрытия храма потребуется уйма служителей, чтобы обыскать все углы и выявить прячущихся там бродяг. Кроме того, вопреки замыслу Браманте по плану Сангалло необходимо будет снести капеллу Паолина и другие дворцовые помещения. Боюсь, что не пощадят и Сикстинскую капеллу. Готовая внешняя часть собора, как говорят, уже обошлась в 100 тысяч дукатов, хотя её можно было построить тысяч за 16…»
Вскрытые им недочёты, чрезмерное расходование отпущенных средств на строительные работы и поставка некачественного материала вызвали бурю негодования среди подрядчиков, которые грозились подать на него в суд за клевету. Но Микеланджело стойко выдержал первую волну яростных нападок. Ему удалось прогнать со стройки всех воров и грабителей, которые годами безнаказанно жульничали и мошенничали. А первым распоряжением его как главного архитектора был разбор и снос большей части того, что было сделано предшественниками.
Переосмыслив добротный проект Браманте, Микеланджело пришёл к решению, которое синтезирует форму греческого креста с вписанным в него квадратом, как это видно на гравюре Этьена Дюперака, выполненной в 1569 году. Разработанный им проект собора означал разрыв с прежними традициями, основанными на трудах Витрувия. Им предусматривалось создание более динамичного интерьера за счёт усложнения плана. Мощный шестиколонный портик и колоссальные пилястры коринфского ордера должны были придать массивным каменным стенам впечатление их устремлённости вверх. Кульминацией всего сооружения по его проекту является мощный купол, укреплённый тяжёлыми рёбрами, которые сходятся к фонарю. Выполненная из травертина полусфера гигантского купола опирается на барабан, украшенный сдвоенными гладкоствольными колоннами, дополненными пилястрами и окнами. Возведение подкупольного барабана началось в 1564 году, ещё при жизни автора, который в ходе работ внёс ряд изменений в оконные фронтоны, чередуя треугольную форму с лучковой. До последнего момента Микеланджело вносил правку в свой проект, появляясь чуть не каждый день на стройке, несмотря на непогоду. Так, в один из наездов он обнаружил, что рабочие неправильно выложили centina — крепёжную дугу. Он устроил им разнос, заставив всё переделать, иначе, как он выразился, умрёт от стыда.
Приведём несколько цифр, которые убедительнее слов расскажут о грандиозности микеланджеловского проекта. Поскольку купол задуман сдвоенным, его внутренняя окружность составляет 42,7 метра, а внешняя — 58,00. Высота от пола собора до венчающего креста равна 135,28 метра. Высота барабана, то есть цилиндрической части, равна 14 метрам, украшающие его окна имеют габариты 5 x 2,70 метра. Круглый фонарь над куполом может вместить внутри 16 человек.
Собор начал обретать ощутимые монументальные формы. Опасаясь, что после его смерти злопыхатели из «сангалловой клики» исказят проект, в 1558 году Микеланджело приступил к изготовлению деревянной модели купола, на чём настаивали друзья. Видя его немощь и опасаясь, что в любую минуту он может снова слечь, они просили великого друга не отвлекаться на другие дела и сосредоточить оставшиеся силы на соборном куполе, который, судя по его рисункам, должен был стать «восьмым чудом света».
В 1561 году макет был готов (Рим, музеи Ватикана). Образцом для него послужил купол Брунеллески над Санта Мария дель Фьоре. Но вместо стрельчатой Микеланджело избрал полусферическую форму сдвоенного купола, а свои расчёты кривизны купола проводил по чертежам Брунеллески, копии с которых ему раздобыл племянник Лионардо. Известно также, что прежде чем остановиться на куполе Брунеллески, им был внимательно изучен купол Баптистерия в Пизе по проекту Диотисальви, являющийся выдающимся памятником итальянской архитектуры XII века.
Купол над собором Святого Петра стал объектом исследований и замеров. Как показали расчёты, пропорции купола и барабана равны, хотя масса барабана кажется придавленной устремлённым вверх куполом. Это оптическое впечатление создано суммой применённых при строительстве архитектурных деталей и элементов, благодаря чему достигнута совершенная гармония между пластикой и техникой.
* * *
Недовольство его действиями на стройке собора росло, а изгнанные им с позором вороватые подрядчики затеяли против него тяжбу, доказывая свою правоту. Но обладая полнотой власти в соответствии с папским указом, он не обращал внимания на развязанную против него кампанию лжи и надуманных обвинений, пока над его головой не прогремел гром.
В Риме неожиданно объявилась Виттория Колонна. Бросив все дела, он помчался к её дому. Но его к ней не допустили, поскольку, как сказал врач, маркиза никого не узнаёт. Дня через два он вновь попытался проникнуть к ней. На сей раз ему разрешили пройти к пришедшей в себя Виттории. Её трудно было узнать — такой неизгладимый след оставила на ней болезнь. Едва сдерживая рыдания, он упал перед её ложем на колени, и по измождённому лицу маркизы пробежало подобие улыбки узнавания. Не в силах произнести ни слова, она слабеющей рукой указала ему на висящее на стене в золочёной багетовой раме Распятие, когда-то подаренный им рисунок. Но что этим ей хотелось сказать на прощанье, так и осталось в тайне. 24 февраля 1547 года её не стало. Для Микеланджело это была невосполнимая утрата. Он лишился самого дорогого существа, жизненной опоры…
Она угасла, и её уж нет. И красоту божественной синьоры Всю поглотили взоры, И им помехой не была вуаль. Померкнул белый свет, И воцарилась на земле печаль. В заоблачную даль Ушла душа навеки, А имя на устах. Оно звучит как Божье откровенье. Хотя сомкнулись веки, Но девы глас в стихах — В них кладезь святости и вдохновенья. Не будет злу прощенья. Лишившись дорогого существа, Мир сирый подурнел без божества (265).С её уходом Микеланджело долго не мог прийти в себя. Как пишет Кондиви, особенно он терзался, что не прикоснулся к челу покойной, поцеловав ей только руку.
Преследовавшая его смерть не унималась. Почти одновременно не стало Дель Риччо и дель Пьомбо, с которыми он когда-то дружил, пока оба не предали его. Но узнав о их кончине, он искренне опечалился, так как с ними были связаны многие радостные моменты жизни, а такое высоко ценится, и былые обиды и огорчения кажутся никчемными в преддверии собственной смерти, следовавшей за ним по пятам.
Пришло известие о смерти короля Франциска I, а с ним ушла последняя надежда увидеть Флоренцию свободной. В своё время через друга Строцци Микеланджело пообещал французскому королю соорудить ему за свой счёт конную статую и водрузить её перед дворцом Синьории, если тот освободит родной город от тирана. До последнего времени он лелеял мечту о том, что поддержанный Павлом III — а о его намерениях он был хорошо осведомлён — король двинет войско из Ломбардии, где были расквартированы его основные силы, и освободит Тоскану от власти ненавистных Медичи.
Тогда же из Германии пришла весть о смерти Лютера. Он не разделял его убеждений, но уважал как личность за величайшее мужество, с которым убеждённый в своей правоте августинский монах выступил против официальной церкви, а высказанные им идеи потрясли весь христианский мир.
* * *
Скандалы на стройке собора не прекращались, принося Микеланджело немалые огорчения. Не унимался крикливый Биджо, как архитектор, проявивший себя не с лучшей стороны. Как вспоминает Вазари, однажды он с Микеланджело ехал в пролётке по новому мосту через Тибр, построенному по проекту Биджо.
— Ты погляди, — промолвил вдруг Микеланджело, — как балки ходуном ходят. Мост вот-вот развалится.
Он оказался провидцем — вскоре мост рухнул, что должно бы приструнить заносчивого Биджо и охладить его чрезмерный пыл. Но этот горе-архитектор не унимался, являясь главным заводилой козней против Микеланджело. Верный Урбино уже пригрозил изрядно его поколотить, если тот не угомонится.
Непросто складывались последние годы и для папы Павла III, чьё семейство походило на растревоженное осиное гнездо. Особые неприятности приносил ему беспутный сын Пьерлуиджи, развратник и злодей, с которым у Микеланджело возникли трения из-за причитающихся ему выплат за проезд по мосту через По под Пьяченцей. Папа умер 10 ноября 1549 года, и это была большая потеря для Микеланджело в годы разгула клерикальной реакции. У Павла он постоянно находил поддержку и мог целиком отдаваться делу, не обращая внимания на непрекращающиеся козни врагов.
От грустных мыслей его отвлёк приезд Вазари, который прибыл в Рим не с пустыми руками. Только что вышел из печати его фундаментальный труд «Жизнеописания», и один из первых экземпляров, ещё пахнущий типографской краской, был вручён Микеланджело с дарственной надписью. Получив в подарок увесистый том и полистав его, Микеланджело был растроган до глубины души, увидев, что ему посвящено гораздо больше страниц в тексте, нежели его главным соперникам Леонардо и Рафаэлю.
Не со всеми оценками он был согласен, а некоторые утверждения автора вызвали у него улыбку. Вазари пишет, что Микеланджело родился «под счастливой звездой», хотя вряд ли кому выпала такая тягостная доля, терзавшая душу мастера всю жизнь. Его особенно тронули слова автора в заключительной части повествования, где он признаёт, что «старался всё описать сообразно с правдой и часто от трудностей приходил в отчаяние». Это чувство как никому хорошо было знакомо Микеланджело.
К Вазари у него было двоякое отношение. С одной стороны, он его искренне любил за острый ум и преданность искусству, ласково называя Джорджетто или Джорджино. С другой — порицал его сервильность и угодливость сильным мира сего, которая часто раздражала, и он не скрывал своего неприятия такого поведения, что нередко приводило к ссорам. Но в знак благодарности за столь ценное подношение он посвятил Вазари проникновенный сонет, в котором воздаётся должное его беспримерному подвигу во славу итальянского искусства:
Вы красками доказывали смело Искусства власть в прекраснейших вещах, С природой уравняв его в правах И уязвив гордячку столь умело. Хотя и ныне многотрудно дело, Вы поразили мудростью в словах, И вашим сочиненьям жить в веках, Чтоб прародительницу зависть ела. Её красу никто не смог затмить, Терпя провал в попытках неизменно; Ведь тлен — удел всех жителей земли. Но вы сумели память воскресить, Поведав о былом так вдохновенно, Что для себя бессмертье обрели (277).* * *
Новым папой стал ровесник Микеланджело римлянин Джованни Мария дель Монте, принявший имя Юлий III. В отличие от честолюбивого предшественника он думал только об удовольствиях, испытывая сильное влечение к одному восемнадцатилетнему юнцу, которого сделал кардиналом. Юлий III сохранил для великого мастера motuproprio, то есть закреплённое декретом высшее расположение и доверие. Это было для Микеланджело весьма важно, поскольку число завистников и злопыхателей росло и вредило делу.
Считается, что ценитель искусства и поэзии Юлий был последним папой-гуманистом, который испытывал к Микеланджело глубокое уважение и любовь. Папа был большим фантазёром и как-то сказал мастеру, что если тот умрёт раньше, то он распорядится забальзамировать тело и будет держать подле себя мумию как дорогую реликвию. Он постоянно требовал, чтобы обожаемый мастер находился рядом, а Микеланджело неизменно доказывал ему, что приносит гораздо больше пользы, находясь в мастерской или на стройке, нежели стоит в толпе льстивых придворных, рассуждения которых вызывали у него тошноту и выбивали из колеи.
Однажды его позабавило, как на замечание одного лизоблюда о том, какую тяжёлую ношу взвалил на себя папа, радея о мире, Юлий III ответил: «Аn nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?» — «Разве ты не знаешь, сын мой, как мало надо ума, чтобы править миром?» Он действительно правил играючи, не задумываясь особо о последствиях своей политики. Любя задиристого мастера, папа сносил любую его дерзость и не обращал внимания, если тот забывал снять берет и преклонить перед ним колено. Более того, он не поддался на льстивое послание Аретино, который снова принялся уговаривать папу сбить алтарную фреску, оскорбляющую чувства истинных христиан.
Привязанность Юлия III к Микеланджело помогала сдерживать непрекращающиеся нападки недругов. Группа кардиналов из попечительского совета во главе с решительным Червини (будущим папой Марцеллом II) затеяла тяжбу по поводу нецелевого расходования отпущенных на строительство средств.
В отличие от недалёкого эпикурейца-папы кардинал Червини был начитан, образован и умён. Как-то в беседе с ним Микеланджело узнал, что покойный отец кардинала был когда-то учеником школы ваяния в садах Сан Марко и поведал сыну о том, как сам Лоренцо Великолепный обратил внимание на юного отрока и приблизил к себе. Так между ними завязались добрые отношения, хотя в деловых вопросах Червини был строг и непреклонен, несмотря на личные симпатии к тому или иному лицу.
Чтобы ускорить ход работ, в помощники Микеланджело был назначен молодой архитектор Пирро Лигорио, который докучал своей болтовней, а на деле оказался жалкой посредственностью. Всё это отвлекало от истинных дел, а тут подоспело и новое разбирательство. Когда кардинал Червини выразил удивление по поводу трёх окон, прорубленных на своде, Микеланджело спокойно ему ответил:
— Я не должен и не собираюсь в чём-то оправдываться перед Вашим преосвященством. Моя обязанность заниматься делом, а ваша — вовремя снабжать стройку деньгами и защитить её от жуликов и мошенников.
Присутствовавший при разговоре папа Юлий III постарался успокоить мастера, а кардиналу пришлось проглотить горькую пилюлю, но обиду он постарался простить, настолько велико было его уважение к знаменитому мастеру, несмотря на его вспыльчивость.
Пока он спорил с членами попечительского совета и что-то доказывал, его не оставляли мысли о доме. Он дал указание братьям Джовансимоне и Сиджисмондо оставить, наконец, ветхий отчий дом — эту «мышиную нору», как он её называл, и приобрести на присланные им деньги достойное их знатного рода жилище. Братьями был приобретён приличный трёхэтажный особняк с внутренней потайной лестницей в том же квартале Санта Кроче на улице Гибеллина, одной из центральных в городе, куда будет не стыдно привести молодую невестку, если племянник Лионардо все-таки надумает жениться.
Его давно занимал вопрос женитьбы племянника, которому он не уставал давать советы, кого ему следует выбрать в жёны. «Не хочу, — писал он племяннику, — чтобы наш род угас с нами. Я понимаю, конечно, что мир не рухнет, если ты останешься холостяком, но ведь каждая живая тварь стремится иметь потомство… Смотри, чтобы твоя избранница была не только доброго нрава, но и хорошего здоровья». Напоминая Лионардо о необходимости заботиться о собственном здоровье, он писал, что в мире куда больше вдов, нежели вдовцов. «Потрудись найти невесту, — поучал он, — которая не гнушалась бы в случае нужды мыть посуду и вести хозяйство… Что касается красоты, то ты сам не первый красавец во Флоренции и не очень-то об этом беспокойся, лишь бы только твоя суженая не была калекой и уродом».
Недавно через Урбино он узнал о разгульной жизни молодого оболтуса. Рабочие на стройке немало порассказали о похождениях Лионардо, от которого забеременела дочь одного каменотёса. Микеланджело был вне себя от ярости, пригрозив лишить племянника наследства, отдав все деньги сиротам и больницам. Угроза возымела действие, и вскоре рассерженному дяде стало известно, что свой выбор Лионардо остановил на юной Кассандре из благородного семейства Ридольфи, «девушке доброй и смышлёной», как ему было отписано братьями. Правда, ничего не было сказано о красоте невесты, что Микеланджело вполне устраивало, так как его племянник тоже не был Аполлоном.
В этой истории его поразили мистическое совпадение и даже знак судьбы. Когда-то по настоянию Лоренцо Великолепного его любимая дочь породнилась с семейством Ридольфи, а теперь единокровный племянник и наследник Микеланджело вступил в косвенное родство с Контессиной Медичи. На свадьбу он подарил Лионардо полторы тысячи дукатов и имение, а Кассандре — жемчужное ожерелье. После свадьбы Лионардо прибыл в Рим, где вместе со своим великим дядей был принят папой Юлием III, получив из рук понтифика медаль с его изображением. Довольный приёмом племянник ускакал к себе с целым ворохом наставленний.
— Когда пишешь мне, — строго поучал его дядя на прощанье, — то оставь, пожалуйста, дурную привычку адресовать письма на имя Микеланджело Буонарроти Симони, скульптора в Риме. Знай, что во всей Италии и в Европе я известен как Микеланджело, и этого вполне достаточно.
Особняк, где Лионардо обосновался с женой, был перестроен и расширен в XVII веке, а в 1858 году последний представитель рода подарил его Флоренции. Ныне там размещается музей «Дом Буонарроти», где хранятся редчайшие оригиналы некоторых ранних работ Микеланджело, а также чертежи и рисунки мастера до его окончательного переезда в Рим.
* * *
Единственным человеком, кто скрашивал его одиночество, ухаживал за ним и поддерживал жизненный тонус, был неунывающий Урбино. С ним Микеланджело был как за каменной стеной. Помощник был молчалив и неразговорчив, что особенно ценил в нём мастер. Он спокойно и упрямо гнул свою линию, что, как выяснялось, шло лишь на пользу дела. Микеланджело мирился с его чудачествами и упрямством, а однажды спросил:
— Когда умру, что будешь делать?
— Наймусь на службу к кому-нибудь, — ответил тот не раздумывая.
Нет, такого он никак не мог допустить и тут же выдал верному помощнику тысячу золотых дукатов и переписал на его имя одно из загородных имений. Но 3 января 1556 года прослуживший ему четверть века Урбино неожиданно в одночасье скончался. Как констатировали врачи, не выдержало сердце, хотя покойный никогда на него не жаловался. В одном из писем к Вазари Микеланджело пишет: «Вы знаете, как умер Урбино… Живя, он поддерживал мою жизнь, а умерев, научил меня умирать с сознанием выполненного долга и спокойно покинуть грешный мир… Я его сделал богатым и надеялся, что он будет моим посохом и отдохновением в старости. Но он ушёл, и мне не осталось иной надежды, как только повстречать его в раю. Большая часть меня ушла вместе с ним, и мне ничего не осталось, кроме безутешного страдания».
На похороны прибыла Корнелия из Кастельдуранте, чтобы проводить в последний путь своего «непутёвого», как она выразилась, мужа. Микеланджело позаботился о ней и её подрастающем сыне, которому он приходился крёстным отцом. В его тетради появилась запись: «Такой утрате не грозит забвенье» (XLI).
Передавая вещи покойного слуги его вдове, Микеланджело обнаружил распечатанный конверт с письмом Виттории, в котором она сообщила о своей болезни и просила великого друга навестить её в монастыре. Помянув в душе недобрым словом покойного, Микеланджело долго не мог успокоиться. Но потерянного не вернёшь. Да и чем бы он мог помочь больной подруге, отправившись в Витербо? Он вспомнил, как долго не мог прийти в себя после болезни. В те горестные дни единственным для него утешением была мысль о скорой встрече с обожаемой донной…
И сам я вскоре кучкой пепла буду. Угасло пламя, с ним и мой накал. Я думал, час и для меня настал, — Видать, спасеньем я обязан чуду. Покуда жив, вовеки не забуду, Как кроткий лик печально угасал. Напрасно я к Всевышнему взывал — Неотвратим конец для всех и всюду. Пора и мне переступить порог. Лишившись жизнетворного сиянья, Я одиноко чахну день за днём, В груди чуть тлеет слабый уголёк. Всё станет прахом, если на прощанье Господь не одарит меня огнём (266).Вскоре ему стало известно, что у него появился ещё один биограф. Видимо, по поручению папы Юлия III бывший ученик, маркизанец Асканио Кондиви, взялся за его жизнеописание, проявляя завидную прыть при напоминании мастеру о различных эпизодах его жизни и вызывая его тем самым на разговор о былом.
Кондиви было под тридцать, когда он начал писать биографию бывшего учителя. К тому времени он был женат на племяннице известного гуманиста и переводчика «Энеиды» Аннибале Каро, чьи работы были хорошо известны Микеланджело, и с ним переписывалась его покойная подруга Виттория Колонна. Хотя в скульптуре бывший ученик себя не проявил, старый мастер проникся к нему доверием, а по вечерам, сидя у камина, охотно делился воспоминаниями о прошлом. В старости отдельные страницы былого оживали в памяти так ярко и отчётливо, словно это происходило с ним совсем недавно, и грели душу. Особенно он любил вспоминать свою дружбу с каменотёсом Тополино, моной Маргеритой и их сыновьями, когда им были получены первые навыки работы с камнем. Но некоторые эпизоды в памяти были скрыты плотной завесой забвения, и если вдруг всплывали, то вызывали душевную боль и бессонницу…
Я ныне чувствую, вконец устал. Хотя на крыльях и взмываю смело, Но пуст и чист листок бумаги белой, И лишь в слезах топлю мечты провал (271).Иногда дотошный биограф старался вторгнуться в некоторые эпизоды личной жизни своего героя, но Микеланджело замыкался, давая понять, что говорить на затронутую тему не расположен. Так было, когда биограф напомнил о неприятном эпизоде с друзьями, вызванными в Рим в помощь при работе над росписью плафона Сикстинской капеллы. Микеланджело недовольно прервал разговор и поднялся к себе наверх.
Но порой он сам принимался диктовать некоторые воспоминания, чтобы несколько сдержать богатое воображение прыткого биографа, который пытался перещеголять всеми признанного Вазари. Соперничество между ними изрядно забавляло Микеланджело. Но тайные свои мысли он им не поверял, не очень веря, что молодые люди с их максимализмом смогут правильно его понять.
Если говорить о привязанностях Микеланджело, то в гораздо большей степени, как им было сказано Кондиви, он тяготел к великим флорентийцам Кватроченто, нежели к современным ему мастерам в их стремлении к чисто внешнему украшательству. Выше отмечалось, с каким пиететом он относился к простой, по-детски наивной и пронизанной подлинно христианским духом живописи фра Беато Анджелико. То же самое можно сказать и о Луке делла Роббиа, в чьих голубых глазурях заключена вера в человека, которая никогда не покидала Микеланджело.
Кондиви торопился, словно предчувствуя, что дни его сочтены, и свои мемуары опубликовал в 1553 году. Микеланджело полюбил славного и начитанного биографа. Он даже вопреки своей неприязни к Римской курии уважил его просьбу похлопотать перед статс-секретарём кардиналом Карло Борромео об открытии в Риме прихода для уроженцев городка Ри, — патрансоне в области Марке, откуда был родом сам Кондиви.
В отличие от Кондиви, посвятившего труд своему покровителю Юлию III, Вазари, который также оказался приближенным к папскому двору, считал правящего понтифика человеком недалёким, капризным и малосведущим в искусстве. При подготовке второго издания своих «Жизнеописаний», которые вышли в 1560 году, Вазари почерпнул много полезного из мемуаров соперника, по чьей рукописи, по всей видимости, прошёлся знающий Джаннотти.
* * *
В трудные для него дни Микеланджело помогал новый подмастерье Антонио Франчези, заменивший Урбино. Без посторонней помощи он уже не мог обойтись, так как его мучила каменная болезнь. Бывали дни, когда он с трудом передвигался по дому, а о поездке верхом не могло быть и речи. Чтобы добраться до стройплощадки, где страсти не утихали, приходилось пользоваться услугами нанятого кучера. От боли и отчаяния его не покидали мысли о смерти, усугубляемые старческими недугами.
Утешением для него послужило полученное послание в стихах от давнего друга кардинала Бекадделли из Рагузы (Дубровника), где он временно обосновался по пути на родину из Вены.86 В самой Рагузе образовался даже кружок почитателей великого творца. Микеланджело не замедлил ответить другу в той же поэтической форме:
Мы встретимся на небе, монсиньор, Раз крест и муки были не напрасны. Но здесь хочу я повидать вас страстно, Покуда с жизнью не угаснет взор. Пусть расстоянья, цепи снежных гор И реки нас разъединяют властно, А мы близки сердцами ежечасно, Не изменяя дружбе до сих пор. Осиротев без верного Урбино, Которого слезами не вернуть, Отныне мыслями я только с вами, Хоть слышу, как настойчиво судьбина Повелевает мне закончить путь, Чтоб встретиться с ушедшими друзьями (300).* * *
Папа Юлий III всячески оберегал своего любимца от нападок многочисленных его недругов. Чтобы не отвлекать Микеланджело от работы над собором Святого Петра, он не стал поручать ему возведение своей собственной виллы в Риме, а привлёк к работе Амманнати, который часто обращался за советом к Микеланджело, для которого такие просьбы были докукой, отвлекающей от дел, а времени было в обрез. Теперь на вилле Джулия находится музей этрусского искусства.
В 1555 году Юлий скончался, и новым папой стал кардинал Червини, принявший имя Марцелла II. Многие сторонники реформ забеспокоились, зная решительность папы в борьбе за чистоту веры, но через 22 дня после избрания он скончался. Микеланджело лишился серьёзной поддержки. Его давно беспокоила судьба Карнесекки, друга Виттории Колонна, который томился в казематах замка Святого Ангела в ожидании суда инквизиции над ним. Пользуясь добрым к себе отношением нового папы, Микеланджело успел переговорить с ним о возможности смягчения участи подследственного Карнесекки, но скоропостижная смерть Марцелла II помешала этому.
На папском престоле оказался один из ярых апологетов Контрреформации престарелый кардинал Караффа, ставший теперь Павлом IV. Неаполитанец Караффа был одним из активных сторонников созыва Тридентского собора. Ему принадлежит известное изречение: «Mundus vult decipt, ergo decipiatur» — «Мир желает быть обманутым, значит он будет обманут».
Новый папа был ненамного старше Микеланджело. В отличие от своих предшественников Павла III и Юлия III он не возобновил для Микеланджело motuproprio из-за неприятия им «Страшного суда». Этого папу-фанатика, который основал воинственный монашеский орден театинцев — «верных последователей Божественного Провидения», — римляне люто ненавидели, и когда он скончался, под улюлюканье толпы сбросили его статую с пьедестала на Капитолии, чему не смогли воспрепятствовать перепуганные стражи порядка, а ребятня ещё долго играла оторванной головой статуи, гоняя её как мяч.
Павел IV не вмешивался в строительство собора Святого Петра и поддерживал главного архитектора и руководителя работ, сознавая, что вряд ли кому-либо, кроме Микеланджело, под силу справиться с такой гигантской работой. Что же касается алтарной фрески в Сикстине, то он спал и видел, когда же она будет, наконец, замазана. Опасаясь за её судьбу, Микеланджело уговорил одного из учеников, Даниэле да Вольтерра, прикрыть наготу некоторых персонажей на фреске. Не смея отказать учителю, тот взялся за дело и за столь неблагодарный труд получил от римлян обидное прозвище braghettone — «исподнишник».
Работа над возведением собора Святого Петра продолжалась. Микеланджело перечеркнул всё то, что успел сделать Сангалло Младший, и вернулся к идее Браманте, то есть храму в форме греческого креста с центральнокупольным перекрытием. Впервые такую форму применил Брунеллески при возведении Старой ризницы в церкви Сан Лоренцо во Флоренции. Центрическому плану отдавал предпочтение теоретик искусства и архитектор Альберти, который считал, что сама природа тяготеет к круглой форме, поскольку космос по тогдашним понятиям представлял собой сферу. Известно, что папа Лев X, назначив Рафаэля главным архитектором, решительно высказался за форму латинского креста, что явствует из рисунка нового назначенца, о котором Микеланджело высказался весьма нелестно.
Однажды ему пришлось крупно поспорить с Павлом IV, когда тот решил подарить пришедший в запустение и оставленный доминиканцами монастырь Сан Сильвестро монашескому ордену театинцев, а ради этого вырубить разросшийся парк и построить новую уродливую лестницу, ведущую наверх. Место это было столь дорогим Микеланджело, что он не сдержался и выразил свое резкое несогласие с решением папы.
— Неужели ты не знаешь, — возмутился Павел IV, — что это был рассадник крамолы и безверия? Его надо выкорчевать с корнем.
Тогда же в споре с ним папа грубо и нелестно высказался о маркизе Колонна, назвав её «заблудшей овцой».
Зато полное понимание Микеланджело находил в работе над проектом базилики Санта Мария дельи Анджели, на осуществление которого папой были отпущены из казны значительные средства.
* * *
Последние годы жизни Микеланджело прошли в постоянной борьбе. Хотя его слава достигла апогея и отовсюду приходили восторженные отзывы и лестные предложения, он равнодушно внимал этому, занятый мыслями о соборе Святого Петра. В последние годы его навешали лишь Джанноти, Кавальери, Вазари (глаза и уши ненавистного Козимо Медичи), Челлини, Даниэле да Вольтерра и Тиберио Кальканьи, чьё внимание к себе он высоко ценил. Все они были намного моложе его, их энергия невольно передавалась и ему, а их внимание согревало старику сердце.
Вся Европа выражала ему дань признания и уважения. Чеканились медали с его изображением, копии с произведений мастера шли нарасхват, а он проявлял полное равнодушие и в разговоре с друзьями не скрывал своего желания, чтобы иссяк поток обрушившихся на него похвал, от которого можно свихнуться.
О характерных для позднего Микеланджело настроениях говорит его ответ на полученные от члена Флорентийской академии поэта Никколо Мартелли сонет и восторженные слова о фреске «Страшный суд»: «Ваши слова и сонет, обращённые ко мне, замечательны, и никто не смог бы оказаться настолько привередливым, чтобы найти, к чему в них можно придраться. По правде говоря, мне воздают такую хвалу, будто я заключаю в себе рай; было бы вполне уместно несколько сократить число похвал. Вы вообразили, что я и впрямь тот, каким хотел бы меня видеть Бог. А я бедный малозначащий человек, который изо всех сил трудится в искусстве, данном мне Господом, чтобы продлить, насколько возможно, свою жизнь».
Чего в этом ответе больше — истинного смирения или присущей ему испокон веку гордыни?
Однажды Вазари, посетив его поздно вечером, увидел, как Микеланджело работает над скульптурой «Пьета» в шлеме из картона с прикреплённой к нему горящей свечой. Когда от резкого движения руки свеча упала и свет погас, он сказал:
— Смерть постоянно дёргает меня за полу. Однажды я упаду, как эта свеча, и наступит мрак.
Но он не сдавался и до последнего момента не расставался ни с резцом, ни с пером. Мир для него всё более сужался. Один за другим ушли из жизни оба его младших брата, которых он никогда не любил, в душе презирал, но, верный семейному долгу, всячески поддерживал. Узнав о смерти умершего первым Джовансимоне из короткого письма племянника Лионардо, он пишет ему: «Ты говоришь с большим легкомыслием о кончине твоего дяди и не приводишь никаких подробностей. Хочу напомнить тебе, что он был мой брат».
Для него было важно, чтобы были соблюдены семейные традиции их старинного флорентийского рода, у которого был свой семейный склеп в Санта Кроче. Как явствует из церковного регистра, склеп Буонарроти насчитывает около шестидесяти имён, включая мать, которую Микеланджело почти не помнил, и отца, которого успел проводить в последний путь перед тем, как покинул Флоренцию.
Он замкнулся в одиночестве из-за всесилия своего властного гения и ставшего с годами несносным характера, который редко кому удавалось выдержать. Круг его общения с людьми всё более сужался, и он всё чаще брался за перо:
Сознание неведомой вины Приводит душу в сильное смятенье, Лишая всякой веры во спасенье И омрачая напоследок дни (291).Сменявшие друг друга папы римские понимали мировое значение великого мастера и проявляли беспокойство о его здоровье и безопасности. Ещё Павел III распорядился держать дом мастера на окраине близ колонны Траяна под постоянным надзором и охранять от грабителей — а поживиться там было чем. О сохранности дядиных ценностей беспокоился и племянник, который стал частенько наведываться в Рим под разными благовидными предлогами. То с известием о новом пополнении в его семействе, то с подарками в преддверии наступающих холодов, которые подготовила его заботливая жена для тестя: тёплая куртка, дюжина рубах из тосканского льна и вязаные шерстяные носки. Уж она-то женским чутьём знала, чем можно порадовать старика, страдавшего от озноба даже летом.
Но Лионардо главным образом интересовался состоянием здоровья престарелого дяди и подолгу беседовал с новым врачом Федериго Донати, сменившим покойного добряка Ронтини, который старался его заверить, что пока нет оснований беспокоиться за мастера, который, несмотря на возраст, продолжает плодотворно трудиться и даже позволяет себе ежедневные прогулки верхом.
Появление суетливого племянника, путающегося под ногами и всюду сующего нос, его крайне раздражало, нарушая неспешный образ жизни, когда поутру он привык в тиши обдумать то, чем предстояло заняться днём. А дел в разных концах города было столько, что надобно было с толком распределять тающие с каждым днём силы. По вечерам он трудится над мраморной глыбой, высекая «Оплакивание Христа», или «Пьета» — на сей раз для собственного надгробия. Новая четырёхфигурная композиция показывает, насколько по прошествии лет изменился его взгляд на мир. В отличие от первой прославленной «Пьета» здесь Микеланджело задумал воплотить в мраморе идею о запредельности, которая давно манила его и служила утешением…
Работа продвигалась медленно, так как глыба оказалась неподатливой и с изъяном. Считается, что мрамор был им найден неподалёку среди руин храма Солнца императора Веспасиана. Композиция построена по принципу пирамиды, вершиной которой служит фигура старого фарисея Никодима, тайно посетившего Христа перед арестом, а затем помогавшего снимать его тело с креста. Принято полагать, о чём говорят биографы, что лицо старца Никодима — это автопортрет Микеланджело, каким он выглядел в последние годы.
Мария Магдалина и Богоматерь с трудом удерживают безжизненное тело Христа. Его изогнутый силуэт придаёт сильный эмоциональный настрой всей скульптурной группе. Оставленные незаконченными некоторые части скульптуры, особенно с тыльной стороны, говорят о их намеренной незавершённости — non finito, являющейся если не основным, то основополагающим творческим методом Микеланджело.
Хотя работал он рьяно, подавляя сопротивление упрямой глыбы, из которой под ударами молотка летели искры в стороны, настроение у него было подавленное. Давали знать накопленная усталость и то и дело немеющие руки. Порой, отбросив резец, он оказывался во власти смятения, о чём свидетельствует трёхстишие, написанное на полях одного подготовительного рисунка к «Пьета»:
В унынье рабском, без единой мысли, Душа вся липким страхом обросла, И мне ль божественность ваять в смятенье! (282)В рукописи Джаннотти рассказывается об одном из ночных бдений Микеланджело, когда в минуту нервного срыва он попытался разбить незаконченное изваяние, о чём говорит отсутствующая у фигуры Христа левая нога.
Как-то поздним осенним вечером в дом художника заглянул дежуривший соглядатай, подивившись, что свет в окнах ещё горит. У камина в кресле сидел старый мастер с устало свесившейся рукой. Перед ним почти законченная «Пьета» в окружении зажжённых свечей в канделябрах.
— Поспал бы. Наказание Господне! — пробурчал охранник, стараясь определить, дышит ли мастер. — Который день как сон его неймёт. Врача позвать бы. Не был он сегодня. Пошлю напарника — его черёд.
Удостоверившись, что мастер дышит, он ушёл, тихо прикрыв за собой дверь в мастерскую. В полудрёме Микеланджело слышал чьи-то голоса:
— Безумен он и в детство впал…
— Побольше бы таких безумцев, тогда бы мир куда добрее стал…
От шума захлопнувшейся на ветру ставни Микеланджело очнулся.
— Кто здесь? Лишь ветер воет. Никого. Никак стучат? — и он повернулся к входной двери. — Не заперто — входите!
На пороге появился Вазари.
— Простите, что я в неурочный час.
— Напрасно вы такое говорите. Всегда я рад, Вазари, видеть вас. Закончилось избранье в Ватикане?
— Нет, продолжается ещё конклав.
— Чего ж в колокола бьют горожане? — поинтересовался Микеланджело.
— Вот с этим я помчался к вам стремглав, — ответил, волнуясь, Вазари. — На площадях не утихают сборища, громят съестные склады, жгут дворцы. Особенно усердствуют юнцы.
Микеланджело задумался, обескураженный услышанным.
— Ждал Павел перемен, но был отравлен. Давно у нас пошло движенье вспять. Какой бы ни был новый папа явлен, от Ватикана нам добра не ждать.
Но Вазари с загадочным видом решил отвлечь мастера от грустных мыслей.
— Есть новость, от других весьма отлична, — заявил он, придав голосу значимость. — На предстоящих в Риме торжествах наш князь хотел бы навестить вас лично.
— Чего он вспомнил вдруг о стариках? — подивился Микеланджело. — Не время заниматься пустяками, когда все мысли только о делах. Особу, обожаемую вами, я не приму.
— Князь будет уязвлён, — недовольно заметил Вазари. — Он не заслуживает оскорбленья.
Разговор принял неприятный оборот.
— Не велика беда, — отрезал Микеланджело. — К чему мне он? Собор Петра…
Вазари хотелось рассказать, что князем отпущены значительные средства на обустройство капеллы Медичи, но он решил задеть самую больную струну мастера.
— А как же униженье? Замазана на фреске нагота. Ужель смирились вы с самоуправством, иль вас вконец объяла слепота?
— Молчите! Я подавлен святотатством.
Но Вазари не отступал.
— Послушайте, хоть весть и не нова. Вас дома ждут немалые убытки. Вы, сидя здесь, утратите права на банковские вклады и пожитки.
— Поскольку я не выжил из ума, на родину не может быть возврата, — твёрдо заявил Микеланджело. — Отныне и Флоренция тюрьма. К чему менять темницу в час заката?
Однако гость никак не мог понять упрямства мастера.
— Над вами установлен здесь надзор. Под окнами и у ворот фискалы, как будто вы преступник или вор.
— На них мне обижаться не пристало, — спокойно ответил ему Микеланджело. — Ребята знают, я, как перст, один, и даже помогают мне немножко. То дров наколют — разожгут камин, то принесут воды и рыбу кошкам, хоть никого на помощь не зову.
Вазари вынул из кармана тетрадь и сделал в ней пометку, а затем пояснил:
— Мне надо для издания второго включить о вас ещё одну главу.
— Пишите на здоровье! — искренне пожелал Микеланджело. — Что ж плохого? Всю жизнь я сотворял апофеоз, сподвигнутый надеждой изначально. Но мне шипы достались вместо роз, и гимн звучит, как реквием, печально по всем разбитым в прах былым мечтам.
Продолжая что-то вносить в тетрадь, Вазари сказал:
— О всех твореньях ваших я писал похвально, и первый опус мой известен вам. Рассказ о вашей жизни неприметен.
— Я выразил себя в делах, как мог. Всё остальное — плод досужих сплетен.
— Чем опровергнуть их? Я дал зарок.
— А тем, — ответил Микеланджело, словно диктуя Вазари, сидящему с тетрадью в руках, — что жизнь веду я, как художник, и знаюсь только с кистью и резцом, что дара собственного я заложник и сам себя считаю должником. Всяк человек — великая загадка! Путь к постижению её тернист. Зато у литераторов всё гладко, и не краснеет рукописный лист.
— Затворничество ваше непонятно, — возразил Вазари.
— Что ж непонятного? Жесток наш век, и всякое общенье с ним отвратно. Тщета надежд — мельчает человек, хоть сил ему отпущено стократно. Усмешка старца ныне мой удел.
— А выйдет ли ваш стихотворный сборник? — спросил Вазари, готовый записать ответ.
— Со временем к нему я охладел и на поэзию надел намордник. Но трудно отрешиться целиком — пишу исповедальные сонеты.
— А можно ли взглянуть на них глазком?
— От вас, мой друг, я не таю секреты, — сказал Микеланджело и, вынув из папки исписанный листок, протянул его Вазари.
Подойдя к канделябру с горящими свечами у края стола, тот начал вслух читать сонет, то и дело прерывая чтение и запинаясь, так как плохо разбирал корявый почерк автора:
С годами тяга к жизни всё сильней. Чем дольше прожил — пуще и желанье. Невесело моё существованье, Но медлит смерть прервать теченье дней. На что же уповать душе моей, Коль путь к прозренью дан нам чрез страданья, А страхи или разочарованья На склоне лет становятся острей? Когда за муки бесконечных бдения Тобой вознаграждён, Господь родной, Я обретаю веру на спасенье. Но постарел и выдохся мой гений, И мне давно пора бы на покой — От долгих ожиданий глохнет рвенье (296).Под конец чтения Вазари умолк, еле сдерживая рыданья. Услышав всхлипывания, Микеланджело удивлённо спросил:
— Вазари, плачете вы? Вот те раз!
— Вы за назойливость меня простите…
— Да успокойтесь! — сказал Микеланджело при виде охваченного волнением молодого друга. — Заверяю вас, что князя я приму, раз вы хотите.
Тот поднялся, видимо, удовлетворённый ответом мастера.
— Пойду. Я благодарен вам вдвойне.
Микеланджело проводил его сожалеющим взглядом.
— Чего печётся он о князе-гниде? Осадок неприятный, горько мне. Зачем он вновь напомнил об обиде?
Он встал и подошёл к изваянию.
— Опять с ней время коротать в тиши. Но я у смерти вырву вновь отсрочку, и в жизнеописаньях не спеши, Вазари, мой биограф, ставить точку!
Почувствовав озноб, он подбросил в камин пару поленьев, а за окном не утихал ветер и по крыше барабанил дождь.
— Чего кричу? Ведь жизнь моя прошла, и я девятый разменял десяток. Душа вся липким страхом обросла, и с каждым мигом тает сил остаток.
Он задумался, вспомнив вдруг момент прощания с Витторией Колонна:
— Ушла последняя надежда с ней, как исчезают звёзды с небосклона… Покуда жив, себе я не прощу, что руку лишь поцеловал покойной.
Из груди вдруг вырвался стон.
— Во мне ещё чуть тлеет уголёк. Из праха вышел я и прахом стану. Как я устал носить костей мешок и спину гнуть на благо Ватикану!
Микеланджело стремительно поднялся и подошёл к скульптуре «Пьета».
— Надежду в мраморе я изваял, и вот надгробие почти готово. Но главного я миру не сказал. Упрямый камень, вымолви хоть слово!
Взяв в руки резец, он вдруг почувствовал, как его охватил неистовый гнев.
— Молчишь? Отвечу я. Мой дух восстал, — и отбросив в сторону резец, он схватил молоток. — Долой статичность — истина в движенье! Бросаю вызов злой моей судьбе. Да будет за обман и боль отмщенье, и рано крест мне ставить на себе!
Сильный удар молотка пришёлся по центральной части изваяния. В это время в мастерскую вбежали Джаннотти, врач Донати и ночной сторож.
— Остановитесь! — закричал Джаннотти. — Это преступленье!
— Отдай-ка молот! — сказал сторож. — Не блажи, отец.
— Вы руку подняли на изваянье? — подивился врач Донати, пытаясь нащупать пульс мастера.
— Всех слов мне ненавистнее — «конец», — вымолвил, немного успокоившись, Микеланджело. — Пусть в нас неутолённость жажды знанья! Взвалив на плечи непосильный груз, ужели я не заслужил свободу?
Усадив мастера и отойдя в сторону, врач тихо промолвил:
— Он сам не свой. Я за него боюсь. Таким его не видывал я сроду.
— Племяннику бы надо отписать, — предложил Джаннотти, а ночной сторож заявил, что надо позвать священника.
— Тут недалёко, — заверил он.
Услышав разговор, Микеланджело прервал их рассуждения:
— Мне не о чем с попами толковать. Друзья, не отпевайте раньше срока.
Донати подал ему стакан воды и накрыл ноги пледом.
— Дрожите вы и холодны, как лёд. Вам нужно лечь в постель. Вы нездоровы, — принялся он уговаривать его, как ребёнка.
Испив воды, Микеланджело почувствовал, как совсем обессилел.
— Проникнутся ли пониманьем люди? — вдруг громко спросил он самого себя. — «Всё суета», — изрёк Екклесиаст. История нас всех рассудит и по заслугам каждому воздаст.
Он обвёл невидящим взором собравшихся.
— Пока я у разбитого корыта и загнан жизнью в клетку-конуру, а тайна тайн от глаз моих сокрыта…
Дверь распахнулась, и на пороге объявился гонец.
— Буонарроти! Ждут вас поутру — таков приказ вновь избранного папы.
Микеланджело резко поднялся.
— Всё сызнова. Видать, когда помру, уймутся ненасытные сатрапы. О, если бы я смог…
Он пошатнулся, но сильные руки удержали его. Возникла словно ожившая четырёхфигурная композиция покалеченной «Пьета».
Но впереди ещё были годы труда, страданий и надежд. На этом месте рукопись Джаннотти обрывается.
* * *
Повреждённая скульптура была подарена помощнику Франчези, а тот после смерти автора продал её флорентийскому купцу Бальдини, и под этим именем она часто упоминается в литературе. По заказу Бальдини скульптуру восстановил ученик мастера Тиберио Кальканьи, и она была увезена во Флоренцию.
До середины прошлого столетия «Пьета» являлась подлинным украшением собора Санта Мария дель Фьоре, где она находилась рядом с картиной, на которой изображён Данте с «Божественной комедией» в руке, бюстом Марсилио Фичино и живописью первого учителя Гирландайо. А под куполом собора в 1572-1579 годах была написана фреска «Страшный суд» Вазари и Дзуккари как яркий образец нового направления — маньеризма, за которую обоим крепко бы досталось, если бы её увидел Микеланджело.
Попечительским советом собора было принято весьма спорное решение, вызванное тем, как было сказано, что толпы туристов, привлечённые шедевром Микеланджело, часто создавали помехи для проведения службы. Но это решение было продиктовано также сугубо меркантильными соображениями.
«Пьета» была вынесена и помещена в мезонине музея при соборе. Что греха таить, она там не совсем к месту среди других скульптур, относящихся в основном к флорентийскому Треченто и Кватроченто. А ведь она создавалась как надгробие, и ей изначально предназначалось быть установленной в храме. Это отлично понимали флорентийцы и ещё при жизни великого мастера поместили восстановленную «Пьета» в своём главном соборе, отдавая тем самым дань уважения великому земляку, живущему в изгнании.
Пример оказался заразительным, и вскоре стал платным вход во многие храмы и монастыри, где хранятся ценнейшие художественные творения.
Глава XXIX ВРЕМЯ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ
Не дай погибнуть от молвы худой,
Хоть я не уповаю на прощенье.
Да будет за труды мне снисхожденье,
Чтоб со спокойной умереть душой (301).
Вернёмся на несколько лет назад, когда после тяжёлого заболевания и неприятной истории, случившейся в Риме с Тицианом, Микеланджело особо остро стал ощущать, как отпущенное ему время стремительно убывает, что заставило его задуматься о некоторых незавершённых замыслах. Особенно тревожила мысль о гробнице папы Юлия и перенесённой в трансепт церкви Сан Пьетро ин Винколи статуе Моисея, который одиноко восседал там, вызывая своим присутствием недоумение у мирян, поскольку главной реликвией церкви являются свято хранимые там цепи (vincoli), в которые Ирод заковал апостола Петра.
Он не раз предлагал наследникам папы Юлия передать завершение проекта кому-нибудь из молодых ваятелей, так как ему уже не под силу рубить мрамор. Но те не унимались и стояли на своём, настаивая на незамедлительном завершении работ и ссылаясь на обязательства по договору, по которому были выплачены значительные суммы.
В своё время папе Павлу III удалось лаской и таской ублажить капризных делла Ровере и уладить затянувшуюся тяжбу. Была достигнута договорённость, что многострадальную гробницу украсят три статуи работы Микеланджело, а остальные фигуры по его рисункам будут исполнены другими мастерами. С помощью приглашённых помощников скульптор решил наконец сбросить тяготившее его в течение сорока лет невыносимое бремя, названное «трагедией гробницы», чтобы почувствовать себя свободным от обязательств, навязанных ему, когда он был молод и полон сил. А теперь на старости лет его не оставляли недуги, сомнения и горькие мысли о безвозвратно ушедших годах, потраченных на борьбу с заказчиками и самим собой…
О Боже, кабы молодости знать И если б старость мудрая умела, Светлее было бы теченье дней. Забвенье суеты — вот благодать! А коль творцу в искусстве нет предела, Надежда есть и для души моей? (283)И эта надежда сподвигла его на новое тяжёлое испытание, через которое ему пришлось пройти. Последний проект гробницы отличается от первоначального, вызвавшего восторг папы Юлия II, как небо от земли. В 1545 году семидесятилетний Микеланджело завершил работы в Сан Пьетро ин Винколи на радость наследникам Юлия и своим друзьям. Закончились растянувшаяся на сорок долгих лет эпопея адских мучений, не дававшая ему покоя. Все эти годы, отмеченные трагическими событиями в Италии и Европе, он жил ожиданием прихода пророка-мессии, который принесёт людям свет и освободит от власти зла, но так и не дождался.
В память об этом он решил, хотя бы частично, насколько хватает сил, расплатиться с долгами перед своей совестью и перед искусством. Ради этой цели он вынужден был поступиться своей привычкой работать в одиночестве и смирился с участием в проекте молодых, но достаточно опытных скульпторов.
За два года работы с артелью помощников им был установлен декоративный карниз, который делил всю композицию на две части. Нижняя половина пристенного памятника состоит из четырёх мощных пьедесталов, на которых должны были стоять когда-то фигуры пленников в полный рост. Теперь они украшены перевёрнутыми консолями, которые служат опорой для четырёх герм, которые в древние времена устанавливались как вехи на перекрёстках всех дорог, которые вели в Рим.
Между гермами установлены три ниши. Две боковые из них украшены декоративными арками, которые заняты фигурами двух дочерей коварного Лавана — Лии и Рахили, жены Иакова. Их, как принято считать, изваял сам Микеланджело. Лия, стоящая справа, олицетворяет Жизнь деятельную и держит в руке зеркало, которое, по мысли автора, отражает людские деяния и пороки. Её сестра Рахиль выражает Жизнь созерцательную. Преклонив колено, она молитвенно сложила руки, обратив взор к небу. Обе эти фигуры служат противовесом мощному «Моисею», но он своей исходящей изнутри энергией их подавляет, и трудно поверить, что эти три изваяния сотворены одной и той же рукой.
Широкий прямоугольный проход, зияющий между двумя арками, по первоначальному замыслу вёл в гробницу. Теперь всё это пространство занимает статуя Моисея, белизна мрамора которой ярко выступает на фоне непроницаемой темноты за спиной пророка, словно исходящей из глубин доисторических времён до того, как Бог Саваоф в первые дни своих деяний отделил свет от тьмы. Над фигурой пророка — мраморное ложе, на котором, опершись обеими руками о край, бодрствует, полулёжа, папа Юлий, чья голова обращена, как и у Моисея, на входящих в храм людей. Над ним в нише фигура Богоматери с младенцем, а по бокам восседают, охраняя покой папы, сивилла и пророк.
По замыслу «Моисею» было уготовано место во втором ярусе многоступенчатой композиции. Его нынешнее расположение в церкви на уровне глаз зрителя несколько умаляет величие самой скульптуры и излучаемой ею колоссальной энергии. Резко повернув голову влево, пророк спокойно опирается правой рукой на скрижали закона. Его лицо предельно напряжено, черты отчётливо обозначены, а волосы густой бороды «водопадом» ниспадают на мощную грудь, поражая виртуозным мастерством исполнения. Существует мнение, что в сплетении волос Моисеевой бороды Микеланджело упрятал своё изображение под нижней губой, а также профиль-призрак папы Юлия II. Однако следует обладать крайне неординарным воображением, чтобы разглядеть такое, что втайне сотворено скульптором.
Следуя точному описанию фигуры пророка в Библии, Микеланджело увенчал голову Моисея двумя рожками, вызывающими недоумение. Он невольно повторил ошибку, допущенную первым переводчиком на латынь Ветхого Завета блаженным Иеронимом, который вместо слова corona («нимб») случайно написал coruna («рога»). Никто не осмелился исправлять описку в переводе, признанном церковью каноническим, и рожки на голове Моисея воспринимаются отныне как лучи сияния, исходящие от фигуры ветхозаветного пророка.
На первый взгляд правая нога Моисея представляется чересчур большой, но будучи знатоком анатомии, Микеланджело не допустил здесь никаких отклонений от нормы, так как по первоначальному проекту статуя должна смотреться снизу вверх. Складки плаща, наделённые взволнованным ритмом, плотно обвивают ногу, смахивающую на кряжистый ствол Мамврийского дуба. Обилие складок и глубоких врезок вкупе с тщательной полировкой мрамора создают игру бликов, придающих изваянию абсолютно компактный монументальный объём, а сама скульптура пронизана ощущением исходящей из неё грандиозной и почти нечеловеческой силы Божьего избранника, давшего погрязшему в грехах человечеству «закон».
С «Моисеем» связано немало легенд. Сопровождающие туристов гиды указывают обычно на щербинку левого колена пророка и рассказывают историю, как однажды Микеланджело в нетерпении ударил молотком и крикнул скульптуре: «Да говори же!» Как гласит итальянская пословица, «se non e vero, e ben trovato» — «если неправда, то хорошо придумано». Но вряд ли нужно было заставлять «Моисея» говорить, так как его взгляд красноречивее и выразительнее любых слов.
Гигантская фигура затмевает всё остальное, а исходящая из неё энергия создаёт ощущение, что пророк вот-вот встанет во весь рост и начнёт вершить свой суд по ниспосланному ему свыше закону. Перед ним блекнут даже сотворённые Микеланджело скульптуры двух библейских сестёр в боковых нишах, а уж об изваяниях верхнего яруса, созданных Рафаэлем да Монтелупо, Донато Бенти, Якопо дель Дука и Доменико Фанчелли по его рисункам, и говорить не приходится. Хотя имена всех помощников известны, но мы не знаем, над какой скульптурой верхнего яруса каждый из них трудился. Вскоре недовольный их работой Микеланджело заменил заболевшего Монтелупо скульптором Джованни Маркези, который тоже оказался не на высоте.
Веками превалировало мнение, что верхний ярус гробницы, выполненный подручными, не представляет художественной ценности, а покрывающие изваяния копоть и пыль, куда не добирались руки церковных служек, в немалой степени способствовали утверждению такого мнения, ставшего общим местом в литературе.
Во второй половине прошлого века Италию охватила лихорадка реставрационных работ, сопровождаемая громкими сенсациями. Именно тогда были выделены значительные средства для поддержания национального художественного наследия на должном уровне. Была подвергнута серьёзной реставрации гибнущая фреска Леонардо «Тайная вечеря» в Милане. Выше было рассказано о реставрационных работах в Сикстинской капелле, вызвавших большой общественный резонанс.
В сентябре 1988 года настал черёд гробницы папы Юлия в Сан Пьетро ин Винколи. Одним из руководителей реставрации был искусствовед Антонио Форчеллино, чья книга о Микеланджело появилась недавно в русском переводе.87 Автору этих строк довелось в те дни побывать в Риме и при содействии друзей из Национального центра реставрации, с которыми его в далёкие 1960-е годы познакомил академик Алпатов, увидеть частично ход работ. Сам центр находится рядом с Сан Пьетро ин Винколи. Его старинное здание украшено изящным балконом, который ошибочно приписывается Рафаэлю; римляне называют его балконом Ваноцци Каттанеи, римской куртизанки, родившей папе Алессандро VI троих сыновей и дочь Лукрецию Борджиа. Когда её место заняла молодая львица Джулия Фарнезе, гордая Ваноцца купила дворец и с балкона наблюдала за развитием бурных событий, пережив своего отравленного благодетеля, всех своих чад и молодую соперницу.
Группа реставраторов во время кропотливой работы избегала применения сильно действующих чистящих реактивов, способных нанести непоправимый ущерб мрамору. При очистке изваяний использовались исключительно тампоны, смоченные дистиллированной водой. Многие скульптуры настолько потемнели от времени, что выглядели деревянными или терракотовыми, и с трудом поддавались очистке. Результаты оказались ошеломляющими, когда были сняты леса и гробница предстала во всём своём первозданном блеске и беломраморном сиянии.
Авторитетная комиссия, принимавшая проделанную работу, подтвердила мысль, которая прежде лишь робко высказывалась, что полулежащая фигура папы Юлия выполнена не кем иным, как самим Микеланджело. Сошлёмся на мнение Кристофа Фроммеля, одного из знатоков итальянского Возрождения и директора римской библиотеки Герциана, которая в пяти шкафах хранит документацию, касающуюся гробницы папы Юлия. В интервью авторитетному еженедельнику «Эспрессо» 5 октября 2000 года учёный заявил, что вряд ли Микеланджело, творчески глубоко связанный с Юлием II, мог кому-либо доверить изваяние своего грозного заказчика, вложив в фигуру слегка привставшего на ложе папы всю свою мощь и оставшиеся силы. Он хорошо знал папу Юлия и точно передал его суть. Даже на смертном одре Юлий проявляет свой неуёмный нрав, не пожелав спокойно, как и полагается, лежать неподвижно, в полной отрешённости от земного мира.
Путаницу внёс Вазари или его комментаторы, неправильно истолковавшие утверждение биографа: он упомянул, что мраморный каркас под ложе папы Юлия вытесал некий Томмазо Босколи, и поставил в тексте запятую, после которой следовало описание самой фигуры. Из-за той злосчастной запятой мир долгие годы находился в неведении, теряясь в догадках. Но достаточно взглянуть на единственно сохранившуюся работу Босколи в римской церкви Санта Мария ди Монсеррато, построенной в годы правления папы Борджиа, поясняет Фроммель в интервью, и станет понятно, что упомянутый Вазари мастер был даже не второстепенным, а третьестепенным скульптором, то есть обычным каменотёсом, к чьим услугам был вынужден обратиться Микеланджело для обтёсывания мраморных глыб. Босколи знал своё дело и в отличие от приглашённых скульпторов, работой которых Микеланджело был недоволен, неплохо справился с поручением, обтёсывая мрамор.
Будучи занятым во Флоренции работой во дворце Синьории и в капелле Медичи, а также памятуя о падении Микеланджело с лесов в Сикстинской капелле, Вазари никак не мог предположить, что семидесятилетний мастер, едва оправившийся после тяжелого увечья, вновь отважится подняться на леса, и не назвал его имя, говоря о самой фигуре папы Юлия. Но перед Микеланджело вовсе не стояла необходимость самому лезть на леса и рубить глыбу на верхотуре. Вся работа над изваянием папы была проделана им, как и полагается, внизу, а затем с помощью подъёмных блоков готовая скульптура была поднята и установлена поверх мраморного каркаса, который вытесал Босколи. Из-за неточности биографа бедняга каменотёс долгое время считался автором превосходной скульптуры, а его имя фигурировало рядом с именем великого творца.
Итак, истина была восстановлена, и Микеланджело с сознанием выполненного долга мог подумать о других незавершённых замыслах. Но был ли он удовлетворён проделанным в Сан Пьетро ин Винколи? Вряд ли, ибо получилась лишь слабая копия, мало напоминающая задуманный грандиозный монумент, отвечающий его неуёмной натуре. Для гробницы Юлия была доставлена в Рим из Каррары целая гора добытого с превеликим трудом отборного мрамора, а сама многоярусная гробница должна была быть установлена под высокими сводами строящегося собора Святого Петра, но в конце концов оказалась в обычной римской церкви.
На склоне лет Микеланджело уподобился своему ветхозаветному герою. Как и Моисей, который 40 лет водил богоизбранный народ по пустыне, движимый великой идеей, так и Микеланджело потратил на гробницу лучшие свои годы, а цель оказалась недостижимой, и великая идея, как тайна тайн, осталась неразгаданной. Работа над завершением гробницы его настолько утомила, что, казалось, силы его вконец иссякли, и он еле держался на ногах, а душу продолжали одолевать мучительные сомнения…
В конце исканий после долгих лет Идея вдруг вознаградит творца. Но сил нет у резца, И он из рук дрожащих выпадает. О, правды поздний свет, Когда в нас пламя жизни угасает! Ужель природа знает (Сумев путём ошибок и сравнений Создать столь несравненный идеал), Что и сама, как мир наш, одряхлела? Живу в плену сомнений, Каких я не знавал. Догадка мозг разъела — Так, значит, смертно дело? Что за порогом совершенства ждёт: Блаженство, радость или мир умрёт? (241)Вышедший из-под его пера мадригал являет собой инверсию платоновского понятия мимезиса (подражания). Здесь у Микеланджело природа ограничивает человека в его творческих устремлениях к совершенству и красоте, а не наоборот.
Тайну, над которой бился Микеланджело, чтобы до конца понять любимого своего ветхозаветного героя, не смог, видимо, разгадать и Зигмунд Фрейд, посетивший, как известно, церковь Сан Пьетро ин Винколи и простоявший в задумчивости не один день перед величайшим библейским пророком, оставившим неизгладимый след в истории человечества. Можно только сожалеть, что один из столпов психоанализа, который глубоко и тонко оценивал произведения искусства — достаточно сослаться на его блистательное и полное неожиданных откровений эссе о Леонардо да Винчи,88 — не оставил ни строчки о своей встрече с микеланджеловским «Моисеем».
На фоне раздираемых религиозными войнами Европы и Азии «Моисей» Микеланджело возвышался над всеми враждующими сторонами как могучий утес, храня и оберегая веру отцов и праотцев. Этот образ был дорог мастеру не меньше, чем Христос. Весьма симптоматично, что оба эти имени звучат по-итальянски с ударением на последнем слоге — Mose и Gesu, — что сближает их и роднит.
«Моисей», «Давид», римская «Пьета», «Мадонна Брюгге» и даже статуя Христа в римской церкви Санта Мария сопра Минерва, которую немецкий исследователь Г. Тоде считал высшим выражением христианства, представляют собой лишь одно из направлений в творчестве Микеланджело, когда проявилось его неистовство в работе с камнем, так называемая la terribilita. Однако имеется и другое направление, началом которого можно считать юношескую «Битву с кентаврами» и появившуюся чуть раньше «Моисея» незаконченную фигуру Матфея, так и не вызволенную из мраморной глыбы. Но как разнятся эти два направления! В первом случае творец извлекает из косной материи задуманный образ, и силой духа оживив его, ведёт разговор с миром. Во втором он лишь намечает резцом и троянкой образ, ведя разговор с самим собой и с небом, в чём и заключается принципиальное отличие finite от non finite у Микеланджело.
С «Моисеем» произошла любопытная метаморфоза. Если клерикальная реакция так и не приняла алтарную фреску «Страшный суд» даже после прикрытия наготы некоторых персонажей, то «Моисей» был расценён идеологами Контрреформации как вершина и выдающееся творение католической цивилизации. Но этого Микеланджело уже не мог знать.
* * *
Тем временем события во Флоренции обрели бурное развитие. Отчаявшись склонить Микеланджело к возвращению в родной город, герцог Козимо I поручил Вазари закончить оформление капеллы Медичи. Своей преданностью искусству и добрым отношением к нему самого правителя Вазари заслужил высокую честь завершить незаконченный гениальный проект согласно оставленным автором чертежам.
Из Рима Микеланджело давал указания Вазари, как и в каком порядке следует расставить скульптуры в капелле. К тому времени он, видимо, забыл или окончательно расстался с идеей расписать фресками незаполненные пространства стен между пилястрами второго яруса и полуциркульные поверхности под куполом, которые могли бы придать ещё большую выразительность как изваяниям, так и архитектурному обрамлению, о чём он когда-то сам поведал тому же Вазари. Великая идея создания синтеза трёх искусств так и не была осуществлена — и это ещё одно non finito.
Капелла невелика, и первое, что поражает в ней — мягкая игра света на её мраморных пилястрах, капителях колонн, дверных консолях, карнизах и фризе. Тёмно-серый мрамор на свету воспринимается как чёрный и белый, и на всём лежит печать глубокой печали.
По вполне понятным причинам, о чём будет сказано чуть ниже, для двух законченных изваяний «Давид-Аполлон» и «Скорчившийся мальчик» не нашлось места в капелле Медичи, для которой, по всей вероятности, они и предназначались, поскольку Вазари обнаружил их не в бывшей мастерской на улице Моцца, а в крипте под абсидой капеллы. Первое изваяние нашло пристанище в старинном дворце-музее Барджелло, который после падения республики служил тюрьмой, где нашли смерть многие её защитники. А второе благодаря стараниям эмиссаров Екатерины II оказалось в 1785 году в Санкт-Петербурге.
При работе над этими двумя шедеврами Микеланджело настолько загорелся, извлекая из мрамора живую человеческую плоть, что оба изваяния помимо воли оказались вне замысла самой капеллы Медичи, отражающей неоплатоническую идею бренности земного существования. Обе эти скульптуры излучают жизнелюбие, которое никак не вписывалось в атмосферу глубокой печали, царящую в капелле.
Замечательное свойство этих изваяний в том, что лишённые чёткой сюжетной мотивировки и целенаправленности, они при круговом их обходе меняются до неузнаваемости. Особенно наглядно это видно на примере изваяния «Давид-Аполлон». Своим двойным названием юнец из Барджелло обязан не только тому, что при осмотре фигуры с разных точек зрения меняется облик героя, но и тем, что работая над обещанным палачу изваянием, Микеланджело был охвачен двойственным чувством страха и презрением к себе самому за трусость и малодушие.
Когда смотришь на юнца анфас, можно принять его за Давида — хотя у подножия скульптуры нет места для головы Голиафа, но решительно откинутая назад левая рука говорит о его готовности к действию. Стоит сместить точку зрения влево, как движение становится ещё более решительным, наклон согнутой правой ноги рифмуется с наклоном закинутой назад руки, а вся фигура утрачивает прежнее равновесие и спокойное величие. Но достаточно повернуть статую в противоположном направлении и взглянуть на юношу в профиль, как прямо на глазах фигура распрямляется и откидывается назад, а за спиной обнаруживается нечто похожее на колчан, и пред нами предстаёт скорее безмятежный солнечный Аполлон, чья рука тянется за стрелой, нежели воин Давид с пращой.
Столь же примечательна скульптура эрмитажного «Скорчившегося мальчика», которую трудно представить втиснутой в нишу, поскольку неповторимая прелесть этого изваяния в том, что пластичность тела согнувшегося юнца полностью раскрывается только при круговом обозрении скульптуры, и тогда можно воочию убедиться, какая сила заключена в напружиненных мышцах спины отрока, готовая вот-вот вырваться наружу.
В этом небольшом изваянии выражена дорогая Микеланджело идея, что в работе над скульптурой ему было важно не только проявить своё мастерство и мощь художника. Его задача была заставить нас поверить тому, что до того, как он взялся за резец, фигура уже жила в глыбе мрамора, а он её только вызволил наружу и вдохнул в неё жизнь. Он любил также повторять, что если скульптура правильно задумана и со знанием дела высечена из глыбы, то если её сбросить катиться вниз с горы, то от неё не должен отломиться ни один кусочек мрамора.
Итак, для этих двух изваяний не нашлось места в капелле Медичи, и они долго пролежали где-то на задворках. Приходится только сожалеть, что агенты Екатерины II не купили и вторую скульптуру «Давид-Аполлон», когда в Италии, раздираемой междоусобной борьбой, шла повсеместная распродажа неприкаянных художественных ценностей, пополнявших музеи и частные коллекции Европы и Америки.
* * *
Когда в 1546 году был открыт доступ публике в капеллу Медичи, флорентийцев поразило оставленное незавершённым гениальное творение с его строгой сдержанностью, величавой простотой и глубиной замысла. Но сам замысел, а особенно аллегорические фигуры над двумя саркофагами с восседающими в нишах двумя герцогами не были поняты большинством современников.
Появились восторженные отзывы в прозе и стихах, среди которых получили известность строки, посвящённые скульптуре «Ночь». В отличие от вышеупомянутого случая с поэтическим посвящением римской скульптуре «Пьета» Вазари на сей раз назвал имя автора стихов. Им был некий Джованбаттиста Строцци Старший, представитель знаменитого флорентийского клана. Но как поэт он не преуспел, и его имя вошло в историю только благодаря этому стихотворению, в котором использовано усечённое имя автора скульптуры (angelo — ангел):
Забывшись сном, Ночь предалась покою; Уснула, как живое существо. Из камня Ангел создал естество. Не веришь, тронь — заговорит с тобою.Живя в добровольном изгнании вдали от дорогого ему детища, Микеланджело в беседах с друзьями не захотел раскрывать свой замысел до конца, на что у него были веские причины, хотя эхо доходивших до него восторгов было ему лестно, ибо оно приходило из дорогих его сердцу мест и было особенно им ценимо.
Потеряв близких и похоронив мечты о свободе, он замкнулся в своём отшельничестве, и ему больше нечего было сказать миру, от которого он отвернулся. Чтобы не распространяться больше на эту больную тему, когда пришлось спешно покинуть родной город, он написал четверостишие, которое глубиной выраженных в нём чувств обрело мировую известность:
Мне дорог сон. Но лучше б камнем стать В годину тяжких бедствий и позора, Чтоб отрешиться и не знать укора. О, говори потише — дай мне спать! (247)* * *
4 ноября 1966 года Флоренцию постигло стихийное бедствие. После проливных дождей Арно вышла из берегов, и значительная часть города оказалась затопленной. Наводнение нанесло громадный ущерб художественному наследию Флоренции, когда под водой оказались первые этажи и подвалы некоторых музеев, Национальной библиотеки и Центрального архива. В результате обрушившегося на город бурного потока воды и грязи погибли более 150 человек, а 100 тысяч жителей в течение четырёх суток, пока бушевала стихия, отсиживались на верхних этажах домов без тепла и электричества. Вода затопила церковь Санта Кроче, считающуюся Пантеоном, где захоронены Макиавелли, Микеланджело, Галилей, Россини и другие знаменитые итальянцы. Уровень затопления превысил четыре метра, из-за чего безвозвратно погибло «Распятие» Чимабуэ. Отовсюду в столицу Возрождения съехались тысячи добровольцев, принявших участие в работах по спасению бесценного достояния итальянской культуры и искусства.
Воды Арно залили тогда и капеллу Медичи, что вызвало просадку фундамента. Начались работы по ремонту и укреплению просевшего фундамента, которые не производились со времени окончания строительства самой капеллы. После откачки воды из подвалов и укрепления кирпичной кладки фундамента были случайно обнаружены несколько подземных помещений, соединённых коридором.
О существовании глубокого подземелья под капеллой Медичи было давно известно, так как между работающим Микеланджело и прелатом Фиджованни, поставленным папой для осуществления контроля, часто возникали стычки из-за ключей в подвальное помещение, где у Микеланджело были свои дела, о которых он не любил распространяться да ещё отчитываться перед папским фактотумом, сующим свой нос куда не надо. Но, как известно, дотошный прелат однажды спас жизнь Микеланджело от подосланного врагами убийцы.
В дни осады Флоренции подземелье служило надёжным убежищем. Из письма Микеланджело от 29 апреля 1527 года известно, что один из его друзей Пьеро Гонди попросил разрешения спрятать в подземелье некоторые семейные ценности. Когда же город был предательски сдан врагу, Микеланджело самому пришлось отсиживаться несколько дней в подземном убежище. Зная, что испанцы творят произвол в непосредственной близости от Флоренции, в его воспалённом воображении родились стансы, не имеющие аналогов в литературе той поры, если не считать фрагмента о чудовище, принадлежащего перу Леонардо да Винчи из его недавно обнаруженного Атлантического кодекса, где приводится шутливое письмо некоего Бенедетто Деи об увиденных им кошмарах. Апокалиптические стансы писались урывками, но так и остались незавершёнными…
Идёт по свету великан жестокий, С высот не замечая род людской, И всюду разрушений след глубокий, Как будто смерч пронёсся над землёй. Он из камней возводит столп высокий, Чтоб солнце жадной ухватить рукой. Но и злодею до него далёко — Из пятки зрит единственное око. К прошедшему он взором устремлён И тычется незрячей головою, Стремясь порвать земную связь времён, А дни бегут внизу своей чредою. Он от ненастья шкурой защищён И безразличен к хладу или зною. Ему едино — тучи разгонять Иль города с лица земли стирать. Мы не узрим песчинку под ногами, Так он не видит горы под пятой. Ножищи сплошь покрыты волосами, А в них кишит чудовищ разных рой, Средь коих мухи выглядят китами. Пугает нас его протяжный вой: Когда не видно зги от снежной бури, Ослепнув, великан блажит от дури. За ним старуха желчная бредёт И на привале кормит тварь сосцами; Во всём отродью адова оплот, Она кичится мерзкими делами. Перед закатом великана ждёт В сыром укромном месте за горами. Устанет он — свирепствует она, Жизнь на земле тогда обречена. Достойна одноглазого подруга: Смакует беды — ей лишь боль мила. От голода страдая, как недуга, Она бы мир глазами сожрала, И всё живое гибнет от испуга Пред ненавистным порожденьем зла. Беснуясь и мутя моря от гнева. Камнями ведьма набивает чрево. Они семь чад произвели на свет Для продолжения своей породы. Гнусней созданий не было и нет, Чем их тысячеглавые уроды. Весь мир был ввергнут ими в бездну бед, И страшный мор пошёл косить народы. Впиваясь, как присосками плюща, Злодеи душат жертву, трепеща (68).Вход в подземелье строителям показали сторожа, которые хранили там уголь для печного отопления в зимнее время и всякий хлам. Дальше ходить они не решались, но указали на заваленную мусором ещё одну дверь, за которой оказались ступени, ведущие вниз, куда и устремились движимые любопытством строители, расчищая подземные завалы.
Благодаря Его Величеству случаю накануне празднования 500-летия Микеланджело произошло сенсационное открытие. В подвалах капеллы Медичи было обнаружено свыше 180 настенных рисунков углём и сепией в разных отсеках подвального помещения поверх оштукатуренной кирпичной кладки. Тогда же на одной из стен нашлась метка из четырёх цифр «1740». По всей вероятности, эти цифры указывают год начала возведения колокольни церкви Сан Лоренцо и приведения в порядок всего архитектурного ансамбля. Обнаруженным тогда в некоторых подвальных отсеках рисункам не придали особого значения, но для их консервации, пока суть да дело, покрыли тонким слоем побелки. В годы Первой и Второй мировых войн были отмечены случаи проникновения в подземелье капеллы Медичи. Случайные визитёры оставили на стенах свои имена и даты.
После очистки стен от вековой грязи, пыли и плесени взору предстали поражающие воображение рисунки, часть которых походила на настенные граффити. Но некоторые из них были узнаваемы, так как автор в своё время их воспроизвёл тушью на листах, которые ныне принадлежат лучшим музеям мира. Часть рисунков была выполнена учениками Микеланджело — Мини, Триболо и другими. Вазари, который в то время работал в мастерской дель Сарто, не оставил там своего следа, иначе не преминул бы об этом поведать в «Жизнеописаниях».
Работами по реставрации обнаруженных рисунков руководил директор музея капеллы Медичи искусствовед Паоло дель Поджетто. Рисунки были найдены в трёх подземных помещениях. Это прежде всего правая и левая lavamani — рукомойни, как называл их сам Микеланджело, — где стояли чаны для сбора сточных вод, и просторный подвал под апсидой капеллы, где стены, освобождённые от полок и шкафов с архивными документами, оказались сплошь испещрёнными рисунками фигур и набросками архитектурных деталей. Многие из них были настолько повреждены сыростью и плесенью, что не поддавались никакой реставрации. Но это была настоящая сенсация. Ведь найдены неизвестные доселе рисунки самого Микеланджело, о чём взахлёб писали газеты. Началось настоящее паломничество в капеллу Медичи. Поклонники искусства хотели взглянуть хоть глазком на настенные рисунки, но в подземелье полным ходом шли реставрационные работы, и вход туда был строго ограничен.
Рисунки создавались в трагические месяцы осады города имперскими войсками, что ощущается в нервозности и прерывистости линий. Правда, когда сенсационный шум несколько поутих, некоторые искусствоведы, включая Джулио Аргана и Шарля Толнея, считали не столь безоговорочной принадлежность настенных рисунков руке одного только Микеланджело.
Дель Поджетто подробно описал историю сенсационного открытия в изданной небольшим тиражом книге,89 которую привез с собой академик Алпатов, побывавший во Флоренции. Автору этих строк довелось повстречаться с академиком по его возвращении из последней поездки в Италию и услышать рассказ об увиденном в подвалах капеллы Медичи. Вспоминается, с каким сожалением Михаил Владимирович говорил об идее синтеза трёх искусств, которую Микеланджело так и не осуществил — а ведь она могла бы стать величайшим событием в истории мировой культуры. Видно было, что выдающемуся учёному Микеланджело так же дорог и близок, как Андрей Рублёв, которому он посвятил немало прекрасных страниц.
Глава XXX ЧЕТВЁРТАЯ МУЗА
Сонеты Микеланджело написаны кувалдой каменотёса. Но между Данте и Леопарди они превосходят всех остальных итальянских поэтов.
Эзра ПаундВ связи с обретшим широкую известность четверостишием, посвящённым скульптуре «Ночь», настало время сказать несколько слов о Микеланджело-поэте, а это редкий случай в мировом искусстве, когда величайший скульптор и живописец раскрылся одновременно как поэт с потрясающей полифонией звучания слова. Не только в изобразительном искусстве, но и в поэзии он — единственный в своём роде с неповторимым стилем, с усиливающей выразительность интонации аллитерацией звуков, двойственностью рифмы, лексическим своеобразием, семантическими эллипсами, синтаксической инверсией, ритмическим мимезисом и другими неожиданными речевыми оборотами, не свойственными поэзии.
Микеланджело не похож ни на кого из современных ему поэтов, чьи имена составляют гордость итальянской литературы. Однако в отличие от своих художественных творений, принесших ему громкую прижизненную славу, его стихам пришлось выдержать немало испытаний, прежде чем они дошли до широкого читателя. Правда, в литературных салонах нередко звучал упомянутый выше мадригал № 12 в музыкальном переложении придворного капельмейстера из Неаполя Б. Тромбончино. Забегая вперёд отметим, что к стихам Микеланджело не раз обращались известные композиторы XVI века — римлянин К. Феста и фламандец Я. Аркадельт, работавший в Италии, а чуть позже другой фламандец Орландо Лассо, оказавшийся в Риме. В наше время к этим стихам проявили интерес Б. Бриттен и Д. Д. Шостакович.
Свойственные мятущейся натуре Микеланджело противоречия, личные привязанности и антипатии, суждения об искусстве, преклонение перед красотой и мальчишеская влюбчивость, верность республиканским принципам, страстная и неуёмная одержимость в работе, приверженность к неоплатонизму и присущая ему глубокая религиозность — всё это прямо или косвенно нашло отражение в его поэзии.
Первые поэтические опусы Микеланджело появились в годы юности. Оказавшись в кругу знаменитой «платонической семьи», он рано осознал силу и выразительность поэтического слова. Из-под его пера стали появляться сонеты, мадригалы и отдельные четверостишия, в которых чувствуется сильное влияние Петрарки. Среди разрозненных фрагментов на полях многочисленных рисунков имеется такое признание: «Нет в мире места краше, чем Воклюз» (XXII). Это не что иное, как парафраз первой строки 269-й элегии Петрарки, воспевающей красоты Воклюза — области на юго-востоке Франции, где недалеко от Авиньона одно время проживал великий поэт. На первых порах Петрарка вдохновлял музу Микеланджело, когда сокрытая в нём колоссальная созидательная мощь ещё дремала и набиралась сил. Но вскоре с присущим его натуре бунтарским духом состязательности он, как и изображённый им фригийский силен Марсий, бросил вызов самому Аполлону и вторгся в мир «петраркизма». Оперируя его образами, фразами и ритмом, Микеланджело опрокинул все нормы, предписываемые поэзии теоретиком петраркизма Пьетро Бембо, и со временем выработал собственный язык, близкий по духу «каменным» канцонам своего кумира Данте. Недаром упоминавшийся выше поэт Франческо Берни открыто противопоставил его эпигонам Петрарки, которые говорят «словами», а он «делами», «как солнце, затмевая их лучами».
Особенно плодотворным для юного Микеланджело было общение с поэтом Полициано и филологом Ландино, чьи комментарии к «Божественной комедии» были тогда настольной книгой любого образованного человека, равно как и сочинения Петрарки и Боккаччо. Всё это пробудило в юном Микеланджело тягу к поэзии, хотя к своим первым опусам относился он весьма критически. Как пишет Кондиви, стихи он писал, дабы развлечься — per dilettarsi. Но биограф явно исказил мысль Микеланджело, ибо для «развлечений» в его бурной творческой жизни просто не оставалось места.
Со временем слово стало для него равнозначным таким материалам, как глина, воск, мрамор, грифель и краски, из которых он сотворял свой образный мир. В его жизни бывали периоды, когда откладывались в сторону резец и кисть, дабы полностью отдаваться поэзии, вырываясь за пределы трёхмерной рельефности в бесконечные просторы поэтического воображения. Слово позволяло ему иногда выразить на бумаге то, что не удавалось осуществить в камне или в цвете, особенно в последние десятилетия жизни, когда болезнь и распри с заказчиками вынуждали его всё чаще браться за перо.
Исследователи его творчества немало потрудились, чтобы выяснить вопрос о микеланджеловских Беатриче или Лауре, поскольку обращение к предмету своей страсти было давней поэтической традицией, восходящей к Данте и Петрарке. Но полные любви посвящения юному ученику Кавальери или маркизе Колонна составляют лишь малую часть его лирики. Вышедшие из-под его пера сонеты и мадригалы позволяют проследить, как с годами менялись у него взгляды и настроения, когда открытое изъявление чувств и готовность к действию уступали место рефлексии и горьким раздумиям о жизни.
В годы разгула клерикальной реакции Микеланджело даже своё отчаяние и отрешённость от мира обрёк в форму лирического признания, в чеканную форму сонета, словно разговаривая наедине со своей совестью. Некоторые стихи, что особенно ценно, дают возможность познать глубину его чувств и мыслей. Примеров тому предостаточно приведено в тексте данной книги, когда поэтические откровения творца органично вплетались в общую канву повествования.
Обратимся к одному из его посланий обожаемой Виттории Колонна, на которое постоянно ссылаются все исследователи творчества Микеланджело, а гуманист-филолог Варки посвятил его разбору две лекции во Флорентийской академии, заострив внимание прежде всего на лексическом своеобразии языка поэта. В сонете с предельной образной выпуклостью и почти со скульптурной осязаемостью говорится об основных вопросах, которые волновали стареющего мастера, хранящего верность своим неоплатоническим воззрениям:
Сколь смел бы ни был замысел творца, Он в грубом камне заключён в избытке, И мысль в нём отразится без ошибки, Коль движет ум работою резца. Но не из камня сделаны сердца, И хлад для них, о донна, хуже пытки. Тепла лишённый в жизни и улыбки, В искусстве я далёк от образца. За беды, коими живу поныне, Я не виню тебя и красоту; Жестокий жребий тоже не в ответе. Хоть я не злу внимаю — благостыне, Мой гений видит тлен и суету, Воспринимая мир лишь в мрачном свете (151).Современный ему мир он отвергал, а будущее ему рисовалось в самых мрачных тонах. Вот тогда в его воспалённом воображении стали рождаться под влиянием трагических внешних событий образы таких кошмарных фигур, как одноглазый Великан со злобной спутницей старухой и семеро их чад, тысячеглавых уродов. По-разному их можно толковать. Так, в одном из исследований90 говорится, что порождённые его фантазией образы персонифицируют «Спесь», «Жестокость» и «Семь смертных грехов». Эти трагические стансы говорят лишь о невозможности создать совершенный мир с идеальным устройством, так как всё вокруг превращено в хаос, в котором люди, полные отчаяния, боли и безысходной тоски, носятся в вихре житейских бед и неурядиц. Они разобщены между собой, одиноки и неприкаянны.
Трагедию человека эпохи Возрождения, которому гуманисты сулили мир и благоденствие, Микеланджело чувствовал как свою собственную, отразив её во многих стихах и на фреске «Страшный суд». В минуты безысходного отчаяния он постоянно обращался за советом и милостью к Богу, беспощадно бичуя себя за несовершенство своих творений, и сам оказывался ввергнутым в бездну безысходности и страха, подавляющего волю. И всё же он не в силах был оторвать взгляд от земной красоты, что так ярко проявилось в пасторальных стансах, когда под влиянием внешних событий он даже думал окончательно порвать с искусством, поскольку оно не в силах побороть существующие на земле зло и несправедливость, а тем паче сделать человека свободным и счастливым. Однако дни, проведённые на лоне природы, где в отличие от мира людей всё так мудро устроено, не принесли ему успокоения, а привязанность к земному нарушала осознанную им аскетическую отрешённость от всех мирских благ и соблазнов во имя спасения души…
И страсть, чьи чуть приметны огоньки, Способна опалить юнцов зелёных. Возможно ль старцев, жизнью умудрённых, Спасти, коль в сердце тлеют угольки? Когда без сил к закату мы близки, Зачем страдать от чувств неутолённых Иль корчиться в потугах изощрённых? Грешно играть с огнём, и не с руки. Чему не миновать, то и случится: Развеет ветер прах по сторонам, Не дав меня сожрать червям презренным. По молодости лет я мог беситься, А ныне глух к снедающим страстям. Когда же вырвусь я из плоти бренной? (233)Поражённые поэтичностью и страстностью стихов мастера, друзья не раз предлагали ему своё содействие в подготовке сборника стихов. Будучи довольно скромного мнения о своих поэтических опусах, Микеланджело всякий раз отнекивался, говоря, что время, мол, не приспело. Наконец под нажимом знатоков и особенно Джаннотти в 1542 году он садится за работу над рукописями для будущего сборника. К началу 1546 года подборка стихов была почти готова. Автор включил в неё 87 стихотворений, полностью изъяв раннюю лирику, стансы, секстины и капитулы в терцинах. Простив вероломство Дель Риччо, он исключил из сборника осуждающий его предательство мадригал № 252, приняв извинения провинившегося друга.91
При составлении сборника единственной его заботой были глубоко осознанный им решительный отход от петраркизма с его мелодичностью ритма и включение тех стихотворений, в которых слышен собственный его хрипловатый голос с шершавым, как поверхность камня, языком, полный неподдельной искренности чувств, что особенно проявилось в последних посвящениях Виттории Колонна, в которых страсть властвует над разумом:
Бесценный дар природою нам дан — Глядеть пытливым оком, Чтоб мир познать глубоко. Когда же слишком доверяем зренью, Рискуем впасть в обман, А он сродни слепому заблужденью И даже самомненью. Я не глазами суть твою постиг И не поддамся, донна, обольщенью, Раз обладаю зрением сердечным. Для озаренья свыше важен миг, А он со мной навечно (165).Он дорожил этим мигом, храня ему верность до конца дней. Несколько позднее, чувствуя приближение момента встречи и желанного воссоединения на небесах с «божественной» синьорой, он признаёт:
Дни, донна, сочтены. Подвержен я недугу И всё кручусь по кругу, Хоть мысли к небу лишь устремлены, И мне уже ключи им вручены… (254)Некоторые обстоятельства, в частности смерть главного переписчика стихов Дель Риччо, помешали осуществлению задуманного начинания, и это ещё одно его non finite. Но он не успокоился, хотя годы давали о себе знать. Подарив искалеченную скульптуру «Пьета» подмастерью, он задумался над образом старца Никодима, на которого сам стал походить. Перелистывая подаренные Вазари «Жизнеописания», он наткнулся в них на свой словесный портрет, который показался ему многословным, скучным и маловыразительным. Он даже стал разглядывать себя в зеркале, чтобы удостовериться, насколько его внешность изменилась по сравнению с описанием Вазари. Коротая в одиночестве долгие вечера, он вдруг загорелся идеей запечатлеть себя в слове таким, каким он стал под конец жизни, и чистосердечно, как на духу, высказаться о содеянном в последние годы.
Получилось нечто неожиданное и куда более впечатляющее и пронзительное, нежели написанный в «Страшном суде» автопортрет в виде лица-маски. Ничего подобного мировая литература не знала по глубине выраженных чувств и разоблачительной самоиронии. Терцины сохранились и дошли до нас в единственном экземпляре, переписанном рукой верного друга Джаннотти:
Я словно в панцирь костяной закован И одиночество делю с нуждой, А дух мой в тесном склепе замурован. В могильной конуре царит покой. Тут лишь с Арахной можно знаться,92 Что сети ткёт над головой, А за порогом кучи громоздятся, Как будто бы, объевшись ревеня, Приходят великаны опростаться. Зловоние, преследуя меня, Сквозь щели старых ставен проникает, Едва забрезжит первый вестник дня. Округа в нечистотах утопает, И падаль возле каждого угла, Куда горшки ночные выливают. Душа моя к утробе приросла — Её силком не вытолкнуть оттуда, Хоть с грубой пищи пучит, как козла. Лишь кашель застарелый да простуда Напоминают мне, что я живой И на земле ещё скриплю покуда. Дышу на ладан, немощный, больной, А жизнь, как постоялый двор, где маюсь И дань горбом плачу ей за постой. В печальных радостях я забываюсь, В заботах вечных провожу досуг И в бедах лишь на Бога полагаюсь. Кудесником я объявляюсь вдруг В сочельник светлый с щедрыми дарами, Но от дворцов не жду себе услуг. Я сердцем сник и охладел с годами, И прошлое, как боль, всегда со мной — Бескрыла жизнь с угасшими страстями. Весь день в башке жужжит шмелиный рой, В мешке с костями отдаваясь эхом, А камни в почках скрючили дугой. За сеткою морщин глаза прорехой, И зубы так и ходят ходуном, А посему и речь моя с помехой. Хожу согбенный, точно старый гном. Наряд мой ветхий — полная разруха; Быть пугалом вороньим впору в нём. Стал разом туговат на оба уха: В одном мне паутину свил паук, В другом засел сверчок иль злая муха. И в довершенье стариковских мук Я на поэзии вконец свихнулся — В камин иль в нужник плод пустых потуг! Плодя болванов в камне, я согнулся, Как будто плыл по морю без ветрил И чуть в своих соплях не захлебнулся. Как каторжник, искусству я служил И свято верил. Тягостное бремя! Угробил годы попусту — нет сил, И ноги протянуть приспело время (267).Добавить здесь нечего. По воспоминаниям современников, он был в последние годы жизни именно таким — беспощадно-требовательным к себе и к людям. Бурно вырывающаяся из его беспокойной натуры поэзия, хотя и облачена в обязательную форму сонета, мадригала или терцин, представляет собой не столько стихи, а скорее прямое выражение муки, горечи, боли, любви и беспредельной тоски, переживаемых великим творцом, который через страдания устремлён к прекрасному, а через прекрасное к Богу.
* * *
Примерно полвека спустя после его смерти, а точнее, в 1623 году, внучатый племянник Микеланджело Буонарроти Младший, подвизавшийся на литературном поприще, приложил руку к рукописям великого деда и подготовил к изданию небольшую подборку из 137 стихотворений, где все посвящения другу Кавальери были переписаны и обращены к лицу женского пола. Этот ревностный католик и блюститель чистоты нравов и морали так «причесал» стихи Микеланджело, что они стали неузнаваемы и не вызвали особого интереса. Но спустя два столетия, в 1822 году, на них откликнулся, находясь в Англии, Уго Фосколо, которого вошедшие в сборник стихи тоже не особенно вдохновили. Но поэт романтического склада всё же отметил, что подобно Фидию, который признал, что при сотворении Олимпийского Зевса вдохновлялся первой книгой «Илиады», Микеланджело порой черпал свои образы из Данте,93 с чем нельзя не согласиться.
Если же говорить об одном из его последних живописных творений, фреске «Страшный суд», то, как уже было отмечено, при всём родстве душ между Микеланджело и Данте, ни «Божественная комедия», ни её платонические интерпретации Фичино и Ландино не в состоянии прояснить ни одно из горьких откровений Микеланджело на алтарной фреске и в едва намеченных резцом двух последних «Пьета». Поэтому хотя суждение Фосколо о влиянии поэзии на изобразительное искусство в целом справедливо, но не в случае с поздним Микеланджело. Здесь нельзя не вспомнить служившего консулом в Риме Стендаля, глубокого знатока итальянской истории и культуры. В одном из своих сочинений он воскликнул, отдавая должное гению Микеланджело: «Счастлива была бы Италия, будь у неё больше таких поэтов!» После первой неудачной попытки рукописи со стихами великого творца продолжали пылиться в шкафах дома Буонарроти и в архивах Ватикана вплоть до невиданного всплеска волны народно-патриотического движения, вылившегося в героическую эпоху итальянского Рисорджименто. В те бурные годы на стихи обратил внимание Чезаре Гуасти, интеллектуал либерального толка, который издал во Флоренции в 1863 году исправленный и дополненный поэтический сборник Микеланджело.
Вот что писал о сложности перевода англичанин Вордсворт: «Я переводил две книги Ариосто, примерно по сто стихов в день, но Микеланджело вкладывает так много смысла в тесные рамки стихов и этот смысл настолько превосходен сам по себе, что трудности перевода его стихов кажутся мне непреодолимыми».94 Ему вторит австриец Рильке, который в первой книге своего «Часослова» признаёт: «Он был гигантом свыше всякой меры, забыв о соразмеримости… Те, кто жили до него, знавали боль и радость, но только он один ощущал всю сущность жизни и готов был обнять мир как вещь. Над ним намного возвышается лишь сам Господь. Вот отчего он его любит и глубоко ненавидит за невозможность этой достижимости».95
Вся сложность в том, что Микеланджело как поэт не может быть отнесён к какому-либо историческому стилю или к определённой поэтической школе. Он «сам по себе» и ни на кого не похож. При переводе поэта такого склада возникают неимоверные трудности из-за отсутствия некоего «эталона», каким, скажем, мог бы стать образец переводного «петраркиста» или любого «поэта-романтика». Имеется, например, эталон пушкинской октавы для передачи классической итальянской октавы, принадлежит ли она перу Боккаччо, Полициано, Ариосто или Тассо. Однако русская октава существует не только в строфическом и метрическом своём обличье, но также в синтаксическом и словарном. Поэтому-то порой в русском переводе так похожи упомянутые выше поэты, хотя на самом деле они очень разные. Такова инерция привычного размера строфики. Но как говорил Гёте, «при переводе следует добираться до непереводимого, и только тогда можно по-настоящему познать чужой народ, чужой язык».96
Была предпринята третья, более удачная попытка, и в 1897 году в Берлине вышел новый дополненный сборник стихов Микеланджело, подготовленный искусствоведом Карлом Фреем. Берлинское издание послужило толчком к переводам Микеланджело на различные европейские языки. В частности, в переводе швейцарца Г. Мюлештейна на немецкий вышел томик стихов Микеланджело под названием «Поэтическая исповедь», получивший высокую оценку Т. Манна.
Критика продолжала рассматривать стихи Микеланджело как «забаву гения», и не более того. Даже такие знатоки итальянской литературы, как Ф. Де Санктис и Б. Кроче, отказали ему в праве считаться поэтом. Чему же здесь удивляться, если даже его ученик и близкий друг Вазари, которому им посвящён вдохновенный сонет, воздающий должное мировой известности «Жизнеописаний», смалодушничал или запамятовал, не увековечив Микеланджело-поэта на воздвигнутом надгробии мастеру во флорентийской церкви Санта Кроче! На нём установлены лишь три аллегорические фигуры, символизирующие скульптуру, живопись и архитектуру, а муза поэзии предана забвению, чего близкие друзья Джаннотти и Варки не могли простить Вазари.
Вынесенное в эпиграф к настоящей главе никогда не публиковавшееся ранее мнение американского поэта Эзры Паунда — одна из редких в прежние годы высоких оценок стихов Микеланджело. Паунд жил в Италии в годы фашистского режима, которому симпатизировал, и во время Второй мировой войны сотрудничал на римском радио. Долгое время его имя как военного преступника было под запретом. После окончания лечения в психиатрической тюремной больнице он вернулся в Италию доживать свои дни, завещав похоронить себя на острове Сан Микеле в Венеции, где обрели упокоение и некоторые выдающиеся представители русской культуры: Дягилев, Стравинский, Бродский и др. Приведённое выше парадоксальное суждение о поэзии Микеланджело Паунд высказал в 1937 году в интервью журналу «Римский меридиан».97 Сходный с Паундом путь проделал писатель и публицист Джованни Папини, в произведениях которого стремление к обновлению культуры сочетается с анархистскими тенденциями. Он первым в послевоенной Италии заговорил о Микеланджело как поэте, близком по духу лирике Данте.98
Истинная поэзия жизнестойка. Подобно сенсационному открытию неизвестных рисунков Микеланджело в капелле Медичи, о чём было сказано выше, в наше время с четвёртой попытки началось повсеместное утверждение непреходящего самостоятельного значения поэтического наследия великого итальянца, насчитывающего 302 законченных произведения и 41 фрагмент. Его рукописи были собраны воедино, очищены от произвольных искажений и целиком опубликованы издательством «Латерца» в 1960 году благодаря колоссальным усилиям филолога Энцо Ноэ Джирарди, который привёл стихи в соответствие с нормами современного итальянского языка. Добавим, что после Италии Россия — единственная пока страна, где всё поэтическое наследие Микеланджело переведено и полностью издано.
Появление полного исправленного издания микеланджеловских стихов вызвало сенсацию, а убеждённый крочеанец М. Фубини недоуменно вопрошал: «Как, Микеланджело был ещё и поэтом?»99 Однако признанные мэтры итальянской поэзии Эудженио Монтале и Джузеппе Унгаретти горячо восприняли появление нового сборника, признав непреходящую ценность поэзии Микеланджело.100 О его поэзии высоко отозвался известный прозаик Джованни Тестори, написавший пространное предисловие к одному из изданий поэтического сборника Микеланджело.101 В качестве камертона, задающего тон всей вступительной статье, он выбрал первую строку мадригала № 235: «Un uomo nella donna, anzi uno Dio» — «Мужчина в женщине иль Божий глас», — раскрыв глубину мыслей и чувств, нашедших отражение в стихах великого мастера.
Чтобы подвести черту под высказываниями различных исследователей и поэтов о стихах Микеланджело, сошлёмся на авторитетное мнение Джирарди, который подвёл итог непрекращающейся дискуссии о месте Микеланджело в мировой поэзии, заявив, что Италия и мировая культура вправе гордиться таким поэтом, столь непохожим на других, но сумевшим образно и достоверно поведать о своём жестоком времени и о себе.102
* * *
Впервые поэтическое слово Микеланджело прозвучало по-русски в переводе Ф. И. Тютчева в 1856 году после поражения России в Крымской войне, всколыхнувшего передовые слои русской интеллигенции. Поначалу великий поэт перевёл итальянские стихи на французский, а затем на русский:
Мне любо спать — отрадней камнем быть, В сей век стыда и язвы повсеместной Не чувствовать, не видеть — жребий лестный. Мой сон глубок — не смей меня будить…Позднее Тютчев подверг свой перевод значительной переделке и для придания большего драматизма звучанию стиха поменял местами первую и последнюю строки четверостишия:
Молчи, прошу — не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать — удел завидный… Отрадно спать, отрадней камнем быть.В дальнейшем поэт сетовал, что время лишило его возможности вплотную заняться переводами микеланджеловской лирики. Вслед за Тютчевым перевод знаменитого четверостишия дает в 1880 году Владимир Соловьёв:
Мне сладок сон, и слаще камнем быть! Во времена позора и паденья Не слышать, не глядеть — одно спасенье… Умолкни, чтоб меня не разбудить.В 1920-е годы М. А. Кузмин, работая над переводом «Жизни Микеланджело» Р. Роллана, даёт свою версию:
Сон дорог мне, из камня быть дороже. Пока позор и униженья длятся, Вот счастье — не видать, не просыпаться! Так не буди ж и голос снизь, прохожий.В 1940-е годы М. В. Алпатов дал свой перевод знаменитого четверостишия:
Мне дорог сон, дороже камнем быть, Когда кругом позор и униженье, Ни чувствовать, ни видеть — наслажденье. О, тише говори, не смей меня будить!Несколько позже свой перевод публикует А. М. Эфрос, заканчивая стихотворение вопросом:
Мне сладко спать, а пуще — камнем быть, Когда кругом позор и преступленье! Не чувствовать, не видеть — облегченье. Умолкни ж, друг, к чему меня будить?В 1970-годы прозвучал перевод А. А. Вознесенского, в котором снова фигурирует придуманный Кузминым прохожий:
Блаженство — спать, не видеть злобу дня, Не ведать свары вашей и постыдства, В неведении каменном забыться… Прохожий, тсс… не пробуждай меня!В марте 1941 года в журнале «Искусство» появилась небольшая подборка стихов Микеланджело в переводе академика М. В. Алпатова. Он был первым, кто заговорил в наше время о непреходящем значении Микеланджело как поэта, исходя прежде всего из его изваяний и рисунков, из стремления великого мастера срывать с предметов их покровы, чтобы вскрыть их подлинную суть, и его неприязни к красочным деталям. Алпатов подчёркивает, что Микеланджело-поэт избегает описаний и риторических украшений, обнажая порывы своей страстной души. Вот почему, заключает он, «лирика Микеланджело при всей её шероховатости чарует своей пластикой, вот почему самый извилистый ход мыслей и переживаний мастера так выпукло запечатлён им в слове».103 Это был первый в наше время анализ микеланджеловской поэзии.
Позднее к Микеланджело обратился А. М. Эфрос, который, как и Алпатов, мог пользоваться только берлинским неполным изданием и перевёл добрую половину помещённых в нём стихов, справедливо отметив, что для великого мастера поэзия была «делом сердца и совести».104
Делались попытки прочитать Микеланджело как позднего «петраркиста», но они не были удачны, а сами его стихи вырывались из атмосферы гармонии звуков и образов. Как справедливо заметил священник Г. П. Чистяков в предисловии ко второму полному изданию на русском языке поэзии Микеланджело, слова типа ardentefoco, то есть «пылающий огонь», «горение», «пламя» стали ключевыми в поэзии великого творца, который сам признаёт в одном из стихотворений, сколь «мучительны о вечности мечты».105
В своё время академик Алпатов, которому автор этих строк показал свои переводы из Микеланджело, одобрил их и дал положительную рецензию для их опубликования. Из тогдашних бесед с ним на тему микеланджеловской поэзии выяснилось, что в трагические 1940-е годы особое опасение учёного вызывала публикация знаменитого четверостишия № 247. К счастью, цензура не узрела в нём аналогии с драматическими событиями в нашей стране «в годину тяжких бедствий и позора». Но осталось ощущение, что академик, как человек старой закалки, вёл тот разговор очень осторожно и с оглядкой.
Вспоминается другой курьёзный разговор с ним после пресловутой юбилейной выставки МОСХ в Манеже в марте 1962 года, наделавшей много шума. В те дни так называемой хрущёвской оттепели, которую Ахматова назвала «вегетарианской», Алпатов осторожно, но с долей горькой иронии заметил с улыбкой, какому разносу была бы подвергнута последняя незаконченная «Пьета Ронданини» Микеланджело, окажись она анонимно выставленной в Манеже. Великому итальянцу досталось бы не меньше, чем Э. Неизвестному. Вот когда многие высокопоставленные критики попали бы впросак, показав прилюдно своё полное невежество…
Нельзя не упомянуть об одном знаменательном событии тех лет, когда появление первого полного издания поэзии Микеланджело совпало с выходом в свет четырёхтомника поэзии Маяковского на итальянском языке, выпущенном коммунистическим издательством «Эдитори Риунити». Семеро смелых переводчиков во главе со знатоком русского авангарда Иньяцио Амброджо и переводчиком «Доктора Живаго» Пьетро Цветеремичем сумели добиться, чтобы «шершавый язык плаката» зазвучал на итальянском языке. Критика узрела «мистическое совпадение» в одновременном появлении в Италии двух столь разных гениальных бунтарей, рассказавших о своём времени и о себе.
Презентация итальянского Маяковского была приурочена к открытию выставки известных художников и проходила в римском Дворце экспозиций на центральной улице Национале. Среди присутствующих были видные искусствоведы, литераторы и художники. Поэты и артисты читали переводы стихов Маяковского. Помню, как после прозвучавшего стихотворения «Ведь если звёзды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?» к собравшимся обратился киноактёр Массимо Джиротти, герой многих неореалистических фильмов. В руках он держал недавно вышедшую книгу «Rime» Микеланджело.
— Послушайте, друзья, как с Маяковским перекликается наш поэт в одном из мадригалов, посвящённом «Прекрасной и жестокой донне»:
Чтоб звёзды нам сияли с высоты, Обкрадывает ночь тайком светило. Хоть наша жизнь уныла И так недостаёт ей доброты, Но блещешь только ты. О, сколько вижу хлада К страдающим и любящим сердцам! К чему жестокость взгляда? Ведь в их любви отрада, Дарящая блеск радости очам. Кладу к твоим стопам, Себя же обделяя, Всё, чем богат я сам: Обрящем, одаряя. Так знай, гордячка злая, Что мы судьбой обделены не зря — Лишь ты сияла б вечно, как заря (129).По прошествии веков не всегда удаётся разглядеть истинное лицо гения. Уже при жизни личность творца обрастала легендами, а порой и нелепыми домыслами, порождёнными как восхищением, так и непониманием его творений, чёрной завистью, а то и просто злым умыслом. Достаточно вспомнить измышления того же Аретино. Сам Микеланджело оставил потомкам необычное своё изображение в виде лица-маски на фреске «Страшный суд», словно отражённым на подёрнутой рябью водной глади. Но подлинным автопортретом мастера мы вправе считать его поэзию. Этот поэтический портрет вылеплен из самых сокровенных дум, чувств, сомнений, желаний и чаяний. Сотворённый им образ высочайшей нравственной чистоты не может не пленять искренностью и достоверностью. Выше было сказано, что перед смертью он сжёг многие чертежи и расчёты, чтобы они не попали в неумелые руки, но стихи не тронул, оставив их потомкам, ибо они были написаны им кровью сердца, и в них он ни на йоту не поступился своими убеждениями.
Итак, мир наконец признал за Микеланджело право считаться истинным поэтом, поскольку его голос с узнаваемой и неповторимой интонацией зазвучал на многих европейских и неевропейских языках. В 2010 году во Владикавказе местное издательство «Алания Ир» опубликовало сборник сонетов и четверостиший Микеланджело на осетинском, русском и итальянском языках в переводах известного поэта Т. А. Кокайты и автора этих строк. Отныне стихи Микеланджело звучат на языке свободолюбивых кавказских горцев, а слово великого итальянца прочно закрепилось на мировом поэтическом Олимпе.
Глава XXXI ПОСЛЕДНЕЕ NON FINITO
Как поздно понимаем с сожаленьем,
Сколь кратка жизнь, отпущенная нам!
Вот и казнюсь я за былое сам,
И старость мне не служит искупленьем (294).
Время шло, недуги не отступали, особенно мучили почечные колики, а силы с каждым днём таяли. Он сильно сдал, высох и согнулся в три погибели, став похожим, по его словам, на «старого гнома». Быт его был неустроен, хотя друзья не раз ему предлагали обзавестись прислугой, но он не переносил женского духа в доме и от служанок наотрез отказался, считая их всех «нескладёхами и путанами» и предпочитая жить бирюком.
Дом на Macel del Corvi старел и ветшал, как и он сам. Все углы заросли паутиной, и всюду было раздолье для юрких ящериц. Слуга Франчези и парень-конюх старались хоть как-то его обиходить, не забывая и любимых им кошек.
В еде он был неприхотлив. Ему трудно было справляться с твёрдой пищей, и он довольствовался какой-нибудь похлёбкой, наскоро состряпанной слугой. На верхний этаж в спальню он редко поднимался из-за одышки и сломанной ноги. Там у него в углу стоял деревянный сундучок со стальными заклёпками и секретным запором, в котором хранились ценности, о чём стало известно только после смерти хозяина. Сундучок был набит золотыми дукатами, уложенными ровными стопками в чулки, банковскими бумагами и векселями. По тем временам их владелец был богат, как Крез, чего не удавалось ни одному итальянскому художнику. Дабы не привлекать ничьё внимание, сундучок был накрыт старым лоскутным одеялом. Когда однажды пронырливый Лионардо поинтересовался его содержимым, то получил такую взбучку за праздное любопытство, что у племянника отпала всякая охота совать нос в дядины дела.
В последние годы Микеланджело много тратил на благотворительные цели: помогал нуждающимся коллегам, многодетным семьям, лишившимся кормильца. Значительные суммы через банк были выданы центру вспомоществования девушкам-бесприданницам, который был учреждён Лоренцо Великолепным. В письмах к Лионардо он поучает: «Лучше бы ты расходовал деньги, которые тратишь мне на подарки, на Христову милостыню». Но просит племянника делать это негласно, не называя его имени. «Пусть я немощный старик, но мне хочется оказывать людям посильную помощь, хотя бы в виде милостыни, так как не могу, да и не умею делать добро иначе».
Он намеревался вложить средства на обустройство и украшение монастыря Сан Сильвестро в память о встречах с Витторией Колонна, но его предложение Римская курия положила в долгий ящик. Себе самому он продолжал отказывать в самом необходимом, довольствуясь малым. Приведённая выше издёвка злобного Бандинелли в связи с отказом от гонорара за работу над собором Святого Петра лишена всяких оснований. Правда, подарки от друзей и почитателей старый мастер получать любил…
Ослица, сахар, чад паникадил, Мальвазии бочонок в дополненье — Перетянули чашу подношенья. Хвала тебе, архангел Михаил! Хоть чувствую прилив немалых сил, Не одолеть мне одному теченье, Ладью поглотят волны в исступленье, Рискни я выйти в море без ветрил. За милость высшую, родной мой Боже, Насущный хлеб и радость быть творцом Я не щадил себя и лез из кожи. Но всякий долг будь красен платежом. Твой редкий дар всех благ земных дороже, И я живу покамест должником (299).Осознанное им чувство «должника» перед Богом и искусством постоянно его тревожило в последние годы. Однажды, узнав о его болезни, в Риме побывал инкогнито племянник. Микеланджело очень огорчился, когда ему доложили о визите Лионардо. В отправленном ему в ответ письме говорится: «Ты прискакал в Рим сломя голову. Не знаю, стал бы ты так торопиться, если бы я был беден и не имел куска хлеба… Ты говоришь, что долг тебе повелевал приехать и что ты это сделал из любви ко мне. Вот так же шашель любит дерево, которое губит… Уже сорок лет, как вы все живёте за мой счёт, и хоть бы раз я услышал от вас доброе слово».
Спал он в мастерской на тюфяке, не раздеваясь и даже не снимая сапоги со шпорами, так как один был не в силах разуться. Засиживаясь обычно допоздна, когда оба парня давно уже мирно похрапывали, он не хотел их будить и звать на помощь.
Каждое утро, подкрепив себя куском хлеба, смоченным в молоке или курином бульоне, он просил оседлать лошадь и верхом совершал прогулку, наведываясь на стройку собора, главной его заботы. Часто там его ждали художники из других стран, сгорая от желания увидеть великого мастера и лично с ним познакомиться. Как всегда, приходилось часто выговаривать подрядчикам за недоделки. Единственным, что могло поднять настроение, была стоящая под навесом готовая деревянная модель будущего купола над собором Святого Петра, и в его воображении возникала картина, как мощный купол однажды гордо вознесётся над Римом.
Пришло приглашение из Венеции, где правительство «царицы Адриатики» предложило ему ежегодный пансион в размере шестисот дукатов без каких-либо обязательств, лишь бы он согласился своим присутствием оказать честь республике. Образованная во Флоренции Академия рисунка избрала его почётным председателем. Но все эти знаки внимания он воспринимал с горькой усмешкой, чувствуя, как силы убывают.
С большим трудом давались ему поездки на стройплощадку собора, откуда он неизменно наведывался на площадь Эзедра, где, как было сказано, шло возведение базилики Санта Мария дельи Анджели на месте грандиозных терм императора Диоклетиана. Но этот проект им не был завершён.
Силы убывали, и для самовыражения у него оставалось ещё поэтическое слово. Последние его стихи пронизаны ощущением ожидания «двойной смерти». В письме от 19 сентября 1554 года он писал другу Вазари: «Вы, конечно, скажете, что я выжил из ума, коль скоро сочиняю сонеты. Многие давно уже считают, что я впал в детство. Дабы не разубеждать их, продолжаю писать стихи»…
Земного бытия окончен срок. Проплыв по морю бури и печали, Мой чёлн к последней пристани причалил — Час грозного возмездья недалёк. Искусство, мой кумир и мой пророк, Открыло мне неизречённость дали, Но и соблазны жизни совращали — Их вовремя я отвратить не смог. К чему теперь укоры и признанья, Коль смерть двойная подошла к порогу, И ей принадлежу я без изъятья? Бессильна живопись, да и ваянье, Когда душа устремлена лишь к Богу И на кресте распятому объятью (285).* * *
Последним папой, с которым пришлось иметь дело Микеланджело, был избранный в 1559 году Пий IV, отпрыск миланской ветви клана Медичи-Пополани, для которых когда-то был создан «Джованнино». Это была личность злобная и коварная. Зная о нелюбви Микеланджело к Медичи, первое, что он сделал, — приказал вычеркнуть имя творца из списка почётных лиц, оставив его в списках конюших, привратников и поставщиков папского двора.
На его интронизацию прибыл герцог Козимо I, посетивший Микеланджело в доме на Macel dei Corvi. Он был обескуражен убогой обителью, похожей на берлогу, в которой жил великий творец. Разговора особенно не получилось, так как хозяину дома нездоровилось и он был не в духе. Но герцогу удалось всё же добиться согласия мастера взяться за проектирование церкви Сан Джованни для флорентийской общины в Риме на улице Джулия, проложенной когда-то Браманте за счёт сноса ветхих строений и ещё довольно прочных зданий в романском стиле, за что Микеланджело резко порицал чрезмерно ретивого архитектора, который лез из кожи вон, чтобы выслужиться перед папой Юлием. Им были подготовлены три проекта будущей церкви, и по его рисунку ученик Кальканьи сделал деревянную модель фасада. Но из-за нехватки средств строительные работы были приостановлены — ещё одно non finite.
Козимо I не успокоился в своём желании вернуть великого мастера во Флоренцию, что придало бы его правлению ещё больший блеск и значимость. С этой целью он посылал к Микеланджело поочерёдно его друзей Челлини и Вазари. Первый после водружения его «Персея» в лоджии Ланци на площади Синьории с воодушевлением делился впечатлениями о бурной жизни во Флоренции, не идущей ни в какое сравнение с сонным Римом. А вот Вазари привёз радостную весть — «Давид» отреставрирован и поломка устранена. Однако Микеланджело промолчал, не желая вдаваться в подробности и ворошить былое.
Работы над собором Святого Петра продолжались, хотя обстановка вокруг стройки не улучшилась, превратившись в настоящий гадюшник. Самый верный и толковый помощник Луиджи Гаэта угодил в тюрьму по голословному обвинению в растрате казённых денег, а распорядитель работ Чезаре из Кастельдуранте, родственник покойного Урбино, был найден заколотым кинжалом. Напряжённость на стройке возрастала, а главный смутьян Нанни ди Баччо Биджо добился даже повышения и был назначен главой административного совета стройки. Такого Микеланджело не мог стерпеть и вне себя от негодования направил папе письмо, потребовав удаления Биджо и угрожая в противном случае отставкой с поста главного архитектора собора. Напуганный грозным тоном письма, папа его отставку не принял, а Биджо прогнал со стройки.
Узнав о новых неприятностях Микеланджело и всё ещё лелея надежду заполучить его к себе, Козимо I направил в Рим посланца с новыми посулами и предложениями. Своими соображениями по поводу этого визита Микеланджело поделился с Вазари, зная наперёд, что высказанные им мысли тут же будут доведены до сведения герцога: «Мессер Джорджо, друг мой, в один из этих вечеров меня дома навестил скромный юноша, камердинер герцога, и сделал мне с любовью и признательностью те же предложения от Его светлости, что и Вы в Вашем последнем письме… Я попросил Его светлость, чтобы он дозволил мне продолжить здесь строительство базилики Святого Петра… потому что если я уеду раньше, то буду причиной большого несчастья, стыда и греха».
Накануне пасхальных праздников папа пригласил его к себе, чтобы узнать, как продвигается строительство собора, и показал ему полученную в дар из Милана от известного скульптора Леоне Леони медаль с изображением Микеланджело. На её оборотной стороне дана фигура слепца с посохом в окружении библейских героев, а поверх выгравирована надпись: «Я научу путём твоим идти заблудших и грешники вернутся к Богу» (Docebo iniquos vias tuas et impii ad te convertentur). Это строка из пятидесятого псалма Miserere («Помилуй мя, Боже»), который обычно исполняется на Страстную пятницу.
Микеланджело польстила честь быть изображённым на медали, но он не мог взять в толк, почему пастырь с посохом слепой. Ведь он ясно видел подсказанный ему свыше путь к искуплению и ревностно ему следовал. Однако от высказывания своего недоумения Пию IV воздержался.
— Видишь, — сказал папа, — как высоко оценил твои деяния миланский коллега, придворный медальер покойного Карла V? Так что постарайся исполнить наш заказ.
Он без труда уговорил Микеланджело взяться за возведение ворот Порта Пия в городской стене, существующей со времён Марка Аврелия. Новая стройка была неподалёку от возводимой базилики Санта Мария дельи Анджели, и Микеланджело внял просьбе папы.
Эта работа престарелого Микеланджело производит странное впечатление своей не свойственной ему ранее декоративностью, нарочитой игрой светотеневых эффектов и контрастов. Сама арка ворот украшена богатым орнаментом, боковыми каннелированными пилястрами, лишёнными капителей, и волютами наподобие раковин улиток. Здесь полный отход и забвение традиций классической архитектуры, когда всё подчинено какому-то закону, известному лишь самому мастеру, который всегда был сам себе законом. Чувствуется, что в проекте заключена некая неразгаданная тайна. Эти ворота ведут по прямой и широкой улице Номентана с её вековыми платанами в едва различимое далёкое будущее, словно предвосхищая дальнейшее развитие архитектуры на ближайшее столетие.106
Страдая от бессонницы, Микеланджело по ночам работал над изваянием, так и оставшимся незавершённым. После разбитой им в порыве нервного срыва «Пьета» он высекал из мраморной глыбы новое Снятие с креста, или «Пьета Палестрина» высотой 2,53 метра (Флоренция, Академия).
Здесь мы видим ту же пирамидальную композицию, вершиной которой является теперь голова Богоматери, прижимающей к себе правой рукой снятое с креста безжизненное тело Христа. Справа тело с трудом удерживает Магдалина, устремившая взор в сторону, словно прося мир о помощи и сострадании. Микеланджело применил излюбленный им метод контрапоста, когда головы Богоматери и Христа обращены в одну сторону, а согнутые колени мёртвого тела и голова Магдалины повёрнуты в противоположном направлении, что придаёт изваянию пластическую напряжённость.
После смерти автора незаконченная скульптура была найдена в заставленном блоками мрамора дальнем углу мастерской на Macel dei Corvi. Вскоре она попала в городок Палестрина под Римом, родовое поместье семейства Колонна, что и дало название самой скульптуре. В 1623 году при папе Урбане VIII поместье перешло в собственность семейства Барберини. В инвентарном списке передаваемого имущества новым владельцам среди прочих ценностей значилась «Пьета», но без упоминания имени автора. Долгое время изваяние считалось анонимным или приписывалось одному из учеников Микеланджело. Такого мнения придерживались некоторые известные искусствоведы, включая Толнея. Но истина была установлена, и отныне «Пьета Палестрина» благодаря исследованиям многих учёных (здесь своё веское слово высказали наши искусствоведы Алпатов, Лазарев и другие) безоговорочно считается работой самого Микеланджело, хотя у всезнающего Вазари о ней даже нет упоминания.
* * *
Через испанского посла Микеланджело была передана просьба короля Филиппа II соорудить в Эскориале надгробие покойному отцу, Карлу V. Он вынужден был ответить вежливым отказом, сославшись на возраст и недомогание. Так случилось, что его отказ совпал с неожиданным обострением отношений между Испанией и Ватиканом. Недовольный дружбой папы с ненавистной Францией, мстительный Филипп ради устрашения направил палача нидерландского народа герцога Альбу в поход на Рим. Рассказы о зверствах испанцев в недоброй памяти «римском мешке» живо вспомнились Микеланджело, и он, бросив всё, в ужасе бежит в горы. Из письма племяннику известно, что поначалу он намеревался направиться в Лорето, куда его усиленно приглашал один из местных магнатов, но по дороге, выбившись из сил, остановился в одном монастыре под Сполето.
Монахи-францисканцы приняли старого мастера почти как святого, окружив его заботой и вниманием. Недели две, проведённые в лесном массиве в горах, благотворно на него подействовали. Страхи улеглись, и это было последнее проявление паники, подавлявшей волю и затмевавшей разум.
Всё обошлось без эксцессов. Довольный и умиротворённый он вернулся в Рим, где его заждалась давно начатая работа над узкой глыбой мрамора, поставленной стоймя, из которой он высекал последнюю свою скульптуру, «Пьета Ронданини» (Милан, музей замка Сфорца). Это самое трагическое его творение. Работая над неподатливой глыбой, он мысленно прощался с жизнью и с идеалами Возрождения, в которые свято верил, считая, что человек, преисполненный беспредельной творческой силы и присущей ему колоссальной созидательной энергии, способен посредством искусства стать равным Богу. Но теперь с каждым ударом молотка по долоту, отсекающему от глыбы лишние пласты, всё это представлялось ему сплошным заблуждением.
В отличие от предыдущей «Пьета Палестрина», где Магдалина обращает взор к людям, здесь налицо уже полная отрешённость от мира. В работе над последней «Пьета» его не покидали сомнения, и он обращался за помощью к Богу:
Придай святым молитвам больше страсти И просвети мой дух в земной юдоли! Я подчинялся несчастливой доле И пожинал за тяжкий труд напасти. Всё на земле Твоей причастно власти, Без коей семя не взрастёт на поле. И я, как все, послушный высшей воле, Надеюсь на спасение отчасти (292).В двух одиноких фигурах, затерянных в бесконечной Вселенной с её первозданной тишиной (Silentium), Микеланджело выразил своё безмерное отчаяние. Тело мёртвого Христа сливается с фигурой Богоматери, чья скорбь безмолвна. Рядом торчит часть незаконченной руки с проступившей мышцей. Но Микеланджело настолько обессилел, отсекая лишние пласты, что вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы с упрямой неподатливой материей.
Обе слившиеся фигуры неустойчивы и охвачены развёрнутым по параболе движением, а их тела обрели неестественно вытянутые пропорции; они почти бесплотны и хрупки. Создаётся впечатление, что пластическая масса фигур испарилась, а духовному началу здесь ничто более не противостоит, и оно одерживает верх над земным, материальным.
Поскольку материя почти растворилась, то трудно назвать этот художественный образ скульптурой в подлинном понимании слова. Это скорее метафизический образ духа, выражающий неизбывную трагедию одиночества, которую испытывал сам Микеланджело. Если бы не было пьедестала, то казалось бы, что обе бесплотные фигуры, как призраки, парят в воздухе, а перед ними старый немощный мастер в ожидании встречи с ними в потустороннем мире.
Изваяние так и осталось незавершённым, non finite, хотя подлинная незавершённость кроется не в отдельных скульптурах и не в эстетической подоплёке. Объяснение ей сокрыто не только в неизбывных и мучительных мечтах великого творца о грандиозном, вечном, но и в осознании невозможности достичь подлинного совершенства, что проявилось столь наглядно и в гробнице Юлия, и в возводимом соборе Святого Петра. Микеланджеловское non finite в нём самом, в его отшельническом образе жизни. Дружба, которую он так ценил, имеет свой конец, а вот его постоянное одиночество бесконечно…
О дне последнем мыслю непрестанно И в камне силюсь вечное раскрыть, Но смерть и творчество несовместимы. Служил бы я искусству постоянно, Когда б дано мне было снова жить… Пути Господни неисповедимы (284).«Пьета Ронданини» своим названием обязана тому, что последним её владельцем было семейство Ронданини, чей дворец на Корсо в центре Рима до сих пор привлекает внимание своей импозантностью. До последнего времени там располагались шахматный клуб и славящийся отменной кухней ресторан. В середине XIX века во дворце Ронданини, где в тесном внутреннем дворике под открытым небом стояла неприкаянная незаконченная «Пьета Ронданини», одно время располагалось посольство России.
Идеологи Контрреформации не поняли эту незавершённую работу и обошли её своим вниманием. Видимо, не обратил на неё внимание, как и на «Пьета Палестрина», недалёкий Лионардо, примчавшийся в Рим, узнав о смерти дяди, чтобы вступить в права наследника его имуществом, и обе незаконченные скульптуры непонятным образом оказались в частных руках. Можно только посетовать, что российские дипломаты проявили непростительную близорукость и отсутствие художественного чутья, не выкупив у обедневших Ронданини гениальное изваяние, которое было у них под рукой. Лишь в 1952 году неприкаянная скульптура, о которой мало что было известно, оказалась выкупленной у бывших владельцев Миланским муниципалитетом и нашла достойное место в музее.
Эти два величайших non finite не были поняты и оценены по достоинству современниками Микеланджело. Сотворяя их, старый мастер смотрел далеко вперёд через грядущие столетия. Таким зрением и предвидением, а также верой в своё творение обладает только истинный гений.
Предчувствие неизбежного трагического конца не покидало его, что сказалось на усилении у него апокалиптических настроений. В одном из архивов найден последний поэтический фрагмент, в котором звучит полное отчаяния обращение к Богу как единственному спасительному началу:
Господь, я грешен и познал провал, Отдав себя на тяжкие терзанья. Огня невыносимо испытанье, И я от мук почти в безумье впал. Бывало, чувства я в узде держал И властно подавлял в груди желанья. Отныне нет мне больше оправданья, И я на склоне лет умней не стал (XXXI).В последние месяцы жизни Микеланджело окончательно замкнулся в своём одиночестве и старался как можно реже показываться на люди, понимая, что своей немощью пугает или вызывает раздражение у окружающих, вечно куда-то спешащих и занятых своим делом. Как вспоминает его друг кардинал Беккаделли, великий мастер спокойно воспринимал дряхление и не впал в состояние аскетической атараксии, постоянно ощущая рядом дыхание смерти.107 В его римском доме над лестницей висел упомянутый ранее рисунок призрака смерти, несущего гроб на плечах, а под ним написанное от руки трёхстишие:
Вы, ослеплённые мирской тщетою, Отдавшие ей разум, плоть и душу, Всем встреча уготована со мною! (110)Микеланджело никак не мог отнести к себе это грозное предостережение. Оно обращено скорее к эпикурейцам и бездумным прожигателям жизни, которых было немало в его близком окружении — взять хотя бы тех же Дель Риччо и дель Пьомбо или весельчака Кондиви, погибшего во время небывалого по разрушительной силе весеннего паводка. Сам он всю жизнь платил горбом за предоставленную ему возможность жить и творить. Как и английский поэт Джон Донн, которому однажды явилось озарение в одном из спиритуальных сонетов, Микеланджело сделал для себя важное открытие, что «я» — это и есть non finite, которое бесконечно, а потому смерть рассматривалась им не иначе как высший опыт осмысления жизни.
В начале февраля в письме племяннику он сообщил, что у него отказала рука и ему приходится теперь диктовать свои письма. Прохожие, заслышав привычный стук молотка о камень, раздававшийся из дома Микеланджело, осеняли себя крестным знамением, радуясь, что великий мастер ещё жив и продолжает трудиться. За четыре дня до кончины ученик Тиберио Калканьи повстречал его бродящим по Риму под дождём. Промокнув до нитки, он дрожал от холода и промолвил с трудом, что нигде не может найти себе покоя. Ученик проводил его до дома. На следующий день, чтобы одолеть дремоту и встряхнуться, Микеланджело предпринял попытку прокатиться верхом, но силы его оставили. Почувствовав головокружение и боясь потерять сознание, он вернулся в дом, устроившись в кресле у камина. Появившегося Даниэле да Вольтерра он попросил побыть с ним.
— Даниэле, не оставляй меня одного. Мне что-то нынче не по себе.
В тот же день ученик отправил с курьером письмо племяннику Лионардо, оповестив его о плохом состоянии дяди. В среду 16 февраля пришедшие друзья и врач уложили его в постель. Он был в жару, и его била лихорадка. На следующий день в четверг, придя немного в себя и согревшись, он продиктовал Кавальери, которого сделал душеприказчиком, завещание из трёх пунктов: душу — Господу Богу, тело — земле, а имущество — близким родственникам. Приглашённый знакомый нотариус заверил подписью и скрепил печатью составленное завещание.
Друзья провели подле него всю беспокойную ночь. Во сне он то и дело вскрикивал, пытаясь подняться, но силы оставляли его и он впадал в кому. Утром дыхание участилось, но с каждым вырывающимся из груди хрипом жизнь постепенно угасала в измученном болезнью теле. Видя, как в тумане, стоящих подле людей, он понял, что «ноги протянуть приспело время». Доктор ничем уже не в состоянии был помочь ему и еле сдерживал слёзы.
В пятницу 18 февраля в 16.45 пополудни сердце Микеланджело перестало биться. Не было ни причастия, ни отпевания, и смерть он встретил спокойно, не проронив ни слова, в окружении близких ему людей, которые и закрыли ему веки.
Тело было перенесено в ближайшую церковь Двенадцати апостолов, пока появившаяся комиссия Римской курии приступила к описи имущества в доме покойного. Официальный Ватикан воспринял смерть Микеланджело довольно холодно. Но его эмиссарам было строго-настрого предписано проследить, чтобы ничто не пропало из дома мастера, особенно чертежи и рисунки. Предусмотрительный слуга Франчези сумел заранее припрятать на стороне подаренную ему мастером покалеченную «Пьета», а на две незаконченные скульптуры ватиканские чиновники не обратили внимания, сочтя их испорченными рабочими заготовками среди прочих обломков мрамора и едва обтёсанных резцом глыб.
Пока власти раздумывали, как и где похоронить усопшего, в Рим прискакал племянник Лионардо в сопровождении доверенных лиц герцога Козимо I со строгим наказом доставить любой ценой тело великого мастера во Флоренцию. Началась эпопея с возвращением Микеланджело на родину, куда живому, как он сам выразился, путь ему был заказан. Сама эта история напоминает событие, произошедшее в 828 году, когда венецианским купцам удалось обманным путём вывезти из египетской Александрии мощи евангелиста Марка.
Тело Микеланджело было помещено в обычный ящик с ветошью и тайком ночью вынесено из церкви. Не вызвав подозрения таможенников у только что возведённых мастером городских ворот Порта Пия, повозка с телом усопшего проследовала дальше. Опасались погони, но всё прошло благополучно, так как исчезновение тела не сразу было обнаружено. Гроб предусмотрительно был оставлен в церкви закрытым, а преданный друзьям мастера молодой клирик беспрерывно читал заупокойные молитвы, что ввело в заблуждение церковные власти, для которых смерть Микеланджело была лишней головной болью.
Узнав, что тело покойного мастера непонятным образом оказалось во Флоренции, папа и Римская курия вздохнули с облегчением. Поэтому поражает своей фальшью настенная фреска художника Фурини, появившаяся в 1628 году в доме Буонарроти по заказу всё того же внучатого племянника, на которой Микеланджело изображён как праведник на смертном одре в окружении святых и ангелов.
Как пишет Вазари, прощание было многолюдным и трогательным, со слезами на глазах. Горожане от мала до велика ринулись к церкви Сан Пьетро Маджоре, чтобы попрощаться с великим творцом и гражданином. Когда гроб был открыт, собравшиеся увидели высохшее тело старца со скрещенными на груди мозолистыми руками великого труженика. Затем было долгое отпевание, пока тело не было захоронено в семейном склепе Буонарроти в церкви Санта Кроче.
На состоявшейся 14 июля гражданской панихиде выступили многие известные ученые, художники и поэты. Особенно проникновенно прозвучало прощальное слово, произнесённое гуманистом Варки, который отметил, что «полностью осознать Буонарроти невозможно», настолько велико, многогранно и всеобъемлюще содеянное им, и учёный был прав. В конце своего выступления Варки напомнил, перефразируя один из сонетов Микеланджело, что всеми помыслами творец был в вечность устремлён, а высекать кресалом златые искры — таким в искусстве видел свой удел. Но если б жить было дано ему опять, он непременно снова взялся бы ваять.
Всё в Микеланджело было несоразмерно, и даже прощание с ним растянулось на несколько месяцев. Но он не слышал произносимых о нём речей, ибо его душа, покинув бренное тело, устремилась к Богу. Великий мастер давно ждал свой конец и спокойно расстался с жизнью. Закончились его земные муки. Отныне он безраздельно и по праву принадлежит вечности, а благодарные потомки не перестают восхищаться его деяниями, которые возносят человека до небес, дерзко ставя его вровень с Создателем.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ
1475, 6 марта — родился в городке Капрезе (Тоскана) в семье Лодовико ди Лионардо ди Буонаррото Симони и Франчески ди Нери ди Миньято дель Сера.
1481 — смерть матери.
1483 — поступление в частную школу грамматика Франческо да Урбино.
1488, 1 апреля — принят учеником в мастерскую Гирландайо.
1489 — начинает посещать школу ваяния мастера Бертольдо в садах Сан Марко.
1490-1491 — первая работа «Смеющийся фавн» (утеряна). Приглашение Лоренцо Медичи жить в его дворце. Знакомство и дружба с членами «платонической семьи» и первые поэтические опыты. Создание мраморных барельефов «Мадонна у лестницы», «Битва кентавров» и «Аполлон и Марсий» (утерян).
1492, 8 апреля — смерть Лоренцо Великолепного, возвращение в отчий дом. Анатомирование трупов в скудельне монастыря Сан Сильвестро. Изваяние «Геракла», приобретённое Строцци (утеряно). Лепка снежного Геракла по заказу Пьеро Медичи. Деревянное «Распятие» для монастыря Сан Сильвестро (утеряно).
1494, осень — бегство из Флоренции под влиянием пророчеств Савонаролы. Первое знакомство с Венецией.
1495 — возвращение во Флоренцию. Создает статуи святого Джованнино (утеряна) и «Спящего Купидона», проданную римскому перекупщику как античное изваяние.
1496, 25 июня — первая встреча с Римом. Знакомство с кардиналом Риарио и банкиром Галли, для которого были созданы «Вакх» и «Аполлон Лучник» (утерян).
1498, 23 мая — казнь Джироламо Савонаролы.
27 августа — подписание контракта на «Пьета» для базилики Святого Петра.
1499, декабрь — возвращение во Флоренцию.
1501, 3 июня — подписание контракта на изваяния для алтаря Пикколомини в соборе Сиены.
16 августа — контракт на создание «Давида».
1502 — работа на статуей Давида в бронзе для французского маршала Рогана (утеряна).
1503 — начало работы над фигурой апостола Матфея.
1504 — по заказу гонфалоньера Содерини работает над картоном «Битва при Кашине».
1505, март — возвращение в Рим по приглашению папы Юлия II. Начало работы над гробницей Юлия. С апреля по декабрь работает в каменоломнях Каррары, наблюдая за добычей отборного мрамора для папской гробницы.
1506, 17 апреля — закладка первого камня под фундамент будущего собора Святого Петра. Не добившись встречи с папой, в гневе покидает Рим.
27 ноября — под нажимом Содерини отправляется в Болонью для встречи с папой, где получает заказ на бронзовую скульптуру папы на фасаде собора Сан Петронио.
1508, 21 февраля — торжественное открытие статуи Юлия II в Болонье.
10 мая — подписание контракта на роспись плафона Сикстинской капеллы.
1510, сентябрь — открыта для обозрения первая половина росписи плафона Сикстинской капеллы.
1511 — бронзовая статуя Юлия сброшена с портала собора по приказу тиранов Бентивольо.
1512, октябрь — завершение фрескового цикла в Сикстинской капелле.
1513, 24 февраля — смерть Юлия II.
6 мая — подписание контракта на папскую гробницу с его наследниками.
1514 — начало работы над статуей Христа для римской церкви Санта Мария сопра Минерва.
1516, 8 июля — подписание нового контракта на гробницу Юлия.
1517-1518 — поездки в Каррару и Пьетрасанту за мрамором для гробницы Юлия и фасада Сан Лоренцо по заказу нового папы Льва X.
1519, 2 мая — смерть Леонардо да Винчи во Франции.
1520, 12 марта — папа Лев X разрывает контракт на оформление фасада Сан Лоренцо.
6 апреля — смерть Рафаэля.
1521 — начало работ над гробницами в капелле Медичи.
1522 — наследники Юлия просят нового папу, Адриана IV, потребовать от мастера выполнения обязательств по контракту.
1523 — после Адриана новым папой становится Климент VII, который даёт Микеланджело заказ на возведение библиотеки Лауренциана. В последующие годы обстановка в Европе обострилась из-за противодействия между Испанией и Францией. Работа в капелле Медичи шла урывками из-за нехватки средств и эпидемии чумы.
1527, 6 мая — войско Карла V захватило Рим, отданный на разграбление солдатне. Во Флоренции 16 мая вспыхнуло восстание, изгнавшее Медичи и их сторонников. Микеланджело входит в Совет девяти и становится руководителем всех фортификационных сооружений, совершив инспекционные поездки в Пизу, Ареццо и Феррару.
1528, 2 июля — смерть от чумы любимого брата Буонаррото, оставившего двух сирот, о которых Микеланджело будет заботиться до конца своих дней.
1529, 21 сентября — бегство из осаждённой Флоренции в Венецию.
30 сентября — объявлен правительством вне закона с конфискацией имущества.
24 ноября — возвращается во Флоренцию и, будучи прощён, занимает своё место среди защитников республики.
1530 — возобновление работ в капелле Медичи.
1531, 2 мая — город предательски сдан врагу. Началась жестокая расправа над повстанцами.
1532 — распоряжение Климента VII, запрещающее мастеру браться за какие-либо заказы. Ему велено продолжить работу над капеллой Медичи и библиотекой Лауренциана.
1534, 15 сентября — смерть отца и отъезд из Флоренции навсегда.
1535, 1 сентября — папа Павел III назначает Микеланджело художником, скульптором и архитектором Ватиканского дворца.
1536, весна — начало работ над фресковой росписью «Страшный суд», знакомство с маркизой Витторией Колонна.
1537, 10 декабря — провозглашение на Капитолии почётным гражданином Рима.
1539 — в знак дружбы дарит бюст Брута Донато Джаннотти.
1541, 31 октября — открыта для обозрения фреска «Страшный суд».
1542, 20 августа — подписание последнего контракта на гробницу Юлия. Начало работ осенью в капелле Паолина.
1545 — завершение работ над гробницей Юлия в церкви Сан Пьетро ин Винколи. Созыв Тридентского собора и начало Контрреформации.
1546 — дарит Роберто Строцци фигуры двух пленников, предназначавшихся для гробницы Юлия. Приступает к работе над рукописями стихов для задуманного сборника.
1547, 1 января — назначается Павлом III префектом и главным архитектором строящегося собора Святого Петра.
25 февраля — смерть Виттории Колонна.
Весна-лето — работа по реорганизации Капитолийского холма и завершение строительства дворца Фарнезе.
1548-1549 — написание в капелле Паолина фресок «Распятие апостола Петра» и «Обращение Савла».
14 ноября — смерть Павла III.
1550-1555 — руководство работами по возведению собора Святого Петра. По заказу Павла IV осуществляет работы по строительству церкви Санта Мария дельи Анджели на месте терм Диоклетиана. Высекает из глыбы четырёхфигурную «Пьета», которую покалечил в момент нервного срыва.
1557-1558 — заканчивает деревянную модель купола для собора Святого Петра и высекает «Пьета Палестрина».
1561 — последнее проявление паники и бегство в горы под Сполетто.
1562 — работа над изваянием «Пьета Ронданини».
1563, 28 декабря — оповещает племянника о невозможности ответить на его последние письма из-за бездействия руки.
1564, 18 февраля — смерть в 16.45 пополудни. Через два месяца на свет появился Шекспир.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
Андреев М. Л., Хлодовский Р. Л. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
Антология мировой философии. Т. 2. М., 1970.
Арган Дж. История итальянского искусства. М., 1990.
Архитектурное творчество Микеланджело. М., 1936.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М., 1995.
Беренсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
Брион М. Микеланджело. М.: Молодая гвардия, 2002.
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. А. Венедиктова и Г. Габричевского. М., 1970.
Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. М., 1977.
Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
Дживелегов А. К. Микеланджело. М., 1938.
Жизнь и творчество Микеланджело. М., 1954.
История Италии. М., 1970. Т. 1.
Клулас И. Лоренцо Великолепный. М., 2007.
Кондиви А. Жизнь Микеланджело. М., 2002.
Культура Возрождения и власть. М., 1999.
Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981.
Лазарев В. Н. Микеланджело. Жизнь. Творчество. М., 1964.
Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
Люкимсон П. Е. Моисей. М.: Молодая гвардия, 2011.
Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1981.
Манн Т. Эротика Микеланджело. — В кн.: Манн Т. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1961.
Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. М., 2000.
Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994.
Роллан Р. Жизнь Микеланджело. Калининград, 2001.
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.
Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. М., 1985.
Стоун И. Муки и радости. М., 1991.
Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. М., 1958.
Эстетика Ренессанса. М., 1981. Т. 1.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Michelangelo
Дом в тосканском городке Капрезе, где родился Микеланджело
Вид Флоренции XV века
Джорджо Вазари. Портрет Лоренцо Медичи. Флоренция, Уффици
Бартоломео Делла Порта. Портрет Савонаролы. Флоренция, музей Сан Марко
Мадонна у лестницы. Флоренция, Музей Буонарроти
Битва кентавров. Флоренция, Музей Буонарроти
Вакх. Флоренция, Барджелло
Мадонна с младенцем. Брюгге, церковь Богоматери
Тондо Таддеи. Лондон, Королевская академия
Рисунок для скульптуры Давида в бронзе. Париж, Лувр
Тондо Питти. Флоренция, Барджелло
Копия с уничтоженного картона «Битва при Кашине»
Апостол Матфей. Флоренция, Академия
Раб, названный «Атлант». Флоренция, Академия
Скорчившийся мальчик. Санкт-Петербург, Эрмитаж
Давид-Аполлон. Флоренция, Барджелло
Христос, несущий крест. Рим, церковь Санта Мария сопра Минерва
Гробница Юлия II. Рим, церковь Сан Пьетро ин Винколи
Портрет Виттории Колонны работы Себастьяно Дель Пьомбо. Рим, Музей дворца Венеция
Фрагмент фрески «Страшный суд». Святой Варфоломей держит в руке автопортрет-маску Микеланджело
Брут. Флоренция, Барджелло
Рисунок головы Леды. Флоренция, Музей Буонарроти
Ансамбль Капитолийского холма
Флоренция. Лестница библиотеки Лауренциана
Рим. Дворец Фарнезе
Римский дом Микеланджело. В конце XIX века был разобран и перенесен на холм Яникул
Надгробие Микеланджело работы Вазари в церкви Санта Кроче во Флоренции
Купол собора святого Петра
Пьета. Рим, собор святого Петра
Тондо Дони. Флоренция, Уффици
Давид. Флоренция, Академия
Победа. Флоренция, Палаццо Веккьо
Умирающий раб. Париж, Лувр
Восставший раб. Париж, Лувр
Дельфийская Сивилла. Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы
Плафон Сикстинской капеллы. Ватикан
«Сотворение Адама». Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы
«Грехопадение». Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы
Общий вид Сикстинской капеллы
Гробница Джулиано Медичи. Флоренция, капелла Медичи
Снятие с креста. Флоренция, музей при соборе Санта Мария дель Фьоре
Распятие святого Петра. Ватикан, капелла Паолина
Пьета Палестрина. Флоренция, Академия
Пьета Ронданини. Милан, музей замка Сфорца
1
Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. М., 2000. Здесь и далее эпиграфы к главам и стихи Микеланджело даются в моём переводе с нумерацией, соответствующей итальянскому изданию 1960 года, признанному каноническим (римскими цифрами отмечены фрагменты из того же издания). Стихи других поэтов также приводятся в моём переводе, если переводчик не указан. — Прим. авт.
(обратно)2
Петрарка Ф. Автобиография. М., 1915.
(обратно)3
Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.
(обратно)4
Россия и Италия. М., 1993. С. 283.
(обратно)5
Баткин Л. М. Микеланджело и его время. М., 1964. С. 138.
(обратно)6
Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963. С. 47.
(обратно)7
Saitta G. Marsilio Ficino е la filosofia dell’Umanesimo. Bologna, 1954. P. 147.
(обратно)8
Schelling F. W. J. Le arti figurative e la natura. Milano, 2002. P. 57.
(обратно)9
Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1970.
(обратно)10
Simmel G. Michelangelo. Milano, 2003. Р. 11.
(обратно)11
Кондиви А. Жизнь Микеланджело. М., 2002.
(обратно)12
Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С. 147.
(обратно)13
Гёте И. В. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1980. С. 74.
(обратно)14
Вёльфлин Г. Классическое искусство. М., 2004. С. 64.
(обратно)15
Здесь и далее стихи Лоренцо Медичи даются по изданию: Lorenzo de Medici. Tutte le opere. Vol. II. Scritti damore. Milano, 1958.
(обратно)16
Storia e antologia della letteratura italiana. Milano, 1973.
(обратно)17
Alberti L. B. Opere volgari. Bari, 1966. P. 300.
(обратно)18
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Ч. 2. Саратов, 1988.
(обратно)19
Рафаэль и его время. М., 1986. С. 9.
(обратно)20
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
(обратно)21
Здесь и далее стихи Данте приводятся в переводе М. Лозинского.
(обратно)22
Эстетика Ренессанса. Т. 1. М., 1981.
(обратно)23
Lorenzo de Medici. Op. cit.
(обратно)24
Мамардашвили M.К. Лекции по античной философии. М., 1999. С. 310.
(обратно)25
Там же. С. 122.
(обратно)26
Челлини Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. М., 1958.
(обратно)27
Ridolfi R. Vita di Girolamo Savonarola. Vol. 1. Roma, 1952.
(обратно)28
Garin E. Medioevo e Rinascimento. Bari, 1954. P. 91-92.
(обратно)29
Лосев А. Ф. Указ. соч.
(обратно)30
Saitta G. Op. cit.
(обратно)31
Montanari T. A cosa serve Michelangelo? Torino, 2011.
(обратно)32
История Италии. T. 1. M., 1970.
(обратно)33
Широкорад А. Б. Италия: враг поневоле. М., 2010. С. 31.
(обратно)34
Carteggio di Michelangelo. Vol. 1-5. Firenze, 1965-1983. Микеланджело. Жизнь и творчество. М., 1964.
(обратно)35
Эта картина в 2012 году была показана в числе других работ Караваджо в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве в рамках дней культуры и искусства Италии.
(обратно)36
Ridolfi R. Указ. соч.
(обратно)37
Кристофанелли Р. Дневник Микеланджело Неистового. М., 1985. С. 397.
(обратно)38
Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977. С. 300.
(обратно)39
Роден О. Мысли об искусстве. М., 2000. С. 6.
(обратно)40
Vasari G. Vite dei piu eccellenti architetti, pittori, scultori. Milano, 2005.
(обратно)41
Россия и Италия. M., 1993. С. 63.
(обратно)42
Malvasia С. Vite dei pittori bolognesi. Bologna, 1971.
(обратно)43
Леонардо да Винчи. Сказки, легенды и притчи. М., 2013.
(обратно)44
Uffizi е Pitti. Catalogo. Magnus, 1994. Р. 163.
(обратно)45
Storia е antologia della letteratura italiana. Указ. соч.
(обратно)46
Роллан P. Жизнь Микеланджело. Калининград, 2001.
(обратно)47
Ridolfi R. Vita di Macchiavelli. Roma, 1952.
(обратно)48
Челлини Б. Указ. соч.
(обратно)49
Cloulas I. Giulio II. Roma, 1993.
(обратно)50
Чистяков Г. П. Пятикнижие: дорога к свободе. М., 2011. С. 211.
(обратно)51
Эстетика Ренессанса. С. 264.
(обратно)52
Cloulas I. Op. сit.
(обратно)53
Segreti della Sistina. Milano, 2001.
(обратно)54
Косидовский 3. Библейские сказания. M., 1987. С. 28.
(обратно)55
Брион М. Микеланджело. М., 2002.
(обратно)56
Леонардо да Винчи. Указ. соч.
(обратно)57
Зайцев Б. Литературные биографии. М., 1994. С. 105.
(обратно)58
Стендаль. Собр. соч. Т. 10. М., 1959. С. 489.
(обратно)59
Микеланджело и его время. М., 1978. С. 51.
(обратно)60
Profilo storico della letteratura italiana. Brescia, 1971.
(обратно)61
Манн T. Эротика Микеланджело. В кн.: Манн Т. Собрание сочинений. Т. 10. М., 1961.
(обратно)62
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 9. М., 1978. С. 203.
(обратно)63
Carteggio. Указ. соч.
(обратно)64
Storia е antologia della letteratura italiana.
(обратно)65
Богиня справедливости.
(обратно)66
Папа Климент VII, один из главных виновников падения Флорентийской республики.
(обратно)67
Кардинал Ипполит Медичи, внебрачный сын Джулиано Медичи, герцога Немурского.
(обратно)68
Придворный стихотворец Ф. М. Мельци, автор сочинений непристойного содержания.
(обратно)69
Автор оказался провидцем: вскоре Берни был отравлен по приказу Медичи.
(обратно)70
Намёк на одного из лидеров движения Реформации Пьеро Карнесекки, позднее сожжённого на костре инквизиции (ещё одно провидческое предсказание). В строке обыгрывается его имя (came — мясо, secco — сухой).
(обратно)71
Cristofanelli R. Diario di Michelangeli il pazzo. Milano, 1968.
(обратно)72
Челлини Б. Указ. соч.
(обратно)73
Дживелегов А. К. Микеланджело. М., 1938.
(обратно)74
Диалоги о Данте. — В кн.: Жизнь и творчество Микеланджело.
(обратно)75
В те годы Николай Коперник находился в Италии, где начал излагать основы гелиоцентрической системы.
(обратно)76
Sonetti di Vittoria Colonna. Milano, 1882.
(обратно)77
Третьего не дано (лат.).
(обратно)78
Зарезав Алессандро в январе 1537 года, его троюродный брат Лоренцо по прозвищу Лорензаччо, сбежал в Венецию, где опубликовал «Апологию», в которой оправдывалось политическое убийство. Вскоре он сам пал жертвой наёмного убийцы.
(обратно)79
Fransisco d'Oltanda. Dialoghi romani con Michelangelo. Milano, 1964.
(обратно)80
Впоследствии картина была утеряна.
(обратно)81
По преданию, евангелист Лука был живописцем и потому считается покровителем художников.
(обратно)82
Культура эпохи Возрождения и Реформация. Л., 1981. С. 90.
(обратно)83
Дунаев Г. С. «Страшный суд» Микеланджело // Художник. 1970. № 12.
(обратно)84
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Калининград, 1999. С. 419.
(обратно)85
De Maio R. Michelangelo e la Controriforma. P. 309.
(обратно)86
Приведём сонет Беккаделли, присланный из Рагузы:
За Альпами в снегах лежит Германия, Где жил я лишь желанием одним: Увидеть Микеланджело и Рим, И о возврате были все старания. Пока читаешь ты моё послание, Я вижу море, цепи гор и дым. К родимым берегам душой гоним, Не в силах я сдержать в груди рыдание. Как люди ни приветливы окрест, От Неба я не отрываю взгляда. Оно в ответ: «Неси свой крест, И за смиренье ждёт тебя награда, Когда увидишь с переменой мест Буонарроти — в нём твоя отрада». (обратно)87
Форчеллино А. Микеланджело: Беспокойная жизнь. М., 2011.
(обратно)88
Фрейд 3. Леонардо да Винчи. Л., 1991.
(обратно)89
Dal Poggetto Р. I disegni murali nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo. Firenze, 1978.
(обратно)90
Лосев А. Ф. Указ. соч.
(обратно)91
Задаривая разгневанного мастера подарками, Дель Риччо ответил ему следующим мадригалом:
Не может удручать Сердечная услуга, И, думаю, не стоит так роптать, А должно друг для друга Пойти на жертву, не страшась тюрьмы, Потерь непоправимых и сумы. За что обрящем мы вознагражденье. Губительны для дружбы недомолвки, Обиды, ссоры и любые тренья. Упрёки ваши непомерно колки. (обратно)92
В греческой мифологии Арахна — искусная ткачиха, состязавшаяся в мастерстве с Афиной Палладой и превращённая ею за дерзость в паука.
(обратно)93
De Maio R. Указ. соч. С. 468.
(обратно)94
Foscolo U. Opere. Vol. X. Firenze, 1953. Р. 447.
(обратно)95
Rilke R. М. Il libro d’ore. Firenze, 1968.
(обратно)96
Гёте И. В. Указ. соч.
(обратно)97
De Maio R. Op. cit. C. 468.
(обратно)98
Papini G. La vita di Michelangelo nella vita del suo tempo. Milano, 1949.
(обратно)99
Fubini M. Michelangelo fu anche poeta? // Stampa. 1964. 17 февраля.
(обратно)100
Ungharetti G. Vita d’un uomo — saggi e interventi. Milano, 1974.
(обратно)101
Testori G. Rime di Michelangelo. Milano, 1975.
(обратно)102
Girardi E. N. La critica letteraria su Michelangelo. Roma, 1964.
(обратно)103
Алпатов M. В. Указ. соч. С. 128.
(обратно)104
Эфрос А. М. Микеланджело. Стихотворения. М., 1992.
(обратно)105
Микеланджело Буонарроти. Стихотворения. М., 2000.
(обратно)106
Архитектурное творчество Микеланджело. М., 1936.
(обратно)107
De Maio R. Op. cit. C. 431.
(обратно)


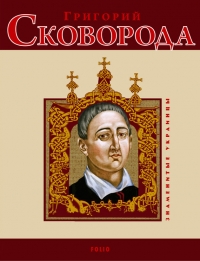

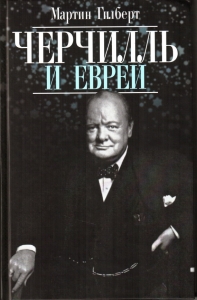

Комментарии к книге «Микеланджело», Александр Борисович Махов
Всего 0 комментариев