Вадим Эразмович Вацуро ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
От составителя
В 1999 году Вадим Эразмович Вацуро подготовил к печати сборник своих избранных статей «Пушкинская пора», выпущенный петербургским издательством «Академический проект» в 2000 году уже после смерти автора. В 2000–2001 гг. жена Вадима Эразмовича Тамара Федоровна Селезнева проделала кропотливейший труд, собрав из разрозненных рукописей книгу, наброски к которой В. Э. Вацуро делал на протяжении всей своей ученой деятельности, — «Готический роман в России» опубликован в 2002 году в Москве «Новым литературным обозрением». В 2003 году петербургская «Наука» выпустила вторым изданием монографию «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа“» (первое издание: СПб.: Наука, 1994).
Настоящее издание продолжает посмертную публикацию сочинений В. Э. Вацуро и составлено из тех его работ, которые, будучи однажды напечатаны, более не издавались.
В первом и втором разделах помещены большие исследования, выходившие отдельными книгами соответственно в 1978 и 1989 годах и ставшие сейчас раритетами: история альманаха А. А. Дельвига «Северные Цветы» и история салона С. Д. Пономаревой.
Третий раздел состоит из статей разных лет, смысл републикации которых — представить разные грани творчества В. Э. Вацуро. Здесь собраны мелкие заметки о Пушкине из «Временника Пушкинской комиссии», плановые институтские работы «Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1830-х гг.» и «Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг.», разыскания, связанные с подготовкой текстов для собраний стихотворений Хемницера и Некрасова в «Библиотеке поэта», предисловия к отдельным изданиям сочинений Дениса Давыдова и Дельвига, газетное интервью — реакция В. Э. Вацуро на ситуацию в стране после революции 1991 года («Будем работать в стол — благо опыта не занимать»), наконец, очерк о Горбачеве — неожиданный для академического ученого, хотя и вполне соотносящийся с общим в начале 1990-х годов стремлением историков прошлого концептуально осмыслить текущий момент.
Заключают настоящее издание две неопубликованные статьи о Е. Ф. Розене и А. И. Подолинском, приготовленные для пятого тома биографического словаря «Русские писатели: 1800–1917» (рукописи предоставлены для публикации Л. М. Щемелевой и А. К. Рябовым).
При подготовке книги вполне осознанно были исключены лермонтовские сюжеты В. Э. Вацуро, поскольку есть надежда, что коллеги-лермонтоведы в скором времени осуществят издание, полностью посвященное этим сюжетам.
Отдельного издания требует и книга о русской цензуре, написанная совместно с М. И. Гиллельсоном — «Сквозь „умственные плотины“: Из истории книги и прессы пушкинской поры» (1-е изд.: М.: Книга, 1972; 2-е изд.: Там же, 1986), статьи, опубликованные в первых четырех томах биографического словаря «Русские писатели», и рецензии, в которых содержатся лапидарные, но настолько объемные историко-литературные оценки, что одна фраза иногда кажется программой целой монографии.
По мере преобразования страны, происходившего в 1990-е годы, пушкинская эпоха быстро уходила во времени от новых поколений — слишком многое из непушкинских эпох нельзя было полноценно познавать при советской власти, чтобы после ее падения продолжать интеллектуальную жизнь, ориентируясь на ценности золотого века русской культуры. После смерти В. Э. Вацуро пушкинская эпоха отодвинулась еще дальше — вряд ли в новых поколениях появится человек, о котором, так же как о Вадиме Эразмовиче, можно будет сказать, что он знает ее почти как современник. А если появится — некому будет сказать, ибо пушкинская эпоха осталась ценностным ориентиром эпохи В. Э. Вацуро.
Вместо предисловия
Жизнь В. Э. Вацуро ныне окантована двумя датами: 1935–2000. Но, перечитывая заново его книги и статьи, невольно ловишь себя на мысли, что застывшие в типографском шрифте фразы подчас звучат его живыми интонациями. Как недавно все это было!
Студентом филологического факультета ЛГУ Вацуро стал, недолго проучившись в медицинском институте. В ту пору кафедра истории русской литературы блистала целым созвездием великолепных ученых: И. П. Еремин, В. Я. Пропп, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, Г. П. Макогоненко… Лермонтовский семинар вел В. А. Мануйлов.
О нем следует сказать особо. Не только потому, что он первым оценил способности своего воспитанника и вскоре впряг его в работу над «Лермонтовским семинарием», над изданием сочинений любимого поэта, а позже — и над Лермонтовской энциклопедией, которая долго казалась утопией неисправимого романтика. Однако важнее было обаяние личности Виктора Андрониковича. Кто знает, не будь с самого начала у Вацуро такого наставника, не стал бы ли он, при своей приверженности «трудам уединенным», ученым затворником?
Университетская кафедра русской литературы и академический Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в ту пору были подобны сообщающимся сосудам, и после окончания университета В. Э. (хотя и не сразу) стал сотрудником ИРЛИ, что во многом определило широту и самое качество его научных интересов. Возникший как Пантеон русской литературы, Пушкинский Дом сконденсировал уникальные книжные, архивные и музейные собрания, которые взывали к научной обработке и осмыслению. Теоретические штудии плохо здесь приживались. Конечно, должные в советское время идеологические постулаты накладывали свою печать и на академические труды, но традиционная приверженность лучших его сотрудников к конкретным историко-литературным фактам была своеобразным противоядием против поверхностных спекуляций.
Пушкинской школой для В. Э. стала работа над изданием пушкинских писем под научным руководством Н. В. Измайлова и постоянное сотрудничество во «Временнике Пушкинской комиссии», редактируемом академиком М. П. Алексеевым. Впрочем, В. Э. был своим человеком и в группе XVIII века, возглавляемой П. Н. Берковым.
Впервые имя В. Э. Вацуро внятно прозвучало по выходе, после многих препон, книги (написанной в соавторстве с М. И. Гиллельсоном) «Сквозь умственные плотины» в 1972 г. Посвященная столкновениям писателей пушкинской поры с цензурой, книга казалась произведением чуть ли не диссидентским. Если это было и так, то, право же, невольно. В самой пространной ее главе, «Подвиг честного человека», написанной В. Э., речь шла об общественной позиции Карамзина, который отнюдь не посягал на государственные устои, но выше всего ценил законы совести. Честь была понятием дворянского этикета. В своих заметках о дворянстве Пушкин размышлял: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Но суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. — Нужны ли они в народе так же, как например, трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde <охрана> трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».
В исторических трудах аморальным поступком (этому учил Карамзин) становилось искажение подлинных событий. Невольным грехом здесь могло быть отсутствие твердых знаний. Преступлением против истины было заведомое ее искажение во имя идеологических догм.
Став сотрудником Группы пушкиноведения, В. Э. по долгу службы занимался эпохой, хорошо, казалось бы, изученной предшественниками. В 1960–1970-х гг. в академическом литературоведении были в моде так называемые коллективные труды, где автор зависел от навязанного ему общего плана. Общая же перспектива литературного развития пушкинской эпохи виделась вполне определенной: от классицизма — через романтизм — к реализму.
Но ведь реальная литературная жизнь вовсе не была столь формализована. Она была призванием и страстью конкретных людей. «Историю литературной жизни этого времени, — размышлял В. Э., — нужно искать скорее в письмах, дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что сначала складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он „функционирует“, он живет обычной домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его олитературен, и чтение чужих произведений и писание своих такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие».
Под таким углом зрения была детально прослежена В. Э. Вацуро история издания восьми маленьких, изящных книжечек альманаха «Северные цветы».
«Это был типичный альманах и порождение „века альманахов“, исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступать с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы „неформализованной группой“, а в ней особенное значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей „кружка“, но не литературной „партии“».
Те же принципы неформализованного изучения далекой эпохи заявлены в книге В. Э. Вацуро «С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской эпохи». В самом заглавии можно было заметить след определенной традиции, заявленной в свое время И. Л. Андрониковым в его «литературном детективе» «Загадка Н. Ф. И.» — о героине юношеских стихов Лермонтова. Вацуро детективами не увлекался. Ему была интересна литературная среда, живое очарование литературной жизни. «Художественный текст любой эпохи, — замечал он, — особый мир, живущий по своим законам, которые с течением времени сменяются другими и становятся „непонятными“. Нет ничего ошибочнее и наивнее столь часто встречающихся попыток найти здесь намеренную „загадку“, „тайну“, „шифр“. Загадки в старинных текстах встречают нас на каждом шагу, — но они созданы не писателем, а временем».
В общей картине литературного процесса салонные альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой — забавная мелочь, чуть ли не курьез быта. Но их любопытно и поучительно было не только перелистать, но и развернуть во времени, очеловечить: «В четвертом измерении оживают люди, державшие перо и кисть, они движутся и говорят, и ведут жизнь, полную драматизма: жизнь увлечений, влюбленности, признаний и разрывов, — и перипетии ее оставляют на страницах альбомов галантные мадригалы, послания, посвящения, любовные циклы. Литераторы объединяются в кружки и партии, противоборствующие друг с другом; страсти кипят, выливаются на страницы журналов, порождают рукописную литературу».
Ценя мельчайшие факты литературного быта, В. Э. как историк обладал абсолютным поэтическим слухом. Его книга об «элегической школе» или статья об истории русской идиллии замечательны не только скрупулезным анализом исторического движения поэтических жанров, но и артистически отобранными цитатами, звучащими неожиданно свежо и проникновенно. Вне этой среды, постоянного поэтического состязания было бы невозможно рождение литературных шедевров.
Доля В. Э. Вацуро в современной пушкинистике велика и весома, но и она — лишь малая часть его филологического подвижничества. Широта его научных интересов поразительна, но и это не исчерпывает его вклада в науку о литературе. Ученый академического склада, яркий представитель петербургской филологической школы, он был зачинателем фундаментальных литературоведческих трудов, будь то биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917» или новое академическое Полное собрание сочинений А. С. Пушкина.
Трудно сейчас представить, насколько он загружен был повседневной и всегда срочной работой, какому количеству людей он был всенепременно должен то запланированную статью, то отзыв на диссертацию, то обещанную справку, да мало ли еще что — при его обширнейшем круге общения. Именно поэтому многие его главные книги остались ненаписанными. Времени иногда хватало только на этюд, филологическую миниатюру — как всегда, филигранно отделанную.
Требовательный (и щедрый!) редактор, скрупулезный текстолог, строгий систематик, он был прежде всего профессионалом. Но при этом лучшие его работы, снабженные многоэтажными сносками, отличаются артистическим изяществом и остроумием, подлинным пиршеством духа.
Артистизм и остроумие отличали его и в повседневном быту. Предметом его особенной гордости было воспоминание о том, как однажды — в Грузии! — он во время многолюдного застолья был единогласно избран тамадой. Этот, всеми признанный талант Вадима Эразмовича — особая тема. Вспоминается, например, такой случай. В 1997 г. мы вернулись в Институт после Четвертой международной Пушкинской конференции, которая прошла в Нижнем Новгороде и в Болдине. На заседании ученого совета в ходе отчета по этому поводу из зала раздалась саркастическая реплика: «Представляю, какие там были застольные заседания!» Пришлось специально объяснить, что банкет стоил остальных культурных мероприятий, так как руководил им Вацуро, а это всегда — высокая поэзия. Ученый совет сочувственно загудел, а после заседания к Вадиму Эразмовичу подошел Дмитрий Сергеевич Лихачев и сказал: «Вы знаете, что в прошлом году я отметил свое девяностолетие и уже больше не собирался устраивать застолий по поводу дней своего рождения. Но если Вы согласитесь вести стол, я, пожалуй, и в этом году устрою банкет для сотрудников Пушкинского Дома».
Он по-библиофильски любил книгу. Любимые его рассказы были о том, как иногда попадало в его библиотеку то или иное редкое издание. Вот один из них: «Роюсь как-то в старых книгах. Вижу: стопка потрепанных журналов, перевязанных веревочкой. Стоит это все вместе рупь. Но мне-то нужен лишь один из томов. Спрашиваю, нельзя ли взять только его — за ту же цену. Нет, говорят, — только вместе. Ладно, приношу домой весь этот хлам. Развязываю веревочку, и вижу в одном из журналов (вовсе не в том, который мне был нужен) знакомый почерк. Оказывается, — Александр Блок! С тех пор я не спорю с букинистами».
И еще одна история про автограф. В Тбилиси мы были приглашены к очень почтенному аксакалу. Он похвастался, что в его архиве есть рукописи разных писателей — кажется, даже Пушкина. Да ну?! Архив (потрепанный чемодан, перекрученный проволокой) был извлечен из-под дивана. Там было много чего. Наконец отыскался и нужный листочек. «Ну как, похоже?» — «Батоно, — вежливо откликнулся В. Э., — это заслуживает специальной экспертизы. Я не знал, что в те времена уже были тетрадки в косую линейку…»
Всё это, конечно, безделки. Надо ли вновь повторять, что В. Э. Вацуро прежде всего был серьезным ученым, обладателем феноменальных знаний и редкого таланта! Думается, однако, что несерьезные воспоминания не противоречат творческой манере выдающегося филолога, который всегда чуждался патетики и велеречия, тонкой шуткой откликаясь на восхваления и благодарные реплики коллег. Вспоминая Вадима Эразмовича, понимаешь, насколько неверно представление об академическом ученом как обязательно о кабинетном затворнике. Он, как никто другой, ценил нелицеприятный профессиональный спор, дружеские розыгрыши, болтовню в пушки-нодомской курилке, когда походя, непритязательно, радостно мог одарить собеседника и блестящей идеей, и перспективой научного поиска.
С. А. ФомичевТайна Вацуро
В творческой судьбе Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) безусловно есть тайна.
Уже в 70-е годы Вацуро обладал высочайшим авторитетом в профессиональной среде. Символическими вехами тут можно считать созданные в соавторстве с М. И. Гиллельсоном работы «Новонайденный автограф Пушкина». Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановича Фонвизине» (1968) и «Сквозь „умственные плотины“: Из истории книги и прессы пушкинской поры» (1972), однако в реальности неповторимый авторский метод Вацуро сложился еще раньше. Каждая новая его работа, начиная с лермонтовских штудий и комментариев к изданиям Хемницера (1963) и Некрасова (1967) в Большой серии «Библиотеки поэта», была новостью в самом прямом и точном смысле слова, то есть меняла представления читателя (включая самых квалифицированных специалистов) об обсуждаемом предмете. Понятно, что свойством этим обладали работы, строящиеся на раритетном (архивном) материале, вводящие в оборот неизвестные прежде источники и факты. Например, статья «К изучению „Литературной газеты“ Дельвига — Сомова» (1968), где очень осторожно, но от того особенно доказательно Пушкину атрибутировалась рецензия на роман Василия Ушакова «Киргиз-кайсак», или «Из истории литературных полемик 1820-х годов» (1972), где одной из ключевых фигур старинных литераторских битв предстал основательно забытый Александр Крылов, или «Г. П. Каменев и готическая литература» (1975) — список легко продолжить. Но тот же эффект возникал при знакомстве со статьями, трактующими сюжеты «понятные», казалось бы, давно изученные и не предполагающие каких-либо вопросов и удивлений. Здесь показательны статьи «Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов» (1964), «Пушкин и проблема бытописания в начале 1830-х годов» (1969), монографический анализ послания «К вельможе» (1974) и совершенно ошеломительная даже для привычных к смелым и точным построениям В. Э. статья «„Великий меланхолик“ в „Путешествии из Москвы в Петербург“» (1977). Книга об истории альманаха «Северные цветы» (1978) стала, по сути дела, сверхплотным конспектом истории русской литературы 1824-31 гг., требующей от читателя непривычной сосредоточенности буквально на каждом слове: предельная ясность слога невольно вводила в заблуждение — сама собой вспоминалась гоголевская характеристика прозы Пушкина («бездна пространства»).
Казалось, что совершеннее и глубже писать о словесности просто невозможно, а меж тем впереди были встречи читательской аудитории и ученого цеха с такими шедеврами, как «Последняя повесть Лермонтова» (1979), «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1981), тома стихотворений Дениса Давыдова (1984) и Дельвига (1987), «И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века» (1989), «Поэтический манифест Пушкина» (1991), «В преддверии пушкинской эпохи» (1994; предисловие к двухтомнику «Арзамас» под общей редакций Вацуро и А. Л. Осповата; издание это из-за общеизвестных тягот начала 90-х годов вышло в свет с большим опозданием), наконец, монография «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа“» (1994). Исчислено далеко не все даже из «капитальных» работ, а ведь должно вспомнить еще о многом. О словарных статьях (прежде всего, в «Лермонтовской энциклопедии» и четырех томах «Русских писателей»). О «заметках филолога», ритмично появлявшихся в журнале «Русская речь». (Они стали ядром книги, вышедшей в 1994 году под характерным «вацуровским» названием — «Записки комментатора».) О подвижнической текстологической и редакторской работе над новым академическим изданием Пушкина («пробная» версия первого тома появилась в 1994 году, окончательная — в 1999). О рецензиях, в которых В. Э., точно выявляя неповторимые творческие индивидуальности коллег и фиксируя внимание на своеобычности их исследовательских решений, всегда тактично, но твердо обнаруживал свою — корректирующую — позицию. Особенно важны отклики на исследование А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика» (1981), книгу Л. Я. Гинзбург «О старом и новом» (1983), монографии Ю. М. Лотмана о Пушкине (1982) и Карамзине (1989); здесь же должно упомянуть о некрологах, которыми В. Э. почтил своих наставников: академика М. П. Алексеева и Н. В. Измайлова, и о предисловии к посмертному изданию пушкинских статей Н. Я. Эйдельмана (2000) — работа, посвященная трудам близкого друга и, выражаясь старинным слогом, «со-чувственника», стала публичной собственностью уже после кончины В. Э. В теории все знают, что деление работ настоящего ученого на «собственно научные», «прикладные», «популярные» и «справочные» носит условный характерна практике зачастую дело обстоит иначе. Даже истинные мастера подчас, обращаясь к популярным жанрам, облегчают свою задачу, предлагая упрощенные вариации прежде разработанных и обнародованных тем. Не обладая столь мощным и очевидным просветительским темпераментом, что был присущ, например, Н. Я. Эйдельману или Ю. М. Лотману, тонко чувствуя аудиторию и учитывая специфику избранного жанра (что сказывалось на слоге и организации справочного аппарата), В. Э. использовал любую возможность, дабы выговорить прежде несказанное, ак-туализовать важный смысловой нюанс, аккуратно сместить привычные акценты. В этом смысле для него не было различий меж предисловием к массовому изданию, эссе, написанным по просьбе редакции журнала к очередному юбилею (так, автор этих строк буквально выклянчивал в 1987 году у В. Э. для «Литературного обозрения» «хоть что-нибудь» — в итоге появился «Опыт прямодушия», выросший из тщательного прочтения пушкинского письма к Плетневу, блистательный этюд о совсем непростых отношениях первого поэта и его скромного «оруженосца») и «плановой» работой для замусоренного словоблудием типового сборника ученых трудов, выходящего под академической эгидой. Одним словом, редакция «Нового литературного обозрения» имела все основания предварить выпущенный к шестидесятилетию В. Э. Festsehrift «Новые безделки» точно сформулированным тезисом: «Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки». В этом сомнений не было и нет.
Есть нечто иное. Едва ощутимое при жизни великого историка литературы и «уплотнившееся» после его безвременного ухода. Задуманная в молодости и писавшаяся всю жизнь книга о судьбе готического романа на русской почве так и осталась незавершенной. Разумеется, многочисленные статьи (начиная с опубликованного в 1969 году под искореженным названием, в котором не нашлось места взрывоопасному «клерикально-мистическому» термину, исследования «Литературно-философская проблематика повести Карамзина „Остров Борнгольм“») и любовно собранный, выстроенный и выверенный вдовой исследователя Тамарой Федоровной Селезневой том «Готический роман в России» (2002) содержат бесценную информацию и одаривают великим множеством проницательных наблюдений, открывающих головокружительные научные перспективы. (Кстати, отнюдь не только для филологов, но и для историков идеологии, культурологов, искусствоведов.) Но все же совокупность «готических» текстов (и набросков, планов, отголосков темы в работах о совсем иных предметах) Вацуро — это «материалы», а не монография. Мы ощущаем величие замысла, пленяемся выразительными деталями (заметим, однако, что для В. Э. отдельный новый факт или частная концепция никогда не были самодостаточными ценностями!), в лучшем случае угадываем потенциальные сопряжения сюжетов и контуры общей организующей мысли, но не можем досягнуть целого, судя по всему — очевидного для Вацуро.
Сходно обстоит дело и в другой области интересов В. Э. Он знал, что делал, вынося на обложку монографии об элегической школе слова «Лирика пушкинской поры». Книга эта, с исключительной точностью рисующая движение «центрального» лирического жанра начала XIX века, высвечивающая его трудный генезис, расширение семантических и стилистических горизонтов, способность служить полем столкновения различных духовных, идеологических и эмоциональных комплексов (страницы, посвященные «диалогам» Андрея Тургенева и Карамзина, Тургенева и Жуковского, Жуковского и Батюшкова, относятся, безусловно, к высшим достижениям русской филологии), книга эта мыслилась (и писалась, на что есть прямые указания в тексте) как преамбула, введение в главный — пушкинский и пушкиноцентричный — сюжет. Здесь та же история, что с «готикой». Читая предисловия к томам Дельвига и Дениса Давыдова (чья эволюция не остановилась на элегическом цикле, рассмотренном в «Лирике пушкинской поры»), главы о поэзии пушкинского круга, Баратынском, поэзии 1830-х годов во втором томе «пушкинодомской» «Истории русской литературы» (1981), очерки истории отдельных поэтических жанров (элегии, идиллии, стиховой драмы), словарные и не словарные статьи о конкретных поэтах, мы в какой-то мере угадываем единую большую концепцию (ее то ли проект, то ли дайджест был написан В. Э. по просьбе американских коллег на рубеже 1997–98 гг. и недавно опубликован в № 59 «Нового литературного обозрения»), — но тоже только угадываем. Очень плотное, «контекстное» письмо Вацуро, постоянно устанавливающего «странные сближения» меж, казалось бы, весьма друг от друга отдаленными культурными и литературными феноменами, парадоксальным образом то и дело обнаруживает смысловые пробелы. То, что нам кажется лакунами, возможно, представлялось исследователю само собой разумеющимся, не требующим разжевывания. А возможно, напротив, оставалось для него неразрешимой проблемой. Простоты, что хуже воровства, Вацуро не любил. И об ограниченности исследовательских возможностей, о неизбежности в иных случаях временно руководствоваться недоказуемой строго гипотезой, он напоминал не раз. Как бы то ни было (а было, думается, по-разному), сегодняшний читатель Вацуро (в первую очередь это относится к его коллегам) в какой-то мере обречен заниматься реконструкцией общего замысла ученого. Конечно, эта проблема встает и при обращении к наследию других крупных гуманитариев, но в случае Вацуро приобретает особенную остроту, неотделимую от вполне отчетливой печали: увидеть то, что видел В. Э., нам не удастся никогда.
И здесь естественно возникает третий — наиболее наглядный и наиболее горький — сюжет. Это, разумеется, Лермонтов, которым Вацуро занимался всю жизнь, которого он знал и понимал, как никто другой. Здесь могут возразить, указав на то, что из-под пера Вацуро вышли не только работы, трактующие «частные» и «специальные» сюжеты (от «Лермонтова и Марлинского», 1964, до «Литературной школы Лермонтова», 1986), но и безусловно интегрирующий все наработки очерк о поэте в седьмом томе «Истории всемирной литературы» (1989), что он буквально «выдышал» «Лермонтовскую энциклопедию» (на официальном языке это называлось «заместитель главного редактора»), что Лермонтов — вообще писатель «простой» (творчество компактно, а биография, по слову Блока, «нищенская»), и уж о нем-то Вацуро суммой своих публикаций сказал все, что не успели открыть прежде. Частично принимая эти резонные соображения, приходится констатировать: мозаика сама собой не складывается, втиснуть в раздел коллективного труда монографию было не под силу даже такому изощренному литератору, как В. Э., очень многие статьи «Лермонтовской энциклопедии» (при непреходящем значении этого замечательного издания) писаны совсем не в духе Вацуро (некоторые же из них сущностно противостоят его научным, эстетическим и человеческим идеалам), а наследие Лермонтова и после работ Вацуро (точнее — вследствие существования этих работ) требует обобщающего концептуального труда. Такую книгу мог написать только Вацуро. (Понятно, что это не принижение авторов классических исследований, от П. А. Висковатова до Д. Е. Максимова. И тем более не шлагбаум на пути будущих лермонтоведов.) Не написал. Некоторых собеседников добродушно дразнил, рассказывая о якобы имеющемся сочинении под условным названием «Почему я никогда не напишу книгу о Лермонтове».
Так почему же? Почему ни «готика» (ныне собранная из фрагментов), ни «лирика пушкинской поры» (не завершена), ни лермонтовиана (сведение всех лермонтоведческих штудий В. Э. под одной обложкой и с надлежащей рефлексий представляется серьезной и насущной задачей), ни статья о Пушкине, которую В. Э. обещал редакции словаря «Русские писатели», не стали «осязаемыми» фактами? Ответов, как водится, много, и ни один из них невозможно счесть окончательным.
Первый ясен: Вацуро работал в советской системе, что ставила идеологические препоны на пути любого гуманитария (так, в крепком подозрении для официальных инстанций долгое время находился любимый В. Э. готический роман), рассматривала ученого (коли числится он в академической структуре и получает жалованье) как чиновника, обязанного выполнять поставленные перед ним задачи и не слишком выделяться из коллектива иных чиновников. Прибавим сюда высокое чувство долга («плановость» работы не могла сказываться на ее качестве), необходимость заработка (не столь завидны были оклады сотрудников Пушкинского Дома, а за предисловия и журнальные статьи платили прилично), человеческую отзывчивость (если просит хороший знакомый и о вообще-то полезном деле, то отказывать неудобно; даже если знакомый не так уж хорош, а работа, сданная в срок, не устроит какую-нибудь инстанцию: так легло в стол предисловие к «Трем повестям» В. А. Соллогуба — в 1978 году в «Советской России» решили, что лучше издать книгу вовсе без вступительной статьи, чем с «сомнительным» текстом В. Э.). Не забудем и об уже упоминавшемся желании использовать любой случай (любую площадку) для обнародования своих наблюдений и счастливую (или несчастную?) способность живо интересоваться буквально каждым сюжетом, находить в нем «свое», встраивать его в грандиозный общий чертеж истории словесности. Ясно, что до «главного» руки доходили не всегда.
Но не обойтись без оговорок. «Умственные плотины» автор соименной книги, когда хотел, преодолевать умел — издание книги о николаевской цензуре (без старательно отцензурированного слова на титуле) тому порукой. (Актуальный гражданский смысл предельно историчной работы Вацуро и Гиллельсона был внятен в пору ее публикации и не раз обсуждался в печати: по нужде прикровенно — первыми рецензентами, прямо — в новейшие времена, благодарными филологами младшего поколения, чье становление прошло во многом «под знаком Вацуро».) С годами личный авторитет В. Э. как в академической среде, так и у издателей решительно вырос, и вырази он категорически желание вставить в научный план монографию, издать в «Художественной литературе» или «Советском писателе» книгу о Лермонтове, ему бы, вероятно, не отказали. (Вышла же «Лирика пушкинской поры» с академическим грифом.) Конечно, тут не обойтись без «личных» мотивов, без разговора об особенностях характера В. Э., уже начатого первыми мемуаристами, о его интеллигентности и толерантности. Но прежде надобно сказать о другом.
Уже цитированная редакционная преамбула к сборнику в честь шестидесятилетия Вацуро открывается положением, на мой взгляд, куда более спорным, чем следующая за ним аттестация юбиляра. «Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология». Но «великая филология» — это не совокупность замечательно талантливых исследователей (их в 70–80-е годы и впрямь было не мало), помноженная на ажиотаж изголодавшейся по любой «исторической», «философской», «религиозной» фактуре публики, с равным смаком и результатом потребляющей статьи Лотмана и романы Пикуля, историософскую публицистику Л. Н. Гумилева и эссе Аверинцева, труды академика Лихачева и насквозь «литературно-идеологические» картины Глазунова. «Великая филология» предполагает смысловое поле, в котором могут сосуществовать (и бороться) разные научные традиции, но наличествуют четкая шкала ценностей, возможность взаимопонимания разномыслящих исследователей, преемственность поколений, осмысленное разделение труда, различение «науки» и «эссеистики» (что не отменяет возможности для конкретного гуманитария выступать в двух ипостасях — но по своей воле, а не «силою вещей»!) и, наконец, уж извините, отсутствие постоянного — прямого и косвенного — идеологического диктата. (Простенький, но характерный пример: текстологически образцовый, содержащий обширный раздел редакций и вариантов том Дениса Давыдова в «Библиотеке поэта» вышел под названием «Стихотворения». В преамбуле к примечаниям Вацуро констатировал: «Настоящее издание стихотворений Д. не является полным: в него не вошли эпиграмма № 59 по Изд. 1933 <…> и памфлет „Голодный пес“». Ну да, в 1984 году нельзя было затрагивать «болезненную» польскую тему — даже решительному имперцу и полонофобу Денису Давыдову.) Какая уж тут «великая филология», когда чуть не каждое слово пробивается на свет с трудом и еще неизвестно кем и как будет расслышано.
Научная деятельность наших лучших гуманитариев оказывалась в то же время и борьбой за нормализацию культурного пространства, и Вацуро тут не был исключением. Но всякая идеологическая борьба (вовсе не входящая в прямые задачи историка культуры) не только отнимает силы и нервы, но и сказывается на творчестве. В конце 1920-х годов формалисты задавались вопросом «как теперь быть писателем» (а в подтексте слышалось: «и филологом»). В последние годы вопрос этот обсуждается с не меньшим энтузиазмом (и, похоже, грозит не меньшими издержками). Но не стоит думать, что, загнанный вглубь (в кухонные разговоры или подсознание), он не существовал в «вегетарианский» период советской истории.
Реакцией на всегдашний советский заказ на «монументальность» стала культивация «малых жанров» (комментария и разросшейся сноски). Реакцией на томительное словоблудие и априорность официоза — абсолютизация «точных методов» и изобретение «птичьего языка». Реакцией на невозможность публичного обсуждения целого ряда ключевых гуманитарных проблем — безответственное писание в стол (вредящее ученому не меньше, чем поэту) либо проговаривание их в сознательно эзотеричной манере, способной незаметно нивелировать и сильную мысль. Реакцией на бессмысленный социологизм, примитивный атеизм, непременный культ революционеров (истинных или назначенных таковыми), стали истовые поиски духовности, народных начал и подчас пародийная религиозность. А реакцией на эту постепенно набиравшую силу моду — отказ от конкретного и вдумчивого обсуждения религиозно-философских вопросов, весьма значимых для писателей минувших веков. Фантазмов и химер (причем совсем не обязательно созвучных официальной идеологии или корыстных) 70-е годы породили не меньше, чем ярких свершений.
Размышляя о советской литературе, М. О. Чудакова однажды верно заметила: великий писатель всегда выстоит и сохранит себя (покуда/если его не убьют). То же касается и настоящих филологов. Но выморочное состояние литературной среды, о котором вела речь Чудакова, пагубно сказывается не только на общем движении словесности (филологии, культуры), но и в той или иной мере воздействует даже на самых талантливых людей. Разобщенность гуманитарного сообщества, двусмысленные отношения с потенциальным читателем, абсолютизация той школы, в которой прошло научное и личностное становление ученого (для В. Э. такой школой, безусловно, был Пушкинский Дом, преданность лучшим академическим традициям которого не только ощущается в любой работе Вацуро, но и настойчиво им педалируется), оторванность (конечно, неполная, конечно, целенаправленно преодолеваемая) от широкого контекста гуманитарной мысли ХХ века, а иногда и от исследований, непосредственно входящих в круг специальных интересов — одним словом, то, что Блок некогда назвал «отсутствием воздуха», даром не прошло ни для кого из лучших «подсоветских» гуманитариев. Их интеллектуальное и гражданское служение, их роль в выведении современников из морока скудомыслия и формировании новых поколений исследователей, их (вспомним любимые Вацуро и не им одним слова Пушкина о творце «Истории государства Российского») «подвиг честного человека» сейчас вызывает не только благодарность, но и подлинное изумление. Но это были живые люди, а не сказочные рыцари — и потому каждому выпали свои потери. Вацуро не дописал те капитальные труды, к которым был предназначен.
Или все-таки не был? Почему давление времени в его случае обусловило именно такой тип утраты и вариант судьбы? Сопоставляя «литературную личность» В. Э. с «литературными личностями» его выдающихся коллег-современников, обнаруживаешь черту, отличающую Вацуро от едва ли не всех интеллектуальных лидеров отечественной гуманитарии конца прошлого века — отсутствие выраженной харизмы. Читая труды Л. Я. Гинзбург или Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана или Н. Я. Эйдельмана, С. С. Аверинцева или М. Л. Гаспарова, В. Н. Топорова или Вяч. Вс. Иванова (список можно продолжить), получаешь некое представление об их «стати» — темпераменте, духовных ориентирах, симпатиях и антипатиях. Не случайно их тяготение к публичности, как не случайны их постоянные выходы за пределы филологии — в философию, публицистику, мемуары, прозу и поэзию. Ничего подобного у Вацуро нет: его статья о М. С. Горбачеве кажется именно что случайной (это никак не значит: не интересной). В книгах и статьях Вацуро почти не ощутим его дар острослова, изысканного и склонного обыгрывать свою «куртуазность» собеседника, мастера искрометных экспромтов, хотя наделен им был В. Э. сполна и в ход его пускал постоянно. (Свидетельством тому прелестная «Вацуриана», составленная Т. Ф. Селезневой и изданная «домашним» тиражом, а также воспоминания друзей, коллег и учеников В. Э. Думаю, что вспомнить такого Вацуро может едва ли не каждый, кто с ним когда-либо разговаривал. Тут могу сослаться на свой опыт совсем не частого и никак не интимно доверительного общения с В. Э.: казалось, он просто не мог не шутить.)
Установка на устранение авторского «я» неотделима от скрупулезности в работе с любым материалом, от недоверия к слишком устойчивым репутациям (всякий литературный факт и всякая человеческая судьба сложнее, чем нам кажется) и к слишком резким научным новациям (сложнее-то сложнее, но гонясь за привидевшейся истиной легко утратить то, что было с трудом установлено; замечательный пример такой чуть ироничной осмотрительности — статья «Еще раз об академическом издании Пушкина», 1999), от такта, с которым В. Э. касается «экзистенциальной» проблематики, всегда мерцающей сквозь призму исторических разысканий, наблюдений над стилем, выявлением конституирующих признаков жанра или школы, открытием источников и реминисценций.
Сколь важны для Вацуро были «последние вопросы», можно судить по двум небольшим фрагментам из совершенно разных работ. Одна посвящена поэтике, другая — истории словесности, в интересующем нас эпизоде особенно тесно сплетенной с просто историей. Анализируя «Метель» (статья «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), Вацуро пишет: «В полном соответствии с традиционным сюжетом в конце рассказа падают препятствия к соединению влюбленных, которые оказываются мужем и женой; однако вряд ли найдется счастливый конец (типовое и до какой-то степени верное представление о развязке „Метели“. — А. Н.), который в такой мере был бы окрашен тревожными интонациями». И далее, процитировав общеизвестную сцену опознания Бурмина: «Эта внезапная бледность героя, жест смятения и раскаяния, прерывистая, оборванная авторская ремарка, — что это, как не знак возникающей спонтанно новой, неожиданной психологической коллизии? Автор психологических элегий и „опытов драматических изучений“, Пушкин уже давно пришел к выводу, что самая счастливая любовь таит в себе возможности диссонансов и взаимных непониманий». Это о литературе.
А вот — о поэте. «В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления. Откуда он узнал, что на рассвете 13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу — в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно» («Северные цветы», глава «Безвременье»). И далее: о тех, кто все-таки пришел, о трудностях перемещения по городу с разведенными либо перекрытыми стражей мостами, о неожиданных встречах с молчаливыми знакомцами, об ожидании, о возведении виселицы, чтении приговора, сжигании мундиров, об осужденных, переодетых в арестантское платье, что «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе». «Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?» И потом, запечатлев тремя строками увиденную Дельвигом казнь пятерых, что растянулась на два акта: «И, может быть, он слышал ропот — толпы ли, казнимых или казнящих? — ропот ужаса, сострадания или негодования. Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря».
Эмоциональная вовлеченность автора в давно минувшие события (за которыми видятся иные мятежи, иные казни) сопоставима лишь с предельной точностью сообщаемых фактов и суггестивной энергией прозы, где умолчания действеннее любых описаний. Такого рода «романных» вкраплений в книгах, статьях и кратких биографических справках работы Вацуро совсем не мало. Он умел извлекать психологию (неповторимую личность) и сюжет (непредсказуемую историю) из почти любого материала. Но романов, как известно, не писал. Может быть, считая их жанром легкомысленным. А может быть, напротив, слишком трудным, требующим еще большего знания о человеке и истории. Может быть, полагая, что подлинный читатель распознает гипотетическое целое по намеку и оценит идеальное чувство меры. (Тут невольно вспоминаются незавершенные, но всегда таинственно сопряженные друг с другом замыслы Пушкина). А может быть, не видя того, кто мог бы оценить по достоинству грезящееся смысловое целое.
Кажется, что-то подобное (ускользающее от однозначных формулировок, «воздушное», но властное) заставляло В. Э. откладывать давно лелеемые большие начинания и переключаться на новые сюжеты (всегда, впрочем, как-то да завязанные на старые), на выполнение очередного — издательского или пушкинодомского — заказа, на редактирование и внутреннее рецензирование чужих работ (порой сводящееся к их переписыванию). Конечно, были тут и иные причины (частью обсужденные выше), но была и личная тайна Вацуро. Его шутка о том, что книгу о готическом романе можно писать и после смерти («Призрак… в 12 часов… с ударами колокола является в библиотеке… и читает тени книг»), была шуткой. Но не только. И не только о «готической монографии». То совершенное знание, к которому осторожно и последовательно приближался поразительно многосторонний и удивительно тонко мыслящий исследователь, вероятно, здесь недостижимо. Даже для Вацуро.
Мы никогда не прочтем ни полной версии «Готического романа в России», ни второй части «Лирики пушкинской поры», ни книги о Лермонтове. Но представить себе их чуть более конкретно мы можем и должны. Это и есть продолжение научной и культурной традиции. Ее обрыва Вацуро опасался и упорно этому противодействовал. Поэтому так ценил работы предшественников и старших коллег, поэтому систематично и тактично пестовал младших. Он знал, что хотя наука и творится общим тщанием, всякий настоящий ученый неповторим и незаменим, что из наследия каждого мастера можно извлечь то, чего у иных не сыщешь. Надо только уметь читать филолога — так же, как поэта, прозаика, философа, мемуариста, критика… Вывод понятен: прозрачные книги и статьи В. Э. требуют особого внимания; их читателю надлежит следить не только за тем, что происходит с «героями» (будь то писатели, идеи, слова или жанры), но и за скрытным автором, за движением его свободной и строгой мысли, за тем, что уходит в подтекст повествования. Язык (или, если угодно, метод) Вацуро нуждается в изучении (думается, не вполне и не для всех понятным он был и при жизни ученого) — на этом пути пока сделаны лишь первые шаги. Хочется верить, что одним из них станет эта книга.
А. С. НемзерПамяти В. Э. Вацуро
Уход Вадима Эразмовича Вацуро провел по ткани нашей общей жизни резкую разделительную черту. Теперь уже ясно, что русской гуманитарии никогда не быть такой, какой она некогда была. И дело здесь не в символике смены веков и тысячелетий. В сущности, его расхождение с временем началось довольно давно.
Когда на закате советской эпохи я впервые увидел Вацуро, он уже казался небожителем, занесенным к нам из заветной пушкинской поры. Казалось даже немного странным, что именно он, вместе с М. И. Гиллельсоном, написал «Сквозь умственные плотины» — книгу, поражавшую как раз жгучим чувством актуальности и точным ощущением социальной востребованности.
Идея напечатать в те годы работу о цензуре, о сопротивлении цензуре, о нравственном и литературном выживании под цензурным гнетом даже задним числом производила впечатление авантюры. Надеюсь, те, кто знает, когда-нибудь расскажут, как Вацуро и Гиллельсону удалось ее реализовать…
Центральный раздел книги — «Подвиг честного человека» — был написан Вадимом Эразмовичем. В нем речь шла о том, как Пушкин в николаевское царствование отстаивал «своего Карамзина», видя за системой политических взглядов прежде всего борьбу за человеческое достоинство, право сохранять личную независимость перед лицом любых обстоятельств.
Руку Вацуро было легко узнать по виртуозному выявлению подтекстов и контекстов, но важнее всего в книге или, по крайней мере, в этой главе была смысловая перспектива. Карамзин, увиденный Пушкиным, увиденным Вацуро, — взгляд был обращен из несвободного времени в относительно более свободное, что облегчало разговор и подчеркивало преемственность. В сущности, это был новый способ думать о прошлом, освобожденный от лобовых аллюзий, но остросовременный по абсолютно экзистенциальному ощущению истории.
Разрабатывать найденную жилу пришлось другим. Вацуро же обрел свою независимость в бесконечном оттачивании профессионального мастерства, когда каждый следующий шаг определен внутренней формой полностью покоренного материала. С годами его сюжеты становились все камерней, техника все безукоризненней, голос все чище и отрешенней. Он все больше проникался полновесной легкостью словесности, которую изучал, тем ее стилистическим свойством, которое Лидия Яковлевна Гинзбург назвала гармонической точностью.
Манера Вацуро-исследователя делается особенно рельефна, если сравнить ее с интеллектуальным почерком Лотмана, едва ли не единственного его соперника по глубине понимания и непосредственному ощущению пушкинской эпохи. У Вацуро нет и следа лотмановской могучей топорности, духа веселой провокации, взывающей к додумыванию и полемике. Наблюдения Вацуро не тянет, да, пожалуй, и бессмысленно развивать, они завершены и обладают той мерой внутренней самодостаточности, которая превращает науку в искусство.
Последние его заметки читать жутко, как пушкинские антологические стихотворения 30-х годов. Они, кажется, отвечают на вопрос, доступно ли смертным совершенство. Некоторым доступно, но дается оно ценой такого свирепого самоограничения, такого тотального отказа, что поневоле задумаешься, стоит ли об этом мечтать. Похоже, что человек, который умеет так работать, уже не жилец.
Как хочется верить, что теперь он свободен, и в блаженном Элизии его тень беседует с тенями Пушкина и Карамзина. Видит бог, им есть о чем поговорить.
А. Л. ЗоринI «СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ» История альманаха Дельвига-Пушкина
Памяти своих близких — Эразма Григорьевича Вацуро, Сергея Валентиновича Андриевича посвящает автор
Предисловие[1]
Восемь маленьких изящных книжек в осьмушку, с гравированными «картинками» и виньетками, изображающими лиры и гирлянды цветов. Альманах «Северные цветы» — на 1825, 1826 и так далее, вплоть до 1832 года. В первых двух книжках значится: «собранные бароном Дельвигом», в третьей — «изданы бароном Дельвигом». Далее имя исчезает. С фронтисписа книжки на 1828 год смотрит на нас лицо Пушкина.
Пушкинские стихи — в каждой книжке: «Песнь о вещем Олеге», отрывки из «Онегина», из «Цыган»; «19 октября», «Граф Нулин», «Воспоминание», «Моцарт и Сальери», «Бесы», «Анчар»… Около шести десятков произведений.
Жуковский. Баратынский. Дельвиг. Языков. Вяземский. В отделе прозы — Гоголь. Почти все пушкинское окружение.
«Второй ряд»: Плетнев, Туманский, Сомов, Подолинский. Третий ряд, четвертый и пятый. Иван Балле.
Через полтора десятилетия Гоголь будет со вздохом вспоминать о «благоуханном альманахе», а Белинский поражаться странному соседству имен великих и малых. К этому времени уйдет в прошлое эпоха альманахов, и невероятный успех «Северных цветов» в течение восьми лет будет казаться литературным анахронизмом.
Восемь лет — целая история. Можно проследить восьмилетнюю историю журнала или газеты.
Но что такое история альманаха, который собирают один или два человека от добровольных щедрот даятелей? Издатели — во власти случая и стихии, которой не всегда могут управлять. Каждый год, выпустив книжку, они совершенно таким же образом принимаются за следующую. История альманаха движется по замкнутому кругу.
Так ли это? И да, и нет. Имена основных участников повторяются из книжки в книжку; это одна среда, один литературный круг. Из него вышли «Северные цветы», и он наложил на альманах свою неизгладимую печать.
Читая альманах, мы обнаруживаем и явные признаки целенаправленной работы издателей. Она сказывается то в отборе стихов, то в критических суждениях, а иногда в самом построении книги. Люди все же направляли альманах, и эпоха с ее событиями общими и частными, закономерными и случайными меняла характер книжек, их содержание и состав, оставляя на альманашных страницах свои явственные следы.
История издания — это часть истории издателей.
В нашей исторической хронике мы попытаемся собрать разрозненные факты и заглянуть за кулисы альманаха, чтобы рассмотреть его как результат неких процессов в русском обществе и литературе 1824–1832 годов. Нам придется касаться истории литературы, эстетики, социологии и даже быта — но не это будет нашей главной задачей.
Нас будет интересовать, как, почему и в каком облике из всего этого многообразия русской культурной жизни каждый год на протяжении восьми лет выходил альманах «Северные цветы».
Глава I Рождение альманаха
В рождественский сочельник 1823 года петербургская читающая публика устремлялась в книжную лавку Сленина, что на Невском проспекте у филармонической залы. Здесь ждала ее новинка, уже ставшая ежегодной, — «русский альманах» — «Полярная звезда на 1824 год», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Год назад первая книжка этого альманаха разошлась с неслыханной быстротой — в полтора месяца, и нужно было спешить с покупкой.
Это был успех — невиданный со времени «Истории» Карамзина, успех даже странный, потому что вообще книги расходились плохо. Книгопродавцы, ничего подобного не ожидавшие, взяли тогда по пяточку-десяточку дорогих книжек — и ошиблись жестоко; один Иван Васильевич Сленин, комиссионер «Звезды», остался в прибылях и торжествовал.
Даже сами издатели — Бестужев и Рылеев — не рассчитывали, что план их — приохотить читателей и читательниц к отечественной словесности, и притом романтической — станет осуществляться столь скоро. Теперь они торопились закрепить одержанную победу. В новой книжке собралось тридцать восемь прозаиков и поэтов — весь пишущий мир обеих столиц, украшавший своими именами повременные издания: Пушкин, Жуковский, Крылов, Дельвиг, Вяземский, Баратынский и десятки иных, не говоря уже о самих издателях. Публика разбирала новую «Звезду» с удвоенным рвением; похоже было, что словесность входила в моду.
Скептики из московского «Вестника Европы» и петербургского «Благонамеренного», не одобрявшие вообще новейшего романтизма, намекали не без яда, что «карманная книжка» стоимостью до 12 рублей опустошает карман читателей и наполняет — издательский, и в том имеет свое назначение. У Бестужева и Рылеева было на этот счет иное мнение.
Они видели в «расходе» «Звезды» явственный признак общественного признания литературы. Россия выходила на стезю европейского просвещения. В Европе существовали писатели-профессионалы, «hommes des lettres», предлагавшие плоды своей духовной деятельности всему обществу и получавшие от него средства к существованию. В России такие писатели были исключением: им не на что было жить, если не находился покровитель, меценат. «Сочинитель» — это было не занятие, а нечто побочное, частное, неопределенное в общественном смысле.
Стишки для вас одна забава…Все меняется, когда сочинитель получает деньги за свой труд, — точнее, когда ему начинают платить деньги. Тогда «стишки» — не «забава», а профессия, а поэт не зависит от меценатов хотя бы лично.
Наш век — торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет…Пушкин на юге спорит с Раичем, доказывая ему, что продажа рукописи, не вдохновения — не постыдна для благородного литератора. И так же думали Бестужев с Рылеевым, наблюдая, как тираж «Полярной звезды» исчезает из книжных лавок. Теперь они делают второй шаг, осуществляя свой широкий просветительский замысел.
Они объявляют — впервые в России, — что намерены покупать для своего альманаха стихи и прозу, — как сказали бы теперь, платить авторский гонорар. Поэтому они вынуждены отказаться от комиссионерских услуг Сленина — и все расходы по изданию впредь берут на себя.
Если бы Бестужев и Рылеев не стали на путь литературной коммерции, требование самостоятельности литератора — пусть относительной, но все же большей, чем прежде, — осталось бы пустым звуком. Если бы, составляя альманах, они не учитывали вкусов покупателя — о возбуждении интереса к отечественной словесности не могло быть и речи. Наконец, если бы Иван Васильевич Сленин был меценатом и не заботился о своих доходах, то, перестав быть комиссионером «Полярной звезды», он не обратился бы к Дельвигу с предложением о новом альманахе — и русская культура не имела бы «Северных цветов».
Избрав Дельвига как возможного составителя нового альманаха, Сленин знал что делал. Дельвиг пользовался уважением в литературных кругах — и в том числе в Вольном обществе любителей российской словесности, где состояли членами Бестужев и Рылеев и откуда вышла «Полярная звезда». Он был знаком и со старшим поколением поэтов — Гнедичем, Крыловым, Жуковским, — и с младшим, к которому принадлежали его близкие друзья — Пушкин, Баратынский, Кюхельбекер. Книгопродавец оказался на высоте: он рассчитал, что альманах Дельвига будет довольно близок к «Полярной звезде» по составу участников. Издание и продажу он брал на себя, за что Дельвиг должен был получить 4 тысячи рублей ассигнациями.
Можно думать, что на тех же условиях он издавал и «Полярную звезду».
Мемуарист передает, что Дельвиг «немедля сообщил эту мысль Рылееву, который ничего не имел против нее», но после выхода «Северных цветов» отношения охладились: Рылеев был «видимо недоволен» тем, что многие произведения лучших поэтов украсили эту книгу, отчего, конечно, много потеряла «Полярная звезда»[2].
Все эти переговоры падают, по-видимому, на самый конец 1823 или начало 1824 года. В январском письме Вяземскому, сообщая об успехе новой «Полярной звезды», Бестужев роняет фразу о «мелочной зависти», которую возбуждает этот успех даже среди людей, которых они, издатели, считали «беспристрастнейшими в свете». Если это письмо действительно намекает на «Северные цветы», то перед нами — самое раннее из свидетельств об альманахе, о замысле которого знает пока только узкий литературный круг. Говоря о конкурентах, Бестужев не может сдержать ноту досады или враждебности. Впрочем, в следующем письме Вяземскому от 28 января, где «Северные цветы» названы прямо, интонации уже более спокойны. Бестужев дружески-шутливо упоминает о Дельвиге, который, преодолев свою обычную лень, принял участие в «Звезде», и сообщает об обеде для участников, где враги сидели мирно рядом и «литературная ненависть не мешалась в личную». Он заканчивает призывом, где звучит комическое отчаяние: «У вас выходит четверогранный альманах, у нас Дельвиг и Сленин грозятся тоже Северными цветами — быть банкрутству, если вы не дадите руки».
«Банкрутство» — конечно, шутка; уже ясно, что «Полярная звезда» может не бояться конкуренции. «Литературные листки» Фаддея Булгарина сообщают, что за три недели распроданы все 1500 экземпляров, и также слегка шутят над четырехтомной «Мнемозиной». И то же самое пишет Бестужев Я. Толстому в письме от 3 марта:
«Кюхельбекер издает Альманах в 4-х частях под заглавием „Мнемозина“, он еще не показался, а г-н Сленин и Дельвиг издают на 25-й год Северные Цветы, точно то же, что и наша звезда. Это спекуляция промышленности. Им завидно, что в три недели мы продали все 1500 экземпляров — посмотрим удачи!»[3].
В этот же день, 3 марта, «Литературные листки» объявляют публике о «Северных цветах». Извещение было составлено в тоне внешне благожелательном и лояльном к новому изданию — и в то же время в нем были поставлены весьма симптоматичные акценты. «На русском Парнасе носятся слухи, — писал Булгарин, — что несколько литераторов и один книгопродавец вознамерились к будущему 1825 году издать альманах в роде Полярной звезды, под заглавием Северные цветы».
Мысль Бестужева, высказанная в частном письме, становилась достоянием публики. «Северные цветы» будут подражанием широко известному альманаху.
«Хотя наш Север не весьма славится цветами, — в тоне автора слышится едва уловимая снисходительная ирония, — однако ж при старании можно кое-что вылелеять».
Это шутка; далее тон становится серьезным. «Желаем и надеемся успеха, тем более, что семена весьма рано посеяны. Это соперничество» (автор предупреждает возникающие подозрения) «нисколько не повредит „Полярной звезде“, напротив того, возродит в издателях соревнование, что также послужит к пользе читателей. Кто покупал в продолжение двух лет „Полярную звезду“, тот купит и в третий раз, особенно зная отличные дарования издателей, гг. Бестужева и Рылеева»[4].
К сожалению, мы не знаем, как реагировали издатели «Полярной звезды» и будущие издатели «Северных цветов» на эту прямую рекламу, которая могла бы обострить отношения и без того конкурирующих групп.
Противопоставлять «отличные дарования» названных поименно популярных писателей нескольким безыменным «литераторам и книгопродавцу» значило прямо подсказывать публике выбор одного издания в ущерб другому. Призыв же в виду этих обстоятельств покупать «Полярную звезду» превращал литературное «соперничество» в борьбу торговых фирм. Грань между «словесностью» и «коммерцией» становилась исчезающе тонкой.
Все это никак не могло входить в планы Бестужева и Рылеева.
Согласившись стать издателем «Северных цветов», Дельвиг понимал, что его ждут довольно значительные трудности. Начать с того, что отношения в «Вольном обществе» были не вполне безмятежны. Здесь действовали две партии — «правая» и «левая», консерваторы в обществе и литературе, группировавшиеся вокруг А. Е. Измайлова, издателя «Благонамеренного», и либеральная часть. Последняя была в большинстве; к ней принадлежали президент общества Федор Николаевич Глинка, вице-президент Н. И. Гнедич, признанный мэтр и учитель, переводчик Гомера; издатель «Сына отечества» Н. И. Греч и сотрудник его, польский журналист не без способностей Ф. В. Булгарин, ставший русским литератором и издававший с 1823 года «Литературные листки», о которых мы уже упоминали; наконец, издатели «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев и сам Дельвиг с небольшим кружком оставшихся друзей, прежде всего с П. А. Плетневым.
Все эти люди приняли участие в «Звезде» и действовали против консерваторов сообща — однако прошлый 1823 год посеял среди них брожение.
Мы не знаем досконально, что творилось за кулисами общества и почему Гнедич был сменен с вице-президентства и на его место избран Греч.
Обиженный Гнедич фрондировал, и его поддерживали Ф. Глинка, Дельвиг и Плетнев, особенно сблизившиеся с ним на протяжении 1822–1823 годов.
К Гречу тяготели Рылеев, Бестужев, Булгарин.
Из этой последней группы вышли потом вожди Северного общества декабристов — и можно предполагать, что какие-то общественные разногласия сыграли свою роль в разделении общества на партии. Однако они были не единственной и, может быть, даже не главной причиной. По Петербургу ходили слухи, что Греч интригует за спиной у Ф. Глинки и пытается «обратить Общество» к своему журналу[5]. Это было очень похоже на истину. Официальный журнал общества — «Соревнователь просвещения и благотворения» — день ото дня хирел, а рядом с ним оскудевал гречев «Сын отечества», тоже питавшийся от даяний общества. Сил на два журнала у «соревнователей» не было.
«Сын отечества» был авторитетен и популярен, его покупали «наряду с академическими ведомостями» — но положение могло измениться каждую минуту, и опытный журналист был неспокоен. Еще в 1816 году он предлагал вновь возобновленному Обществу любителей словесности, наук и художеств взять его детище под свою эгиду[6]. Обществу нужен был печатный орган, Гречу — сотрудники. Сделка расстроилась, и Греч связал тогда свою судьбу с «соревнователями». Он должен был заботиться о завтрашнем дне; журнал требовал пищи. Прекратись ее приток — и он погиб, и неминуемое крушение ждет журналиста.
В 1823 году в России был неурожай, дороговизна, помещики в губерниях предпочитали не тратиться на журналы. Число подписчиков у Греча упало вдвое[7]. Теперь, по мнению Греча, «Соревнователь» должен был погибнуть, чтобы гибелью своей спасти «Сына отечества». План не удался; Глинка, Рылеев, О. Сомов образовали «домашний комитет» для оживления журнала и общества. Греч не вошел в него. В 1824 году он был сменен с вице-президентства и не посетил ни одного заседания[8].
Все это осложняло отношения Греча с руководителями «ученой республики», в том числе и с Бестужевым и Рылеевым, — однако разногласия пока не выходили на поверхность. И он, и Фаддей Булгарин, его ближайший журнальный соратник, держались либеральных взглядов и неизменно поддерживали «Полярную звезду». Булгарин был прямо дружен с Рылеевым и Бестужевым, и мнения их то и дело всплывали в его статьях: он спешил высказать их даже когда и не был никем уполномочен. Так он поступил, извещая о «Северных цветах».
Издатель конкурирующего альманаха в лучшем случае мог рассчитывать здесь на недоброжелательный нейтралитет. Если же издатель был Дельвиг, то следовало ожидать и прямых воинских вылазок, ибо Дельвиг был связан с конкурентом Греча и Булгарина — а с некоторых пор и непримиримым их врагом — Александром Федоровичем Воейковым.
Воейков был женат на любимой племяннице Жуковского А. А. Протасовой, «Светлане» его баллад. Из этого брака он извлек все, что можно, — покровительство Жуковского, литературные связи, деньги. Он извлекал из него даже стихи. В доме Александры Андреевны был литературный салон; ее «лунная красота» и неотразимое обаяние привлекали поклонников. Александр Тургенев и Василий Перовский — близкие друзья Жуковского — были влюблены в нее, как влюблялись люди десятых годов — молча, на всю жизнь, с романтическим томлением. Иван Иванович Козлов, ослепший и прикованный к креслу, считал ее ангелом, ниспосланным ему в утешение. Даже Булгарин одно время сходил от нее с ума, и суховатый и иронический Греч смягчался в ее присутствии. Ни Рылеев, ни Бестужев не остались к ней вполне равнодушны, а молодой Николай Языков кипел и трепетал от неразделенной страсти.
За всеми этими людьми внимательно следил муж — маленький смуглый брюнет с подвижным лицом и вспыхивающими в глазах огоньками тайного недоброжелательства. Нет, не ревность говорила в нем — супруга не давала к ней никаких поводов. Все эти люди были нужны ему — они писали стихи и прозу, которые он, Воейков, печатал в своих «Новостях литературы» — литературном приложении к издаваемой им военной газете «Русский инвалид». Плодами вдохновений Жуковского, И. Козлова, Языкова, одно время даже Рылеева он владел почти монопольно. Не любовных, но журнальных соперников опасался Воейков.
Конкуренция входила в быт, в семейную жизнь, она скрепляла и разрушала дружеские связи. Она встала между некогда закадычными друзьями — Булгариным и Воейковым — и в 1823 году превратила их в смертельных врагов.
Отчуждение и неприязнь росли между кружком Воейкова — и Гречем, Булгариным, Бестужевым, Рылеевым.
Дельвиг был в орбите воейковского кружка, и легкая тень падала на него. Бестужев подозревал, что конкурирующий альманах возникал не без воейковской интриги.
Все эти частности и местности, как уже сказано, делали положение Дельвига щекотливым и затруднительным. Он предупредил Рылеева и Бестужева и даже как бы испросил их согласия на новый альманах — но он не мог рассчитывать на их участие, равно как и на участие близких к ним членов «ученой республики» — Греча, Булгарина, Сомова, Корниловича, к тому же занятых и собственными литературными предприятиями. Оставались Ф. Глинка, Гнедич; по прежним связям можно было что-то получить от А. Е. Измайлова. В воейковском кружке могли поддержать его Жуковский, И. И. Козлов, сам Воейков. Наконец, должен был откликнуться лицейский «союз поэтов» — Пушкин, Кюхельбекер и соединившиеся с ним позже Баратынский и Плетнев. Из этого союза в Петербурге были, впрочем, только он сам, Дельвиг, и Плетнев: Кюхельбекер сам издавал в Москве альманах с В. Ф. Одоевским и нуждался в литературной помощи; Пушкин был на юге, в ссылке, Баратынский тянул в Финляндии унтер-офицерскую лямку.
Тем не менее Дельвиг начинает переговоры с «союза поэтов» и прежде всего обращается к Пушкину. Во второй половине января — начале февраля 1824 года Пушкин пишет брату Льву: «Что Кюхля? Дельвигу буду писать, но если не успею, скажи ему, чтоб он взял у Тургенева Олега вещего и напечатал. Может быть, я пришлю ему отрывки из Онегина; это лучшее мое произведение»[9]. Здесь идет речь сразу о двух альманахах лицейских товарищей: о «Мнемозине» «Кюхли» и о «Северных цветах».
«Мнемозина» получила «на зубок» «Вечер» («Я люблю вечерний пир») и «Моего демона». У Дельвига в руках была пока только «Песнь о вещем Олеге», которую Пушкин посылал А. И. Тургеневу, видимо, при письме от 1 декабря 1823 года. Это было не так много, но самый подарок содержал в себе некоторый особый смысл.
Печатая у Дельвига «Песнь о вещем Олеге», Пушкин вступал тем самым в литературное состязание с Рылеевым, написавшим думу «Олег Вещий». В рылеевской думе он находил анахронизмы и — что гораздо важнее — отсутствие исторических характеров. Именно такой характер занимал его более всего, когда он писал собственную балладу: первобытное простодушие средневекового воина с его детской верой в слова прорицателя и трогательной привязанностью к животному — товарищу многолетних походов. Рылеев искал в Олеге иного: символа древней национальной славы[10]. Разница эстетических принципов Пушкина и «гражданского романтизма» декабристов уже давала себя знать, и Пушкин, надо думать, не случайно не отдал этих стихов в «Полярную звезду». Он мог предвидеть, что издателям они не понравятся, — как и случилось.
Здесь не было преднамеренной полемики, а был отбор и распределение стихов, что Пушкин делал не раз. Вместе с тем можно думать, что новой «Звездой» Пушкин не был доволен и собирался дать это почувствовать издателям. В альманахе была напечатана его «Таврическая звезда» («Редеет облаков летучая гряда…») с тремя последними стихами, которые имели для него особый, интимный смысл — они относились к Екатерине Раевской, ныне жене М. Ф. Орлова. Эпизод, описанный в них, мог быть узнан и самой Орловой, и ее мужем. Пушкин боялся двусмысленных положений как огня и негодовал на бесцеремонность Бестужева, которого об этих стихах специально предупреждал. В довершение бед два других его стихотворения в прошлой «Звезде» — «Нереида» и «Элегия» («Простишь ли мне ревнивые мечты…») вышли обезображенные опечатками, и Пушкин с досадой отправлял их Булгарину, прося напечатать правильно.
Все это мало располагало Пушкина посылать новые стихи в «Полярную звезду», хотя обеспокоенный Бестужев не раз пытался загладить свою оплошность. Он дает уклончивый отзыв об альманахе в целом и довольно холодно встречает предложение Бестужева продать для следующей книжки «десяток пиес». «Едва ли наберу их и пяток, да и то не забудь моих отношений с цензурой. Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал Кюхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, чем тебе». Давние лицейские связи имели для Пушкина особую цену; к тому же он знал, вероятно, что Кюхельбекер находится чуть что не в крайности. Вслед за тем он решительно отказывает Бестужеву в отрывках из «Онегина» — видимо, тех самых, которые предназначал для Дельвига: «Об моей поэме нечего и думать — если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге»[11].
Дельвиг обращался к Пушкину не только за стихами, но и за посредничеством. Он просил Пушкина и Жуковского замолвить за него слово Вяземскому — и только после этого решился написать сам. Он извинялся в принятых мерах предосторожности и затем сообщал об альманахе. Он просил от Вяземского стихов и прозы, несколько смущаясь, что начинает «делаться бесстыдным, как наши журналисты». «Не имея личных достоинств Рылеева и Бестужева, — так заканчивал он письмо, — надеюсь на дружбу некоторых лучших наших писателей и потому смею уверить вас, что я все употреблю старание доставить Вашим пьесам достойное их общество…»[12].
Дельвиг, конечно, знал, что Вяземский уже прочно связал себя с «Полярной звездой» и потому-то поспешил заручиться дружеской поддержкой. Мало того, были некоторые основания думать, что Вяземский предубежден против конкурирующего альманаха: не забудем, что именно к нему Бестужев обращал свои то иронические, то негодующие письма. Он посылал в «Звезду» через Жуковского то «Святополка» Кюхельбекера, то собственный «Петербург» и требовал от Жуковского «Иванова вечера» — «Замок Смальгольм»; Жуковский совсем было согласился, но потом почему-то раздумал; в ноябре 1824 года Бестужев жаловался Вяземскому на Жуковского: «отдал „Иванов вечер“ и взял назад»[13].
Помимо обязательств перед «Полярной звездой» были и другие причины, о которых Дельвиг мог знать лишь частично. На Вяземского в одночасье свалилось множество дел: хлопоты с продажей имения, хлопоты с изданием пушкинского «Бахчисарайского фонтана», которое он взял на себя, наконец, хлопоты литературные. Он считал, что теряет свою популярность у «петербургских словесников»: он вступил уже в довольно корректную поначалу, но все более накалявшуюся полемику с Булгариным. Речь шла о баснях И. И. Дмитриева, которому Вяземский отдавал недвусмысленное предпочтение перед Крыловым. Булгарин возражал печатно, и за ним было общее мнение. Вяземский отвечал; журнальная война расширялась. В феврале Булгарин извещал о выходе 20 новых пьес Крылова и среди них басни «Прихожанин» — «последняя может служить руководством критикам, которым кажется все дурно, что не их прихода». В Петербурге знали, что басня намекает на Вяземского: Крылов был задет[14].
Все время, пока развивались эти события, Вяземский писал только ближайшим друзьям — А. Тургеневу и Жуковскому. К марту он немного освобождается от хлопот. 9 марта он просит Бестужева извинить его молчание. «Летом пришлю я вам добрый запас на выбор для „Звезды“. Теперь нет ничего отделанного, а на отделку нет времени, ни свободы»[15].
У Вяземского не было новых стихов даже для «Полярной звезды» — тем более он ничего не мог послать Дельвигу. К просьбам Жуковского и Пушкина он, однако, не мог быть равнодушен, и потому оттягивал ответ, не отказывая решительно.
Вяземский просил Жуковского о «Полярной звезде», Жуковский Вяземского — о «Северных цветах».
Впрочем, Дельвиг тоже, подобно Бестужеву, мог бы жаловаться на Жуковского: обещал «Водолаза» и не отдал. В сентябре 1824 года Дельвиг уже почти что имел в руках перевод этой баллады, которая потом стала известна под названием «Кубок». Но Жуковский не окончил перевода ни в 1824 году, ни в следующем — и лишь через семь лет поставил последнюю точку[16]. С тех пор, как умерла его Маша, Мария Андреевна Мойер, он писал совсем мало и с головой ушел в педагогические занятия с наследником. Упреки друзей не действовали: этот мягкий человек становился упорен и даже упрям, когда бывал в чем-нибудь убежден. А он был убежден, что время стихов для него прошло и остаток жизни он должен посвятить одной идее[17].
Бестужев жаловался Вяземскому, что Жуковский отказал ему в стихах для «Полярной звезды», «уверяя, что ничего нет», «когда отдавал Дельвигу новую элегию». Он полагал, что Жуковский просто обманул его, но он ошибался. У Жуковского не было запаса — и ему действительно неоткуда было черпать. Он отдавал Дельвигу самые последние по времени свои стихи — почти все они записаны в альбом А. А. Воейковой в 1823–1824 годах.
Но в одном Бестужев был прав: здесь было действительно предпочтение и даже знак доверия, потому что стихи Жуковского принадлежали к числу самых интимных, навеянных его недавней потерей. В них выразилось то же настроение, которое владело Жуковским, когда он сажал деревья у свежей могилы Машеньки, — не отчаяние, не скорбь даже, а какая-то покорная резиньяция, как будто он сам готовился к переходу в иной мир и ощущал себя сопричастным отошедшему «товарищу души, прекрасному, удаленному от всякого страдания». «Таинственный посетитель», «Мотылек и цветы», «Ночь», даже ранее написанное «Привидение» проникнуты этим мистицизмом, уже не только литературным, но прочувствованным и воспринятым как собственное мироощущение. Жуковский печатал эти стихи в «Северных цветах» — в «Полярной звезде» они, помимо всего прочего, были бы и не у места.
Жуковский поддержал альманах Дельвига не только своими стихами — он привел сюда и весь свой круг.
Иван Иванович Козлов, отдавший в «Полярную звезду» «Венецианскую ночь», сразу же ставшую знаменитой, вознаградил «Северные цветы» пятью другими стихотворениями. Автографы двух из них — «Киев» и «Ирландская песня» (Из Мура) мы находим в альбомах А. А. Воейковой, но слепой поэт редактировал их, в особенности второе, которое переделал почти полностью. Под этим вторым стихотворением в альбоме была дата: 20 апреля 1824 года; новую редакцию он дал Дельвигу, конечно, позже, — вероятно, лишь в конце октября или начале ноября[18].
Третьим представителем этого дружеского кружка оказался Василий Алексеевич Перовский. Этот человек, образованный и любивший литературу, никогда не выступал как писатель. Его «Отрывки писем из Италии», напечатанные у Дельвига, были подлинными письмами, писанными Жуковскому во время итальянского путешествия Перовского в 1823–1824 годах; Жуковский отдал их в печать, кажется, без ведома автора — часть Воейкову, часть Дельвигу. Они появились в «Цветах» за подписью «П… й» — и автор был узнан, по крайней мере Пушкиным[19].
Сам Воейков тоже дал прозу, и тоже «путешествие», оче19рк из своего цикла «Путешествие по отечеству», «Прогулка в селе Кусково»[20].
Круг Жуковского и Воейкова выполнял, таким образом, свои обещания, и доля его в дельвиговском альманахе оказывалась больше, чем в «Полярной звезде». Шло постепенное, не слишком еще явное размежевание литературных групп.
Из окружения Жуковского, из «арзамасского братства» приходит в «Северные цветы» и Дмитрий Васильевич Дашков. Некогда основатель «Арзамаса», дерзкий и удачливый противник «староверов» из «Беседы любителей русского слова» ныне преобразился в твердого и, по-видимому, довольно хладнокровного дипломата. Дашков был советником при русском посольстве в Константинополе. Во время греческого восстания он спас от гибели немало греческих семейств. В редкие перерывы между служебными занятиями он ездил по афонским монастырям, разыскивая греческие и славянские рукописи и грузинскую библию. В нем жил ученый филолог; в Константинополе он изучил греческий язык и переводил античные эпиграммы с подлинника, читая сотни страниц комментариев, чтобы понять несколько строк древнего текста. Он стал не эллинистом, а министром юстиции в николаевском правительстве. Законодательные планы его были слишком преждевременны; ум, работоспособность, энергия оказались не нужны. Он являлся своим подчиненным неким Катоном, холодно сдержанным олицетворением беспристрастия. Его считали мизантропом, и только очень близкие люди видели другого Дашкова — внимательного и почти ласкового. Таким знал его Жуковский; он называл Дашкова «Дашенькой», каждый раз приводя этим в изумление Вяземского.
В 1823 году для Дашкова наступил период вынужденного бездействия: слишком ревностных сторонников греческой революции тогда негласно отстраняли от дел. Он раздражался, хотел требовать отставки и между тем вернулся к начатым некогда переводам эпиграмм, чтобы завершить, наконец, многолетний труд. Эти-то эпиграммы — «Цветы, выбранные из греческой анфологии» — Дашков начинает печатать, разделив свой запас между «Полярной звездой» и «Северными цветами». Он печатается анонимно, но в литературных кругах авторство его — не секрет.
В его переводах соединились «классик», пристрастный к торжественной, архаизированной речи, и «арзамасец», добивающийся изящества и логической точности слова. Филологически они были почти безупречны. Но печатал их Дашков не для филологов.
На них лежал отблеск античности, с ее суровым героизмом, немногословным патриотизмом, с ее презрением к смерти. Дух Древней Греции, воскрешаемый русским дипломатом, преданным делу греческой свободы. Эти стихи эллинской древности стояли рядом с песнями клефтов, подаренными Дельвигу Гнедичем.
Гнедич готовил отдельным изданием песни клефтов, восставших греков, которые собрал и напечатал во Франции Фориэль. Он выбрал для Дельвига ту, которую почитал лучшей в собрании, — «Олимп», и добавил к ней две другие: «Гроб клефта», «одну из славнейших в своем роде песен», и «Кальякуд», где находил сродство с русской народной поэзией. Он отдал явное предпочтение «Северным цветам» перед «Полярной звездой»: в прошлой книжке «Звезды» он не участвовал вовсе, отговорившись неимением альманашных стихов, в новую дал отрывок из «Илиады».
Следы его недавней фронды в обществе «соревнователей» еще сказывались.
К переводам Гнедича Дельвиг сделал примечание, где сообщал о выходе его книги с рассуждением переводчика о «простонародной» поэзии греков и славян.
Песни клефтов составляли в альманахе особый цикл, к которому Дельвиг добавил другой, близкий по духу и по поэтике. Он убедил Александра Христофоровича Востокова заняться переводом сербских народных песен из сборника Вука Караджича.
Востоков был поэт и ученый филолог, знаток античной и народной метрики, грамматик и славист. Еще в 1817 году Кюхельбекер приносил своим пансионским ученикам только что появившийся его «Опыт о русском стихосложении», а четырьмя годами позднее Плетнев и Дельвиг перечитывали вместе книжку стихов Востокова, восхищаясь его посвящениями — в особенности адресованными Гнедичу; через двадцать с лишним лет Плетнев просил Востокова подарить ему экземпляр и переписать эту надпись. Сам Дельвиг вспоминал стихи Востокова, подражая Катуллу, — да и в других случаях, когда ему приходилось имитировать античную метрику. Они встречались в обществах «соревнователей» и словесности, наук и художеств, где Востоков был непременным почетным членом, вероятно у Гнедича, может быть у Оленина, несомненно — в Публичной библиотеке, где служили оба. Предложение Дельвига нашло благодатную почву: Востоков засел за перевод, и «Северные цветы» пожали первые плоды[21].
В альманахе Дельвига определялась целая группа стихов, связанных с народной словесностью — новогреческой, славянской.
Античность и народная поэзия — это то, что ближайшим образом интересовало самого Дельвига. Это была поэзия «наивная», средоточие непосредственных, безыскусственно выраженных чувств. Гнедич пытался создать «русскую идиллию»; к ней же, только с другой стороны, подходит Дельвиг. Общность интересов объединяет два поколения, и, хотя каждое из них преследует свои цели, они сотрудничают охотно. Гнедич и Дашков могут многому научить Дельвига, не знающего греческих подлинников; у того же Гнедича и у Востокова Дельвиг учится одновременно и фольклорной поэтике. И он вносит свой вклад в «Цветы»: две «русские песни» — «литературный фольклор» — и идиллию «Купальницы» — «античность».
В этот же ряд становится идиллия «Море и земля», перевод из Мосха, первого после Феокрита буколического поэта древности. Перевод сделал совсем молодой поэт — Константин Масальский, ученик Кюхельбекера по Благородному пансиону, однокашник Левушки Пушкина, юноша благонравный и благоразумный и в своем литературном поведении. Ему предстоит стать в дальнейшем историческим романистом; сейчас он начинает свою поэтическую деятельность: переводит с французского, с испанского, пишет басни. Он начинает раньше своих сверстников; он — уже следующее за Дельвигом литературное поколение.
Можно было ожидать, что Гнедич откликнется на просьбу Дельвига. Труднее было рассчитывать на Жуковского. Басни Крылова были для альманашника редким, вожделенным даром.
Крылов был хорош с Жуковским и Гнедичем, с которым даже жил по соседству: в казенной квартире через дом от главного здания Публичной библиотеки. Мимо квартиры Крылова лестница вела наверх, к Гнедичу.
Для Дельвига библиотекарь, надворный советник Крылов был служебным начальством. Кажется, по службе между ними были некоторые неудовольствия. Во всяком случае, директор библиотеки А. Н. Оленин в 1824 году письменно извещал помощника библиотекаря Дельвига, что не даст представления о производстве его в следующий чин, пока не получит от Крылова извещения, что часть библиотеки, ему, Дельвигу, вверенная, приведена «в надлежащий порядок». Но Дельвиг, видимо, не торопился с наведением порядка, а Крылов не спешил с извещением; чина Дельвиг так и не получил. П. А. Плетнев вспоминал, однако, что нерадение Дельвига «не довело до ссоры двух поэтов, равно ленивых, но равно и уважавших друг в друге истинное дарование»[22].
Но даже оставив в стороне претензии Крылова, нельзя было ручаться, что он легко откликнется на просьбы. Он готовил новое собрание басен и следил, чтобы их не перепечатывали понапрасну. В феврале 1824 года слухи об этом издании уже проникают в печать; называют новые басни, читанные «в некоторых обществах»: «Кот и соловей», «Пляска рыб», «Ворона», «Горшок», «Прихожанин». К марту уже называется точное число новых басен: двадцать семь[23].
Из этих двадцати семи басен Крылов до сих пор выпустил в печать только четыре. Оставались двадцать три басни; из них две он отдал в «Полярную звезду» на 1825 год, две Гречу и Булгарину для новорожденной «Северной пчелы». Дельвигу он подарил пять басен.
По-видимому, уже к началу сентября у Дельвига были «Лисица и Осел», «Муха и Пчела», «Богач и Поэт», «Прихожанин» и «Лев состаревшийся» и что-то еще[24]. Но Крылов этим не ограничился.
4 октября он был в Приютино на даче у А. Н. Оленина, обедал, а потом задремал в кресле. Три молоденькие почитательницы его таланта с изящной учтивостью разбудили его поочередными поцелуями; старик вспомнил литературную молодость и написал анакреонтическую оду. Эту оду «Три поцелуя» он тоже отдал в «Северные цветы».
Биограф Дельвига В. П. Гаевский видел в этом доказательство особой благосклонности к Дельвигу старого баснописца, который давно уже ничего не печатал, кроме басен. Может быть, так оно и было[25].
Уже в июне 1824 года Дельвиг был спокоен за судьбу альманаха и рассчитывал, что ему понадобится не более месяца, чтобы закончить его составление. Его беспокоил только недостаток прозы, и он писал Федору Глинке, обещавшему дать прозаические статьи[26].
Он даже собирался послать Кюхельбекеру для «Мнемозины» свои стихи и стихи Жуковского и отправил ему «Узницу» Козлова, прося напечатать. «Ты утешишь человека слепого и безногого, который имеет одну только отраду в жизни — поэзию».
В том же письме он просил Кюхельбекера и еще не знакомого ему В. Ф. Одоевского «что-нибудь прислать в новый альманах Северные цветы». «Он будет хорош: Игнациус рисует картинки, бумага веленевая, печать лучшая в Петербурге, а с помощью друзей начинка не уступит украшениям»[27].
Оптимизм Дельвига, быть может, был несколько преждевремен. Кюхельбекер и Одоевский не смогут принять участия в «Северных цветах», а он сам и Жуковский — в «Мнемозине»[28]. «Узница» Козлова не появится в кюхельбекеровском альманахе, и пройдет еще несколько месяцев, пока подоспеет ожидаемая «помощь друзей».
Тем не менее некоторый запас у Дельвига уже есть. Языков, приехавший в Петербург в начале июня, сообщает брату в Симбирск: «он хвалится множеством прекрасных стихов, для него приготовленных: дай бог!»
Дельвиг писал Языкову в Дерпт в марте, и Языков к 6 апреля послал какую-то небольшую «пьесу», посвященную Е. П. Ивашевой, и боялся, что она не поспеет. Может быть, это было стихотворение «Ливония». 12 апреля он сообщал братьям, что написал еще нечто для «Северных цветов». Ни одно из этих двух стихотворений в альманах не попало. Может быть, их задержала цензура, — так было с языковской «Новгородской песнью»[29].
Цензура А. С. Бирукова оставляла в запасах альманашников зияющие пустоты; Рылеев с Бестужевым иной раз приходили в отчаяние.
Но для Дельвига все еще впереди.
17 июня Бестужев пишет Вяземскому: «У Дельвига будет много хороших стихов — не надо бы и нам старикам ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов»[30].
Баратынский был одним из «господ поэтов», на которых и Дельвиг, и издатели «Звезды» возлагали особые надежды.
В начале 1824 года он еще находится на положении «финляндского изгнанника». За него хлопочут Жуковский, Александр Тургенев, Денис Давыдов. Все просьбы — об офицерском чине, об отставке, о гражданской службе — пока остаются безуспешны.
Между тем сам он ведет себя не слишком осторожно; его антипатия к российским общественным порядкам находит выход то в сатирических куплетах, то в разговорах, слухи о которых доходят до Москвы, то в эпиграмме на Аракчеева.
Пока решается его судьба, он готовит к изданию сборник своих стихов, хотя А. Тургенев настойчиво предупреждает, чтобы имя его до окончания дела не появлялось в печати.
В первые месяцы 1824 года он посылает Бестужеву и Рылееву тетради со стихами: издатели «Полярной звезды» намерены стать издателями и сборника Баратынского; в марте Булгарин объявляет об этом в «Литературных листках». Друзья поздравляют Рылеева с покупкой и еще в октябре 1825 года интересуются книжкой.
В июне Баратынский собственной персоной появляется в столице, изнемогающей от невыносимой жары. 12 числа его видит здесь вместе со Львом Пушкиным Языков, остановившийся на неделю-другую проездом в Симбирск. 14 июня он с Гречем и Дельвигом отправляется к А. И. Тургеневу на Черную речку обедать; собрались Жуковский, Блудов, Дашков и привезли слепого Козлова. «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу», — сообщал Тургенев Вяземскому в Москву.
Через три дня он видится с Бестужевым у Рылеева, 12 июля они проводят вечер втроем[31].
Он как будто связывает оба кружка — «Северных цветов» и «Полярной звезды» и, деля свои стихотворные приношения между двумя альманахами, не оказывает видимого предпочтения ни тому, ни другому. Но скрытое размежевание позиций уже началось: оно вскоре скажется и на этих отношениях.
Идет борьба эстетическая, и борьба журнальная.
В «прекрасном послании» Баратынского к Богдановичу есть след этой литературной и общественной борьбы.
Мы знаем только позднюю редакцию послания и не можем определить точно, что в нем принадлежит первоначальному тексту и что появилось позже. Однако общий смысл стихотворения, конечно, не менялся при переработке.
Баратынский хоронил элегическую поэзию, в том числе и свою собственную. Он писал о «жеманном вытье» современных элегиков и о Жуковском, который «виноват» в рождении унылой элегии, потому что первым «вошел в содружество с германскими певцами» и сделал их «жизнехуленья» достоянием русской поэзии.
Все это почти совпадало с тем, что написал Кюхельбекер в только что вышедшей второй книжке «Мнемозины», написал с полемическим задором, парадоксами и преувеличениями. Он нападал на элегии Пушкина и Баратынского, указывал на Жуковского как родоначальника «германского» мистицизма и провозглашал возвращение к высокому лиризму оды и к родникам народного творчества.
Со статьей Кюхельбекера, кажется, не был согласен никто: ни Пушкин, ни Вяземский, ни А. Тургенев, ни Бестужев. Вместе с тем — странное дело! — иные полемисты повторяли ее критическую часть.
«…Жуковский первый ввел к нам аллегорическую и так сказать неразгаданную поэзию, — а уже вслед за ним все пишущее записало бемольными стихами; но, как водится, не имея его дара, не имело и тени его успеха…»[32].
Так будет писать Бестужев, еще в 1823 году в первой «Полярной звезде» упрекавший Жуковского и Дельвига за «германский эмпиризм» и «германский колорит».
Булгарин, рецензируя вторую книжку «Мнемозины», выписал все место об элегиях как «совершенно справедливое» и лишь переносил всю тяжесть упреков с Жуковского, Пушкина и Батюшкова («сих великих поэтов, делающих честь нашему веку») на их «несносных подражателей»[33].
Спор расширялся, из области литературы и эстетики перебрасываясь в область политики. Борьба за национальную культуру была для Бестужева и Рылеева частью программы Северного тайного общества. «Немецкое влияние» означало теперь и господство немцев при русском дворе, и едва ли не самую династию Романовых, в чьих жилах текла кровь герцогов Гольштейн-Готторпских. Имя Жуковского всплывало на «русских завтраках» Рылеева, где в противовес «немецкому духу» царила «русская» символика: графин русского вина, кочны пластовой капусты, ржаной хлеб. Слово за слово — и вот уже от «германизма» переходят к придворной службе поэта, губящей его творчество, от сожалений к шуткам, потом к сарказмам — и наконец Бестужев при шуме всеобщего одобрения читает злую эпиграмму на «бедного певца», преобразившегося в придворного:
С указкой втерся во дворец, И там, пред знатными сгибая шею, Он руку жмет камер-лакею…Эпиграмма передавалась из уст в уста. А. Е. Измайлов записал ее как пушкинскую. Затем о ней узнал Воейков и с торжеством прочитал самому Жуковскому; вероятно, он сказал, что эпиграмма Булгарина, Жуковский поверил и был задет. Встретив Греча, он сказал ему: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммою; я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом». 22 мая 1825 года о ней пишет Вяземскому возмущенный Тургенев[34].
Две не только литературные, но и общественные группы теперь стоят друг против друга: кружок Бестужева — Рылеева, к которому примыкают Булгарин и Греч, и друзья Жуковского — и в их числе Воейков. Отношение к Жуковскому — не к человеку, но литератору, общественному деятелю, к его поэзии, словно намеренно удаляющейся от гражданских тем, — разделяет их. За этой разницей взглядов — разница общественных позиций, представлений о национальной культуре и многое другое, что приведет одних на Сенатскую площадь в декабре 1825 года, а другим уготовит иную судьбу.
«Полярная звезда» и «Северные цветы» находятся по разные стороны демаркационной линии.
Таковы были обстоятельства в общих чертах — говорим: в общих чертах, потому что на практике все было несколько сложнее.
На практике оказывалось, что Баратынский, Кюхельбекер и Бестужев почти одновременно и почти одними словами рассказывают о Жуковском как родоначальнике «германической» и элегической школы и выступают против самой школы как подражательной.
Вместе с тем статья Кюхельбекера в кругу Жуковского вызывает резкое неодобрение, а послание Баратынского, читанное перед самим Жуковским, принимается с энтузиазмом.
И даже в истории бестужевской эпиграммы, столь оскорбившей и возмутившей ближайших друзей Жуковского, не все ясно с первого взгляда.
Михаил Бестужев вспоминал, что Бестужев импровизировал ее в присутствии Левушки Пушкина, Грибоедова, Гнедича, Ф. Глинки — и Дельвига. Бестужев ошибся: Дельвига при этом не могло быть. В феврале 1825 года он уехал в отпуск в Витебскую губернию и вернулся в Петербург лишь 28 апреля[35]. Он застал ходящую по Петербургу эпиграмму, уже потерявшую имя. Как он отнесся к ней — на этот счет мы можем только строить предположения.
Он любил Жуковского — любил как литератора, как человека, почти как товарища. Он прекрасно знал, что намеки на угодничество Жуковского далеки от истины, как небо от земли, и вряд ли мог им сочувствовать. Наконец, он был связан с Жуковским уже довольно тесными литературными узами — более тесными, нежели с издателями «Полярной звезды».
И все же — странная вещь — Михаил Бестужев, пусть и ошибочно, называет Дельвига в числе тех, кто смеялся эпиграмме и одобрял ее. Он перечислил не всех участников «завтрака», но лишь тех, кто был связан с хозяевами ближе других: Ф. Глинку, Гнедича, Грибоедова — декабристов и их ближайших сочувственников. Среди них он нашел место и Дельвигу. Он знал, стало быть, что Дельвиг принадлежит к «друзьям», а не «противникам». И от этого же убеждения произошла другая ошибка: в семье Бестужевых были уверены, что Дельвиг сочинил резчайшие куплеты против царской фамилии: «Боже, коль ты еси, Всех царей в грязь меси»[36].
Такие стихи можно было приписать только человеку с прочной репутацией вольнодумца.
Некоторые косвенные данные позволяют думать, что в дельвигов-ском кружке установилось скептическое отношение к придворной службе Жуковского — и даже, может быть, к мистическим тенденциям его поэзии.
«Дельвиг не любил поэзии мистической, — вспоминал Пушкин. — Он говаривал: „чем ближе к небу, тем холоднее“». Вряд ли можно сомневаться, что речь шла и о поэзии Жуковского, а может быть, только о ней.
«Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов — картинки». Это опять Дельвиг — он пишет Пушкину 28 сентября 1824 года, — и еле заметная ирония улавливается в этом описании.
«Жуковский работает все около астрономии», — вторит ему Плетнев[37].
Во всем этом нет ничего удивительного. Самые близкие друзья Жуковского в преддекабрьские годы с осуждением говорили о связи его со двором. Если бы опубликовать в те годы то, что писал о ней в письмах Вяземский, — его гневная инвектива оставила бы далеко за собой мелочные журнальные нападки.
Но в том-то и заключалось дело, что ни Пушкин, ни Вяземский, ни группа Дельвига не выступали против Жуковского публично[38], более того, на журнальных страницах они каждую минуту были готовы стать на его защиту. В этом было отличие их от Бестужева и Рылеева, и каждая из позиций имела свои резоны и была чревата своими опасностями.
Пушкин писал Кюхельбекеру в декабре 1825 года: «Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Ж<уковско>го. Это простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Ж<уков-скому> и рада»[39].
Это — возражение не только Кюхельбекеру, но и Бестужеву, и Гречу и Булгарину, печатавшим критики на Жуковского в своих журналах. Более того, это некий общий принцип, следуя которому Баратынский не отдает своего стихотворения в печать. Он сделает это только спустя три года, когда стихи уже не будут звучать так актуально, и тогда Вяземский будет упрекать его: публика может принять строки о Жуковском за чистую монету и счесть самого автора союзником «классиков» «Благонамеренного» или «Вестника Европы».
Читательский вкус в России не установился: его предстоит еще воспитывать. «Черни», «принимающей вещи буквально», слепо доверяющей печатному слову, можно внушить все, что будет угодно журналисту. Она не научилась еще уважать подлинные литературные ценности — и в том числе поэзию Жуковского, — а уже находятся судьи, которые спешат развенчать их.
Да и чем определяется право этих критиков на безраздельное господство над общественным мнением? Разве тем, что они — издатели журналов, покупаемых и читаемых?
Приблизительно такую логику мысли мы можем усмотреть в критических выступлениях Пушкина и дельвиговского кружка.
Гласность, публичность, споры в печати, во всеуслышание делали широкий читательский круг участником литературного движения; они вовлекали в литературные дела всех без разбора, кто перелистывал журнальные страницы. Это была журнальная политика нового, буржуазного века, более свободная, более демократическая, нежели ранее. К ней склонялись Рылеев и Бестужев.
Но, как и всякая буржуазная демократия, она готова была решать литературные дела большинством голосов. Голоса принадлежали подписчикам, платившим за журналы и альманахи. Издательское дело становилось коммерцией — и так должно было быть; но коммерция проникала и в самую литературу. Нужен был еще один шаг, чтобы по историческому вызову явились поставщики на рынок литературного товара, чтобы конкуренция и жажда обогащения стали направлять писательское перо.
Этот шаг уже готовы были сделать — каждый по-своему — Воейков, Булгарин и Греч.
Такова была оборотная сторона буржуазной демократии в литературе.
Тем же, кто боялся этих неизбежных последствий, угрожала кастовость, замкнутость, элитарность, опасность потерять широкого читателя и погибнуть под натиском сильных конкурентов.
В своем послании Баратынский писал о художнике, замкнувшемся в гордом уединении, и о его профессиональных журнальных «судьях», торгующих хвалой и бранью не в переносном, а в буквальном смысле.
В письме к Козлову он разъяснял смысл своих, впрочем, достаточно прозрачных намеков. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом».
Нужно было иметь свой печатный орган, лучше всего журнал, хотя бы для того, чтобы не попасть в полную зависимость от «степени расположения <…> вышеназванных господ»[40].
Это письмо написано в январе 1825 года, и на его тон и суждения наложили отпечаток примечательные события, пришедшиеся на вторую половину 1824 года, — события, отчасти совершавшиеся на глазах у Баратынского.
19 июня 1824 года Бестужев записал в дневнике: «У Рылеева с Баратынским. История Дельвига с Булгариным».
Об этой «истории» до нас дошли несколько отрывочных припоминаний и одна записка без даты. Пушкин вспоминал: «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: „Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил“». П. В. Нащокин, приятель Пушкина, однокашник Левушки Пушкина и Соболевского по Благородному пансиону, добавлял, что сам он должен был стать секундантом у Дельвига, Рылеев — у Булгарина. Булгарин отказался от поединка, и «Дель.<виг> послал ему ругательное письмо за подписью многих лиц».
Письма, вероятно, не было. Рылеев вступил в переговоры. «Любезный Фадей Венедиктович! — сообщал он Булгарину. — Дельвиг соглашается все забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль или убийство. Dixi»[41].
Нам неизвестно, какое «громкое воспоминание» Булгарина о Дельвиге было поводом для этой несостоявшейся дуэли. Но почти нет сомнений, что причиной ее была все та же всемогущая конкуренция. Год назад она едва не поставила на барьер миролюбивых Воейкова и Булгарина. Тогда Булгарин посылал картель, Дельвиг посмеивался над ним, Рылеев был посредником и примирителем. Дуэль кончилась ничем; Воейков объяснял, что не затронул ни чести противника, ни его выгод.
Честь и выгоды стояли рядом, уравненные в правах. Посягательство на то и другое равно смывалось кровью. Формула Воейкова обещала стать исторической.
Теперь все как будто повторялось заново, и действовали почти те же лица. И совершенно так же, как в первый раз, Рылеев рассержен на Булгарина больше, чем на его врагов. Он ведет себя так, как будто он — секундант Дельвига. Он говорит от его лица в тоне то ультиматума, то высокомерного снисхождения.
Он втянут в игру страстей, от которой ему становится не по себе.
Зловещие отблески «коммерческого века» ложатся на всех.
Баратынский называл Греча, Булгарина, Каченовского как основных своих противников. Но, видимо, произошло что-то, что расстроило его отношения и с издателями «Полярной звезды». Уехав из Петербурга 5 августа 1824 года, он увез с собой тетради, которые должны были составить его печатный сборник. Бестужев сообщал об этом Вяземскому и подозревал здесь козни Воейкова, который намеренно ссорит его с литераторами дельвиговского кружка.
Разрыва не произошло: Баратынский будет участвовать еще в «Звездочке», продолжающей «Полярную звезду», — но прежней близости уже не было. Весной 1825 года Бестужев напишет Пушкину, что перестал верить в талант Баратынского[42].
В августе же 1824 года, лишь только Баратынский покинул Петербург, Булгарин садится за составление памфлета «Литературные призраки»; он вышел в свет 8 сентября[43].
В этом памфлете Булгарин задевал весь дельвиговский кружок и более всего «Лентяева» — Дельвига и «Неучинского» — Баратынского. Этих поэтов-неучей, вперебой хвалящих друг друга, учат уму-разуму сам Архип Фаддеевич — Булгарин — и приезжий литератор Талантин, в котором без труда узнавали Грибоедова.
Булгарин сводил счеты литературные и личные; он бы, вероятно, не решился на это, если бы в отношениях Дельвига и Баратынского с одной стороны и издателей «Полярной звезды» с другой не возникло бы взаимных неудовольствий. Однако он ошибся в расчете: сам Грибоедов, втянутый против воли в литературную интригу, был возмущен и написал Булгарину, что порывает с ним отношения. Вяземский, чья война с Булгариным уже приобрела довольно острые формы, писал Жуковскому о «подлом и глупом разговоре Булгарина» с похвалами Грибоедову и посылал эпиграмму с предложением напечатать в «Северных цветах»[44].
Между тем враг Булгарина — Воейков — творил свои негоции.
В № 136 «Русского инвалида» он объявил, что «по желанию многих известных наших писателей» он намерен с 1 июля издавать «Новости литературы» не листами, а отдельными книжками, по 12 книжек в год, общей стоимостью 15 рублей.
Это означало, что «Новости литературы» превращаются из приложений в особый журнал. А это в свою очередь значило, что за нехваткой оригинальных сочинений Воейков станет систематически перепечатывать уже опубликованные стихи. Так он нередко делал и раньше, не спрашивая ничьего позволения, и этот род литературного пиратства обозначался в обиходе глаголом «воейковствовать».
Издатели «Полярной звезды» страдали от этих перепечаток более всех и приняли свои меры. Они написали объявление, в котором предупреждали «всех собирателей так называемых новостей литературы, образцовых сочинений и прочих словесных мозаиков», что не намерены терпеть дальнейших выкрадок и просят пощадить их альманах, в противном же случае вынуждены будут употребить против «варварийского права корсаров» «европейское право эмбарго». Впрочем, объявления своего они не напечатали; в замену его в «Литературных листках» Булгарина появилось иное объяснение. Речь в нем шла об изданных Воейковым «Образцовых сочинениях», своего рода антологии новейшей поэзии и прозы, которую Воейков не собирает, а «выбирает» из чужих изданий — и представляет публике под видом «новостей». В статье был представлен длинный список воейковских контрафакций, в том числе из «Полярной звезды»[45].
Эта «превентивная война», как мы увидим далее, была вовсе не излишней, и худшие опасения Рылеева и Бестужева оправдались.
В начале сентября вышла в свет запоздавшая июльская книжка «Новостей литературы», где в очередном очерке из «Путешествия по отечеству» Воейкова — «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая…» был напечатан в качестве цитаты отрывок из пушкинских «Братьев-разбойников». Эту поэму Пушкин отдал в «Полярную звезду», и она должна была стать одним из лучших украшений альманаха. Публикация ее Воейковым была уже неприкрытым разбоем. Возмущенные издатели пишут ему письмо, прерывая с ним всякое общение. «Конечно, потеря знакомства с благородными людьми для вас ни важна, ни нова; за то раззнакомление с вами будет для нас очень выгодно». Булгарин поспешил объявить печатно, что Воейков напечатал стихи, предназначенные в «Полярную звезду»; поскольку стихи эти были помещены среди разбойничьих песен, напрашивалась прямая ассоциация между издателем «Новостей литературы» и грабителями старого времени; Булгарин ядовито замечал, что Воейкову следовало бы объяснить своим читателям, что означают употребленные им слова «сарынь на кичку», ему, надо полагать, хорошо известные. В веселый час создалась и песня, от которой дошло до нас несколько строк:
Лишь только занялась заря, И солнце, в блеске вверх паря, Лишь показалось над горой, Воейков едет на разбой! Сарынь на кичку кинь (bis)![46]Как бы ни издеваться над Воейковым, дело его, однако, было сделано. Охраны авторских и издательских прав в России не существовало. «Полярной звезде» был нанесен непоправимый ущерб.
20 сентября Бестужев пишет Вяземскому, изливая душу, оскорбленную «подлостию людскою». Он посылал ему копию письма к Воейкову и рассказывал, что здесь действует зависть и корысть; что Воейков сознается, будто «план „Северных цветов“ им начертан, и недаром»; что через Льва Пушкина издателей «Звезды» стремятся поссорить с Пушкиным, выкрадывают у них стихи, наконец, научили Баратынского увезти с собой тетради. Бестужев просил литературной помощи — от Вяземского и Дмитриева, чтобы не быть вынужденным отложить издание до лучших времен. Он упоминал и о том, что «Полярная звезда» находится в худшем положении, нежели «Северные цветы», которые готовит Сленин, так как последний получит все выгоды от продажи. «О князь, — заключил он, — Ваше бы сердце разорвалось на части, если б узнали Вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями…».
Век «коммерческой словесности» надвигался неуклонно, и Булгарин и Воейков были лишь наиболее яркими его представителями.
Одна и та же тема звучит в письмах участников «Цветов» и участников «Звезды». «С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла, — пишет Дельвиг Пушкину в том же сентябре 1824 года. — Подлец на подлеце подлеца погоняет…» «Что сделалось с литературою? Тошно смотреть, слушать и читать. Булгарин — законодатель вкуса!» (Жуковский — Вяземскому, 22 сентября). «Здешние журналисты огадились совершенно», — вторит А. Тургенев, имея в виду тех же Булгарина и Воейкова. Вяземский, получив это письмо, перефразирует его Пушкину: «Петербургская литература так огадилась, так исшельмовалась, что стыдно иметь с нею дело».
Все это пишется осенью 1824 года, когда конкуренция между изданиями становится особенно острой и накладывает свою печать на взаимоотношения литературных групп. В это же время Бестужев жалуется Вяземскому на черные мысли и дела его ближайших друзей, а Плетнев, также не называя имен, сетует в письме к Пушкину на «мерзости», которые делают с Дельвигом «эти молодцы» за «Северные цветы» — и все для денег[47].
Здесь все были правы — и все неправы. Бестужев слишком легко поверил, что Воейков есть тайная пружина «Северных цветов», равно как и Булгарин не был эмиссаром «Полярной звезды». Дельвиг знал цену Воейкову, Бестужев — Булгарину. В поздних бестужевских письмах мы находим резкие характеристики прежних литературных друзей и союзников; Греч и Булгарин, пишет он, превращают словесность в предмет торговли. Но разве дело было в злой воле отдельных лиц?
Джин предпринимательства был выпущен из бутылки и слепо сеял историческое благо и историческое зло. Рядом с развитием литературы, журналистики, издательского дела, с расширением круга читателей шла конкуренция, поглощение слабого сильным, денежные отношения вторгались в литературу.
Современники, захваченные водоворотом, едва ли представляли себе, что они стоят на пороге смены общественных формаций.
В сентябре 1824 года Дельвиг начал печатать «Северные цветы».
Вяземский пока не прислал ему ничего, но Дельвиг не терял надежды. 10 сентября он пишет ему снова.
А. А. Дельвиг — П. А. Вяземскому
Почтеннейший князь Петр Андреевич. Если бы все так были не милостливы к моим Северным цветам, как вы, то и я бы запел: Если бы на цветы да не морозы и пр., но слава Аполлону из живых хороших писателей только вы еще их не украсили своими сочинениями. Самые ленивейшие Жуковский и Дашков пышно одарили меня. Пушкин, Баратынской, И. А. Крылов доставили мне каждый по четыре, по шести и по семи довольно больших и прекрасных пьес. И от второклассных писателей я с большим выбором принимаю сочинения. Не бойтесь дурного общества, вашим пьесам соседи буду<т> хорошие. Они не столк<н>утся ни с Каченовским, ни с А. Писаревым, ни со Лже-Дмитриевым, ни с поляком Булгариным. Жуковский уверяет, что вы в письме к нему обещали исполнить мою просьбу: потому я с такою надежностию на вас и пишу к вам о моих цветах. Они теперь печатаются, но ваши пьесы, ежели они и через две, даже три недели будут у меня, — не опоздают. — Есть у меня еще одна просьба: я боюсь обеспокоить моею просьбою И. И. Дмитриева — не можете ли вы лично ходатайствовать за меня у парнасского нашего министра и достать две, три пьесы его. Он скорее не откажет вам, достойному своему биографу, нежели мне, незнакомому, но пламенному своему обожателю.
Будьте добры, любезнейший Князь, ко мне, истинному почитателю ваших талантов, и похлопочите о моих цветах. Жуковский благословил мое предприятие и ужели вы не утвердите его печатью прекрасного дарования вашего?
Всегда готовый к услугам вашим Барон Дельвиг. 1824-го года 10-го Сентября.[48]
Дашков обещал Дельвигу не только стихи, но и прозу. Он решился описать свое путешествие по греческим землям в 1820 году и уже начал работу, прося неделю за неделей отсрочки. Дельвиг терпеливо ждал — настолько терпеливо, что заставлял должника считать его из ряду вон выходящим кредитором. 10 сентября на зубок «Северным цветам» пришла и пушкинская «Прозерпина».
Дельвиг благодарил Пушкина и обращал к нему просьбу, ставшую теперь обычной. «Да нет ли, брат, у тебя какой прозы, удобо-пропущаемой цензурой? Пришли, коли есть». Он осторожно осведомляется об «Онегине»: нельзя ли получить хотя стихов двадцать из поэмы, о которой «толпа» «давно горло дерет»? «Подумайте, ваше парнасское величество!»[49]
В ожидании ответа он продолжает собирать материалы и отдавать их в цензуру, где уже лежат новые стихи Баратынского. Пушкин интересуется ими, и Дельвиг собирается прислать их ему вместе со своей идиллией «Купальницы», также предназначенной для «Цветов». Он упоминает и о послании к Богдановичу, которое не вполне одобряет: «оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где». С Баратынским он продолжает переписываться и ждет от него новой поэмы, обещанной ему с первой же почтой.
Дельвиг ждет. Он ждет Пушкина, ждет Дашкова, Вяземского, ждет Жуковского, который обещал ему «Водолаза» Шиллера. Его флегма составляет разительный контраст кипучему темпераменту Бестужева. «Князь Вяземской петь может сколько угодно, а стихов мне пришлет», — пишет он Пушкину.
В конце сентября — начале октября ему удается, наконец, дождаться статьи Дашкова «Русские паломники в Иерусалиме» и шестнадцати «Надписей из Анфологии».
«Надписи» Дашков, как мы уже говорили, разделил поровну между «Полярной звездой» и «Северными цветами», но прозу получил только Дельвиг. Статья была превосходна — изящна, учена и глубока, и к ней Дашков добавил еще две старые «альбумные нежности», которые предоставил полностью на усмотрение издателя — печатать или отвергнуть[50]. Этих двух стихотворений мы не знаем; они не появились в альманахе. Долготерпение Дельвига было вознаграждено; нетерпеливость Бестужева удовлетворена; недоволен был один Воейков. Он узнал о подарках Дашкова и написал ему «целую филиппику» за то, что тот отступился от его издания и дает другим обещанное ему, Воейкову.
Дашков повинился, но решения своего все же не переменил.
В конце сентября Дельвиг получил от Пушкина отрывки из второй главы «Онегина». Их держали в секрете; помимо Дельвига и Плетнева, об этих стихах знала, кажется, только любимая ученица Плетнева Софья Михайловна Салтыкова, которой через год предстояло сделаться баронессой Дельвиг, да подруга ее Александра Николаевна Семенова, жившая уже вне Петербурга. Семеновой 13 октября была послана «драгоценность» — автограф Пушкина; вероятно, стихи уже были набраны[51].
В первой половине октября Жуковский отдал Дельвигу стихотворение «Мотылек и цветы», «Водолаза» он так и не окончил.
1 ноября 1824 года А. Тургенев, повидавшись с Дельвигом, писал Вяземскому: «В „Северных цветах“ будет много прекрасного и любопытного»[52]. Тургенев пишет Вяземскому о «Цветах», Бестужев — о «Полярной звезде».
Как и ранее, Вяземский интересуется делами бестужевского альманаха, ободряет, обещает помощь. У Бестужева — большой запас стихов, но он обеспокоен отсутствием «мастерских штук» и сетует на Жуковского; он рассчитывает на Вяземского и на И. И. Дмитриева. «Пушкин — ни гу-гу.
Советуете ли Вы напечатать „Разбойников“ или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас»[53].
Он уже знает, что к новому году «Звезда» не появится, и смирился с этим; торопиться с выпуском ее он не намерен, тем более, что Рылеева нет в Петербурге и неизвестно, когда он вернется.
Утром 7 ноября 1824 года Фонтанка вышла из берегов, а к четырем часам пополудни весь Невский проспект представлял собою сплошную водную поверхность с плавающими дровами и овсом; на набережной не было видно даже перил. Наводнение застало город врасплох; в нижних этажах тонули люди. Днем ветер переменился и вода стала убывать.
Александр Бестужев, по колено в воде, спасал имущество в затопленной квартире Рылеева.
К ночи вода совсем схлынула, и город погрузился в полную темноту; фонари были разбиты и сброшены ветром. Утро застало следы страшных разрушений. В окрестностях Петербурга целые деревни были смыты; по петергофской дороге считалось 600 человек утопших; в самом городе в первые же дни было отыскано полторы тысячи тел.
Орест Сомов, к этому времени близко сошедшийся с издателями «Полярной звезды» и живший в одном доме с Рылеевым, писал ему: «„…Северные цветы“ подмокли в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут. Александр (Бестужев. — В. В.) говорит, что они, вероятно, были прежде очень сухи, а теперь слишком водяны».
Дельвиг уже рассчитывал было разделаться с книжкой и съездить к Пушкину в Михайловское. Теперь печатание приходилось начинать заново. Пушкин был огорчен: «Жаль мне Цветов Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской?»[54]
Рылеев вернулся в Петербург к середине декабря. По пути он заезжал в Москву, где собирался печатать свои «Думы»: цензура в Москве была мягче, чем в столице. Что-то он читал единомышленникам, и раздавались голоса, призывавшие покончить с самодержавным правительством.
«Полярная звезда» на 1825 год будет последней: ровно через год издатели ее выйдут на Сенатскую площадь.
Пока что они публикуют объявление. Альманах замедлялся изданием и выйдет к святой неделе. Если это не охладит приема его в публике, успех будет вдвойне лестен, ибо пример «Звезды» уже возбудил соревнование. «Северные цветы, издание г. книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с Полярною Звездою. Предоставляя сему альманаху благоприятное время выхода в свет, желаем ему еще благоприятнейшего успеха»[55].
В этом объявлении, перепечатанном московскими и петербургскими журналами, не было и тени враждебности. «Соревнование» литераторов и книгопродавцев было частью просветительского плана Бестужева и Рылеева — и «Северные цветы» способствовали достижению цели. Но издатели «Звезды» не собираются уступать пальму первенства.
Тем временем «Северные цветы» выходят в свет.
В отличие от «Полярной звезды» и по примеру некоторых западных альманахов здесь были разделены стихи и проза. Книжку открывало обширное «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» — написанный Плетневым обзор современной поэзии; далее шла собственно проза. Почти весь отдел состоял из путевых писем и очерков — и каковы бы ни были достоинства каждого из них, они не искупали однообразия целого.
В «Полярной звезде» были повести Бестужева, восточные новеллы Сенковского, исторические анекдоты Корниловича…
Зато отдел «Стихотворения» едва ли не брал верх над «Полярной звездой».
Он открывался «Песнью о вещем Олеге», стихами Жуковского и баснями Крылова. Стихов Жуковского в новой «Звезде» не будет, Крылова — три басни против пяти в «Цветах»; Пушкина — отрывки из «Цыган», «Братья разбойники» и послание к Алексееву против фрагмента «Онегина», «Олега», «Прозерпины», «Демона». В «Полярной звезде» не будет и Дельвига — в «Цветах» же он поместил едва ли не лучшее из написанного до сих пор.
Правда, в «Звезде» будут Рылеев, Языков и Грибоедов. Остальные делили свои приношения. Вяземский, Дашков, Козлов, Баратынский сотрудничали в обоих альманахах почти равномерно.
«Соревнователи», постоянные сотрудники и Рылеева, и Дельвига, поступали так же. Ф. Глинка, Плетнев трудились и для «Звезды», и для «Цветов». Александр Ефимович Измайлов, старейший член обоих обществ — Михайловского и «ученой республики», ворчал равно на оба альманаха, но стихи давал; он поместил в «Цветах» два мадригала безвременно скончавшейся Софье Дмитриевне Пономаревой, предмету его давнего платонического поклонения, маленькой Цирцее петербургского салона, чьих чар не избежали ни Дельвиг, ни Баратынский. Он принес басню «Черный кот», но почему-то в альманах она не попала, и Измайлов сетовал на Дельвига[56].
Вслед за ним и его давний приятель и единомышленник, ратовавший вместе с ним против романтиков, Николай Федорович Остолопов поместил у Дельвига басню «Кот и белка», и приятельница Измайловского семейства, Марья Даргомыжская, мать впоследствии знаменитого композитора, явилась с басней «Два червяка».
За этой когортой баснописцев шли средние и младшие члены «ученой республики», начиная с Василия Ивановича Туманского, уже известного элегика, ныне жившего на юге; год назад он сблизился в Одессе с Пушкиным и посылал его стихи в «Полярную звезду». Туманский тянулся к Рылееву и Бестужеву, но был приятелем и Кюхельбекера, и Дельвига; последнему он посвятил послание, начинавшееся словами «Где-то добрый Дельвиг мой…»[57]. От Туманского пришли две элегии, и одну дал его троюродный брат, Федор Антонович Туманский. Вкладчиками в оба альманаха были и Василий Никифорович Григорьев, молодой поэт, подражавший и Рылееву, и элегикам, и Михаил Петрович Загорский, совсем юноша, студент Петербургского университета, автор поэмы «Илья Муромец», баллад, идиллии и опытов в фольклорном духе. Он тяжело болен, и жить ему остается несколько месяцев; но он успеет еще увидеть напечатанными в «Цветах» свои переводы из Шиллера и Гете — «Перчатку» и «Царя Фулеского»[58]. Он поэт «немецкой» ориентации, как и вся эта молодежь — Григорьев, Платон Ободовский, однокашник Григорьева по 3-й петербургской гимназии, впоследствии популярный драматург, наполнявший русскую сцену переводами трагедий и мелодрам. Ободовский наклонен к библейской и религиозно-аллегорической поэзии — и сейчас печатает «Весенний гимн вседержителю». Эти поэты не выдвинутся в первые ряды; их стихи будут почти неизбежной принадлежностью многочисленных альманахов, лишь изредка поднимаясь над уровнем «массовой поэзии» десятилетия.
Таково было содержание маленькой изящной книжки, напечатанной со всеми изысками тогдашнего типографского искусства, с виньеткой С. Галактионова и гравированной картинкой, изображавшей дом Тассо в Сорренто. Она принадлежала молодому художнику Александру Брюлло (Брюллову), жившему в Италии для усовершенствования таланта.
«Северные цветы» вышли в свет во второй половине декабря — а в начале января А. Е. Измайлов сообщал П. Л. Яковлеву, что среди словесников наступил «всеобщий мир». Бестужев рассказывал Вяземскому, как на вечере у А. А. Никитина, секретаря общества «соревнователей», пьяный Булгарин «лобызался» с Дельвигом [59]. Через несколько дней, 6 января, в только что основанной Гречем и Булгариным «Северной пчеле» появляется первый печатный отклик на «Северные цветы», подписанный Гречем — «Н. Гр.». Опытный журналист хвалил альманах — но так, чтобы видны были контуры будущей полемики. Лучшей прозаической статьей он считал путешествие по Греции (Дашкова), худшими — «Историю кокетства» Баратынского и, конечно же, «Прогулку» Воейкова. Лучшими стихами он объявлял песни самого Дельвига. О статье Плетнева он замечал, что это «антипод» обзоров Бестужева в «Полярной звезде» и должен вызвать споры. В заключение Греч громко заявлял о своих симпатиях к «Полярной звезде», которую ждал с особенным нетерпением.
12 января Бестужев пишет Вяземскому о своих впечатлениях. Он рассказывал, что альманах покупают, но не хвалят. Ему, как и Гречу, больше всего нравились стихи Дельвига. Жуковским и Крыловым он остался недоволен: один «на излете», другой «строчит уже, а не пишет». «Пушкин не в своей колее, — продолжал он, — а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие веселости — не на чем улыбнуться». Но более всего его раздражил Плетнев, пропевший «акафист» «Боратынскому и прочим».
Впрочем, оговаривался он, новая «Звезда» немногим будет лучше, ибо у издателей не хватило «ни ловкости, ни время». Он вновь просит у Вяземского «подмоги»: альманах уже начали печатать.
В то время, как он писал письмо, уже набирался обширный разбор «Цветов» в «Сыне отечества». Здесь выступали журнальные маски: некий «Ж. К.», некий «Д. Р. К.», спорящие друг с другом и с «Северной пчелой».
Споры были нехитрой журнальной тактикой: суждения «Пчелы» и Бестужева повторялись почти буквально. В «Ж. К.» и «Д. Р. К.» узнавали Греча и Булгарина; оба отрекались и ссылались на какие-то доказательства, которых никто не требовал.
«Д. Р. К.» писал, что «Северные цветы» не дурны, но и не так хороши, как объявлено в «Северной пчеле». Он осуждал обзор Плетнева, «Историю кокетства» и, конечно же, Воейкова, которому досталось в особенности. На свою беду Воейков отвечал и раскрыл источник своей статьи — и в следующих же номерах «Сына отечества» появилась еще одна критика, где доказывалось, что «Прогулка в селе Кускове» есть пересказ брошюры «Краткое описание села Спасского Кусково тож», вышедшей в Москве в 1787 году. Вслед за Гречем «Д. Р. К.» вознес хвалу Дашкову и благосклонно отозвался о Глинке и о Перовском, а затем, подобно Бестужеву, осудил новые басни Крылова. Он дополнил Бестужева только снисходительно-пренебрежительным отзывом о стихах его адресата — Вяземского.
Однако главным предметом споров оказались Жуковский, Баратынский и отчасти Пушкин. Эти три имени стояли в центре плетневского «письма о русских поэтах», их Плетнев объявил представителями наступающего золотого века русской словесности. Здесь была принципиальная позиция, и Плетнев еще больше подчеркнул ее в обширном отзыве о «Северных цветах», который напечатал под своим именем в «Соревнователе». Он писал о Жуковском как основоположнике романтической поэзии, находя у него картины «недоконченные для чувств, но ясные и понятные для души»; он обращал внимание на «Песнь о вещем Олеге» как на едва ли не единственный в своем роде образец национальной поэзии; наконец, он утверждал, что в «Черепе» Баратынский поднялся над Байроном. Все это Бестужев в письме к Вяземскому называл «акафистом Баратынскому и прочим»: имени Жуковского он не произнес из деликатности. «Д. Р. К.» повел на Жуковского прямую атаку. Его раздражало все: и метафорическое словоупотребление, и «таинственность»; в заключение он прямо ссылался на Бестужева, повторяя его слова о «неразгаданной», «германической» поэзии. Критик заявлял прозрачно, что время Жуковского уже проходит.
Стихи Баратынского критик прошел молчанием, зато похвалы Плетнева таланту Баратынского объявил плодом дружеского пристрастия. Похвалы, быть может, были преувеличены — но и возмущение «Д. Р. К.» было чрезмерным. Ни утверждение Плетнева о новизне элегий Баратынского, ни формулы «истина чувств» и «точность мыслей» (позже перефразированные Пушкиным) не заслуживали такого обилия вопросительных знаков и недоуменных ремарок. И, наконец, коснувшись Пушкина и отдав должное его таланту, критик «Сына отечества» укорил в какой-то необычной для Пушкина «холодности» «Песнь о вещем Олеге».
Свою кисло-сладкую рецензию «Д. Р. К.» заключал похвалами песням Дельвига. Он пересказывал, таким образом, то, что думал о «Цветах» Бестужев, делая это достоянием печати. Его статья отражала мнение петербургского декабристского кружка, но оно было соединено с собственными симпатиями и антипатиями критика и с соображениями тактики и даже рекламы, потому что он то и дело поминал о «Полярной звезде».
Ему отвечал Николай Полевой со страниц новорожденного «Московского телеграфа». С издателями «Цветов» Полевой не был близок, хотя намеревался принять участие в альманахе, — но посланная им повесть опоздала. Что же касается Бестужева, Греча и Булгарина, то с ними он уже вступил в печатную полемику — и теперь публично заявил, что голосом «Д. Р. К.» говорят конкуренты нового издания. Он напоминал, что издателям «Звезды» не очень нравилось предприятие издателей «Северных цветов». Сам же он отказывался сравнивать альманахи, каждый из которых был хорош в своем роде. Полевой заметил, однако, что «Цветам» не хватает альманашной прозы, — и это было для него важно: в преобладании стихов он видел знак литературного младенчества и потому решительно не верил в плетневский «золотой век». Вообще, обзором Плетнева он тоже был недоволен: легковесен, противоречив, со странными понятиями: Александр Крылов — в числе первейших поэтов. Зато в стихотворном отделе Полевой находил перлы: «Демон» и «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Мотылек и цветы» и «Таинственный посетитель» Жуковского, «Череп» и «Звездочка» Баратынского, весь цикл «народных песен», идиллия Дельвига. Он занимал как бы среднюю позицию в борьбе литературных групп[60].
Теперь слово было за самим Бестужевым: в «Полярной звезде» должен был появиться его литературный обзор.
Пушкин ждал в Михайловском выхода «Северных цветов». Лев Сергеевич уехал в Петербург еще в начале ноября. От него Пушкин узнал, что книжки «Цветов» попорчены водой и сам Дельвиг откладывает свой приезд в Михайловское. Он просит брата «торопить Дельвига». Его обуял бес нетерпения; ему хочется вырваться — все равно куда: в Петербург, за границу. Он требует к себе Левушку, Дельвига, Прасковью Александровну Осипову.
Дельвиг не приехал; приехал Пущин. 11 января на занесенном снегом дворе Михайловского дома прозвенел колокольчик, и произошла та знаменитая в русской литературе встреча, о которой мы знаем по запискам Пущина и пушкинским стихам. Пущин вез гостинцы: список «Горя от ума», петербургские рассказы, поклоны друзей и письмо от Рылеева с обращением на «ты». Рылеев восторгался «Цыганами». Пущин пробыл день и к вечеру уехал, увозя с собой отрывок этой поэмы для «Полярной звезды».
Может быть, он привез Пушкину и «Северные цветы»: он был в Петербурге неделю или более и, конечно, посетил Дельвига. Уже в январских письмах Плетневу и Вяземскому Пушкин упоминает «Письмо о русских поэтах» и стихи Вяземского, помещенные в «Цветах» — «Черта местности» и «Чистосердечный ответ»; первое стихотворение ему нравилось, второе казалось растянутым и вялым.
Но, быть может, более всего интересовало петербургских литераторов мнение Пушкина о статье Плетнева, вызвавшей столько критических толков. Ни Плетнев, ни Бестужев не скрывали своего желания вынести свой спор на третейский суд Пушкина; Бестужев высказывает свое мнение — конечно, отрицательное, — в недошедшем до нас письме к Пушкину; со своей стороны Плетнев жалуется ему на критиков, не умеющих ценить по достоинству ни Баратынского, ни Жуковского, ни самого Пушкина.
Все было тщетно.
Пушкину статья не нравилась.
«Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева», — писал он Рылееву 25 января. И в тот же день Вяземскому: «Как ты находишь статью, что написал наш Плетнев? экая ералашь!».
Уступая настояниям Плетнева, он отправил ему письмо с подробным разбором его статьи. Письмо это утрачено, но мы можем отчасти восстановить замечания Пушкина по ответу Плетнева от 7 февраля. Плетнев сумел победить свое авторское самолюбие. Он не защищался, а принял с благодарностью строгий дружеский суд.
Статья Плетнева была для Пушкина символом веры умирающей элегической школы. На эту школу Пушкин напал одновременно с Баратынским — и вполне естественно, что Баратынский был также недоволен Плетневым. Авторы лучших русских элегий не хотели более числиться в «элегиках», и плетневская апология служила им обоим дурную службу.
Именно господство «элегического» направления заставляло Пушкина критически оценивать современную русскую словесность. Он упрекал Плетнева за то, что тот выбрал отправной точкой для своих рассуждений Ламартина — кумира унылых элегиков, за чрезмерность похвал В. Туманскому и А. Крылову; за преждевременно провозглашенный «золотой век», за то, наконец, что Плетнев находил в современной поэзии разнообразие и «направление», которых она не имела. В статье Плетнева он, несомненно, усматривал следы еще доромантической, «карамзинской» эстетики.
Пушкин был согласен с Бестужевым в общей оценке статьи Плетнева, но это не значило, что он разделял все симпатии и антипатии издателей «Полярной звезды». Холодные отзывы о Баратынском вряд ли могли вызвать его сочувствие. По поводу «Вещего Олега» он возражал Бестужеву — деликатно, но твердо. И, наконец, еще одно несогласие его касалось Жуковского — и он прямо написал Рылееву, что нельзя «кусать груди кормилицы нашей» потому, что «зубки прорезались», и следует признать, что Жуковский «имел решительное влияние на дух нашей словесности»[61]. В этом заявлении сказалась прежняя его принципиальная позиция: как бы ни отклонялось движение литературы от пути, избранного Жуковским, историческое значение его неоспоримо и требует уважения и объективной оценки. Помимо всего прочего, это была уже и позиция историка, начинавшего рассматривать литературную жизнь как часть культурно-исторического процесса, не зависимого от произволения того или иного критика. Спор о Жуковском продолжался уже на ином уровне — на более высоком уровне историзма, еще не освоенном декабристской литературой и публицистикой.
«Полярная звезда» печатается; 21 марта книжка выходит в свет. Вяземский, больной, убитый потерей ребенка, в последнюю минуту успевает прислать «подмогу»; Рылеев с чувством благодарит его.
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужева, открывавший книжку, был эстетическим манифестом зрелого декабризма. Бестужев провозгласил идею национальной литературы и — насколько это было возможно в подцензурной печати — литературы гражданственной. Среди новинок 1825 года он сказал и о «Северных цветах».
Отзыв Бестужева был весьма благожелателен. «Северные цветы… блистают всею яркостью красок поэтической радуги…» Он отметил — как Полевой — преобладание стихов над прозой, но и в последней выделил «статью г. Дашкова „Афонская гора“ и некоторые места „Писем из Италии“…».
Вечная бестужевская поспешность и небрежность! Раскрывать анонимы было не принято.
«Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут, потому только, что они живы, — но у каждого свой вес слов, у каждого свое мнение…»
Только и всего — взамен споров, обещанных Гречем. Но Бестужев избегает полемики с соревнующим изданием.
«Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума „Олег“ и „Демон“, „Русские песни“ Дельвига и „Череп“ Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: „Северные цветы“ можно прочесть не улыбнувшись».
Бестужев принял в расчет мнение Пушкина. О Жуковском он умолчал — и тем выразил свою позицию. В остальном он поднялся выше личных пристрастий: ему не нравился ни «Олег», ни «Череп». Но он поддерживал в глазах публики основное ядро «Северных цветов» — «союз поэтов» — Пушкина, Дельвига, Баратынского. При всех разногласиях эти люди никак не были его противниками — напротив. Что же касается «Песни о вещем Олеге», которую он не случайно (вслед за Плетневым) назвал «думой» — как у Рылеева — и песен Дельвига, — то они были для него знаком поворота к национальной литературе.
Бестужев отделил себя от своих подражателей, а вместе с ними и от «торговой словесности».
Глава II Накануне 14 декабря
В журнальном движении, в шуме полемик, под знаком надвигающихся общественных потрясений русская литература вступала в 1825 год.
От этого года не дошло до нас почти никаких документов о деятельности двух литературных «вольных обществ». Самые общества рассеялись; активнейшие члены их сгинули на виселице, в сибирских рудниках, под пулями черкесов. Но закат обществ начался раньше, еще до 14 декабря. В них шло брожение, складывались небольшие кружки единомышленников, связанных общностью интересов и взглядов, симпатий и антипатий и даже бытовых уз. Вторая половина 1820-х годов — время кружков, а не обществ.
Историю литературной жизни этого времени нужно искать скорее в письмах и дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что вначале складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он не «функционирует», он живет обычной, домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его литературен, и чтение чужих произведений и писание своих для него такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие.
Но что такое «дельвиговский круг» в 1825 году? Иван Иванович Козлов вел дневник.
Слепой поэт, прикованный к низкому передвижному креслу, брал в руки перо, чтобы написать письмо. Неровные, с трудом поддающиеся чтению строчки бежали наискось от верхнего угла листа к нижнему: шесть-семь строк на странице.
Иногда он диктовал дочери. Может быть, так, диктуя, он вел свой дневник — изо дня в день, почти без пропусков. Автографа дневника мы не знаем — он дошел до нас только в поздней копии.
Здесь, в этом дневнике, имя Дельвига появляется в 1825 году особенно часто — много что через день. Он приходит к Козлову один, со Львом Пушкиным, Плетневым, Жуковским, Гнедичем; приходит обычно вечером, когда подают чай и начинается чтение стихов. Он бывает на семейных праздниках Козлова и Жуковского, встречается с ними у Воейковой — «chиre Svйtlane». Он принят и на вечерах у Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, сенатора, дипломата, знатока греческого языка и древностей, на досуге пишущего греческие стихи. Иван Матвеевич — отец трех сыновей, из которых один погибнет на эшафоте, другой будет сослан, а третий, совсем юный, выстрелит себе в рот на кровавом поле под Белой Церковью.
«Вечером я был у Муравьева, — читаем в дневнике Козлова под 9 января, — прелестный вечер, великолепный чай. Гнедич читал „Пояс Венеры“ из „Илиады“, я — отрывки из „Невесты Аб.<идосской>“ и мою балладу, Лев П.<ушкин> — „Цыган“. Была г-жа Муравьева К<атерина> Фед<оровна>, ее сын, князь Трубецкой, его жена, Корнилович, Дельвиг»[62]. Гнедич — знакомец Муравьева и в некотором смысле коллега, может быть, он и приводит к нему Дельвига? Впрочем, есть и другие пути в этот дом: Екатерина Федоровна Муравьева — родственница хозяина и ближайшая знакомая Карамзиных, у которых постоянно бывают и Лев Пушкин, и Дельвиг.
Пройдет год — и приедут фельдъегери за участниками этого вечера: сыном Е. Ф. Муравьевой — Никитой, одним из вождей Союза Благоденствия, С. П. Трубецким, неудавшимся «диктатором» восстания на Сенатской площади, А. О. Корниловичем, пока еще — только издателем исторического альманаха «Русская старина».
И тогда Гнедич не побоится написать Е. Ф. Муравьевой письмо с выражением своего глубокого сочувствия и любви к ее сыну.
Сейчас же он читает им всем «Пояс Киприды» (отрывок из XIV песни «Илиады»), который затем отдаст Дельвигу. И след этого вечера запечатлеется на страницах «Северных цветов на 1826 год».
А Козлов подарит Дельвигу читанную им балладу — «Разбойник», из «Рокби» Вальтера Скотта, которую перевел накануне, — да видно, подарит не в добрый час: Вяземский, не зная ни о чем, напечатает ее в «Телеграфе», по старой, неправленной копии, — за что и получит выговор от Александра Тургенева.[63]
После 12 февраля имя Дельвига на некоторое время исчезает из дневника Козлова. Его нет в Петербурге: приехал отец и увез его с собою в Витебск — как раз в тот момент, когда он собирался отправиться к Пушкину в Михайловское. Здесь он заболел и пролежал месяц в горячке.
Дельвигу делают кровопускание и ставят шпанские мухи, и он не знает, что находится на грани решительных перемен и что причиною их будет девятнадцатилетняя Sophie Салтыкова, дочь почетного «арзамасца», вольтерьянца XVIII века, известного умом, образованностью и мизантропией. Софья — ученица Плетнева по женскому пансиону Шретер, как и подруга ее Сашенька Семенова, в замужестве Карелина, которой она будет писать длинные французские письма, сообщая обо всем, что произойдет далее. Сейчас еще никто ни о чем не знает; еще подруги по неписанным законам всех пансионов «обожают» своего «Плетиньку» и переписывают в альбомы стихи «дорогого Пушкина», его друга поэта Дельвига и самого Плетнева, который рассказывает им о том и о другом. Но уже судьба «Сониньки» для Дельвига не безразлична — и в том виновата дружба Плетнева. Будущие супруги незнакомы — и уже почти знакомы; когда Дельвиг приедет — начнется роман.
25 марта Рылеев послал Пушкину «Полярную звезду». В письме он спрашивал о Дельвиге: он знал уже и о болезни, о выздоровлении, и о том, что Дельвиг должен быть у Пушкина по пути в Петербург. Пушкин ждал с нетерпением.
Дельвиг приехал в середине апреля, привел в восхищение Пушкина и очаровал тригорских барышень, но не изменил обычной своей флегме. Больше всего он любил лежать на постели, перелистывая «Полярную звезду», где особенно нравилась ему «Смерть чигиринского старосты» — отрывок из рылеевского «Наливайки». Об этой сцене он, конечно, разговаривал с Пушкиным, и, по-видимому, сравнивал ее с другой — со знаменитой впоследствии «Исповедью Наливайки».
«Исповедь» была программой, лозунгом. Почти все критики, писавшие о «Полярной звезде», — Греч, Вяземский — ставили ее на первое место. Так думал и сам Рылеев.
Дельвиг, как и Пушкин, предпочитал «Смерть чигиринского старосты». В этом выборе сказывалась в первую очередь позиция эстетическая. Ни Дельвиг, ни Пушкин 1825 года не принимали декларативных стихов, поэзии обнаженно-дидактической. «Я не поэт, а гражданин…» Эта формула — из рылеевского же посвящения к изданию «Войнаровского» тоже была у них перед глазами. Пушкин вспоминал, что Дельвиг «уморительно сердился» на Рылеева за эти строчки — и не отставал от него в ироническом скептицизме. «Гражданствуй в прозе». И те же претензии — к «Думам», претензии совместные: «Цель поэзии — поэзия, — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад»[64].
Отзвуки разговоров с Дельвигом слышатся в пушкинских письмах, написанных в конце апреля. По ним мы можем судить, что речь не раз заходила и о «Северных цветах». «Зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? — упрекает Пушкин Вяземского по свежим следам этих бесед. — Он человек достойный уважения во всех отношениях и не чета нашей литературной санктпетербургской сволочи. Пожалуйста, ради меня, поддержи его Цветы на след.<ующий> год. Мы все об них постараемся». И далее — уже просто под диктовку Дельвига: «Да нет ли у тебя и прозы?» И почти одновременно Жуковскому: «Кончи, ради бога, Водолаза»[65] — вожделенного «Водолаза», будущий «Кубок» — стихи, обещанные Дельвигу для его альманаха.
«Мы все об них постараемся».
Решение Пушкина было твердо, но в апреле 1825 года вряд ли он знал определенно, что может дать Дельвигу. В марте он прислал в Петербург свои стихи, чтобы приготовить отдельное издание; Лев Пушкин читал их у Карамзиных, у Козлова, у Воейковой, но не спешил с перепиской. Вторую главу «Онегина» Пушкин также предполагал напечатать отдельно и теперь отдавал Дельвигу переписанную набело — только для Вяземского, которого ждали в Петербург. Были еще «Подражания Корану», которые уже читали в столице, — и, вероятно, четвертое из них Пушкин отдал Дельвигу из рук в руки; во всяком случае в конце мая Софья Михайловна Салтыкова знала, что Дельвиг намерен печатать эти стихи[66]. Может быть, тогда же он получил и отрывок из «Цыган». Была еще проза — Пушкин, как мы помним, просил о ней и Вяземского. Вероятно, еще в конце 1824 года, прочитав книгу И. М. Муравьева «Путешествие по Тавриде в 1820 году», он начал набрасывать письмо к Дельвигу, точнее статью в форме письма, где рассказывал о впечатлениях, легших в основу «Бахчисарайского фонтана». Это «письмо» можно было сделать потом предисловием к поэме — Пушкин любил этот прием и позднее хотел проделать то же с «Борисом Годуновым». Нужно думать, что он предназначал эту статью-письмо еще для первой книги «Цветов», когда Дельвигу тоже нужна была проза, — но не окончил к сроку. И теперь еще, в апреле 1825 года, письмо не было окончено; Пушкин прислал его только в декабре с припиской, из которой как будто следует, что речь о напечатании его уже шла: «начала в самом деле не нужно».
Запас, привезенный от Пушкина, был, таким образом, не слишком велик, и Дельвиг выпросил пушкинскую черновую тетрадь[67], из которой можно было, если Пушкин надумает, извлечь что-либо дополнительно.
27 апреля имя Дельвига вновь появляется в дневнике Козлова: он вернулся в Петербург.
Петербургские литераторы ждали от Дельвига новостей о Пушкине.
Рылеев ждал, может быть, более других. Как мы уже могли убедиться, он знал обо всем, что случилось с Дельвигом за эти месяцы. Он общался со Львом Пушкиным и бывал на субботах Плетнева; связи должны были стать теснее с тех пор, как в апреле в Петербурге появился Кюхельбекер[68]. Но в дельвиговском кружке не знали в подробностях, какие разговоры вел Пушкин с Дельвигом о «Звезде», о «Войнаровском», о «Думах», — а именно это интересовало Рылеева более всего. Он увиделся с Дельвигом, видимо, в первую же неделю мая, и Дельвиг рассказал ему и о замечаниях Пушкина, и об одобрении им «Смерти чигиринского старосты»[69].
Вслед за тем пришло и пушкинское письмо с подробной критикой.
Рылеев был несколько задет и огорчен.
…Пушкин суд мне строгий произнес И слабый дар, как недруг тайный, взвесил…Пушкину нравилось как раз то, что, по ожиданиям Рылеева, должно было привлечь его в последнюю очередь, и не нравилось то, чем дорожил сам Рылеев больше всего. «Исповедь Наливайки» нельзя было ставить ниже «Чигиринского старосты» — и в «Войнаровском» следовало обращать внимание совсем на иные места. Именно поэтому в рылеевском кругу осталось убеждение, что Пушкин «Войнаровского» не понял и не оценил[70], убеждение странное, ибо как раз эту поэму Пушкин ставил весьма высоко.
О поэтическом предисловии к «Войнаровскому», несомненно, они говорили тоже, и Дельвиг не скрыл от Рылеева своих претензий. Во всяком случае, строчка «Я не поэт, а гражданин» начинает теперь шутливо-полемически варьироваться в письмах Рылеева к Пушкину и Дельвигу. «Будь поэт и гражданин», — пишет он Пушкину, а Дельвигу составляет целое письмо, милое и дружеское, построенное целиком на этой строчке. «…Не поэт, а гражданин» желал Дельвигу здоровья и благоденствия и уведомлял о получении денег — «етой прозаической потребности, которая и поэта и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть». «Сего со мною не было, — заключал он, — и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского» [71]. Это письмо послано 5 октября, и в нем нельзя усмотреть и тени личных неудовольствий, хотя слышны отзвуки принципиальных полемик.
Дневник И. И. Козлова.
Апрель 1825
28. Лев читал нам мелкие стихотворения своего брата. Аполлон, Дельвиг, Лев, г-жа Вейдемейер обедали у нас. Вечером Гнедич, Александр и Сергей Тургеневы. Я был в салоне. <…>
3 мая. <…> Вечером Лев, Дельвиг, Грибоедов, человек умнейший, каких мало. <…>
9 мая. <…> Вечером милые Тургеневы, Жуковский, Перовский, Дельвиг, Плетнев, Лев, жена моя и дети, все были в сборе. Позже прочли отрывок из «Энеиды», переведенный Жуковским, и его балладу «Кассандра». Мы расстались в 2 ч. ночи.
10 мая. Пришли Дельвиг и Кюхельбекер, этот оригинал. Вечером также Дельвиг и Плетнев. <…>
12. Тургенев, Жуковский, Пушкин (Лев), Дельвиг и Кюхельбекер пили чай. Много смеялись. Дельвиг так уморительно бесил Кюхельбекера. Позже декламировали стихи.
В лаконичной записи — след ссоры. Шутки Дельвига Кюхельбекер принимал всерьез. Он писал матери, что прежний друг стал ему чужим и каждый раз оскорбляет его «в том, что есть самого дорогого и священного» для его сердца[72]. Самым дорогим и священным для Кюхельбекера, пожалуй, были его привязанности — сердечные и литературные. Если Дельвиг шутил над ними, это казалось Кюхельбекеру ничуть не забавно. Еще несколько ссор — и Кюхельбекер твердо решится избегать старинного приятеля: такими разрывами была полна его жизнь, и к ним привыкли; они не длились долго. Впрочем, в «Северных цветах» останется память о сердечных увлечениях Кюхельбекера: стихи «Пощада певца», посвященные юной Авдотье Тимофеевне Пушкиной, в которую он был влюблен и к которой даже сватался. Стихи появятся анонимно: когда выйдет альманах, Кюхельбекер будет уже «государственным преступником».
Но если Дельвиг действительно подшучивал над неудачной любовью «Кюхли», то сама судьба восстанавливала равновесие.
Вечера Козлова все чаще проходят без Дельвига. Он заходит утром 16 мая, чтобы передать в подарок слепому два галстука от «Светланы» — Воейковой, которая живет в Царском Селе. Затем он исчезает.
Теперь приходят Кюхельбекер, Жуковский, А. Тургенев, «Гнедич, который едет на Кавказ».
Гнедич в отпуске с 1 мая; все время собирается на Минеральные воды, но оттягивает отъезд; наконец, уезжает — до конца сентября[73].
Козлов пишет ему послание «на Кавказ и Крым», где вспоминает о Пушкине, «Бахчисарайском фонтане», восставшей Греции и Байроне. Послание — «Стансы к Николаю Ивановичу Гнедичу» — он отдаст Дельвигу для альманаха. Дельвиг добавит к нему и свое старое послание «Н. И. Гнедичу» — получится поэтический венок.
Но все это случится несколько позже. До 22 мая Дельвиг в Царском Селе[74]. Он каждый день у Салтыковых — и сумел расположить даже старого ипохондрика. Дочь в восторге от «очаровательного мальчика» в очках, который читает ей стихи и сопровождает на прогулках. «Даже его проза — поэзия, все, что он говорит — поэтично, — он поэт в душе» [75].
«24. <…> Плетнев, Химмелауэр, Дельвиг, Тургенев, Жуковский провели вечер за разговорами и чаем.
25. Дельвиг остался обедать. Около 6 час. Тургенев и Жуковский, который едет в Павловск и Царское. Лев (Пушкин) принес мне чудное послание ко мне своего брата Александра, что мне доставило чрезвычайное удовольствие <…>
27. Дельвиг, мой брат, кн. Павел Гаг<арин>. Вечером кн. Волконская (Софья), потом к чаю Кюхельбекер. Мы любим чудака. Вечером граф Егор Комаровский, Тургенев.
29. <…> Вечером Плетнев, Лев и Дельвиг».
30 мая Дельвиг не приходит. Решается его участь: он делает признание Салтыковой.
31 мая Дельвига снова нет. Двоюродный брат его Рохманов едет говорить с Салтыковым, который, ни минуты не колеблясь, дает согласие на свадьбу.
1 июня Дельвиг и Салтыкова — уже жених и невеста.
«1 июня. Г-жа Вейдемейер. <…> Дельвиг, Плетнев и Лев <…>
5. Вечером Липпман, А. Тургенев, Крылов, Дельвиг и Пушкин, — после Кюхельбекер. <…>
11. <…> Вечером Кюхельбекер <…>
12 июня. Утром Воейков. Кюхельбекер обедал. — Вечером Баратынский, уже офицер. — Пушкин, Дельвиг — позднее Тургенев. <…>
Воскресенье, 14. <…> Пушкин, Плетнев, Комаровский, мой брат, его жена. Наши поехали в Царское село к г-же Воейковой (каждое воскресенье). Обедаю с Варенькой. Вечером Кюхельбекер.
16. Баратынский, А. Тургенев, г-жа Вейдемейер, Федоров, к чаю его брат (?), Баратынский, Плетнев <…>
17. Мой брат, его жена. Баратынский, Дельвиг, Пушкин.
18. Кюхельбекер. — Кн. Софья Волконская с дочерью и Александр Тургенев — остались до полуночи».
Далее нить теряется: за вторую половину года дневник Козлова не сохранился.
Мы успеваем только узнать из него о приезде Баратынского. Долгие и, казалось, безнадежные хлопоты о нем, наконец, увенчались успехом. 4 мая А. Тургенев писал Вяземскому о производстве его в офицеры. «Давно так счастлив не был»[76].
В июне 1825 года Нейшлотский полк с прапорщиком Баратынским прибыл в Петербург.
Может быть, в ожидании этого приезда Пушкин и передал Дельвигу для напечатания два маленьких стихотворения, обращенных к Баратынскому, — «Я жду обещанной тетради» и «Сия пустынная страна»: они появились в «Северных цветах на 1826 год». Кажется, об этих стихах писал А. Тургенев А. Я. Булгакову: «Скажи Вяземскому, чтобы не печатал нигде двух маленьких пиес в списке стихов Пушкина, вчера посланных. Он их отдал Дельвигу»[77]. Письмо написано 28 мая, когда Баратынского ждали со дня на день. Стихи были сюрпризом, памятью, поэтическим приветом.
В Петербурге — конец ссылки, друзья, приуготовившие освобождение, — Тургенев, Жуковский; Левушка Пушкин, Дельвиг, который тут же везет его к своей невесте. К свадьбе все готово; Баратынский и Жуковский должны быть шаферами. И вдруг все расстраивается, туча набегает на безоблачное небо: отец невесты чем-то разгневан, пишет грозное письмо, он полон недоверия и подозрений.
Дельвиг расстроен, растерян. Баратынский пытается успокоить его; они проводят часы в беседах о «Сониньке». Кажется, Карамзин пытался в эти дни воздействовать на Салтыкова[78].
Баратынский, утешая друга, сам не вполне спокоен. В Петербурге обступили его старые и новые увлечения. Два его стихотворения в «Северных цветах» — маленькие элегии об охлаждении и измене: «К Аннете» и «Л. С. П<ушки>ну». Последнее стихотворение — видимо, след платонического соперничества из-за «Светланы» — Воейковой; еще в марте влюбленный в Воейкову Языков замечал предпочтение, оказываемое ею обоим поэтам, и ревновал[79]. Теперь Баратынский в стихотворном послании уступал Левушке пальму первенства. Он влюблен — и не на шутку — но уже не в Светлану: мыслями его владеет Аграфена Федоровна Закревская, эта «Магдалина», «вакханка», современная Клеопатра. Дерзко пренебрегая мнением света, она словно стремится держать своих поклонников в горячечном упоении страсти — и Баратынский не избегнул наваждения. Он знал ее еще по Гельсингфорсу: теперь они встретились в Петербурге.
Мы вспоминаем об этом потому, что на страницах «Северных цветов» ей предстоит появиться несколькими годами спустя — и потому еще, что в готовящейся книжке на 1826 год Дельвиг напечатает загадочное стихотворение Баратынского «Надпись», которое долгое время относили к Грибоедову:
Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем жизни нет, Но как на нем былых страстей Еще заметен след.Эти стихи удивительно напоминают то описание Закревской, которое сделал Баратынский в февральском или мартовском письме к Н. В. Путяте[80]. Может быть, и они адресованы этой женщине?
Баратынский не дождался свадьбы Дельвига: 11 августа он должен был ехать[81]. За эти три петербургских месяца он успел снова войти в литературный круг. Он оставил «Эду» на попечение Дельвига, вероятно, тогда же отдал свои приношения в его альманах и не забыл Рылеева и Бестужева. Охлаждение не означало разрыва; в альманахе «Звездочка» должны были появиться эпилог к «Эде» и «Бал». Это было гораздо больше того, что получил Дельвиг. В эпилоге «Эды» звучали антидеспотические мотивы:
…слава падшему народу! Бесстрашно он оборонял Угрюмых скал своих свободу.Связи восстанавливались, хотя и менее тесные, чем прежде. 21 июня приехал из Москвы Вяземский[82]. Вечером в первый день приезда он отправился к Козлову, слушал «Цыган», которых читал неутомимый Левушка, и узнавал последние новости о Пушкине. Он торопился в Ревель на морские купания и почти все дни проводил в Царском Селе. Даже с Бестужевым он не успел встретиться, и Бестужев потом горько упрекал его за небрежение, а Вяземский извинялся[83].
Он бы, конечно, не встретился и с Дельвигом, если бы Дельвиг (как и Баратынский) не был завсегдатаем вечеров у Козлова.
Но он виделся с Дельвигом и тоже извинялся и оправдывался. У него не было стихов, обещанных для альманаха. Он объяснил Дельвигу, что «хоронил и умирал» и что только теперь, несколько оправившись, начнет высылать свои недоимки. Так он написал и Пушкину: «Для Цветов дам ему своей ромашки»[84].
Вяземский уехал 4 июля. Дельвиг зашел к Карамзиным попрощаться с ним[85]. Затем ненадолго приехал Языков[86]. Он тоже обещал помощь.
Все это время Дельвиг чувствует себя больным. Он потерял сон, аппетит; его лихорадило. На Михаила Александровича Салтыкова нашел очередной приступ ипохондрии, и он не уступал уговорам. Свадьба откладывалась. Ни Жуковский, ни Карамзин, казалось, ничего сделать не могли.
И при этом он должен был еще заниматься делами альманаха. «У меня куча дел по цветам, — пишет он невесте, — я целое утро должен разъезжать, должен бог знает об чем говорить, в то время, когда только об одной тебе думаю»[87]. В Петербурге уже говорили о женитьбе Дельвига как о деле решенном, и это еще усугубляло треволнения. Федор Туманский написал поздравительный сонет. Дельвиг отдал сонет А. Е. Измайлову[88], который продолжал работать над своим альманахом. Вражда его с «союзом поэтов» уже отошла в прошлое. Он рассчитывает на сотрудничество Кюхельбекера, с которым встретился дружески.
Кюхельбекер не вернулся к Дельвигу: он менял свою литературную среду. После отъезда Грибоедова он поселился у Греча и стал сотрудником «Сына отечества»; он проводил время в обществе Рылеева и даже ездил с ним вместе в деревню. В ноябре 1825 года Рылеев принял его в тайное общество. Он ужился с Рылеевым — но с Гречем и Булгариным ужиться не мог: за несколько месяцев он убедился, что «литературные торгаши» «имеют все достоинства, кроме честности».
Теперь он с энтузиазмом помогал Измайлову и дал в его альманах «Календарь муз» восемь стихотворений. Все они вышли без подписи: альманах появился уже после 14 декабря[89].
У них больше не было стихов: и Измайлов, и Кюхельбекер отдают Дельвигу по одному стихотворению.
Трудно добывать материал: новые альманахи и журналы требуют пищи.
Мелькают дни, недели, месяцы.
4 августа Вяземский посылает Пушкину из Ревеля «Нарвский водопад» и требует замечаний. Это — стихи для Дельвига.
15 августа Пушкин посылает подробный разбор, отмечая стихи вялые, неточные или изысканные. 28 августа Вяземский отвечает — уже из Царского Села. Он вносит некоторые исправления и отдает «Нарвский водопад» в «Северные цветы»[90]. Вероятно, тогда же он передает Дельвигу и другое стихотворение — «О. С. Пушкиной». С сестрой поэта он познакомился коротко там же, на морских купаньях, и даже, кажется, увлекся «милым, умным, добрым созданием», с которым проводил целые дни в беседах о ее брате и своем приятеле. Собственно говоря, и послание было стихами не только о ней, но и о нем, об Александре Пушкине, с его бурной судьбой, требующей спокойного участия дружбы. В «Северных цветах» они приобретали особый смысл. Это был знак памяти, знак связи.
Дельвиговский кружок, как и ранее, делал дружескую связь фактом литературы.
Пушкин обращал стихи к Баратынскому.
Баратынский — ко Льву Пушкину.
Вяземский — к Пушкину.
Дельвиг и Козлов — к Гнедичу.
Плетнев писал дружеское послание к Дельвигу — послание почти домашнее: «Д***, как бы с нашей ленью Хорошо в деревне жить…»
Во всем этом была некая принципиальная позиция, которая приобретала совершенно особые оттенки, когда один из друзей оказывался в ссылке, как Пушкин, или в опале, как Баратынский.
Ближайший дружеский круг снабжал Дельвига материалом.
Иван Иванович Козлов был одним из усерднейших вкладчиков. Он дал пять стихотворений: отрывок из перевода «Освобожденного Иерусалима» Тассо, «Стансы к Гнедичу», о которых уже была речь, переводы из Байрона («Еврейская мелодия») и из ирландского поэта Чарлза Вольфа. Это последнее стихотворение — «На погребение английского генерала сира Джона Мура» — стало довольно популярным; ему потом подражал Лермонтов. Еще одна маленькая пьеска Козлова была посвящена княжне Стефании Радзивилл, юной выпускнице Екатерининского института. Плетнев написал к этому посвящению стихотворный постскриптум — мадригал одновременно и девушке, и слепому поэту. Из четырех стихотворений Плетнева три оказались посвящениями: Дельвигу, Радзивилл и Софье Михайловне Салтыковой. Своей бывшей ученице он адресовал сонет, где прозрачно говорил о ее свадьбе с Дельвигом. Итак, все же сонет на свадьбу попал на страницы альманаха — но, конечно, написан был он уже после 30 октября, когда, наконец, сопротивление Салтыкова было сломлено и дочь его стала баронессой Дельвиг.
Быт кружка становился литературой.
Федор Антонович Туманский, подаривший Дельвигу свою эпиталаму слишком рано, был наказан за поспешность: его сонет, подаренный Измайлову, почему-то не был напечатан и канул в вечность. Он, видимо, не был обижен, потому что продолжал трудиться для альманаха в поте лица. Судьба вообще, кажется, обделила его авторским честолюбием; в Москве, где он учился в университете, на отделении словесных наук, даже не знали, что он пишет. Левушка Пушкин, служивший с ним в Департаменте духовных дел с 1821 года, познакомил его с Дельвигом и Баратынским, которым он был под стать если не талантом, то нищетой и беспечностью. Путята, конечно, со слов Баратынского, передавал забавную сценку: Дельвиг и Баратынский прогуливались однажды без гроша в кармане по Невскому проспекту и рассуждали, где бы отобедать. Встреча с Туманским прервала их беседу. «Где ты обедаешь сегодня?» — «Chez le grand Restaurateur» (у великого Ресторатора), — отвечал Туманский протяжно и подняв глаза к небу.
Как поэта Федора Туманского «открыл» Дельвиг. От него дошло до нас всего десять стихотворений — и из девяти, напечатанных им при жизни, четыре появились в «Северных цветах на 1826 год» — почти половина его литературного наследия! Три элегии и «Молитва» его были совершенно в духе традиционной элегической школы, но их ценили: почти через семь лет Воейков перепечатает их из «Северных цветов» в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и даже произнесет им особую похвалу. В эти годы Туманский особенно близок к кружку: он очень дружен с Левушкой Пушкиным, постоянно бывает у Дельвига и даже, кажется, помогает им при переписке для издания пушкинских стихотворений[91].
Старинное знакомство привело в альманах еще двух человек.
Алексей Дамианович Илличевский, «Олосинька» первого лицейского выпуска, только что вернулся в Петербург после двухлетнего заграничного путешествия. Лицейские однокашники, недолюбливавшие его за карьеризм и подозрительный характер, не без иронии рассказывали друг другу, что он марширует по столице в золотых очках с видом наблюдателя и мечтает быть кавалером разных орденов. Перед отъездом он имел неудовольствие с Дельвигом: он полагал, что барон, на правах цензора поэзии в Вольном обществе любителей российской словесности, ограничивает его стихам доступ в «Соревнователь» и не допускает перевод из «Лузиады» Камоэнса — предмет его авторской гордости. По пути за границу Илличевский остановился в Дерпте, где свел знакомство с Языковым; отношения были даже дружеские, и он оставил Языкову тетрадь своих стихов с правом печатать где хочет и даже исправлять. От последнего права Языков благоразумно отказался. В марте 1825 года Языков прислал эту тетрадь в Петербург для возвращения по принадлежности, а в апреле Илличевский появился в столице сам и возобновил свои литературные связи[92]. Он предложил Дельвигу пять небольших стихотворений — если не все, то часть их была написана еще до отъезда — и путевой очерк «Путешествие на Сент-Бернард». Остро нуждаясь в прозе, Дельвиг должен был принять даяние с благодарностью, хотя очерк вызывал потом нападки; к стихам же Илличевского он всегда относился скептически: это были искусно обработанные, не лишенные изящества и даже остроумия поэтические безделки, почти всегда переводные, но без оригинальности и чаще всего без поэтического чувства. Илличевский видел в них русскую поэтическую «антологию», усовершенствующую стихотворный язык.
Вторым новым лицом был Иван Ермолаевич Великопольский, напечатавший у Дельвига мадригальное стихотворение «К подаренному локону».
Этот поэт остался в литературе почти исключительно благодаря эпиграммам Пушкина, на которые он в свое время очень обижался. В начале 1820-х годов он, однако, пользовался некоторой, хотя и ограниченной известностью. Он был членом обоих петербургских литературных обществ и помещал стихи в «Благонамеренном». Он знал довольно коротко Дельвига и И. И. Пущина и не вполне прервал с ними связь, когда перешел на службу в Староингерманландский пехотный полк, стоявший то в Пскове, то в его окрестностях. Здесь он встретился с Пушкиным, играл с ним в штосс — не всегда удачно и отсюда же посылал стихи в петербургские журналы. Когда вышла книжка «Цветов» с его стихотворением, Дельвиг послал ему экземпляр с надписью «Милому поэту»; Великопольский был растроган и откликнулся длинным посланием, где попутно задел Ореста Сомова и «Фаддея» — «отца безмедныя пчелы», который, рецензируя альманах, прошел его детище совершенным молчанием. В конце 1826 года он приехал в Петербург и побывал у Дельвигов[93]; плодом этого визита, видимо, было появление в «Северных цветах на 1827 год» нового его стихотворения «Воспоминание (Из Ламартина)».
Таковы были основные «вкладчики». По одному — двум стихотворениям дали прежние участники «Цветов». Востоков, столь щедро снабжавший Дельвига в прошлом году, поскупился на этот раз: он дал одну, хотя и весьма примечательную «сербскую песню» — «Строение Скадра» и небольшое стихотворение «К друзьям» — то самое послание к Гнедичу, которое так ценили Плетнев и Дельвиг. Одно стихотворение — «Развалины» — принес Масальский, одну «Элегию» — М. Л. Яковлев; Платон Ободовский дал два фрагмента из довольно обширной «персидской поэмы» «Орсан и Леила», еще какой-то «А. Ог-в» малозначительное «подражание Скаррону» («Моя эпитафия»). Две пьесы появились анонимно — «14 сентября 1824 г.» и «Фирдоуси» — своеобразная восточная аллегория, не случайно соседствующая с восточными аллегориями Федора Глинки: легенда о великом поэте и неблагодарном властителе — тема, излюбленная «соревнователями» и подхваченная декабристами. Наконец, у Дельвига были два стихотворения Батюшкова — «К N. N.» — послание к С. С. Уварову, написанное еще в 1817 году, и «Подражание Ариосту» — изящный антологический фрагмент, также из последних стихов. Эти стихи Дельвиг привозил Пушкину в Михайловское, и Пушкин сделал копию и послал Вяземскому[94].
Это было все, чем располагал или мог располагать Дельвиг летом 1825 года. Свои собственные поэтические запасы он исчерпал почти полностью: в альманах ушли все его стихи последнего времени — кроме лицейской песни, написанной ко дню 19 октября. Это были две «русские песни» — «Две звездочки» и ставший потом знаменитым «Соловей мой, соловей», одно маленькое альбомное стихотворение («В альбом С. Г. К-ой»), большая идиллия «Друзья» и две антологических эпиграммы «Мы» и «Эпитафия». Последняя была надгробным приношением: она была посвящена памяти Софьи Дмитриевны Пономаревой. Дельвиг прощался со своей прежней привязанностью; последний раз на страницах альманаха мелькнет образ этой женщины, которая будет еще некоторое время вызывать запоздалую ревность у Софьи Михайловны Дельвиг. К этому собранию стихов он добавил и два ранних — трех— или четырехлетней давности: уже упомянутое нами посвящение Гнедичу и эпиграмму «Луна»; ранние стихи уже его не удовлетворяли, он не был уверен в их достоинствах и потому не поставил под ними полной подписи, а только инициал[95].
Нужны были поэты, нужны были художники.
И нужен был — по примеру «Полярной звезды» — критический обзор, открывавший альманах. Но как раз критика в дельвиговском кружке не было. Статья Плетнева в прошлой книжке показывала это как нельзя лучше. Как бы ни спорить с Бестужевым, нельзя было не признать, что обзоры его превосходят плетневский во всех отношениях — и прежде всего по ясности и оформленности эстетической позиции. Здесь сказывалась не только разница талантов, но разность самих литературных групп. Кружок Рылеева и Бестужева имел общественную программу — это была теперь программа Северного тайного общества. Она направляла перо литератора, диктуя ему оценки, определяя его симпатии и антипатии. Критическая статья превращалась в декларацию; ее эстетические — а с ними и общественные — идеи читались без труда: национальная литература, гражданский романтизм с неизбежной социальной дидактикой, антидеспотический дух. Если затем в альманахе поместить несколько произведений в этом же ключе — он получит свое лицо.
«Полярная звезда» имела свое лицо.
Она начинала сближаться с журналом— не по внешним признакам, а в самом своем существе. Она проводила свою политику — общественную и литературную.
Мы увидим далее, что слово «журнал» все чаще будет произноситься литераторами, сочувствовавшими Рылееву и Бестужеву. «Северные цветы» не могли перерасти в журнал.
Это был типичный альманах и порождение «века альманахов», исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступить с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы, вероятно, «неформализованной группой», и в ней особое значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей «кружка», но не литературной «партии».
Дельвиг, Баратынский, даже Плетнев были затронуты общественными веяниями декабристской эпохи, они сочувствовали многому, что содержалось в декабристских программах, — и уж, конечно, не сочувствовали ни российскому деспотизму, ни мистицизму, ни засилью цензуры. Они не были и не могли быть принципиальными врагами издателей «Полярной звезды». Но они не могли быть и их единомышленниками и союзниками; они либералы, не революционеры.
Они — романтики, и гражданский пафос не чужд им; он выливается иной раз в резких эпиграммах, как эпиграмма Баратынского на Аракчеева. Они чуждаются мистического романтизма Жуковского, и придворная его служба им не по душе. Но и гражданская поэзия — не их сфера, и они равным образом удаляются от эстетических деклараций декабризма, соприкасаясь с ними лишь там, где речь идет о поэзии Байрона, о неприятии официоза, об устремлениях к национальным поэтическим истокам — к народной поэзии. Именно поэтому они никогда не станут рассматривать Жуковского только под социальным углом зрения и не выступят против него как против принципиального противника. Эстетическая сфера для них более автономна, чем для идеологов декабризма. Здесь идеалы их — аморфнее, абстрактнее — но шире.
Их влечет к себе гармоническая античность — искусство времени наивного детства человечества — так они думают. В этом воскрешении есть нечто от социальных утопий, с их извечными грезами об утраченном золотом веке. Они полны внимания к пластическим искусствам и к живописи. Они не утеряли интереса и к элегии, с ее психологическим и философским началом.
Их искусство — внеполитично, но отнюдь не внесоциально. И сами они вовсе не отгорожены от общественной жизни. Не деяния декабристов, не декларации их, но самый пафос неприятия официальной России уже пустил корни в их среде. На службу правительству они не станут и приютят у себя запрещаемые стихи каторжников. Пройдет несколько лет — и неблагосклонное внимание Бенкендорфа обратится на кружок, которому отныне суждено будет оставаться под вечным подозрением до смерти Дельвига. И подозрения, нужно сказать, будут не совсем лишены оснований. «Неформализованная группа», с ее позицией, скорее отрицательной, чем положительной, в эпоху всеобщих «поправений» окажется хранилищем идей и воспоминаний, о которых следует забыть.
Самая интимность кружка станет чуть что не гарантией его устойчивости.
Но сейчас, в 1825 году, эта интимность контрастирует с накаляющейся общественной атмосферой. В ней «Северным цветам» декларировать нечего. И они никогда не станут журналом.
«Северные цветы на 1826 год» открываются не литературным, а художественным обозрением.
В руках Дельвига был маленький фрагмент пушкинских «Цыган» — отрывок об Овидии.
Он хотел поместить к нему картинку и отправился за этим к академикам живописи. Академики взялись, но ни один не преуспел.
Тогда Дельвиг обратился к Василию Ивановичу Григоровичу, секретарю Общества поощрения художников, человеку весьма замечательному[96].
Василий Иванович Григорович был связан с художниками не только по должности своей, но и своими симпатиями и помыслами. Он был близким другом Ф. П. Толстого, и самая идея общества, которое бы поощряло русских художников и создавало для них аудиторию, принадлежала ему. Он помогал потом и Федотову, и Шевченко, а в 1824 году писал записку о создании национального музея, «Русского музея», дабы споспешествовать развитию русского искусства и отклонять публику от «гибельного для талантов отечественных» пристрастия к «иностранцам». Еще в 1818 году он входил в ложу «Избранного Михаила», где собрались главные члены Союза Благоденствия, а затем был секретарем «Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения»; уже в это время у него установились связи с Ф. Н. Глинкой, Гнедичем, Кюхельбекером, Н. Бестужевым. Вероятно, тогда же он познакомился с Дельвигом и Плетневым; когда в 1823 году он стал издавать «Журнал изящных искусств», он пригласил Плетнева сотрудничать на льготных условиях, и Плетнев печатал у него стихи и рецензии. Они бывали в одних и тех же домах — у Толстого, иногда у Оленина[97].
Григорович написал для Дельвига целый трактат «О состоянии художеств в России» — первый очерк истории русского искусства, занимавший почти сто альманашных страниц. В нем были все идеи, которым служил неутомимый энтузиаст. Григорович писал, что развитие изящных искусств есть следствие и условие распространения просвещения; что в России уже были свои «гении» (он так и говорил: «гении», вспоминая о зодчем Какоринове и ваятеле Козловском), и будет еще более, если общество будет поощрять отечественных художников; он перечислял превосходнейших художников новейшего времени: Мартоса, Захарова, Егорова, Шебуева, Щедрина, Кипренского и иных и прилагал гравюры с картин и скульптур. Григорович был «классик», требовавший от искусства «верного вкуса» древних — строгости и гармонии. Он понимал национальное искусство иначе, нежели теоретики гражданского романтизма — но сходился с ними в основной идее. Эту-то идею — национального искусства — и провозглашали теперь на своих страницах «Северные цветы».
Статья Григоровича была у Дельвига в начале октября, и он беспокоился, пропустит ли ее цензура. Он посылал Григоровичу «две пьесы» Ф. Н. Глинки, прошедшие сквозь горнило, и жаловался, что собственная его идиллия «Друзья» была признана «развратной и соблазнительной». Он просил, чтобы Григорович сам похлопотал о своей статье и обещал в благодарность сочинить для него идиллию. Он шутил, конечно, — но шутил всерьез[98].
Григорович упрекал русских писателей, что они молчат о русских художниках, — быть может, потому, что мало знакомы с художествами. Дельвиг был счастливым исключением. «Художников друг и советник», — говорил о нем Пушкин, которого Дельвиг иной раз водил по выставкам и мастерским.
Он посвятил Григоровичу идиллию «Изобретение ваяния» — хотя не о русских художниках, но о художествах вообще.
Шла осень 1825 года.
Альманах еще не был собран окончательно, хотя наличный запас уже поступал в цензуру.
Поэты, кажется, были не при стихах. Языков в Дерпте жаловался на безмолвие своей музы.
Его осаждал просьбами Егор Аладьин, издававший «Невский альманах». Языков досадовал и отмахивался. Заботился он, пожалуй, об одной «Звездочке» Бестужева и Рылеева: он послал для нее весной «Зависть гения» («Гений»), а теперь, 16 августа, отрывок из недавно задуманной стихотворной повести из жизни эстов — описание восхода и заката на Чудском озере. Больше у него ничего не было; Аладьину он собирался послать старые элегии с тем, чтобы печатать анонимно. 20 сентября он пишет брату, что не надеется хоть что-нибудь послать вовремя Дельвигу[99].
Вяземский уехал к себе в Остафьево и не подавал признаков жизни.
От Жуковского Дельвиг в этот раз не получил ничего.
Буквально на его глазах Лев Пушкин переписывал начисто «Разные стихотворения» Александра Пушкина; Плетнев должен был наблюдать за изданием.
Он написал Пушкину и просил у него «Андрея Шенье», новинку, жемчужину, которой Пушкин сам гордился. Текст элегии был у Льва — но нужно было согласие автора, чтобы Лев изъял стихи из тома. «Разные стихотворения» могли выйти раньше альманаха, и тогда напечатание стихотворения в «Цветах» лишалось смысла.
Пушкину не хотелось отдавать «Андрея Шенье»; он хотел приберечь новинку для своей книжки. Он предлагал взамен строфы «Онегина» — той самой второй главы, которую сам же Дельвиг передал от Пушкина Вяземскому[100]. Подарок был завидный — десять строф, четверть всего текста — но у Дельвига их не было в руках, а Вяземский исчез. Нужно было списываться и просить копию.
Вяземский сам был в хлопотах в это время. Он деятельно помогал «Московскому телеграфу»: журнал требовал пищи. Он помнил, что за ним еще долги — Дельвигу и Бестужеву с Рылеевым, но рассчитывал, что его хватит на всех: он воспрянул после ревельских купаний, и ему писалось. Литературная жизнь в Москве как будто оживала, и это побуждало его к деятельности. В начале октября в Москву приехал Баратынский: здесь жила его семья, его мать, сильно постаревшая и больная; Баратынский скрепя сердце должен был остаться в Москве. Вяземский встретил его, угнетенного и полубольного, и очень ему обрадовался: за две недели старое знакомство перерастает в дружескую приязнь[101]. Среди забот и хлопот по делам литературным и нелитературным он успевает напечатать несколько статей в «Телеграфе» и еще свести новые знакомства. В середине октября он просит у Пушкина дополнительно стихов для альманаха «Погодина университетского», человека, как он слышал, хороших правил.
Тем временем петербургские «альманашники» ждут доли Вяземского. 30 октября Бестужев отправляет ему сердитое письмо. Он печатает «Звездочку», недоволен стихотворной ее частью и упрекает Пушкина и Вяземского за неисполнение обещаний. Вяземский отвечает только 18 ноября — он ездил по делам в свое костромское имение. «Дайте срок — справлюсь и исправлюсь… Через неделю доставлю свой оброк»[102].
Дельвигу же в эти дни не до писем. 29 октября он отнес в цензуру свой альманах — все, что ему удалось собрать[103], и на следующий день играет свадьбу.
В маленькую квартирку молодых на третьем этаже дома Эбелинг в Большой Миллионной приходят гости. Почти каждый день заходит Лев Пушкин; Плетнев, Ф. Туманский — постоянные посетители, реже бывают Гнедич, Лобановы — драматург Михаил Евстафьевич с женой. У Козловых, Воейковой Дельвиги бывают сами. Когда при первом знакомстве Софью Михайловну подвели к Козлову, слепец ощупью нашел ее руки и стал целовать; она была рада и тронута[104]. По субботам собирались у Плетнева — как и прежде, это был день литературных вечеров.
«Поздравляю Вас от всего сердца, любезнейший Барон, и прошу поздравить за меня м. г. Софью Михаиловну, — писал Дельвигу Дашков. — Как скоро удосужусь, то непременно явлюсь к ней с личною просьбою принять меня в свое благорасположение как старинного друга ее семейства.
Я было воспользовался свободными от службы минутами и очень подвинул свою статью: у меня уже написано более половины, т. е. около трех четвертей прежней печатной статьи. Но между тем как я занимался межеванием храма Иерусалимского, мне досталась по законодательной части огромная работа о специальном межевании казенных и помещичьих земель. Что делать? поневоле пришлось оставить на время Сирию и окунуться в межевую инструкцию. Однако же я не изменю вам: пока будут переписывать первую часть моей работы для Комиссии (которая почти готова), я успею кончить работу для Вашего Цветника. Преданнейший вам Дашков. Середа»[105].
В письме, как и в жизни, дела семейные и альманашные шли рядом. Молодая супруга переписывала своей рукой поступавшие рукописи.
Дашков готовил для Дельвига две новые статьи: «Русские поклонники в Иерусалиме. (Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году)» и «Еще несколько слов о Серальской библиотеке».
В конце ноября почти весь собранный Дельвигом материал уже вышел из цензорских рук и около половины было напечатано. Остались «недоимки». Он пишет к Языкову, напоминая о данном обещании. Языков в отчаянии: стихов нет, а претендует на них еще и Измайлов. Он пишет брату 6 декабря и просит отдать Дельвигу отрывок «несуществующей повести „Ала“» — не весь, а вторую половину. Стихи были написаны год назад, и началом Языков был недоволен. Имени своего он выставлять не хотел. А. М. Языков поспешил выполнить просьбу — и отдал все. Автор подосадовал — и махнул рукой. Больше стихов у него не было — ни для Измайлова, ни для кого бы то ни было[106].
28 ноября Дельвиг отправил письмо Вяземскому.
Вяземский сулил ему прозу и четыре или пять стихотворных «пьес» и теперь должен был поторопиться. Малейшее промедление было губительно. Но Дельвиг был и сам виноват, отложив свое письмо до конца ноября. Он поступил тем более опрометчиво, что в письме возлагал на Вяземского дополнительные комиссии. Пушкин позволил ему взять в альманах десять строф из второй главы «Онегина», и Дельвиг просил Вяземского дать списать их или поручить это Баратынскому. Он сообщал также, что прилагает письмо к Ивану Ивановичу Дмитриеву и просит замолвить за него словечко[107]. В спешке он, вероятно, забыл вложить самое письмо: Вяземский, во всяком случае, не получил его, а получил сам Дмитриев.
Вяземский, однако, помнил о Дельвиге. Еще в начале ноября он отправил ему через Жуковского часть своего «оброка» — «Коляску» и «другие мелочи», а теперь собирался — тоже через Жуковского — переслать «К мнимой счастливице». Прозы готовой у него не было.
Отрывки из «Онегина» Вяземский обещал доставить немедленно, как только доберется до злополучной тетради: он писал из Остафьева, а тетрадь оставалась в Москве[108]. Письмо он отослал в Москву к Баратынскому и воспользовался случаем пригласить в Остафьево своего нового приятеля, который становился теперь связующим звеном между ним и Дельвигом[109]. Вяземский удовлетворен: «В „Северных цветах“ будет довольно моих новых стихов, если только цензура пропустит»[110].
И не Вяземскому ли Дельвиг был обязан появлением в «Северных цветах» еще четырех стихотворений: Шевырева («Вечер» и «Лилия и роза»), Ознобишина («Мир фантазии») и Раича («К Лиде»)?
Все эти московские поэты были так или иначе связаны с «Погодиным университетским», об альманахе которого Вяземский ходатайствовал перед Пушкиным.
С Семеном Егорьевичем Раичем Вяземский был знаком ранее, чем с другими. Он был и старше остальных своих товарищей, которые делали первые шаги в литературном обществе под его руководством. Общество составилось из питомцев Благородного пансиона при Московском университете, где Раич преподавал; Д. П. Ознобишин был секретарем[111]; девятнадцатилетний Шевырев — активным членом. В обществе, правда, шло брожение — уже недалек был тот день, когда бывшие ученики отложились от Раича и образовали свое собственное общество. Но сейчас Раичев кружок еще клонился к своему концу довольно мирно и выступал чуть что не в полном составе имен в «Урании» — такое название получил погодинский альманах. Он оставил свой след и в «Северных цветах».
Последним отозвался на просьбу Дельвига Дмитриев.
Иван Иванович писал любезно, даже галантно, и несколько жеманно. В письмах он покидал тон непринужденного простодушия, какой принимал в личных беседах. Вяземский говорил, что он застегивает мундир.
Он выражал признательность за вторичное приглашение и рассказывал, чего стоило ему победить в себе авторское самолюбие и склониться на просьбы «бросить в… кошницу с яркими и свежими цветами зимний листок, сухой и бледный». «Из малого числа безжизненных стихов» он избрал две пиесы, которые и отдавал на растерзание классиков и романтиков. «Старость уже не так щепетильна, как молодость»[112].
Иван Иванович кокетничал. Имени своего под стихами, впрочем, не поставил.
Он прислал «Надпись к портрету лирика» — Василия Петрова — и «Подражание 136 псалму».
На чуждых берегах, где властвует тиран…Дмитриев не подозревал, что именно он посылает Дельвигу и как будут читаться его стихи, когда они дойдут до Петербурга.
…наш мститель в небесах, Содрогнись, чадо Вавилона! Он близок, он гремит, низвергнися со трона…Письмо Дмитриева было написано 14 декабря.
Вечером 14 декабря колонны пленных отправлялись рядами от памятника Петру I в Петропавловскую крепость.
На опустевшей Сенатской площади стыли под ветром трупы. Стекла в соседних домах были выбиты, и картечь пробороздила стены Сената.
Солдаты грелись у горящих костров; жерла пушек смотрели в каждую улицу вокруг дворца.
На квартире Рылеева прощались с хозяином и между собой Оржицкий, Каховский, Штейнгель. Около восьми часов явился Булгарин. Рылеев вывел его в переднюю. «Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал — и вытолкнул за дверь, дав в руки пакет. В пакете были рукописи. Булгарин сохранил их.
Четырьмя часами позже за государственным преступником приехал с солдатами флигель-адъютант Дурново.
На следующий день на гауптвахту Зимнего дворца пришел Бестужев.
— Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.
Он был прост и спокоен, как будто и не он сутками раньше строил Московский полк в каре на площади. И тот же парадный вид: мундир, гусарские сапоги, белые панталоны[113].
16 декабря на Толбухинском маяке арестовали Николая Бестужева. В Петербурге, в Москве, на границах России искали по приметам бежавшего Кюхельбекера.
3 января под Белой Церковью был разгромлен восставший Черниговский полк.
Не было больше ни Муравьевых, ни Муравьевых-Апостолов, ни «рыцарей Полярной звезды», ни Корниловича, издателя «Русской старины», ни Александра Одоевского, ни Николая Тургенева.
В Алексеевский равелин привезли Ореста Сомова. Он служил вместе с Рылеевым в Российско-Американской компании и жил с Бестужевым на одной квартире. Перепуганные обыватели называли его чуть что не зачинщиком мятежа. О нем спрашивали Рылеева; тот отозвался, что Сомов даже по характеру своему неспособен участвовать в заговоре. Его держали в крепости почти месяц, потом освободили и даже дали очистительный аттестат. «Обходились благородно, не как при блаженной памяти Ст. Ив. Шешковском»[114].
«Северная пчела» поместила известие о происшествиях.
Высокоторжественный день восшествия на престол законного императора был омрачен неповиновением двух рот Московского полка, которым начальствовали «семь или восемь обер-офицеров» и «несколько человек гнусного вида во фраках». Правительство вынуждено было прибегнуть к силе.
Такова была официальная версия, продиктованная свыше.
Греч и Булгарин собственными руками должны были чернить своих недавних литературных друзей. Рылеев, целовавший Булгарина вечером 14 декабря, утром 15-го стал «человеком гнусного вида во фраке».
Железные законы управляли поведением политических конформистов. Неизвестно, как бы высказывались Греч и Булгарин, будь они предоставлены собственной воле. Но издатели «Северной пчелы» более не принадлежали себе.
Рылеев знал это и мог предсказать путь Булгарина. Он говорил ему полушутя: «Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим». «Ты не Пчелу, а Клопа издаешь»[115]. С Булгариным еще можно было шутить так, по короткости отношений; с Гречем держались осторожнее. Рылеев и Николай Бестужев предупреждали Михаила Бестужева, что Греча надо остерегаться: как бы не оказался шпионом. Михаил однажды по молодости лет прямо высказал Гречу такое предположение. В «Пчеле», в «Северном архиве» печатались статьи «в духе правительства»; за неделю до восстания появилась статейка «Бедный Макар», где «монархические чувствования и правосудие русских государей» были «выставлены в самом блестящем виде», — так оценивал это произведение Бенкендорф[116]. И все же.
И все же Рылеев осторожно выведывал у Греча, как он отнесся бы к обществу, действовавшему для общего блага, и на прокофьевских обедах при нем велись дерзкие речи. Все же и Греч, и Булгарин виделись с заговорщиками еще в самый день восстания, а Булгарин прощался с Рылеевым перед самым приездом жандармов. Все же в Петербурге передавали шепотом, что Греч и Булгарин — отчаянные заговорщики — печатали у себя прокламации и убили наборщика, который мог их выдать. О них осведомлялась Следственная комиссия, и даже сам новый император якобы спрашивал Бестужева, не участвовали ли журналисты «в деле». Бестужев отвечал отрицательно.
И все же, наконец, Воейков составил анонимный донос и разослал его по Петербургу и Москве. «Сучья обрублены; дерево остается»; известные возмутители и злодеи, Булгарин и Греч, сумели укрыться от преследований правосудия. Донос не имел реальных последствий, но доставил «возмутителям» несколько весьма неприятных дней[117].
Не только положение — самая свобода петербургских журналистов, казалось, висела на волоске.
В эти дни, перепуганные насмерть, они стремятся как можно скорее выказать свою благонамеренность.
15 декабря Греч пишет записку о причинах возмущения 14 декабря.
Булгарин «очень умно и метко» описывает в полиции приметы Кюхельбекера.
Последние книжки «Сына отечества» и «Северного архива» задерживаются по причине «жестокой и продолжительной болезни» издателя. «У Греча и Булгарина болит живот», — язвит Измайлов.
30 декабря Булгарин пишет Ф. Глинке отчаянное письмо, умоляя написать к новому году «маленькие стишки» «в честь нашего доброго, кроткого и мужественного царя Николая». «Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного». И стихи Глинки появляются в «Северной пчеле»[118].
Может быть, они в чем-то и помогут Булгарину и Гречу — но Глинке они не помогут. Он знал обо всем — и еще 12 или 13 декабря был на квартире Рылеева. Когда послышались слова: «Ну вот, приспевает время», он сказал только: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». Он монархист, конституционалист — таких ссылают в Олонецкую губернию из снисхождения к их миролюбию.
Идет суд — над теми, кто участвовал, над теми, кто знал, над теми, кто не донес.
Никаких документов за эти дни кружок Дельвига не оставил. Он тоже под подозрением, хотя и меньшим, чем Булгарин и Греч, — но зато ему никогда не удастся очиститься. Обвинить его, правда, не в чем — хотя имя Дельвига нет-нет да и мелькнет на следствии и внесено в «Алфавит декабристов». Но невысказанные в 1826 году подозрения прорвутся через четыре года, когда Бенкендорф заявит Дельвигу, что у него собирается кружок, настроенный против правительства.
В запальчивости Бенкендорф сгустит краски. Дельвиг не был политиком — ни раньше, ни позже.
8 января 1826 года он пишет Баратынскому, что петербургский Парнас «погибает от низкого честолюбия. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения? Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан…»[119].
Осуждение? Да, конечно. В письме нельзя было бы писать иначе, но можно было не писать вовсе.
Впрочем, есть и еще одно письмо, посланное не по почте, — письмо Софьи Михайловны Дельвиг к А. Н. Семеновой от 22 декабря. «Я не могу писать тебе о том, о чем хотела бы поделиться с тобою: об этом надо говорить… Все письма теперь распечатываются… В числе многих молодых людей, замешанных в это дело, находятся также Рылеев и Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца. Кюхельбекер еще не разыскан до сих пор. Дай бог, чтобы не открыли. Я трепещу, что его схватят. Мы были в большой тревоге в продолжение всех этих дней…»[120].
Гнусного вида люди во фраках. Кюхельбекер, Иван Пущин, Левушка Пушкин.
Лев Пушкин был с восставшими; кто-то дал ему в руки отнятый у жандарма палаш.[121].
В семье Дельвигов царила «большая тревога».
В январе 1826 года альманах был уже почти собран. Часть листов была в корректуре, другую переписывала Софья Михайловна. Дельвиг ждал обещанной статьи Дашкова.
Дашков медлил — но не от лени, как думала неискушенная Софья Михайловна. На прошлую статью его о Серальской библиотеке возражал правнук того Скарлата, на которого Дашков ссылался как на основной источник своих сведений о книгохранилище. Дашков готовил ответ и запросил в Одессе дополнительные справки. Ожидая их, он просил отсрочки — на месяц, потом на три недели. Это происходило уже 14 января. Вторую статью — «о поклонниках» он обещал непременно доставить 1 февраля поутру.
Дельвиг ждал терпеливо.
1 февраля Дашков прислал первые два листа рукописи и сообщил, что окончательный ответ из Одессы вот-вот придет[122].
Цензурное разрешение на книжке было поставлено 25 февраля. Она опаздывала безнадежно.
То, что Дашков поздно «выпростался», говоря словами Дельвига, было лишь одной из причин опоздания «Северных цветов».
Как бы ни декламировал Дельвиг против тех, кто вооружался пламенниками народного возмущения, собственная его книжка носила на себе отблеск времени, заставлявшего умы клокотать. И сам же он намеревался печатать в «Цветах» пушкинского «Андрея Шенье», где призыв к свободе звучал с такой силой, что в политических процессах подекабрьских лет его прямо связывали с «народным возмущением» 14 декабря. Дельвиг, конечно, знал, на что шел, когда просил у Пушкина именно эту элегию, содержавшую стихи совершенно бесцензурные.
Эту пушкинскую поэтическую автобиографию ему не довелось напечатать — но он поместил другую, отрывок из «Цыган» об Овидии:
Царем когда-то сослан был Полудня житель к нам в изгнанье…И отрывок из «Алы» Языкова, прославляющий ливонские свободы, что мечом защищали против королей, и стихи Вяземского, за которые приходилось бояться, что цензура их не пропустит…
Цензура, действительно, задержала какие-то стихи. 8 января Дельвиг писал Баратынскому, что кое-чего напечатать не смог, и причины изъяснит Муханову. Три месяца спустя он рассказал Вяземскому, что после 14 декабря цензоры вновь взялись за альманах и выбросили уже напечатанные стихи, в том числе «Коляску» Вяземского. Опасались уже не только мыслей, но и слов; строчки «что я не подлежу аресту» и «воздушные Кесари» погубили все стихотворение[123].
Заполнять пустоты было нечем. Правда, Языков отдал ему еще «Две картины» — из альманаха «Звездочка», который был арестован и сложен в кладовой Генерального штаба. Один экземпляр остался у Сомова; его выпросил Егор Аладьин и перепечатал из него сомовского «Гайдамака» и «Кровь за кровь» А. Бестужева (под названием «Замок Эйзен»). Это не прошло ему даром: возникло цензурное дело, по счастью, не имевшее для альманашника серьезных последствий[124].
В «Северных цветах» остались стихи и проза Ф. Глинки, подписанные полным именем, анонимные стихи Кюхельбекера «Пощада певца» и повесть «Трактирная лестница», принадлежавшая никому не известному Алексею Коростылеву.
То, что Алексеем Коростылевым был Николай Бестужев, что «Трактирная лестница» была последней редакцией новеллы «Отрывок из дневника флотского офицера 1815 года»[125] и, кажется, вообще последним, что написал Бестужев перед восстанием и арестом; что Дельвиг сохранил все это в «Цветах», скрыв имя автора от цензуры и литературного мира, — обо всем этом узнали ровно через сто лет.
Глава III Безвременье
Весна 1826 года была тяжелой. В январе — начале февраля Дельвиг заболел, восемь дней продолжалась лихорадка. Только к середине февраля он стал на ноги; но теперь болезнь настигла Гнедича. Мнительный и капризный, он неделями не выходил из комнаты. Врачи решительно не знали, чем помочь. Боялись, что ему не удастся окончить перевод «Илиады».
Сильно ухудшилось здоровье Карамзина. К концу марта стало совершенно ясно, что в Петербурге ему не выздороветь: начались приготовления к отъезду в Италию.
Жуковский, постоянно навещавший Карамзина, сам был тяжело болен и готовился ехать в Эмс на воды. Подозревали наклонность к водянке, он уже не мог взойти по лестнице, не мог двинуться без одышки. Он уехал 11 мая. Перед отъездом он написал рескрипт Карамзину от имени нового императора. Николай подписал: это была «милость», оценка заслуг, устройство материальных дел — признание по существу посмертное, все это знали. Об этой милости будут отныне говорить чуть что не полстолетия, о том, что она была выхлопотана, предпочтут молчать.
И как будто по заказу, в марте заболевает самый деятельный член дельвиговского кружка — Плетнев. Плетнев сроду ничем не болел — а теперь исхудал, побледнел, глотал лекарства по две ложки через час и готовился тоже уехать на какие-нибудь воды. Он не оставляет, однако, дел и еще выполняет пушкинские комиссии, даже замышляет издание «Цыган»[126].
В этих-то условиях Дельвигу нужно было приниматься за новую книжку «Северных цветов», которую к тому же он был намерен теперь издавать один, без помощи Сленина[127].
Это стало возможно только теперь; годом раньше Дельвиг не решился бы на это, если бы у него и возникла такая мысль.
Прежде всего, у него был теперь издательский опыт и был надежный помощник — Плетнев, уже издавший стихотворения Пушкина и поэмы Баратынского. Еще существеннее было то, что «Полярная звезда», а затем и «Северные цветы» приучили читателей к альманахам; число тех и других росло от года к году. И было еще третье, уже драматическое обстоятельство, которое ставило «Северные цветы» на первое место среди альманашных собратий. У них больше не было достойного соперника.
«Полярная звезда» закатилась. Все лучшее в русской поэзии отныне сосредоточивалось в дельвиговском альманахе.
Теперь — к несчастью — опасаться ему было некого.
22 мая 1826 года скончался Карамзин.
Вокруг кружка Дельвига увеличивалась пустота. С Карамзиным он никогда не был связан особенно тесно, но все же это было еще одно выпавшее звено. Люди уходили по-разному: умирали, отправлялись в ссылку, уезжали, замыкались дома, в семье, — но все уходили.
Плетнев все не поправлялся, он жил за городом, на Кушелевой даче, и Дельвиг видел его редко. Гнедич тоже жил на даче, в бывших комнатах Батюшкова, умершего заживо. На окошках оставались еще следы руки сумасшедшего поэта: «Есть жизнь и за могилой» — и другая надпись: «Ombra adorata», возлюбленная тень. Гнедич часами смотрел на эти строки. Батюшков был когда-то его другом.
Баратынский женился и замолк. Александр Тургенев был в Петербурге, но почти ни с кем не общался. Двойное горе легло на него: смерть Карамзина, осуждение брата.
Не было ни Пушкина, ни Жуковского.
Живым, кажется, был один Вяземский. Он приехал 24 мая, едва успев на погребение Карамзина. Он был подавлен, но не сломлен. В этот свой приезд он в первый раз зашел к Дельвигу. Он ехал в Ревель с осиротевшим семейством Карамзиных и с Пушкиными; перед отъездом он успел написать письмо Пушкину, советуя вновь обратиться к царю с обещанием держать язык на привязи и проситься для лечения в Петербург или за границу[128].
В эти месяцы Дельвиг писал мало.
В «Северных цветах на 1827 год» появилось только одно его новое стихотворение — «В альбом А. Н. В-ф», написанное 20 января. «А. Н. В-ф» была Анна Николаевна Вульф, старшая дочь приятельницы Пушкина П. А. Осиповой, владелицы тригорского имения, — одна из тех девушек, которые были так заинтересованы бароном во время его визита в Михайловское. Тогда же укрепились дружеские отношения Дельвига с Прасковьей Александровной и всем семейством — и общая их привязанность к Пушкину сыграла здесь не последнюю роль. Еще в июне 1825 года Дельвиг писал Осиповой, что вышлет в Ригу альбом Анны Николаевны со стихами Баратынского и своими, а осенью 1826 года А. Н. Вульф была в Петербурге и познакомилась с Софьей Михайловной[129]. Вероятно, тогда же Дельвиг и вписал в ее альбом свое полушуточное посвящение — на первых же страницах, вслед за выписками из Пушкина и Жуковского.
Наряду с этими стихами — спокойными и безмятежными — Дельвиг печатает в альманахе и другое стихотворение, выбранное из старого запаса — «Гений-хранитель (Сновидение)» — 1820 или 1821 года. В 1826 году они получали совершенно иной смысл, нежели пятью годами ранее. Обремененный душевными страданьями герой во сне видит себя покрытым ранами и в цепях, над ним рыдает светлый вестник богов. Не один гений-хранитель, сами боги бессильны перед законами мощного рока и парками, прядущими нить человеческой жизни, — и страдание невинного потому неизбывно.
Каковы бы ни были намерения автора, в эпоху аллюзионной поэзии эта аллегория приобретала зловещий и конкретный смысл. Вряд ли она была общественным выступлением, но она отражала общественное мироощущение.
Два других стихотворения Дельвига в альманахе оказывались поэтическим апофеозом дружбы. Одно из них — «Дифирамб (На приезд трех друзей)» было написано в августе 1821 года, когда съехались вместе Баратынский — из финляндской ссылки, П. Л. Яковлев — из Бухары и Кюхельбекер — из Германии. «Три гостя, с детства товарищи, спутники…» Здесь уже был прямой умысел: рано или поздно книжка альманаха должна была дойти до Кюхельбекера, ныне томившегося в Шлиссельбурге. «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы…»
Четвертое и последнее стихотворение было той самой посвященной Баратынскому идиллией «Друзья», которую не удалось провести сквозь цензуру в 1825 году.
«Союз поэтов» продолжал существовать.
Дельвиг отказался на этот раз от тематической подборки своих стихов, но устойчивые литературные интересы кружка все же продолжали заявлять о себе. Книжка открывалась «Письмом V» — продолжением статьи Григоровича о русских художниках — и тем самым как бы формально продолжала «Северные цветы на 1826 год». «Сербские песни» Востокова связывали ее и с первым выпуском альманаха. На этот раз Востоков дал четыре первоклассные песни, в том числе знаменитую «Жалобную песню благородной Асан-Агиницы» — ту самую, которая так заинтересовала Мериме, Гете и которую в 1835 году начал переводить Пушкин. И здесь же появляется один из наиболее значительных опытов русской «народной идиллии» — «Рыбаки» Гнедича.
Идиллия Гнедича отнюдь не была новинкой: она была напечатана дважды еще в 1822 году, и тогда же о ней писали с похвалой Бестужев и Плетнев. Гнедич совершенно намеренно поэтизировал русский национальный быт и притом быт современный, уравнивая его в правах с античным бытом феокритовских идиллий. Эти эстетические задачи были очень близки декабристскому крылу «соревнователей» — и здесь с ними совершенно сходился Дельвиг. Поэтому, когда Гнедич вернулся к своим «Рыбакам» и усовершенствовал текст, Дельвиг воспользовался случаем и напечатал новую редакцию, приложив к ней картинку.
Наконец, в книжке были и антологические стихи — «Наяда» Баратынского — перевод из Шенье — и четыре «антологических» элегии Плетнева. «Садовник», «Рассудок и страсть», «Воспоминание» и «Ночь». Это были последние по времени плетневские стихи и его последнее увлечение: от элегии-медитации, элегии-размышления он шел к «элегическому фрагменту», как у Пушкина или Баратынского.
Иван Иванович Козлов дал два стихотворения: «Подражание Шатобриану (Отрывок, посвященный Александру Ивановичу Тургеневу)» и «Лунная ночь в Кремле». Первый из них получил потом название «Разорение Рима и распространение христианства». Второе же произведение носило подзаголовок «Из поэмы Наталья Борисовна Долгорукая, посвященной В. А. Жуковскому». К нему Дельвиг сделал примечание: «Эта маленькая поэма, начатая в 1824 году, через несколько месяцев будет окончена и напечатана».
Дельвиг имел все основания опасаться аллюзий, которые возникали сами собой. Прямая связь поэмы Козлова с рылеевской думой о Наталье Долгорукой бросалась в глаза. Отрывок в «Северных цветах», конечно, был невинным пейзажным описанием — но далее в полном тексте шла сцена явления призрака: казненный Иван Долгорукий перед женой поднимает за волосы свою отрубленную голову. Если все это было написано в 1826 году — о печатании поэмы не могло быть и речи. Нам неизвестно, когда Дельвигу пришла мысль сделать свое примечание — не в самом ли начале 1827 года, когда уехали в Сибирь Волконская и Трубецкая, и самое имя Натальи Долгорукой читалось как прозрачный намек на жен, оставшихся верными жертвам самовластья? В 1827 году, когда поэма готовилась отдельным изданием, Жуковский очень беспокоился о ее судьбе — и было отчего.
В дельвиговском альманахе сохранялась еще атмосфера додекабрьского времени. Сейчас, когда все должно было меняться, он то и дело становился против течения — то вольно, то невольно.
Федор Туманский отдал сюда «Птичку» и элегию «18 апреля». В «Птичке» слышались отзвуки поэтических аллегорий о свободе. Туманский подражал пушкинской «Птичке», в которой южный изгнанник радовался, что может доставить свободу хотя одному живому существу. Дельвиг тогда тоже создал свою вариацию — «К птичке, выпущенной на волю». Туманский запоздал, но его стихи зато выиграли в популярности: его «Птичка» осталась в памяти поколений читателей, и современники были убеждены, что он превзошел не только Дельвига, но и Пушкина. Лев Пушкин вписал эти стихи в альбом Анны Вульф[130].
Цензор П. И. Гаевский предлагал исключить из «Цветов» стихи «Сон тирана (Из Брета)» и сделать купюры в «Подражаниях корану» Ротчева, в послании Богдановичу и «Телеме и Макаре» Баратынского. Главный цензурный комитет определил: запретить семь стихов в послании, а «Сон тирана (Из Брета)» заменить на «Сон злодея (Из Садия)»[131].
«Сон тирана», ныне «злодея», был подписан «1. 8.», т. е. «А. И.», — не Илличевским ли? Он снабдил Дельвига еще прозаическим анекдотом и четырьмя «легкими стихотворениями» в обычном своем роде. По одному стихотворению дали М. Яковлев, Великопольский; два перевода с немецкого — Платон Ободовский. Все это были имена, уже известные нам по прошлым книжкам; но к ним добавились и новые.
Список новых имен открывался неожиданно Фаддеем Булгариным.
Мы оставили Булгарина в тот момент, когда он лихорадочно пытался обелить себя перед новым правительством.
Он делает все новые и новые шаги. Он действует через М. Я. Фон-Фока, родственника Греча, ставшего правой рукой Бенкендорфа, он пишет дежурному генералу Потапову, он оправдывается, объясняет, указывает на свои статьи, в которых проповедовал чистую нравственность и любовь к престолу.
Он составляет две записки — «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» и «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного». В записках содержались рекомендации, следуя которым правительство должно было безраздельно господствовать над общественным мнением.
Следовало искоренять европейский либерализм, искоренять убеждением и воспитанием, употребляя «благонамеренных писателей и литераторов». Последних надлежало привлекать к себе, направляя их перо и снимая бессмысленные цензурные запреты. Дайте невинную пищу умам — и вы отвлечете их от политики. «Должно знать всех людей с духом лицейским, наблюдать за ними, исправимых ласкать, поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему образу правления…»
Либерализм свил себе гнездо в высшем сословии — среди людей богатых и знатных, отравленных французским воспитанием и честолюбивыми стремлениями. Истинной же опорой правительства является «среднее сословие» — достаточные, но небогатые дворяне, чиновники, богатые купцы, промышленники, частью мещане. К ним-то и должно адресоваться правительство и «благонамеренные литераторы», формируя общественное мнение.
Это была целая программа «официального демократизма», которой отныне будет следовать Булгарин в «Северной пчеле» и в своем «нравственно-сатирическом романе»[132].
Записки Булгарина иногда рассматривались как прямые доносы, но это неверно. Он не называл никаких имен, неизвестных правительству, он даже пытался извинить лицейских преподавателей, которые не имели сил справиться с веяниями, идущими извне. Записки имели назначение не карательное, а охранительное.
Но как бы ни рассматривать их, они были решительно враждебны тому «лицейскому духу», который продолжал сохраняться в дельви-говском кружке, — и не вызвали в нем возмущения лишь потому, что о существовании их никому из литераторов не было известно.
Булгарин делал отчаянные усилия выскользнуть из-под дамоклова меча, но старые связи напоминали о себе ежеминутно. На гауптвахте Главного штаба сидел арестованный Грибоедов и писал такие записки, от которых и вчуже становилось страшно. Он просил газет, книг; ему нужны были деньги. Он научал Булгарина, как к нему проникнуть, и посмеивался над его «трусостью». Булгарин исполнял комиссии.
Он был искренне привязан к Грибоедову и даже готов был идти на какой-то риск, что вообще ему было не свойственно. Он любил по-своему и Рылеева, и Бестужева, и Петра Муханова, и Корниловича. Потеря их была ему чувствительна. Как коммерсант наполовину, он скорбел вдвойне: с ними его издания лишались первоклассных сотрудников.
Книжки его журналов запаздывали. Булгарин с Гречем работали в поте лица. С ними работал и Орест Сомов — единственный, кто остался из редакционного кружка «Полярной звезды». Сомов не имел никакого состояния и жил только литературным трудом. Целыми днями он читал корректуры, писал критики, переводил и еще умудрялся писать повести. При всем том сотрудников не хватало.
Булгарин взбешен, раздражен — и неустойчивостью своего положения, и уменьшением числа подписчиков, и журнальными неудачами. В июне он обрушивается на Греча, обвиняя его в коммерческой несостоятельности[133]. Греч проглатывает пилюлю: он зависит от Булгарина; лишь в письмах третьим лицам он замечает язвительно, что на соратника его напало «периодическое исступление, в котором он лает на всех и грызется со всеми». Греч исповедует теперь принцип: сиди тихо; он тихо сидит перед открытым окном своей дачи на Черной речке и предается утешительным мечтаниям о будущем благоденствии России под эгидой доброго государя.
В этом смысле он пишет Федору Николаевичу Глинке, не скупясь на похвалы царскому семейству и прося у ссыльного новых стихов — на коронацию.
Письмо — демонстрация безграничной преданности престолу; так лучше — и для корреспондента, и для адресата.
В этих условиях лучше всего заключить всеобщий мир.
С 1827 года отзывы «Северной пчелы» о прежних противниках — Баратынском, тем более о Жуковском становятся все лояльнее и благосклоннее. Летом этого года Булгарин делает первые шаги к примирению с Николаем Полевым[134].
С Дельвигом же и прямой борьбы у него не было, была интрига, конкуренция.
Булгарин дает в «Северные цветы» очерк — «Развалины Альмодаварские» из своих старых испанских впечатлений.
Одновременно в дельвиговский альманах приходит Орест Сомов.
Еще в июне отношения его с Дельвигом были прохладны: вероятно, сказывались следы прежних литературных распрей.
«…С Дельвигом я иногда видаюсь, но, не знаю почему, до сих пор мы не могли сблизиться», — писал он в одном из писем[135]. Стало быть, потепление отношений приходится на вторую половину 1826 года. Во всяком случае, в «Северных цветах» появилась его «малороссийская быль» «Юродивый» — небольшая повесть из быта и преданий Малороссии, его родины. Сомов был одним из зачинателей этой темы, которой предстояло достигнуть своей вершины в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Прежние «вкладчики» «Полярной звезды» шли в альманах Дельвига.
И что было особенно важно — они доставляли Дельвигу прозу: беллетризованный очерк, новеллу — то, в чем постоянно нуждались альманахи — все альманахи, исключая, быть может, «Полярную звезду». И Булгарин, и Сомов умели писать именно альманашную прозу — и в этом сказывались навыки профессиональных литераторов. Сомов был даровитым прозаиком, но все его замыслы большого романа остались незавершенными: он работал всю жизнь для журналов и альманахов, которые требовали малых прозаических форм.
И еще один человек из кружка «Полярной звезды» появился в «Северных цветах». Это был уже знакомый нам Василий Никифорович Григорьев. Восстание и все последовавшие события не коснулись его — во всяком случае, внешне; в поздних записках он с некоторой боязнью вспоминал о своей короткости с людьми, которые, как оказалось, замышляли произвести государственный переворот. Когда эшафот и каторга поглотили его старших покровителей и учителей, он сохранил связи с Булгариным и Сомовым — и Дельвигом. Он дал ему стихотворение «Бештау», навеянное впечатлениями от Грузии, где он побывал весною 1825 года; Кавказ теперь питал его творчество, и с Грузией же окажется связанной его биография ближайших лет[136].
В «Северных цветах» собирались остатки рассеянного Вольного общества любителей российской словесности.
Председатель же общества, Федор Николаевич Глинка, испытавший арест, суд и высылку, сидел в это время в Петрозаводске советником Олонецкого губернского правления, и приказные хлопоты не заглушали в нем невыносимой тоски. Мир его рушился, и ему начинало казаться, что «любви и дружества уже не стало на земле». Оставались письма, стихи и воспоминания. Письма становятся для него беседой, визитами. Вместо живых людей он населяет свою комнату портретами: у него есть уже гравированный портрет Крылова; он просит таких же от Гнедича и от Греча. В этом иллюзорном мире нарисованных слов и нарисованных лиц он ведет свою иллюзорную жизнь — в стихах: он заново переживает тюрьму, суд, опровергает клеветников, спасается от доносчиков, жалуется и исповедуется.
Библейские пророки его псалмов уже не гремят обличениями, они томятся на чужбине, под снежными бурями Прионежья, они ждут, когда исполнятся сроки, их окружают «ловители», готовящие кандалы.
Эти стихи, столь личные, столь субъективные, попадая в печать, становились фактом общественным. В них отсвечивала судьба автора, принадлежавшая истории общества.
А в печать они проникали. По счастью, он не был осужден формально и ему дозволялось печататься. В ноябре 1826 года Греч письмом пригласил его к сотрудничеству в «Сыне отечества и Северном архиве». Обрадованный Глинка поспешил ответить согласием — но Греч замолк. Глинка ждал долго и тщетно, но никаких объяснений не последовало. Иллюзия рухнула — и это было для него особенно тягостно. Он считал, что над ним тяготеют три несчастия: бедность, политическое унижение и одиночество; сотрудничество в петербургском журнале было бы если не избавлением, то облегчением.
Связи с альманашниками не приносили денег, но скрашивали одиночество. Глинка всегда охотно откликался на просьбы, тем более сейчас. «Если увидите Дельвига и Плетнева, — пишет он Гнедичу, — поклонитесь то-же им. Барон что-то долго уж не пишет». Стало быть, Дельвиг писал уже Глинке-ссыльному — но письма эти не дошли до нас[137].
В «Северных цветах на 1827 год» есть несколько произведений Глинки: два в прозе («Чудесная сопутница», «Осенние дни»), «аполог» из Гафиза «Нетленные глаза» и маленькое полушуточное «Приключение». Все эти вещи могли бы быть написаны еще до несчастий, постигших Глинку. Может быть, так оно и было: ссыльному не менее Греча нужно «сидеть тихо», не страдать и не жаловаться. Уместно ли публиковать в Петербурге тюремные стихи?
Глинка «сидит тихо» — до поры до времени.
В январе 1827 года в Главный цензурный комитет пересылается по заключению цензора П. И. Гаевского его стихотворение «Сон», предназначенное для «Северных цветов», где «поэт представляет мать свою явившеюся ему в сновидении и предсказывающею со слезами будущий бедственный жребий его». Стихи, по заключению министра, не подлежали напечатанию: «подписанное под стихотворением имя сочинителя, замешанного в происшествиях 1825 года», могло «подать повод к различным заключениям»[138].
Глинка был последним из могикан «Вольного общества».
Оно вырастило плеяду поэтов и прозаиков, познакомило их между собою, создало печатные органы и в недрах своих зародило два альманаха. Потом оно распалось на кружки — и кружок Дельвига был теперь единственным оставшимся, к которому тянулись литературные силы.
В «Северных цветах на 1827 год» есть стихи, написанные начинающими поэтами. Одним из них был Валериан Павлович Шемиот, принесший в альманах одну переводную элегию из Парни. Он был в каком-то родстве с Пушкиным: во всяком случае Л. Н. Павлищев, сын Ольги Сергеевны, называет его двоюродным братом своей матери[139].
Двадцатилетний Павел Шкляревский отдал в «Цветы» перевод «Der Tanz» Шиллера («Пляска»). Этот сын священника из Лубен был даровитым поэтом и подавал блестящие надежды как филолог. Он только что окончил петербургскую гимназию и поступил в университет; он знал несколько языков и питал особое пристрастие к немецкой поэзии и русским «архаистам»; шиллеровские дистихи выходили у него торжественными и важными, насыщенными славянскими речениями.
Его заметили А. Е. Измайлов и граф Хвостов, вероятно, почувствовавший в юном поэте интерес к классической традиции; когда Шкляревского в числе наиболее преуспевших студентов отправляли в 1828 году в Дерпт, в Профессорский институт, он писал тамошнему профессору, своему знакомому и тоже «классику», В. М. Перевощикову: «Я знаю, что вы очень озабочены приготовлением лекций для студентов разных наших университетов, которые назначаются после вашего в Дерпте курса отправиться в чужие края, в том числе будет некто Шкляревский, которого я знаю с очень хорошей стороны и при отъезде его не премину вам рекомендовать особливым письмом». И спустя некоторое время: «…снова прошу не оставить покровительством вашим студента Шкляревского». Перевощиков внял рекомендации и не пожалел об этом; 6 января 1829 года Хвостов вновь писал Перевощикову о своем протеже, посылая и для того, и для другого свою оду с надписью: «Очень доволен, что слышу от Вас о сем молодом питомце наук похвальные вести. Я всегда от него ожидал доброго поведения и прилежания к наукам, и теперь, имея Ваше о нем одобрение, остаюсь покоен…»
Шкляревский не появится больше на страницах «Северных цветов». Из Дерпта он не вернулся. Страшное нервное переутомление, простуда и начавшийся туберкулез свели его в могилу двадцати четырех лет[140].
Люди неизвестные или почти неизвестные, без связей, без протекции в литературном мире. Они появляются на вечерах у графа Хвостова: меценат любит молодежь, а может быть, ищет популярности. Они приносят свои первые опыты Воейкову, которому нечем наполнять свои издания и который ищет сотрудников, не пренебрегая ничем и никем. «Новости литературы» не пережили 1826 года — но в следующем же году Воейков затевает «Славянин», другое журнальное приложение к «Русскому инвалиду». Как и ранее, он пишет жалобные письма и просит хоть что-нибудь на зубок новому журналу; он льстит и христарадничает, почти не скрывая иронической ужимки. Он печатает и Шкляревского — в том же 1827 году; а еще ранее, в старых «Новостях литературы», и двух других поэтов, имена которых появляются в «Северных цветах на 1827 год» — Ивана Балле и Александра Николаевича Глебова.
Первый из них — восторженный дилетант, некогда протеже Плетнева, еще в 1817 году ободрившего его письмом. Почти через пятнадцать лет он будет писать Плетневу, добиваясь помещения в «Современнике» какой-то своей статьи и называя Пушкина, Баратынского и Жуковского не иначе как по имени-отчеству — в знак особого благоговейного уважения и в то же время интимности[141]. Второй — литератор-полупрофессионал, какие стали появляться на рубеже 1830-х годов, сменив собою любителей — «аматеров» предшествующего десятилетия. Его описал В. Бурнашев, встречавший его у Воейкова в 1830-е годы: молодой поэт, в черной паре, в очках, «сам ярко-розовый, рыжеватенький, с узенькими бакенбардочками», застенчивый, как девушка, и хватающий за пуговицы знакомых во время разговора. Глебов был провинциалом, по-видимому, из Курска и приехал в столицу в 1824 или в 1825 году. Тогда же его впервые и заметил Воейков. В исходе октября 1826 года Глебов ездил со служебным поручением на север, в Олонецкую и Новгородскую губернии. С этого времени северные безотрадные пейзажи входят в его стихи; элегические мотивы изгнания и заточения придают им однообразно-унылый колорит, навлекший на него цензурные подозрения; наводили даже справки, не тот ли это Глебов, который выходил на Сенатскую площадь, и, узнав, что не тот, все же запретили стихи. Глебов не растерялся и вновь подал их — уже другому цензору и для другого издания, — и они прошли благополучно. В 1830 году история повторилась: запретили его послание «К брату», начинавшееся словами: «Ты прав, брат, сердце воли просит…», через два года Глебов напечатал и это послание в собственном альманахе.
Он участвовал почти во всех петербургских альманахах и повременных изданиях: у Воейкова, у Михаила Алексеевича Бестужева-Рюмина, издателя «Северного Меркурия» — мелкотравчатой газетки, где собирались литераторы «задней шеренги», но где всплывали и неизвестно откуда взявшиеся неизданные стихи Рылеева. Глебов переводил с французского, немецкого, писал очерки, повести, критические разборы. До нашего времени дошла его тетрадь, где между его собственными стихами были вписаны пушкинская «Вольность» («Ода на свободу») и послание В. Ф. Раевского «К друзьям» — знаменитые тюремные стихи «первого декабриста», тоже, кстати, курянина. Итак, и запрещенных стихов он не сторонился, и, стало быть, не были совершенной случайностью ни его лавирование между цензурными рогатками, ни самые тюремные мотивы его лирики. Гражданская поэзия двадцатых годов успела наложить свой отпечаток и на «массовую литературу», типичным представителем которой был Александр Глебов.
В «Северных цветах» он напечатал два стихотворения — «Волшебный сад» и «Август месяц»[142].
Альманах собирается, новые люди приходят в него, он выигрывает в разнообразии, но при этом теряет в единстве. В январе 1826 года в Москве вышла «Урания», изданная «Погодиным университетским». В ней были стихи Пушкина, добытые Вяземским, самого Вяземского, Баратынского, которого Погодин видел у И. И. Дмитриева и тут же выпросил несколько стихотворений, старшего поколения московских поэтов — Раича, Мерзлякова, Нечаева — стихи, предназначавшиеся для злополучной «Звездочки». Основной же круг участников составляли молодые поэты: Шевырев, Ф. И. Тютчев, Ознобишин; Михаил Александрович Максимович, подающий надежды ботаник и страстный любитель народной поэзии, уже начавший подбирать материалы для своего собрания малороссийских песен[143]. Сюда же попали и стихи А. Полежаева, посещавшего иногда Погодина, и товарища Полежаева по университету, Александра Гавриловича Ротчева, человека довольно типичного для тогдашней университетской богемы, переводчика Байрона и Шиллера, писавшего и антиправительственные стихи, за которые ему пришлось попасть потом под надзор жандармов[144]. У Ротчева уже был некоторый литературный опыт: он печатался и в «Московском телеграфе», и даже в воейковских «Новостях литературы».
«Уранию» ждал успех. В январе Баратынский прислал книжку Пушкину как не выдающееся, однако же отрадное явление на альманашном горизонте — и особенно обращал его внимание на стихотворение Шевырева «Я есмь» — талантливое, хотя и тронутое «трансцендентальной философией», к которой Баратынский присматривался не без настороженности. Он успел расположить Пушкина в пользу Шевырева; Пушкину также понравилось это стихотворение[145]. Вслед за тем альманах получил и Дельвиг.
Прислал книжку сам Погодин, и Дельвиг откликнулся вежливым письмом, где, впрочем, перепутал имя и отчество своего нового корреспондента. «Милостивый государь Михайло Алексеевич, — писал он, — Вы предупредили меня, но и я не совсем виноват. Уважая и любя вас за литературные труды ваши, я не знал ни вашего имени, ни места жительства». Он благодарил Погодина за «приятное товарищество» — «Урания», по его мнению, была единственным из альманахов 1826 года, достойным внимания, — и просил принять участие и в «Северных цветах»[146].
Погодин счел за благо закрепить начавшиеся отношения, и прислал повесть «Русая коса». Этим своим опытом он был очень доволен, и она была ему дорога еще по особым причинам: прототипами были он сам и княжна Александра Ивановна Трубецкая, его ученица и предмет страстного поклонения. Естественно, что он не поставил своего имени, но взял значащий псевдоним «З-ий» («Знаменский»). Так называлось имение Трубецких, где писалась повесть и где Погодин вместе с молодыми княжнами издавал когда-то рукописный «Знаменский журнал» и был облечен званием «историка Знаменского»[147].
Два поэта — участника «Урании» — приносят в альманах Дельвига ориентальные стихи. Один из них — Ознобишин, уже печатавшийся в прошлой книжке «Цветов»; он востоковед, полиглот, переводит с арабского и персидского; он дает Дельвигу «Фиалку», «подражание Ибн-Руми». Второй — Ротчев, явившийся со своим «Подражанием арабскому»:
Клянусь коня волнистой гривой И брызгом искр его копыт, Что голос бога справедливый Над миром скоро прогремит!Это — «Подражания корану», а еще более — подражание пушкинским «Подражаниям».
В ротчевских стихах звучала тема «страшного суда», как в третьем стихотворении пушкинского цикла. Именно эти пушкинские стихи с восхищением повторял Рылеев.
Ротчев был воспитан на поэтических инвективах декабристской лирики и на мятежных восточных стихах Байрона. Цензура колебалась, пропускать ли в печать цитированные нами строки. Пророческий пафос их не был случайностью; нам придется убедиться в этом, когда мы снова встретимся с Ротчевым на страницах «Северных цветов».
Ротчевские подражания должны были обратить на себя внимание Дельвига. «Сияющий Коран» Пушкина он прочел одним из первых и в первой же книжке своего альманаха напечатал четвертое стихотворение цикла. Начатая Пушкиным тема находила продолжателя.
Дельвиг печатает стихи Ротчева с забавной подписью-оговоркой: «Тютчев», которую тут же спешит исправить в «Северной пчеле»[148].
Но мы вынуждены были забежать несколько вперед, чтобы закончить речь о московском альманахе.
Идет июль 1826 года.
В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления.
Откуда он узнал, что на рассвете 13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу — в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно.
Все же они дознались и пришли — и Путята, и будущий историк Шницлер, и чиновник Пржецлавский, и Греч, который стоял рядом с Дельвигом у кронверка, и еще человек двести глядели издали.
Дельвиг должен был выйти с Миллионной и перебраться через Неву по понтонному Исаакиевскому или по Троицкому мосту — но первый из них был уже разведен в полночь, а на втором стояла стража, перекрывая выход к крепости. Если Дельвиг шел пешком, а не воспользовался яликом, как это сделал Путята, стало быть, он отправился задолго до полуночи. Он добрался до самой площади, где сооружали помост для виселицы, и когда Путята явился туда — это было, вероятно, в исходе второго часа или даже позднее — он уже увидел его и Греча в числе безмолвных зрителей — обитателей окрестных домов, сбежавшихся на барабанный бой. Дельвиг ждал; сколько времени — неизвестно. Он видел, как ставили виселицу, как вывели арестантов, осужденных на каторгу, как читали им приговор и сжигали офицерские мундиры. Возвращаясь уже в арестантском платье, рассказывал Путята, осужденные «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе».
Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?
Судьба на вечную разлуку Быть может, здесь сроднила нас.Строки лицейской песни Дельвига всплывут в памяти Пущина еще через двенадцать лет.
А затем Дельвиг видел то же, что и Путята: как взвели на помост смертников, как три тела тяжело рухнули вниз, проламывая доски, и как совершилась вторичная казнь. И, может быть, он слышал ропот — толпы ли, казнимых или казнящих? — ропот ужаса, сострадания или негодования[149].
Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря. Мы знаем только одно: в конце июля он собирается вместе с женой покинуть Петербург и даже делает к тому какие-то шаги[150]. В июле — именно в июле 1826 года что-то гонит его из столицы. Это «что-то» — не внешние причины, а внутреннее чувство.
К лицейской годовщине 19 октября 1826 года он напишет стихи о двух друзьях, отторгнутых от своего круга, — о Кюхельбекере и о Пущине. С одним из них он успел проститься, хотя молча; с другим попрощается за него Пушкин, ровно через год, 12 октября, на случайной дорожной станции, затерянной под Псковом.
Выпьем, други, в память их, Выпьем полные стаканы За далеких, за родных, Будем нынче вдвое пьяны.Здесь — темы декабристских стихов Пушкина. И не только темы, даже слова. «Внятен им наш глас, Он проникнет твердый камень». «Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас».
«Храните гордое терпенье» — парафраза «лицейской песни» Дельвига.
«Арион» будет напечатан в газете Дельвига — Пушкин напишет его в годовщину казни и ссылки — после первых встреч с Дельвигом в Петербурге[151].
Итак, все же Дельвиг рассказывал о виденном — хотя бы Пушкину?
«Я уже засеял цветы и понемногу они подрастают, — писал Дельвиг Вяземскому в Ревель. — Не оставьте меня и нынешний год, нынче я решился издать без помощи Сленина»[152].
Дельвиг спрашивал Вяземского, пишет ли он в Ревеле стихи. Без него, Пушкина и Баратынского альманах был немыслим.
Вяземский писал — но не стихи, а политические рассуждения. Известие о казни декабристов застало его в Ревеле. Гневные, «возмутительные» строки срываются с его пера. Он пишет о нелепости и жестокости доклада Следственной комиссии, о всеобщем ропоте, подготовившем возмущение, о долге совести, управлявшем действиями заговорщиков.
Среди этих строк в его записной книжке вдруг всплывают стихи — не свои, чужие. Это были стихи Батюшкова, «подражание Байрону», знаменитый потом перевод из «Чайльд Гарольда» «Есть наслаждение и в дикости лесов». Вяземский, видимо, только что получил его и спешил оставить для себя копию. Потом он вернулся к мысли, не дававшей ему покоя, — о пристрастности и несправедливости суда, о несоразмерности вины и наказания Михаила Пущина, Николая Тургенева.
В середине этого рассуждения поместились великолепные стихи Батюшкова — и какие-то темные связи стали вдруг возникать между ними и всем остальным, что их окружало: какое-то неосознанное пророчество слышалось в гениальных и оборванных, словно насильно, строках полубезумца:
Шуми же ты, шуми, огромный океан! Развалины на прахе строит Минутный человек, сей суетный тиран; Но море чем себе присвоит? Трудися, созидай громады кораблей…Море, извечное воплощение свободы, неподвластное тирану — человеку… Байрон, недавно умерший певец моря… пушкинские стихи о море и Байроне — он был подобен тебе, создан твоим духом… и опять оборванные строки великого поэта, заживо поглощенного слепой, безжалостной и неотвратимой смертью — смертью сумасшествия. Батюшков писал стихи задолго до смерти Байрона, задолго до восстания и катастрофы — но как они ложились в сегодняшний день, в двадцатые числа июля 1826 года.
Вяземский берется за перо. Все, что творится вокруг него и в нем самом, есть предмет поэзии, глубокой и мрачной.
Он пишет элегию «Море». Здесь будет все — и прочитанный Батюшков, и свобода, и Байрон, и тиран, и друзья, ушедшие на каторгу, или унесенные морем, как Николай Тургенев. «Как стаи гордых лебедей На синем море волны блещут…» Уже в этом начале слышен Батюшков: «Но вот в тумане там, как стая лебедей Белеют корабли, несомые волнами…» («На развалинах замка в Швеции», 1814). Потом он прямо подхватывает мысль Байрона — Батюшкова: минутные развалины на прахе — дело рук человеческих; свободный океан смеется над тщетными усилиями:
На почве, смертным непослушной, Нет мрачных знамений страстей, Свирепых в злобе малодушной.Земля — раба времени и людей, «владыки, веки и судьба» шутя властвуют ею, но море есть единый хранитель первоначальной чистоты человечества, единый источник поэзии, умолкающей при виде всего, что делается на земле.
31 июля Вяземский посылает Пушкину законченную элегию. Он делал так нередко; Пушкин — постоянный читатель и критик его стихов и прозы, предназначенных в печать. Но здесь есть и еще знак, умысел: певец «Моря» получает стихи о море, певец Байрона — байроническую элегию. Вяземский не оставлял, кажется, намерения вызвать у Пушкина поэтический отклик на смерть Байрона.
Пушкин отвечал 14 августа. Он понял все, что хотел сказать ему Вяземский — и возразил ему. Он не хотел более воспевать моря.
Не славь его. В наш гнусный век Седой Нептун — Земли союзник. На всех стихиях человек Тиран, предатель или узник.И далее вопрос: верно ли, что Николая Тургенева привезли морем из Англии? «Вот каково море наше хваленое!»[153]. Цепь ассоциаций продолжилась и замкнулась — молчаливым отказом на невысказанное предложение.
Не пройдет и года, как следы этого диалога обнаружатся в «Северных цветах».
Но сейчас не поэзия занимает Пушкина.
Он пишет Вяземскому, что еще надеется на коронацию: «повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» — и отказывается посылать царю прочувствованное письмо: рука не поднимается.
Вяземский и на коронацию не надеется и специально уезжает из Москвы, чтобы не присутствовать на торжестве под тенью веревки.
А 3 сентября за Пушкиным приезжает по высочайшему повелению нарочный фельдъегерь.
Мы знаем — и не знаем — что произошло дальше. Покрытый дорожной пылью, не успевший прийти в себя после четырхдневного тяжкого пути, Пушкин предстает перед новым императором. Разговор с глазу на глаз в течение часа или двух — и вот уже новый царь представляет почтительным придворным «нового» Пушкина — прощенного Пушкина, «своего» Пушкина, — и обещает сам быть его цензором.
«Фасадной империи» нужны были театральные сцены. История царствования требовала исторических эпизодов и исторических слов.
Подлинная история была обыденнее, страшнее и глубже. Она включала молчаливые драмы в затерянном в псковской глуши михайловском домике, рисунки отяжелевших трупов на перекладине, оборванную запись «и я бы мог…». Она хранила в своих недрах признание Пушкина царю, что он был бы «с ними», и глухие слухи о каких-то стихах против правительства, которые Пушкин привез с собою в Москву. И вместе с тем: «каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости»[154]. Это была совершенно официальная декларация Пушкина, провозглашенная еще 7 марта в письме к Жуковскому. Формула вынужденного смирения, которая оставалась неизбежной и сейчас, но теперь, после разговора с царем, приобретала новые черты. «Необходимость» была не просто условием самосохранения; за этим словом стоял некий исторический закон, в силу которого победило правительство. Он был жесток, но его нельзя было ни изменить, ни отвергнуть.
Правительство предложило Пушкину договор — и поэт его принял. Ему предстояло теперь жить и действовать в новых условиях — и на новых условиях. Но он не собирался «сидеть тихо», как Греч.
Что он собирался делать — покажет будущее. Пока же он пользуется первыми днями свободы после шестилетнего изгнания.
Из Чудова дворца Пушкин поехал к дядюшке Василию Львовичу, а потом в трактир «Европа» на Тверской, где и остановился.
Ему предстояло теперь входить в московские литературные круги, которые он знал лишь заочно. Вяземский еще не вернулся, и Пушкин поспешил к княгине Вере Федоровне рассказать о новом своем положении. Только вечный Соболевский был на месте из старых знакомых, и он сразу же с готовностью взял Пушкина под свою опеку. Этот бесцеремонный всеобщий приятель умел быть удивительно тактичным и выжидал, пока Пушкин сам скажет, с кем он хотел бы познакомиться. Пушкин назвал Веневитинова.
Веневитинов приходился ему четвероюродным братом, и Пушкин знал его, кажется, еще маленьким мальчиком. Сейчас это был юноша двадцати одного года, одаренный необыкновенно: поэт, музыкант, художник и критик, написавший разбор «Онегина»; Пушкин читал его статью еще в Тригорском и обратил на нее особенное внимание.
Пушкин приглашал Веневитинова слушать привезенного «Бориса Годунова» — к Соболевскому, в дом Ринкевича на Собачьей площадке. Приехали М. Ю. Виельгорский, Чаадаев; Соболевский вспоминал потом, кто был еще, — и называл без полной уверенности Шевырева и Ивана Киреевского[155].
Вспомнить первых слушателей было нелегко, так как чтения шли одно за другим: у Соболевского, у Веневитиновых. Собрания становились все многолюднее: являются Баратынский, Погодин, завсегдатаи салона Зинаиды Волконской, прежние члены кружка Раича. Пушкин читает и Блудову и Дмитриеву.
Имя Пушкина не сходит с уст. В театре оборачиваются при его появлении.
На бале у Веневитиновых ему представляют Шевырева. Пушкин помнил его стихи в «Урании» — и прочел несколько строк наизусть. Шевырев был счастлив.
У Веневитинова он встречается с Погодиным. «Мы с вами давно знакомы… и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Погодин смотрит во все глаза на «превертлявого» гения.
Кружок «любомудров» постепенно собирается вокруг Пушкина. Это были первые подлинные ценители его творчества, которых он увидел по своем возвращении. Ему нравились эти молодые люди — полные юношеского энтузиазма, знатоки поэзии, музыки и пластических искусств, эстетики, ученые и философы. Он был готов даже, кажется, сделаться их главой.
Еще в Михайловском он охладел к «Московскому телеграфу»: его раздражала поверхностность и опрометчивость журнала Полевого. Он досадовал, что Вяземский связывал с ним свою литературную судьбу: ему нужен был кружок «своих».
В первые же дни Веневитинов рассказал ему о новых замыслах. За «Уранией» должен был последовать «Гермес» — сборник переводов из классических писателей: Гете, Шиллера и древних: Геродота, Фукидида, Ксенофонта.
К этому плану Пушкин отнесся холодно.
«Альманах не надо издавать, — тогда же он сказал Веневитинову, — пусть Погодин издает в последний раз, а после станем издавать журнал».
Идея была соблазнительной, но от альманаха «любомудрам» отказаться не хотелось. 20 сентября, собравшись на совещание, они взапуски настаивали на издании «Гермеса».
Пушкин оставался равнодушен и говорил только о журнале. У Веневитинова и В. П. Титова стали появляться сомнения: не отнимет ли альманах у будущего журнала лучшие материалы[156].
И здесь нам необходимо сделать небольшое отступление, чтобы уяснить себе сущность спора.
Еще в южной ссылке, в 1824 году, Пушкин думал о своем журнале. Эта мысль возникала не у него одного: ее вынашивал и Вяземский, и тогда же они стали обсуждать ее в письмах. Журнал соединял разрозненные литературные силы, он влиял на общественное мнение, и пушкинский кружок обретал голос. Здесь были согласны все — но самое осуществление замысла казалось нереальным: «Мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднительны, нет единодушия», — писал Вяземскому Пушкин[157]. Это было действительно так — и все же Вяземский не оставлял любимой идеи, которая владела им еще с арзамасских времен. Он пишет Бестужеву в конце 1825 года: «Мне сказали было, что вы свой альманах обращаете в журнал, и я порадовался. Кто о чем, а я все брежу о хорошем журнале»[158]. Это было писано 18 ноября, а 30 ноября Пушкин предлагает Бестужеву поговорить с Вяземским о журнале: «он сам чувствует в нем необходимость — а дело было бы чудно-хорошо». В это время Вяземский — уже участник «Московского телеграфа», и Пушкин готов поддерживать новый журнал, которым, впрочем, не вполне удовлетворен. «Телеграф человек порядочный и честный, но враль и невежда». А в первой половине февраля 1826 года он пишет Катенину, сообщившему ему о замысле какого-то нового альманаха: «…знаешь ли что? Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в роде Edinburgh Review? Голос истинной критики необходим у нас…». И, наконец, к Вяземскому из Пскова 27 мая:
«Пора бы нам отослать и Булгарина, и Благонамеренного, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей богу, когда-нибудь примусь за журнал. Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала — он находка».
В сентябре — октябре 1826 года долгожданный замысел начинал становиться реальностью. И теперь самое слово «альманах» вызывало в Пушкине глухое раздражение.
Он писал Языкову 21 декабря: «Рады ли вы журналу? пора задушить альманахи — Дельвиг наш»[159].
Любопытен здесь самый ход мысли: «задушить альманахи» и тут же: «Дельвиг наш». Смертный приговор подписан и «Северным цветам», издателю же его уготовлено место в новом журнале, «своем» журнале, где соединятся, наконец, «порядочные люди», которые должны работать «вместе», а не «в одиночку».
Альманахи между тем продолжали существовать. В Москве Раич и Ознобишин готовили «Северную лиру». Альманах вышел к началу 1827 года. Он был хорош: в нем приняли участие Баратынский, Вяземский, ученики Раича, как молодой Тютчев, в конце 1825 года уехавший за границу, Андрей Николаевич Муравьев, Ознобишин; дал стихи одесский знакомец Пушкина Туманский; наконец, единым строем выступил весь кружок «любомудров», уже отделившийся от раичева сообщества, — Веневитинов, Погодин, В. Одоевский, Шевырев, Титов. Больше всего произведений, однако, напечатали здесь сами издатели — Раич и Ознобишин. Они выступали и за полной подписью, и за инициалом, и вовсе анонимно[160].
Пушкин стал набрасывать рецензию для «Московского вестника». «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах…»
Он похвалил Туманского, Баратынского, Вяземского, Андрея Муравьева. Затем шли иронические замечания. Убийственные насмешки достались на долю Раича.
Рецензия осталась ненапечатанной, — быть может, потому, что Вяземский в «Московском телеграфе» успел сказать многое из того, что намеревался говорить Пушкин[161].
Пушкин ничего не имел собственно против «Северной лиры», но его не удовлетворяло, что альманахи сделались представителями нашей словесности.
Когда в 1827 году Погодин вознамерится продолжить «Уранию», Пушкин напишет ему взволнованное и негодующее письмо. «Вы, издатель европейского журнала в азиатской Москве, Вы, честный литератор между лавочниками литературы, Вы!.. Нет, вы не захотите марать себе рук альманашной грязью»[162].
Альманах — дело коммерческое; журнал — дело литературное.
Дельвиг узнал об освобождении Пушкина одним из первых в Петербурге и ездил вместе с Левушкой оповещать общих знакомых.
Он рассказал о счастливой новости Козлову, Гнедичу, Анне Николаевне Вульф, Сленину и поспешил обрадовать письмом Прасковью Александровну Осипову. Обо всем этом он сообщил Пушкину, умоляя его не молчать и написать сейчас же родителям.
Среди всего этого радостного возбуждения он должен был, однако, помнить и о делах. Пушкин был в Москве, и Дельвиг просил его подумать о «Цветах» вместе с Вяземским и Баратынским[163]. Он рассчитывал, что друзья «навербуют» ему «хорошеньких пьесок», своих и чужих, и может быть даже получат страничку из «журнала» И. И. Дмитриева — его мемуаров, которые он изредка читал посетителям, но в печать не отдавал.
Дельвиг просил у Пушкина «стихи к Анне Петровне». Это был прощальный подарок Пушкина Керн — «Я помню чудное мгновенье…», вложенный в экземпляр первой главы «Онегина» в тот памятный день, когда они прощались в Михайловском июльским утром 1825 года[164]. Анна Петровна уже переехала в Петербург и жила вместе с отцом и сестрой; она постоянно бывала у Пушкиных, познакомилась с Дельвигом, и дружеская их приязнь крепла день ото дня. Она не удержалась, чтобы не показать Дельвигу стихи, и он теперь писал о них Пушкину.
Пушкин соглашается — а тем временем думает о «своем» журнале. Послание к Керн не годилось в журнал, — во всяком случае, в первый номер. Место ему было в дружеском приюте дельвиговского альманаха.
На зубок новорожденному «Московскому вестнику» Пушкин даст то, чего не будет ни у кого другого: отрывок из ожидаемого всеми «Бориса Годунова».
Юноши-«любомудры» слушают его в оцепенении, со слезами на глазах и блуждающей улыбкой. Им, и только им, расскажет он об утраченной сцене с Мариной Мнишек, прочтет песни о Стеньке Разине и неизвестное еще никому новое предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У лукоморья дуб зеленый…»[165].
Дельвигу же он отдает вещь старую, хотя и первоклассную: ту самую сцену из «Онегина» — разговор с няней, — которую он когда-то через Льва продал Бестужеву по пять рублей за строку. Издатели «Полярной звезды» успели набрать ее для «Звездочки», теперь лежавшей как ненужный хлам в кладовой Генерального штаба. К этой сцене он присоединяет письмо Татьяны, которое тогда не отдал Бестужеву. Дельвиг не будет обижен.
Но Пушкин не забудет и о том, что он получил «золото за золотые стихи» и, стало быть, обязан его вернуть. Он поручит Плетневу отыскать вдову Рылеева — Наталью Михайловну — и возвратить ей долг: пять рублей за строку, шестьсот рублей[166].
И еще третье стихотворение он подарит Дельвигу — «Роняет лес багряный свой убор», «19 октября», свой шедевр, написанный к лицейской годовщине 1825 года.
Воспоминания о Лицее должны принадлежать лицейским.
Когда писались эти стихи, он был в заточении, и лицейская дружба поддерживала его.
Поэта дом опальный, О Пущин мой, ты первый посетил; Ты усладил изгнанья день печальный…Теперь все изменилось: Пущин, Кюхельбекер в узах, он на свободе. Он оказался пророком — но не до конца. «Промчится год — и с вами снова я». В октябре двадцать шестого года он мог бы быть с Дельвигом, но двоих, воспетых им, не было на лицейском пиру. О них писал Дельвиг в своей «годовщине»: «за далеких, за родных…»
Увы, наш круг час от часу редеет; Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет…Стихи наполнялись новым смыслом. Они читались иначе, чем годом ранее. Отдавая их Дельвигу для печати, Пушкин не мог этого не знать.
И сам Дельвиг это знал как никто другой. Ведь он тоже поместил в альманахе старые стихи — «на приезд трех друзей», стихи о Кюхельбекере, о горькой разлуке и радости встречи.
Верьте: внятен им наш глас, Он проникнет твердый камень.Строчки из ненапечатанных дельвиговских стихов к 19 октября 1826 года становились девизом, лейтмотивом, паролем «союза поэтов» в глухие и темные времена. Буквально то же самое скажет Пушкин в послании в Сибирь, а пока напечатает у Дельвига апофеоз дружбы, услаждающей изгнание. И Кюхельбекер, и Пущин прочтут его.
Здесь не нужно ни объяснений, ни уговоров: все ясно без слов.
«За 19-е октября благодарю тебя с лицейскими скотами братцами вместе», — писал ему Дельвиг в январе 1827 года[167].
В «Северных цветах» зарождалась поэтическая тема, которая в ближайшие годы выльется в цикл «декабристских» стихов Пушкина.
Дельвиг просил Пушкина напомнить о «Северных цветах» Вяземскому и Баратынскому.
Он почти потерял с ними связь. Баратынский не писал ему со времени своей женитьбы. Он нашел, казалось, приют в мирном и спокойном семейном убежище, и друзья не в шутку опасались, что сонная Москва уже засасывает его.
Первое время по приезде Пушкина они виделись часто, и взаимное тяготение их вспыхнуло с новой силой. Они появлялись вместе, и восхищенные москвичи уступали им дорогу, поясняя шепотом, что высокий блондин — Баратынский, а курчавый брюнет — Пушкин. Их видели в салоне Зинаиды Волконской, в Благородном собрании; в доме Баратынского Пушкин читал «Бориса Годунова». Но тесная связь продержалась недолго: новый пушкинский круг был Баратынскому чужд, и взаимная холодность все более давала себя знать. «Любомудры» не любили его поэзии и встречали его самого с принужденной церемонностью. Он лучше чувствовал себя в доме Николая Полевого, у которого, случалось, проводил целые дни[168].
Зато с Вяземским Баратынский сближался все больше и больше. Еще в мае Вяземский писал Пушкину с одушевлением, что в новом знакомце его «основа плотная и прекрасная» и что «чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет»[169]. Этот энтузиазм не прошел у Вяземского и несколько месяцев спустя, когда Баратынский стал бывать у него запросто и вошел как свой человек в дружеский круг Вяземского: в дом Дениса Давыдова, еще прежде ему знакомого, к Ивану Ивановичу Дмитриеву, к которому, впрочем, относился с легкой, снисходительной иронией. Вяземский, конечно, привлекал его и в «Телеграф» — но постоянным сотрудником журнала Баратынский не сделался. Впрочем, он напечатал здесь несколько стихотворений, и в том числе две эпиграммы на Булгарина, своего давнего неприятеля, общего с Вяземским.
Круг литературных друзей должен был сомкнуться — но он не смыкался. «Мы все разбросаны», — писал Вяземский Тургеневу в июле 1826 года, совершенно так же, как Пушкин Вяземскому несколькими годами ранее, — «держимся только одною внутреннею верою, темными преданиями и каким-то чужестранством, чужеязычием в толпе, которая нас только что терпит…»[170] Да и как было объединяться в 1826 году?
Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно <…> Может быть, не Погодин, а я — буду хозяин нового журнала. Тогда, как ты хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в гузно»[171].
Вяземский отмалчивался, и Пушкин сожалел, что он остается «тверд и верен Телеграфу». Но он преувеличивал эту твердость. Вяземский соблюдал свои обязательства перед Полевым — и иначе поступать не мог, хотя легкие трения с издателем «Телеграфа» уже возникали у него в 1826 году, и он колебался[172]. В конце этого года он думал вместе с Баратынским об издании своего журнала, отличного и от «Московского вестника», и от «Московского телеграфа». Ни он, ни Баратынский не могли стать официально его издателями: подобно Пушкину, они были на подозрении у правительства и не получили бы разрешения. Они искали издателя нейтрального и благонамеренного — и нашли его в В. В. Измайлове.
Владимир Васильевич Измайлов принадлежал уходящему литературному поколению. В 1810-е годы имя его было хорошо известно; среди последователей Карамзина он был одним из самых примечательных, пока на сцену не выступил «Арзамас». Он писал стихи и «сентиментальные путешествия», знал хорошо французский, немецкий и даже английский язык, что было в те годы редкостью, и понимал по-латыни. Руссо был его кумиром, и в самой домашней жизни он старался следовать «Эмилю», что налагало на него некоторый отпечаток странности и, кажется, повредило его благополучию. В 1814 году он был издателем «Вестника Европы» — и приютил в нем стихи петербургских лицеистов, среди которых были Дельвиг и Пушкин; и в следующем же году дал им место в своем «Российском музеу-ме». Еще в 1818 году, когда начались споры об «Истории» Карамзина, он выступал в защиту учителя. В 1820 году он издал собрание своих сочинений и переводов — и тихо сошел со сцены; для него наступила приватная жизнь, старость и бедность. Ксенофонту Полевому он казался в конце 1820-х годов дряхлой развалиной: пришепетывающий старичок с отвисшей губой, старомодно сентиментальный, но всегда с долей высокомерия; впрочем, и Полевой не отказывал Измайлову в «честности и благонамеренности»[173].
Их был целый кружок, этих московских стариков, карамзинистов, доживавших литературный век. Они собирались у Дмитриева, у В. Л. Пушкина на вечера полулитературные, полудомашние; их связывали общие воспоминания, давнее знакомство или даже родство: В. В. Измайлов, постоянный и любимый собеседник Дмитриева, был в свойстве с Пушкиными. Они писали друг другу послания о домашних делах и стихотворные приглашения на обед. В этом кружке было и старшее поколение — князь П. И. Шаликов, Измайлов, и младшее, около сорока лет: М. Н. Макаров, Н. Д. Иванчин-Писарев, братья Глебовы, Александр и Дмитрий Петровичи. Они следили за литературными новинками: Дмитрий Глебов даже переводил Байрона, толкуя его в сентиментально-элегическом духе; Вяземского это раздражало, и он печатно советовал Глебову «не браться за Байрона»[174]. Они судили о литературе иной раз не без проницательности — но время ставило их вне литературных партий.
Именно поэтому Вяземский собирался издавать журнал вместе с В. В. Измайловым; самый выбор этого имени становился для него символическим. «Литератор честный, добросовестный и чистый», пусть заурядный, но ничем не запятнавший себя в век коммерческой словесности, он, казалось, мог бы возродить времена благородных литературных соревнований.
План был чистой иллюзией; журнал, конечно, не состоялся[175].
Измайлов издал альманах. Он собрал книжку за несколько месяцев, обратившись с просьбами к Пушкину, Баратынскому, к Оресту Сомову и Федору Глинке[176]. Все приглашенные откликнулись: век нынешний демонстрировал свое уважение веку минувшему. Книжка называлась «Литературный музеум» — и в самом деле стала таковым: запоздалый московский карамзинизм вспыхнул в ней едва ли не в последний раз. Николай Иванчин-Писарев поместил в ней «Речь в память историографу Российской империи» — цветок на могилу Карамзина, не слишком яркий, но пока чуть что не единственный. Был здесь и отрывок из письма самого Карамзина, и стихи Дмитриева, обращенные к Измайлову и посвященные памяти умершего друга. В. Л. Пушкин был одним из усердных вкладчиков, дал стихи и Дмитрий Глебов, и другие.
Пожалуй, менее прочих помогли Измайлову Вяземский и Баратынский.
Ни у Баратынского, ни у Вяземского не было свободных стихов: запасы их истощились — и от того пострадал Измайлов и «Северные цветы».
Вяземский прислал Дельвигу только одно стихотворение — «Нетленный цветок» — и несколько «выдержек из записной книжки»; Измайлову он тоже дал одно стихотворение и «выдержки».
От Баратынского Дельвиг получил перевод из Вольтера «Телема и Макар», «Песню» («Когда взойдет денница золотая») и маленькую эпиграмму («И ты поэт, и он поэт»). С двумя другими стихотворениями произошло недоразумение: они оказались напечатанными дважды и почти в одно и то же время.
Одно из этих стихотворений — посвящение А. А. Воейковой («Очарованье красоты…») Баратынский подарил В. В. Измайлову. Он чувствовал себя обязанным откликнуться на просьбу старого литератора, который просил у него отрывок из новой поэмы «Бал». «Бала» Баратынский дать не мог: поэма была не окончена и не отделана. Он предложил другое — стихи к А. Ф. Закревской: «Как много ты в немного дней…», но боялся, что их не пропустит цензура, как однажды уже случилось[177]. По-видимому, так и произошло: стихи эти в альманахе не появились, и, может быть, тогда же Баратынский заменил их стихами к Воейковой, забыв, что уже отдал их Дельвигу. Так это было или не так — но одно и то же стихотворение появилось в двух альманахах. И то же самое произошло с «Наядой», только что сделанным переводом из Шенье, который Вяземский сообщал А. Тургеневу и Жуковскому 6 января 1827 года[178]. Он вышел в «Северных цветах» и в «Северной лире».
Зато четвертое стихотворение Баратынского было приобретением важным. Это было послание «Богдановичу», в новой, переработанной редакции.
Эти самые стихи, как мы помним, читал Баратынский у А. И. Тургенева в июне 1824 года, когда шли споры о Жуковском и начиналась борьба с «коммерческой словесностью».
Сейчас споры были позади, а тема «железного века» для Баратынского не только не утеряла остроты, но занимала его все более.
Дельвиг, не вполне удовлетворенный в свое время посланием «К Богдановичу», печатает его — на расстоянии двух сотен страниц от сочинения Булгарина.
Сатирик и объект сатиры пока уживаются под одним переплетом. И Булгарин не примет послания Баратынского на свой счет.
Главные бои еще впереди — но начало уже положено.
В самом конце октября или начале ноября Дмитрий Веневитинов уехал на службу в Петербург.
Столица готовила ему сюрприз: сразу же по приезде он был вытребован в III отделение. Его держали двое или трое суток и допрашивали, выясняя, не связан ли он со злоумышленными обществами. Он отвечал резко. Недоразумение разъяснилось, но происшествие потрясло его.
В Петербурге его ждали старые знакомые из «любомудров» — Владимир Одоевский, А. И. Кошелев. Москвичи держались друг друга и постоянно виделись — чаще всего у Одоевских.
В первые же недели Веневитинов отправляется с визитом к Дельвигам — но не застает. Дельвиг наносит ответный визит — и тоже неудачно. Зато, встретившись, они сходятся необыкновенно быстро: за два месяца. Веневитинов теперь проводит у Дельвига целые вечера. «Мы с ним дружны, как сыны одной поэзии», — пишет он в Москву.
Его ласкают все члены дельвиговского семейства: Софья Михайловна, двоюродный брат Дельвига Андрей Иванович, тогда тринадцатилетний мальчик, Анна Петровна Керн, тоже почти член семьи, которую для краткости Дельвиг именовал «женой № 2». С Анной Петровной у Веневитинова установилась та «amitié amoureuse», которая могла бы перерасти в чувство, если бы не его платоническая и безнадежная страсть к оставшейся в Москве Зинаиде Волконской. Над романтическим влечением его к «молодым и умным дамам» у Дельвигов слегка подтрунивали.
Все это время он не оставляет мыслей о журнале. Он договаривается об участии с Дельвигом и Козловым. Он полон решимости «не щадить Булгарина и Воейкова», не требует от сотрудников гибкости и дипломатии: не нужно торопиться с полемикой, умный журнал сам себя поддержит, «главное отнять у Булгариных их влияние».
Это был пушкинский план. Литературная трибуна, объединение сил. Борьба с Булгариным еще не началась: в начале января 1827 года Веневитинов обедает вместе с ним и Гречем. Встречи, однако, только усиливают в нем неприязнь[179].
«Московский вестник» ждет помощи от Дельвига — но и Дельвигу нужно сотрудничество «любомудров».
В «Северных цветах на 1827 год» появляются стихи Веневитинова — «Песнь грека» и «Три розы».
В декабре 1826 года Дельвиг снова заболел. Он не выходил две недели и только под новый год почувствовал себя лучше, но не надолго. В январе он снова слег, и на этот раз лихорадка была так сильна, что Софья Михайловна перепугалась не на шутку[180].
«Северные цветы» были уже почти отпечатаны. То, что получал Дельвиг в январе, уже не попадало в книжку и оставлялось для следующего выпуска.
В начале января забеспокоился долго молчавший Языков. Он просил брата взять у В. М. Княжевича несколько стихотворений, посланных ранее, в том числе послание к А. А. Воейковой, и отдать их Дельвигу[181]. Стихи эти к Дельвигу, однако, не попали — и, может быть, из-за Воейкова, который усиленно требовал от Языкова стихов для «Славянина»; то же, что было посвящено Александре Андреевне, принадлежало ему по праву. В «Славянине» эти стихи и появились. Зато в руках Дельвига оказалось «Тригорское» — правда, на короткий срок. «Тригорское», поэтическое воспоминание о Пушкине и Осиповых, было получено Пушкиным в Москве в начале ноября, и поэт тогда же завладел им, чтобы напечатать в «Московском вестнике». Он сообщил об этом Языкову 21 декабря[182], в том самом письме, где делился с ним своей радостью по поводу грядущего уничтожения альманахов. Нужно сказать, что Языков не разделял этого энтузиазма к журналу, который вообще считал «делом непоэтическим»[183]. Альманахи, по его мнению, были более извинительны. Как бы то ни было, «Тригорское» в январе было в руках у Дельвига.
Мы знаем об этом потому, что 21 января 1827 года цензор П. И. Гаевский препроводил в цензурный комитет несколько стихотворений для «Северных цветов», вызвавших у него сомнения и потому представленных на усмотрение министра. Это были «Кинжал» Веневитинова, «Море» Вяземского, «Сон» Глинки и «Тригорское» «Н. Я….ва».
«Кинжал» был запрещен: в нем был изображен человек на грани самоубийства, произносящий к тому же «совершенно ложные мысли об аде». О «Сне» Глинки у нас уже шла речь: его держали месяц и также запретили 27 февраля по резолюции министра.
«Море» и «Тригорское» разрешили с какими-то «переменами»[184].
Из этих стихов только «Море» появится в следующей книжке «Цветов». «Тригорское» выйдет в «Московском вестнике» к некоторому неудовольствию Языкова. «Ей-богу, не знаю, что мне делать с Дельвигом, — писал он брату, — у меня теперь ровно ничего нет по части стихов моих нового. Напишу эпистолу к Свербееву, но она, вероятно, поспеет уже после выхода в свет Сев<ерных> Цв<етов>, долженствующих явиться в текущем месяце»[185].
Но «Северные цветы» не явились ни в феврале, ни даже в марте — и причиной тому были стихи Пушкина.
С тех пор, как император взял на себя функции пушкинского цензора, к нему следовало отправлять все, написанное Пушкиным, до последней строчки. Осенью 1826 года Пушкин не вполне ясно представлял себе свое новое положение и готов был находить в нем даже некоторые для себя привилегии. Он спокойно читал в Москве «Бориса Годунова» и раздавал стихи в альманахи и будущий «Московский вестник», когда в конце ноября получил от Бенкендорфа холодное и строгое напоминание о неуклонном исполнении высочайшего приказа. Его следовало понимать буквально: без санкции августейшего цензора не могло быть и речи не только о напечатании, но даже о чтении новых произведений.
Вследствие этого распоряжения Пушкин должен был остановить в цензуре все, что им было отдано в печать, в том числе и стихи, посланные Дельвигу[186].
Дельвиг должен был везти их Бенкендорфу, но болезнь удерживала его дома, и только 23 февраля он отправил шефу жандармов пакет — отрывки из «Онегина», «19 октября», послание к Керн и «Цыган» — для отдельного издания. Он извинялся, что не мог доставить их лично и передавал «убедительнейшую просьбу» Пушкина рассмотреть их скорее. Бенкендорф ответил 4 марта, выразив свое крайнее удивление посредничеством Дельвига. К нему обращались в обход всех правил субординации, почти как к частному лицу. Дельвига же он «вовсе не имел чести знать» и сделал новый выговор, уже обоим сочинителям. Самые же стихи он разрешил, — уведомляя при том, что представлял оные государю императору.
«Позвольте мне одно только примечание, — так заключал он свое письмо к Пушкину. — Заглавные буквы друзей в пиесе 19 октября не могут ли подать повода к неблагоприятным для вас собственно заключениям? — это предоставляю вашему рассуждению»[187].
Письмо Бенкендорфа было отправлено не в Москву, а в Псков, и не сразу нашло Пушкина, а тем временем Дельвиг представил стихи в обычную цензуру.
Здесь начинался парадокс. Пушкин, казалось, был освобожден от цензуры министерства народного просвещения, но издатель альманаха должен был следовать установленному порядку. Александра Сергеевича Пушкина цензуровал государь император; автора стихов в альманахе сочинителя Пушкина — цензор альманаха, назначенный Петербургским цензурным комитетом. Привилегией Пушкина было цензуроваться дважды.
Дельвиг передал стихи цензору альманаха П. И. Гаевскому, который затруднился их пропустить. Он указывал, что поэт «употребляет некоторые выражения, которые напоминают об известных обстоятельствах его жизни», как-то
Поэта дом опальный, О П — мой, ты первый посетил; Ты усладил изгнанья день печальный…И далее, в том же духе: «Когда постиг меня судьбины гнев», «опальный затворник», «в глуши, во мраке заточенья»…
Дело было не только в «заглавных буквах друзей», как выражался Бенкендорф.
12 марта Главный цензурный комитет отправил эти стихи на усмотрение министра народного просвещения.
18 марта министр разрешил их: они прошли высочайшую цензуру, и ответственность с него и с цензоров, таким образом, снималась[188].
22 марта Пушкин получил, наконец, письмо Бенкендорфа и уверил шефа жандармов, что немедля напишет Дельвигу об исключении заглавных букв имен — и вообще всего, что может подать повод к «невыгодным»[189] для него заключениям.
Он успел сделать это в самый последний момент: альманах уже переплетался и 25–28 марта вышел в свет. Инициалы друзей были убраны. Самые же стихи Пушкина заключали книжку: их набирали последними. Дельвиг мог бы пожертвовать чем угодно — только не ими.
Глава IV Пушкинский альманах
К марту 1827 года выяснилось, что журнальные отношения Пушкина вовсе не безоблачны.
Издатели «Московского вестника» были, конечно, людьми порядочными, учеными и способными, — даже талантливыми, но для журнала всего этого было недостаточно. «Московский вестник» был глубокомыслен и сух.
Презирая «коммерческую журналистику», издатели в то же время ревниво следили, как раскупается журнал, потому что состояние редакционной кассы их не могло не волновать. У них начались денежные осложнения — и прежде всего с Пушкиным.
Пушкин не хотел «работать исключительно журналу» и не хотел входить в пай — он рассматривал себя как сотрудника, а не соиздателя.
Отсюда происходили трения и взаимные неудовольствия; на них накладывались трения и неудовольствия среди самих издателей но венцом всего являлось растущее сознание, что для разногласий есть и более глубокие причины. В самых основах своего литературного воспитания, связей и взглядов Пушкин и «любомудры» оказывались различны и кое в чем даже враждебны.
Воспитанные на Шеллинге, на немецких историках и философах-романтиках, они склонны были видеть где-то в глубинах пушкинской личности человека чуждого им восемнадцатого века, с его «классическими», «французскими» предрассудками; в гармонической его поэзии, которой они так безотчетно восхищались поначалу, они усматривали недостаточную «философичность». Слишком легко, слишком изящно, а потому неглубоко. Они предпочли бы более сложный, трудный и дисгармоничный язык метафизической поэзии. Их раздражал вольтерьянский скептицизм Пушкина к религии и философии.
Они избегают споров, но в глубине души уверены, что он говорит «нелепость».
Они, конечно, отдают Пушкину должное, они принимают его — но выборочно. Но ведь Пушкин и читает им выборочно — историко-философского «Бориса Годунова», фольклорные «Песни о Стеньке Разине»…
Пушкин тоже отдает им должное, сознавая при этом, что за определенными пределами взаимное понимание оканчивается. Тогда он начинает цитировать для себя знаменитую басню Хемницера о школяре, начитавшемся метафизических бредней: школяр сидит в яме и отказывается от спасительной веревки, покуда не получил для нее философских дефиниций.
«Моск. <овский> Вестн.<ик> сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»[190].
И — что для нас очень важно — издателям «Московского вестника» органически чужд весь пушкинский круг 1820-х годов. Они холодно относятся к поэзии Дельвига и откровенно не приемлют Вяземского и Баратынского.
Все это для них — поэзия прошлого, доживающая свой век.
Если бы Дмитрий Веневитинов провел больше времени в общении с кружком Дельвига, он, может быть, успел бы сблизить с ним своих московских друзей и если не преодолеть, то смягчить разногласия.
Но дни юного поэта уже были сочтены. Случайная простуда, пустяк, которому не придавали значения, уложила его в постель на неделю. 15 марта он скончался на руках Алексея Хомякова. Рассказывали, что в предсмертном бреду он звал Дельвига.
В Москве в беспредельном отчаянии рыдали Погодин, Соболевский, Владимир Титов.
В доме Дельвигов было горе.
Хомяков подарил Анне Петровне Керн посмертный портрет Веневитинова. Анна Петровна сделала для него черный альбом. Дельвиг вписал туда свою эпитафию покойному другу: антологическую надпись, где короткий век юноши сравнивал с мгновенной жизнью розы; подобно благоуханному цветку, он не успел испытать горечи жизненных невзгод. Эти стихи появятся в «Северных цветах»[191].
Петербург пустел.
В феврале уехал на Кавказ Лев Пушкин[192].
В марте скончался Веневитинов.
Гнедич все был болен грудью; боялись чахотки. Он почти не выходил из комнаты.
Дельвиг тяжело проболел весь январь, и семья готовилась к отъезду в Ревель на купанья.
Лишь одно радостное событие случилось в эти мрачные месяцы. 24 мая в Петербурге неожиданно появился Пушкин — к неописуемому счастью Дельвига и своей семьи.
Пушкин провел с ними не более недели. 2 июня родители его уехали с Дельвигами в Ревель и ждали Пушкина туда, но он не явился. Он жил у Демута и предавался рассеянию; иногда играл. В Петербурге почти не оставалось домов, где он был бы своим, — разве Карамзины; он заезжает к ним по нескольку раз в неделю и читает «Годунова». Но и Карамзины уезжали; 19 июня Пушкин зашел к ним попрощаться.
У Карамзиных были люди для него новые или почти новые. Его познакомили с Константином Степановичем Сербиновичем, которого представили как цензора. Пушкин сказал, что не может жаловаться на цензуру.
Им предстоит познакомиться ближе несколько месяцев спустя, когда Сербинович станет цензором «Северных цветов». Сейчас он — просто домашний человек у Карамзиных, незаметный помощник покойного историографа в повседневных делах, ученых и домашних, умеренный и аккуратный, исправный и благоразумный. Он всегда выбирает золотую середину: воспитанник иезуитов, он пользуется покровительством гонителя их Александра Тургенева, был принят дома и у Карамзина, и у Шишкова, был дружен с Александром Одоевским — и работал усердно в Следственной комиссии[193].
Именно такие чиновники нужны были николаевскому царствованию. Впрочем, и «Северным цветам», как мы увидим далее, он принес некоторую пользу.
Люди новые, или почти новые, или все равно что новые — полузабытые старые, случайные знакомства. К нему приходят; его зовут на обеды. Пушкин не умеет отказывать.
Владимир Павлович Титов, переехавший на службу в Петербург, 18 июля жаловался редакторам «Московского вестника», что не может исполнять своей роли эмиссара, потому что не видит средств держать Пушкина в узде и нянчиться с ним не имеет охоты; тот целые дни проводит бог весть где и дома бывает только в девять часов утра. «У него часто бывает Сомов и т. п., — продолжал Титов свое письмо, — последний взял у него (как говорит для Сев.<ерных> Цв.<етов>) отрывок из „Онегина“ и из „Годунова“. Я желал бы знать от вас, много ли он вам оставил и что обещал?» Он собирался дождаться Дельвига, с которым уже познакомился, и воздействовать на Пушкина через него[194].
На письме Титова нам следует несколько задержаться.
Накануне отъезда Пушкина в руках у Погодина почти не было пушкинских стихов. Он хотел было напечатать «Черкешенку» («Нет, не черкешенка она»), но Пушкин решительно воспротивился: это был любовный мадригал, обращенный к Софье Федоровне Пушкиной, которой он увлекся в Москве. Скрепя сердце, он соглашался на печатание послания к Языкову, но с тем, чтобы не помещать ничего в двух следующих номерах[195]. Правда, в десятом номере Погодин напечатал только что написанное мадригальное послание Пушкина к Зинаиде Волконской[196], но в двух следующих действительно ничего не было. Для тринадцатого номера Пушкин уже в Петербурге передал Рожалину «Жениха» — но далее наступил опять перерыв[197].
Именно в это время он дает в «Северные цветы» ни много ни мало — отрывки из «Онегина» и «Годунова». Титов не мог знать, что еще до отъезда Дельвига Пушкин обещал ему и третью пьесу, написанную еще в 1826 году на смерть Амалии Ризнич, — «Под небом голубым страны своей родной…»[198].
Беспокойство Титова было поэтому вполне оправдано: Пушкин явно охладевал к журналу, и тому были веские и вполне материальные доказательства.
И самое его постоянное общение с Сомовым было свидетельством этого совершавшегося обращения.
«Сомов, быв в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его — так долго жившего в сообществе шпионов-литераторов, — в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу; вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.
<…> Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове; он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова; только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию»[199].
Так рассказывал двоюродный брат Дельвига, Андрей Иванович, в своих мемуарах.
Он вспоминал также, что увидел Сомова зимой 1827–1828 года, по возвращении Дельвига, когда новый сотрудник альманаха стал постоянно ездить в дом. Но сближение произошло раньше. Дельвиг сам обратился к Сомову с предложением соединиться с ним «de coeur, d’âme et de travail», — сердцем, душой и трудами, — как шутливо сообщал Сомов в письме к Н. М. Языкову, — и произошло это, вероятнее всего, еще весной 1827 года. В это время Сомов замышлял свой собственный альманах; получив предложение Дельвига, он оставил этот замысел и принялся за «Северные цветы»[200]. В июле, как мы видели, он уже берет у Пушкина стихи.
Для Пушкина Сомов был «человеком А. Е. Измайлова», а потом «человеком Булгарина», и выступления его против Дельвига Пушкин отлично помнил. А. И. Дельвиг ошибался в одном: летом 1827 года ни Греч, ни Булгарин не имели репутации «шпионов-литераторов»; она появилась позже, в разгар ожесточенных полемик. «Дельцы-литераторы», «интриганы-литераторы», — быть может, но не более.
Ни в 1827, ни в 1828 году Пушкин и Дельвиг не прервут с Булгариным дипломатических отношений.
Но журнальные схватки уже назревают; они должны поколебать монополию «Северной пчелы». Газета самовольно вершит свой суд, раздает венки и упреки, ее эстетические вкусы, устаревшие, тривиальные, превратились в диктат. Сочинения Булгарина объявлены чуть что не эталоном литературы. Публика слушает «Пчелку» и верит. Прочие литераторы молчат, один Вяземский ратует со страниц «Телеграфа».
Этому должен прийти конец.
Уже в «Московском вестнике» ратоборцы собирают силы. «Критика должна быть беспощадной». Это лозунг покойного Веневитинова, Титова, Рожалина, Шевырева. Пушкин согласен с ними.
В июне, на обеде у Свиньина, он в присутствии Греча «открыто воевал против Булгарина», — «вероятно, по убеждению Вяземского», — догадывается Свиньин[201].
Еще в прошлых «Цветах» Вяземский печатал стихи «Семь пятниц на неделе», где задел «Флюгарина», «Фиглярина», журналиста с флюгерным пером. Теперь Баратынский выступил против журнальных приговоров, внушенных «торговой логикой».
Булгарин не принял всего этого на свой счет. Он избегает полемики. Он участвует в альманахе Дельвига. Он ищет сближения с Пушкиным.
Войны пока не будет.
Но литературная неприязнь растет, и отсветы ее ложатся на сотрудника Булгарина — Сомова.
«Сомов говорил мне о его (Булгарина. — В. В.) „Вечере у Карамзина“. Не печатай его в своих Цветах. Ей-богу неприлично. Конечно, вольно собаке и на владыку лаять, но пускай лает она на дворе, а не у тебя в комнатах. Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было б еще неприличнее».
Пушкин остерегает Дельвига: Булгарин, старинный неприятель Карамзина, печатавший на него критики при жизни, спешит теперь выступить с посмертными славословиями. «Неприлично».
Дельвиг сумеет уклониться: «Вечер у Карамзина в 1819 году» Булгарин напечатает у А. А. Ивановского в «Альбоме северных муз».
«Сомов говорил мне…» Разговор происходил в Петербурге, в июле 1827 года и касался «Северных цветов». Сомов принадлежит уже двум кружкам и двум изданиям: он служит у Булгарина и занимается дельви-говским альманахом. Дельвиг поручает новому сотруднику альманашные дела на время своего отъезда; Сомов делит теперь хлопоты с Плетневым.
Имя этого человека отныне станет неотделимо от истории «Северных цветов».
В конце июля Пушкин уехал в деревню. В первые же дни по приезде он посылает Дельвигу в письме обещанную элегию. Теперь у Дельвига было три произведения, и Пушкин обещал ему еще, может быть, «послание о черепе» его, Дельвига, пращура; череп этот был похищен Языковым в студенческие годы из старого рижского склепа, и Алексей Вульф держал в нем табак, а потом подарил Пушкину. Пушкин начал по этому поводу писать к Дельвигу послание, но не закончил.
Между тем его беспокоила судьба «Московского вестника», и он писал Дельвигу: «Я не могу его оставить на произвол судьбы и Погодина». Приходилось перераспределять стихи.
22 августа Бенкендорф возвратил Пушкину очередную партию стихотворений. Император дозволял напечатать «Ангела», «Стансы» и третью главу «Онегина»; из «Графа Нулина» было предложено исключить два «неблагопристойных» стиха и столько же — из «Новой сцены между Фаустом и Мефистофелем»; песни о Стеньке Разине запрещались вовсе. Плетнев поспешил сообщить об этом Пушкину. Он полагал, что все стихи — полученные и неполученные — предназначались Дельвигу, но Пушкин судил иначе: у него на руках был журнал[202].
Ожидая решения императора, Пушкин отослал Погодину отрывок из четвертой главы «Онегина», — вероятно, тот самый, который вначале был отдан Дельвигу, — и добавил к нему только что написанного «Поэта» («Пока не требует поэта…»), — стихи пошли в 20-й и 23-й номера журнала. «Фауста» Пушкин также берег для Погодина, равно как и другие стихи: «Стансы», песни о Разине. Из возвращенного Бенкендорфом запаса он отдал Дельвигу одного «Ангела».
Как раз в это время — в августе 1827 года — до него дошло известие о намерении Погодина издать альманах, и он обеспокоился. Тогда-то он и написал Погодину письмо об «альманашной грязи», которой нельзя марать рук, стращал его утратой репутации и обещал на будущий год участвовать в «Вестнике» «безусловно деятельно» и для того разорвать связи с альманашниками обеих столиц[203]. Вряд ли он, впрочем, верил всерьез, что выполнит это последнее обещание.
Пушкин вернулся в Петербург 16 октября. На пути из Пскова ему предстояла неожиданная встреча. На станции Залазы у Боровичей подъехали тройки с фельдъегерем: везли арестантов, — и Пушкин бросился в объятия бледного и худого человека с черной бородой. Жандармы их растащили, угрожали, ругали. Пушкин ничего не слышал. Он прощался с Кюхельбекером. Больше они не увиделись никогда.
17 октября в семье Дельвигов праздновали именины Андрея и пили за его здоровье из привезенного Пушкиным черепа одного из баронов Дельвигов. Пушкин читал законченное им послание, которое должно было пойти в альманах.
В тот же день — 17 октября — рукопись альманаха была представлена в цензуру. Наблюдал за ней Сомов — он и получил ее обратно «для доставления»[204].
Одобрение рукописи не означало, однако, что Дельвиг закончил дела с альманахом и цензурой. Напротив, ему предстояли самые хлопотные дни. Корпус альманаха был собран лишь в первом приближении; рукописи — и в их числе такие, от которых отказываться было бы грешно, — продолжали поступать, как всегда бывает, в последнюю минуту. Их отправляли к цензору дополнительно — и здесь-то вступали в дело личные связи. Издание, уже, казалось бы, подписанное и сброшенное с плеч долой, продолжало тяготеть над цензором почти до нового года.
27 октября по докладу цензора «Цветов» — уже знакомого нам К. С. Сербиновича — Петербургский цензурный комитет исключает из альманаха две «пьесы». Одна из них была «отрывком из дневных записок Русского офицера» Ф. Глинки и содержала «обозрение происхождения масонских лож». Ложи были строжайше запрещены еще в 1822 году; правительство уже тогда — и не без основания — видело в них рассадник вольномыслия и своего рода организационную репетицию тайных обществ; сам Глинка был активным деятелем ложи «Избранного Михаила», близкой к Союзу Благоденствия. Его исторический экскурс, конечно, возбуждал ассоциации нежелательные. Второй «пьесой» было «Сравнение Вольтера и Руссо» В. В. Измайлова; оно было исключено «за неумеренные отзывы, особенно в похвалу Руссо»[205].
Итак, старый поклонник Руссо также принял участие в альманахе. В «Северных цветах» появилась лишь его басня — перевод из Флориана; рассуждение же его оказалось не ко времени. Руссо был противником Вольтера, и еще лет двадцать назад можно было искать в нем противоядия против религиозного скептицизма вольтеровского толка — но сейчас не это было важно: на Руссо ретроспективно ложился отблеск Французской революции.
Альманах тем временем начинали печатать. Через два дня, 29 октября, Сомов отправляет к Сербиновичу дополнение к какой-то статье, чтобы по одобрении тут же отправить в типографию «для пополнения листа»[206]. Цензурование, печатание и даже составление книжки идет одновременно.
В ноябре до Пушкина доходит написанное Языковым послание к Арине Родионовне — доходит кружным путем, через П. А. Осипову. Пушкин отдает его Дельвигу и просит напечатать[207]. В редакции «Цветов» делают в первой строке необходимую поправку: Языков называл «Родионовну» «Васильевной». Автор послания не думал видеть свои стихи в печати; еще 20 ноября он, как обычно, беспокоился, что ничего не успеет послать Дельвигу, а по выходе книжки удивлялся, что напечатано его «пустословное послание к няне»[208]. Между тем послание и для Пушкина, и для Дельвига было важно: оно частично восполняло потерю «Тригорского». В нем были те же темы: поэтической дружбы — притом дружбы Пушкина и Языкова — и «поэтической обители», связанной с воспоминаниями о Тригор-ском. Уже в который раз Тригорское и его обитатели являлись у Пушкина и Дельвига в окружении поэтических ассоциаций: Пушкин посвятил П. А. Осиповой «Подражания корану», Дельвиг будет испрашивать ее согласия на посвящение сборника своих стихотворений; Пушкин адресует стихи Керн; Дельвиг печатает их в «Цветах» и вместе с ними — свое послание к А. Н. Вульф. Имя Языкова вплеталось в эту вязь; он как бы становился тоже членом интимного «союза поэтов», каким хотели его видеть и Пушкин, и Дельвиг. Другое дело, что сам Языков как-то сторонился этого литературного содружества: ни Пушкин, ни Дельвиг, кажется, не представляли себе этого ясно.
И Пушкин же отдает в «Северные цветы» стихотворение Василия Туманского, старого приятеля своего и Дельвига, уже несколько лет жившего в Одессе. Он получил от Туманского по почте стихотворный запас для «Московского вестника» и держал его при себе; в декабре он отослал его Погодину, оставив для «Северных цветов» только одно стихотворение, но зато едва ли не лучшее: «Прекрасным глазам» («Большие глаза, голубые глаза…»)[209].
Что касается его собственных стихов, то он опять вынужден их делить. Дельвиг просил оставить за «Северными цветами» «Стансы»[210], и Пушкин согласился. Во всяком случае, в протоколах Главного цензурного комитета за 18 ноября 1827 года была сделана запись:
«Статья VI. Цензор коллежский асессор Сербинович внес на общее суждение Главного цензурного комитета Стансы государю императору, сочинение А. Пушкина, принадлежащее к издаваемому бароном Дельвигом альманаху „Северные цветы“.
Определено: Хотя Комитет не находит в сих Стансах ничего противного правилам цензурным, но как они написаны государю императору, то по важности предмета представить об оных на разрешение его высокопревосходительства г. министра народного просвещения».
«Стансы» были разрешены царем еще в конце августа, и 23 ноября министр просвещения позволил их к печати. 25 ноября решение это стало известно цензору[211].
Итак, в конце ноября эти стихи еще принадлежали Дельвигу, в декабре же Пушкин посылает их Погодину вместе со стихами Туманского и отрывком из «Онегина», и они немедленно появляются в первой книжке «Московского вестника» за 1828 год. К этому времени Пушкин уже решился напечатать в «Цветах» полностью «Графа Нулина»; «Северная пчела» сообщила об этом еще 19 ноября.
И, наконец, Пушкин отдавал Дельвигу «Череп».
Прими сей череп, Д***, он Принадлежит тебе по праву…С этими стихами вышло некоторое осложнение.
«Стихотворения, назначенные к напечатанию в „Северных цветах“ на 1828 г., были в октябре уже просмотрены императором, — рассказывал А. И. Дельвиг, — и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение „Череп“, которое однако же непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске „Северных цветов“. Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением „Череп“ букву „Я“, сказав: „Никто не усомнится, что Я — Я“. Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что „Череп“ написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию обеспокоивать часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.»[212].
Это решение — обойтись без цензуры императора — явилось, вероятно, в последний момент: как и в предшествующей книжке, стихи Пушкина заканчивают альманах. Когда они набирались, все остальное было, конечно, уже напечатано. Однако еще ранее Пушкину пришлось заранее предусмотреть тактический ход, чтобы избежать надзора Николая, о чем у нас пойдет речь особо.
Пушкинские стихи были венцом поэтического отдела, и к книжке недаром был приложен портрет Пушкина — гравюра Уткина с оригинала Кипренского. Кипренский писал портрет по просьбе Дельвига и выставил его в Академии художеств в том же 1827 году. Дельвиг намеревался вначале открыть книжку портретом Карамзина, но потом изменил намерение. Он ставил альманах под эгиду пушкинского имени[213].
Однако и другие стихи, не пушкинские, как замечала потом критика, поддерживали прежнюю славу «Северных цветов» — и выбор был строже, чем в прежней книжке. Здесь почти не было случайных имен.
«Граф Нулин» начинал поэтический отдел; за ним следовало «Море» Вяземского и «Элегия» Батюшкова. Они стоят рядом, как будто и напечатанные сохраняют между собой таинственную внутреннюю связь[214]. Далее идет эпитафия Дельвига «На смерть В<еневитино>ва» — едва ли не лучшее стихотворение Дельвига в альманахе. Издатель «Цветов» поместил здесь еще «Застольную песню», «Ответ» на старое послание Плетнева, «Идиллию» («Некогда Титир и Зоя…») — критика находила ее весьма удачной, — три антологические эпиграммы и полушутливый пастиш «На смерть собачки Амики», написанный еще для покойной Софьи Дмитриевны Пономаревой в подражание знаменитой катулловой элегии, переведенной Востоковым. В стихах была прелесть непринужденной поэтической игры.
Баратынского был отрывок из «Бального вечера» и одно стихотворение, но весьма значительное. Это была «Последняя смерть».
Баратынский вступал в переломный период творчества. «Последняя смерть» была написана рукой «позднего Баратынского» — эта апокалиптическая философская медитация говорила о фатуме, тяготеющем над человечеством. Овладевая природой, человечество утрачивает с ней естественную связь — а это ведет к вырожденью, уничтожению. В стихах Баратынского начинался философско-романтический бунт против цивилизации — и вскоре поэт отойдет от кружка Дельвига в лагерь адептов «философской поэзии», к бывшим «любомудрам». Сейчас они еще этого не понимают: не только для них, но и, например, для Плетнева Баратынский еще «классик», «элегик», человек XVIII века.
От Плетнева — «Соловей» и «Безвестность»; последняя, как и в прошлой книжке, в антологическом роде. На этих антологических элегиях затухает его поэтическая деятельность.
Одно стихотворение Языкова, одно В. Туманского, одно — И. Козлова, но зато это «Вечерний звон».
Стихи достаются с трудом; они хороши, но их мало. От старших поэтов приношения случайны. Крылов представлен посланием к А. Н. Оленину; он написал его как посвящение на титульном листе нового издания «Басен» в 1826 году[215]. Дельвиг печатает и отрывок из старого послания Гнедича к Плетневу, написанного в 1824 году в ответ на плетневское послание и в свое время не напечатанного. Тяжело больной Гнедич писал из Одессы и жаловался на молчание друзей; друзья же в это время, пусть символически, но все же возвращали его в петербургскую литературу.
От Жуковского, только что вернувшегося из-за границы, нет ничего. От Дашкова.
Страницы 71–74 заняты циклом «Надписи к изображениям некоторых итальянских поэтов»: Данте, Петрарки, Ариосто, Тассо. Подписи под стихами нет, но торжественные, слегка архаизированные элегические дистихи, фонетическая передача имен, филологические примечания, кажется, выдают автора. Это почти наверное Дашков, еще в юности увлекавшийся Италией и писавший письма на языке Торквата своим русским соотечественникам[216].
За главными вкладчиками следуют рядовые — постоянные и несколько новых. «Две оды из Горация» — обычное приношение В. Вердеревского; басня «Цветок и терновник» — архангельского крестьянина Михаила Суханова, самоучки, баснописца не без дарования (благожелательная критика не забывала именовать его «земляком Ломоносова»); ориентальные стихи под звучным названием «Учан-Су» — Ефима Петровича Зайцевского, «рифмоплета Зайчевского», которого встретил в 1825 году в Херсонской губернии Василий Туманский и переслал от него стихи Бестужеву в «Звездочку»[217]. Он живет теперь в Одессе и общается с Туманским и А. А. Шишковым; с Дельвигом же и Сомовым познакомится позже, в 1830 году. Молодой поэт А. И. Подолинский; некто «М.» (не Максимович ли?), поместивший стихи «Пчела и мотылек»; чья-то острая и забавная «Характеристика»[218], анонимное «подражание Беранжеру» «Падающие звезды»; «Надежды», перевод с немецкого.
И неизменный Алексей Дамианович Илличевский, с россыпью мадригалов и эпиграмм; он издал свои «Антологические стихотворения» и может не беречь стихи. Среди девяти его «пьес» — три сонета: «Аккерманские степи», «Плавание», «Бахчисарайский дворец» — первые петербургские отзвуки новой поэтической славы. В Москве вышли по-польски «Сонеты» Адама Мицкевича; сам автор также в Москве; о нем пишут в «Телеграфе», и Вяземский переводит его в прозе. Илличевский решается переложить три «крымских сонета» в русские стихи — и опыт удачен.
Прежние арзамасцы, бывшие лицеисты, поэты уходящие, поэты начинающие. А что же «гражданские романтики» старой «ученой республики»? Есть ли они?
Федор Николаевич Глинка прислал из Петрозаводска два прозаических этюда и для стихотворного отдела — сцену «Переговоры в Белой Церкви (Черта из жизни Богдана Хмельницкого)»; сцена была написана вольным стихом и напоминала несостоявшийся драматический отрывок. Она сохраняла след литературных впечатлений: буквально за несколько дней до декабрьских событий Рылеев говорил с ним о своем замысле трагедии «Богдан Хмельницкий», для которой успел написать только одну сцену; обоих собеседников тема интересовала издавна[219]. Глинка прислал еще «Псалом LXII», который самым своим жанром принадлежал еще той, додекабрьской эпохе, и наряду с ним в «Цветах» поместились два библейских переложения Платона Ободовского и «Сетование» В. Н. Григорьева. Видимо, эти стихи О. Сомов привозил 30 ноября Сербиновичу из духовной цензуры. Он собирался отдать туда и «Сетование», но этого не потребовалось: Григорьев очень свободно перелагал 136-й псалом, давно уже вошедший в светскую литературу. Все эти стихи также напоминали об увлечениях «переложениями псалмов» в «ученой республике». Из них «Сетование» в 1827 году звучало конкретно и зловеще: полный трагизма плач пленников, переживших гибель родины, воспринимался как реквием по погибшей вольности. Было ли у Григорьева, испытавшего литературное и личное воздействие Рылеева, такое намерение или нет — мы не знаем. Второе его стихотворение — «Послание к Н. Ф-у», Николаю Илларионовичу Философову, товарищу его по Санктпетербургской губернской гимназии, не заключало в себе никаких политических намеков.
Все это люди, связанные друг с другом лично и литературно, и сходство жанров, мотивов, тем вряд ли случайно. Григорьев знал Глинку в вольном обществе и десятки лет помнил, как он читал свои псалмодические инвективы; с Ободовским Григорьев вместе учился в гимназии; теперь он посещает «любезного Дельвига», у которого встречает Пушкина и Илличевского[220].
В послании Гнедича Плетневу также жил еще дух «ученой республики». Гнедич писал о высоком назначении поэта, независимого от земной власти.
И, наконец, в «Северных цветах» были напечатаны стихи Рылеева — фрагмент из неосуществленной его поэмы, названный в альманахе «Партизаны»: короткое описание ночного бивака и «Партизанская песня». Подписи под отрывком, естественно, никакой не было, и об имени автора узнали только в 1870-х годах, когда автограф «Партизанской песни», без всякого заглавия, обнаружился среди булгаринских бумаг. Это были те самые бумаги, которые Рылеев передал Булгарину накануне своего ареста.
Рылеев замышлял произведение, быть может поэму, о войне 1812 года. На том же сохраненном Булгариным автографе записан маленький набросок о жертвенном пожаре Москвы, — конечно, для той же поэмы[221]. Больше до нас ничего не дошло.
Почти нет сомнений, что более полная рукопись, бывшая в руках Дельвига, также принадлежала «булгаринской части» рылеевского архива и отсюда попала к издателю «Северных цветов».
Опасаться Дельвига Булгарину не приходилось, и на риск шел не он, а Дельвиг. В «Партизанах» не было ничего противоцензурного, и об авторе их знал только узкий издательский круг.
При всем том это было сочинение государственного преступника, поставленного «вне разрядов», которое Дельвиг пустил в публику.
В 1827 году нечто подобное сделал один Андрей Андреевич Ивановский, некогда секретарь Следственной комиссии, ныне издатель «Альбома северных муз». Он выкрал рукописи Рылеева и Бестужева из следственных дел и напечатал кое-что в своем альманахе.
Он был убежден, что, сохраняя их наследие, оказывает немалую услугу словесности — и в том не ошибся.
Дельвиг, вероятно, был движим тем же убеждением. Он напечатал стихи казненного — недалек тот день, когда он станет систематически публиковать стихи каторжников.
Мир и дипломатия царили в республике словесности.
Осень 1827 и первые месяцы 1828 года — время, когда кружок Дельвига дружелюбно общается с издателями «Северной пчелы». Конечно, Сомов играл тут не последнюю роль.
В ноябре Пушкин и Дельвиг отправляются на званый обед к Булгарину. 26 ноября заехавший в Петербург И. А. Второв застает Пушкина и Булгарина у Дельвига. Они мирно беседуют; разговор на литературные темы достаточно откровенен. Второву запомнилось, что Пушкин резко отозвался об идиллии Гнедича «Рыбаки» — в прошлом выпуске «Северных цветов»[222].
Булгарин печатал в «Цветах» свое «Падение Вендена».
Вслед за ним в дельвиговский альманах приходят его литературные соратники — Греч и Осип Иванович Сенковский.
Еще в 1824 году, когда молодой Сенковский печатал в «Полярной звезде» своего «Витязя буланого коня», Пушкин с похвалой писал о нем Бестужеву: «Советую тебе держать за ворот этого Сенковского…» Прошло немногим более трех лет, когда Пушкину, наконец, привелось увидеть Сенковского на обеде у Булгарина — сейчас это был блестящий университетский профессор, ориенталист, уже получивший европейское имя, с того самого времени, как в середине 1827 года он опубликовал в «Северной пчеле» свое знаменитое «Письмо Тютюнджу-Оглу…». В это время он чаще всего, пожалуй, бывает у Булгарина: сюда влечет его и долголетнее литературное сотрудничество, и «голос крови» — непрервавшаяся связь с соотечественниками, которых Булгарин постоянно собирает вокруг себя. Дружба эта не безоблачна; они ссорятся и спорят постоянно — но они нужны друг другу, и так будет продолжаться до тех пор, пока Сенковский, «Барон Брамбеус», не станет издавать свой журнал. Но до этого должно пройти еще почти семь лет.
Сенковский помещает в «Северных цветах» повесть «Бедуинка», переведенную с арабского. Он продолжал цикл «восточных повестей», начатый им еще в «Полярной звезде». За четыре года он очень окреп как литератор, и старая арабская антология ал-Итлиди, на которую указал ему когда-то в Сирии его наставник Арыда и из которой он черпал свои сюжеты, перестала удовлетворять его; он уже почти не переводил, а пересказывал оригиналы, давая волю собственной фантазии. Так он поступал в «Бедуинке», так будет и в «Воре» в «Северных цветах на 1830 год»[223].
Что же касается Греча, то издатели «Цветов» обратились к нему сами и просили переделать для альманаха некрологию Карамзина, напечатанную им после смерти историографа в «Северной пчеле»[224]. Это была благопристойная официальная статья, обязательная дань памяти, благосклонно принятая И. И. Дмитриевым. Она была необходима тем более, что книжка альманаха открывалась портретом не Карамзина, а Пушкина.
С нею альманах вступал в область литературной и даже общественной борьбы.
«Право, мне совестно Вас утруждать ежедневными просьбами, милостивый государь Константин Степанович. Но что делать: volens-nolens, a принимаюсь за прежнее. Если вы имеете досуг просмотреть нынешним утром прилагаемые статьи или по крайней мере важнейшую из них: „О жизни и сочинениях Карамзина“, то покорнейше вас прошу сделать мне одолжение сие; ибо типография требует пищи. Здесь же маленькая статейка в прозе Ф. Н. Глинки и несколько стишков, короче утиного носа. Ожидаю благосклонного вашего внимания к моей просьбе, возврата статей (или хотя одной) с сим подателем и имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашим покорнейшим слугою Орест Сомов.
Ноября 25 дня, 1827»[225].
Допечатывались первые листы прозы. За статьей «о жизни Карамзина» в вышедшей книжке следует «картина с натуры» Ф. Глинки — «Восхождение солнца в бурное осеннее утро». Уже напечатаны были литературный обзор Сомова, повесть Булгарина, рассуждение Глинки «о классической и романтической поэзии» и «Бедуинка» Сенковского.
«О жизни и сочинениях Карамзина» — статья Греча говорила об идеальном верноподданном, чьи труды на благо России были отмечены чинами и орденом св. Анны, а затем и последней, «истинно царской наградой» — посмертной пенсией семье.
Это была одна из тех некрологий, которые читал Пушкин полутора годами ранее, сразу после смерти Карамзина, и называл их «холодными и низкими». Он читал и «бесился», и писал об этом Вяземскому. Вяземский соглашался с ним, но в тогдашних условиях оставалось только молчать.
Молчали Пушкин, Вяземский, Жуковский. Один Александр Тургенев написал письмо «О Карамзине и молчании о нем литературы нашей…» — и Вяземский поместил его в «Телеграфе».
Зато полным голосом говорила официальная печать, и голос ее уже слышался со страниц «Северных цветов».
А. И. Тургенев прочтет статью Греча за границей и напишет Жуковскому: «…что-то такое рабское и писателя недостойное. На счет истины делают фразы <…> и беспрестанно твердят о 3-м Влад<имире> и о том, что один он имел в чине ст<атского> сов<етника> анненскую ленту»[226].
Жуковский, знавший это, Жуковский, тайная пружина «истинно царской награды», уже был в Петербурге. Он приехал в конце октября[227], проведя за границей полтора года. Болезнь его отступила.
«Не печатай его в „Северных цветах“. Наше молчание о Карамзине и так неприлично, не Булгарину прерывать его…»
Все молчали, говорили Булгарин и Греч.
«Милостивый государь Константин Степанович! Вчерашний день я два раза был у вас, но не имел удовольствия найти вас дома, и потому решил оставить у вас статьи, мною привезенные: недоконченную мною повесть или отрывок „Гайдамак“, которой окончание непременно доставлю вам дня чрез два, и мысли разных лиц, без подписи, в коих с именем одни только стихи Пушкина. Стихи сии, равно как и самую сию статью, отдавал я г. Фон-Фоку, а он представлял их А. X. Бенкендорфу, для рассмотрения КЕМ все стихи Пушкина рассматриваются. А. X. Бенкендорф сказал, что для сих маленьких стишков не стоит утруждать г<осударя> И<мператора>, и что они могут быть пропущены с одобрения Цензуры. Итак теперь, с полною надеждою на ваше благорасположение и снисхождение обращаюсь к вам» и т. д., и т. п.
Если бы можно было все помянутые статьи или хотя мысли получить сегодня; ибо типография ожидает, а время сближается.[228].
Сомов извиняется, торопит, умоляет. Он приезжает 30 ноября дважды, на следующий день пишет письмо. «Мысли», привезенные им, — пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания». Они будут набраны вслед за уже отпечатанной статьей Глинки; за ними пойдет сомовский «Гайдамак».
Сербинович не знает, что «Мысли» — пушкинские, он полагает, что Пушкиным написан только незначащий отрывок «Не знаю где, но не у нас», под которым стоит подпись «А. Пушкин». Он записан отдельно; в каллиграфически переписанной рукописи «Мыслей» в нужном месте Сомов сделал помету: «сюда стихи».
«Стихи Пушкина» и «Мысли разных лиц, без подписи».
Так поняли дело и Фон-Фок, и Бенкендорф, почему и не стали отправлять к императору всю статью: если автор «мыслей» не Пушкин, то он не подлежит высочайшей цензуре.
Сомов знает автора: он слегка редактирует статью, и почерк Пушкина, хоть и каллиграфический, ему небезызвестен. Он знает и тот фрагмент «Мыслей», который печатать в «Цветах» нельзя: похвалу идиллиям Дельвига; ему ведомы закулисные редакционные секреты.
Он — уже «человек Дельвига», доверенное лицо во всем вплоть до рискованных маневров с цензурой.
В «Отрывках из мыслей…» — фрагмент из уничтоженных пушкинских записок о Карамзине — не Карамзине-верноподданном, но о Карамзине — писателе, ученом, «честном человеке» в глубоком общественном смысле. Это Карамзин — символ независимости социального поведения, проходящий равнодушно мимо критики, мимо почестей и чинов, мимо двора и суждений публики. Пушкин берет его под защиту; он напоминает о его критиках — «умном и пылком» «Н.» — Никите Муравьеве, о Михаиле Орлове; в доцензурном тексте он вспоминает и о себе самом. Он глухо упоминает об ограничениях, какие налагало на историка самодержавное государство.
Пушкин думает и о самом себе — нынешнем; силою обстоятельств он, Жуковский, Вяземский должны занять теперь пустующее место Карамзина.
«Предстатели за русскую грамоту у трона безграмотного», — говорил Вяземский.
За русскую грамоту, за русскую культуру, за русскую мысль. И за осужденных «братьев и товарищей».
Тени декабристов поднимаются со страниц альманаха Дельвига.
В прошлой книжке — Пущин, Кюхельбекер, лицейские. Теперь — Муравьев, Орлов, Рылеев. И Николай Тургенев, чье неназванное имя угадывалось посвященными в мятежных строчках «Моря» Вяземского.
Здесь нет пропаганды их деяния; она невозможна, самоубийственна, и сама история склонила чашу весов в пользу правительства. В «Отрывках…» Пушкин с неодобрением говорит о тайных обществах. Но жизнь этих людей, их судьба, их мысль уже неотделима от оставшихся — тех, кто составляет сейчас дельвиговский альманах.
Все было живо — живо до такой степени, что даже начатые за несколько лет споры требовали продолжения. Споры были не с людьми, а с идеями, которые оставались, переживая людей.
В 1825 году Пушкин защищал Жуковского от Бестужева, ссылаясь на историческое значение его творчества. Идея исторической преемственности, национальной культурной традиции, составляющей основу «просвещения», — вот что было важно для него теперь. Жуковский был частью этой традиции, так же, как Карамзин. Это следовало показать публике, внушив ей уважение к собственному прошлому, к «славе предков», — прежде чем допускать ее колебать треножник.
Его собственный путь, пушкинский, мог расходиться и с путем Жуковского, и с путем Карамзина — но так и должно быть; заслуги же того и другого тем не умалялись.
В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» Пушкин берет под защиту Карамзина — не те или другие идеи, не монархические пристрастия, но самого Карамзина как культурное явление, и возражает самым последовательным и серьезным его критикам, не удостаивая полемикой мелких журнальных забияк.
Он прерывал «неприличное молчание», говоря от имени своей литературной группы, и, вероятно, торопился напечатать «Отрывки из писем…», чтобы Греч не был единственным, кто сказал о Карамзине в «Северных цветах».
В «Отрывках» названо еще несколько имен: Жуковского, Вяземского, Баратынского — ныне живущих корифеев современной поэзии. Из них Баратынский особенно нуждался в поддержке. Долгожданный сборник его стихов вышел, наконец, в 1827 году — и можно было ожидать, что недружелюбная критика, уже открывшая войну против его элегий, не оставит его в покое. Тогда Пушкин начал статью о Баратынском, но не окончил; некоторые счастливые выражения и афоризмы он печатал теперь как «мысли и замечания»[229]. Лишь один набросок в печатном тексте содержит прямую характеристику Баратынского и выдает тем самым свое происхождение:
«Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».
«Отрывки из писем, мысли и замечания» спешно набираются 1–2 декабря. Вслед за тем Сомов привозит Сербиновичу окончание своего «Гайдамака», и набирают эту повесть.
После «Гайдамака», в конце отдела прозы, мы находим статью Плетнева «О стихотворениях Баратынского».
Пушкин не закончил статью; он вернется к ней тремя годами позже. Но статья о Баратынском настоятельно нужна, и Плетнев спешно пишет ее и приносит в самый последний миг, когда корректура первого отделения альманаха уже готова.
Может быть, потому, что статья его кончилась на лицевой стороне листа, к ней присовокупили особое известие о книгах — вновь выходящих и уже явившихся в свет.
В статье Плетнева были прямые переклички с Пушкиным. «Увлекаясь движениями сердца, — пишет он, — Баратынский не перестает мыслить и каждую свою мысль умеет согревать чувством». Итак, поэт мысли — и поэт строгого вкуса, добавляет Плетнев. Вслед за Пушкиным он берет под защиту элегиков. Но главной задачей Плетнева было отвести от Баратынского упрек в «безнравственности», который легко было предвидеть: когда-то им широко пользовались моралисты из «Благонамеренного». В «Северных цветах» печатался отрывок из его новой поэмы «Бальный вечер» (потом получившей название «Бал»); она готовилась к отдельному изданию, и в ней являлся чувственный образ «беззаконной кометы», испепеляемой страстью. Имея это в виду, Плетнев заготовляет цитаты из писателей «строгой нравственности» — M. H. Муравьева, Жуковского. От поэта требуется, повторяет он за Жуковским, чтобы он не противоречил морально-изящному, но моральная дидактика — не дело поэзии.
С этих позиций вскоре Пушкин будет оценивать «нравственно-сатирические» романы Булгарина.
«Северные цветы» на 1828 год, таким образом, включали критику — впервые после долгого перерыва. Подобно «Полярной звезде», они открылись литературным обозрением за год; автор его, О. М. Сомов, профессиональный критик, возрождал некоторые идеи бестужевских обзоров. Он ратовал за национальную литературу, за широкую читательскую аудиторию и метал стрелы в эпигонов, в том числе элегиков, с их неизменной «тоской по лучшем» и «томлениями жизни». Сам прозаик, он призывал разрабатывать язык оригинальной прозы.
Обо всем этом писал когда-то Бестужев, а за ним Булгарин — и Сомов разделял не только их общие суждения, но и частные оценки. Он с похвалой отозвался о «Сыне отечества» и «Северной пчеле» (где сотрудничал сам) и о сочинениях самого Булгарина — зато напал на старинного врага Воейкова, не забыв упомянуть о его достопамятных выкрадках из чужих сочинений. Все это было отзвуком старинных полемик, как и умеренные, впрочем, критические замечания в адрес «Московского телеграфа» и «Вестника Европы». Больше досталось «Дамскому журналу»; в князя Шаликова метила и анонимная эпиграмма «Русский романтик русскому классику», также принадлежавшая Сомову. Шаликов откликнулся эпиграммой; Сомов продолжил перестрелку и в следующей книжке поместил еще одну — злую и удачную: «Мнимому классику»[230]. Сомов был действительно романтик, хотя и умеренный: он с восторгом приветствовал Пушкина — «Цыган», «Братьев разбойников» и «Онегина», ничему не отдавая явного предпочтения; он поощрял и новейшие романтические поэмы — и в первую очередь «Дива и Пери» А. Подолинского. Вместе с тем он одним из немногих встретил с похвалой отрывок из «Андромахи» Катенина и его переводы; Катенину, не избалованному лестными отзывами, еще предстояло это оценить. Зато издатели «Московского вестника» имели все причины для недовольства: Сомов, правда, воздал должное «отлично хорошему» поэтическому отделу и глубокомысленным статьям по теории изящных искусств — но затем обрушился на Погодина, с которым у него были еще прежние счеты. Литературные вкусы и манера Погодина казались ему устарелыми, а ученость — школьной; обо всем этом он прямо писал в обозрении. Должно было ожидать полемики.
Критика благосклонно приветствовала «Северные цветы». И Полевой, и Булгарин считали, что альманах не имеет себе равных. Общий голос признавал «Гайдамака» Сомова лучшей прозаической статьей. О стихах мнения расходились; впрочем, все восторженно писали о Пушкине. Один Полевой, кажется, отдавал предпочтение «Последней смерти» Баратынского.
Критический же отдел возбудил страсти.
Первым выступил Булгарин и с неожиданным пафосом напал на статью своего «приятеля и сотрудника» О. Сомова. В двух номерах «Пчелы» он шумно опровергал «ложную мысль», что русская словесность уже стала в ряд европейских, — и был едва ли не прав; противник его, H. А. Полевой, поборник западного просвещения, также оспаривал в этом Сомова. Булгарину решительно не нравилось сомовское обозрение — и вероятно, более всего не нравилось то, что Сомов выступил с ним на страницах дельви-говского альманаха и тем как бы изменил «Пчеле». Он хвалил лишь те пассажи, где Сомов нападал на «элегиков», — это была и его, Булгарина, позиция. Он не упустил случая оспорить — очень корректно — слишком высокую оценку таланта Баратынского в статье Плетнева и вступил с ним в спор о дидактике. Конечно же, соглашался он, прямые уроки нравственности не обязательны в словесности, но истинно моральное сочинение должно изображать порок отталкивающим — взгляните на «Графа Нулина». Булгарин лавировал между противоречащими друг другу мнениями критиков. В то время как Сомов превозносил русскую словесность, Пушкин называл ее «забавной»: ее репутация в глазах иностранных путешественников зиждется на неизданной грамматике, ненапечатанном романе и неигранной комедии. Здесь Булгарин чувствовал легкий укол: Ансело, которого он принимал, сообщал о грамматике Греча, о «Горе от ума» и его, Булгарина, «Иване Выжигине». Булгарин спешил дать объяснения и галантно заключал их упоминанием о неизданном же «Борисе Годунове», которому предстоит прославить отечественную литературу.
Несогласия, возражения — но отнюдь не враждебность. Войны не будет.
Война открывается в иной части литературного мира. Шевырев все же грянул со страниц «Московского вестника» критическим обзором словесности и сказал о Булгарине все, что думал: упомянул о «безжизненности» его романов и об отсутствии у него своего воззрения на мир, которое он заменил «обветшалыми правилами» нравственной дидактики. Отныне в «Северной пчеле» из номера в номер будет доказываться, что Шевырев — самовлюбленный педант, не знающий даже правописания.
Шевырев писал и о «Северных цветах». Он осуждал названия отделов — «Проза», «Поэзия», как свидетельствующие о сбивчивости понятий: «поэзия» может быть и в прозе — итак, следовало делить альманах на «прозу и стихи». Он пренебрежительно третировал обозрение Сомова как пустое и лишенное общей идеи. Вообще альманах, по его мнению, хотя и хорош, но уступает прежним книжкам; лучшие стихи в нем наперечет: «Нулин», «Череп», «Отрывок из Бориса», «Море», «Ангел», «Отрывок из Бального вечера». «Последняя смерть» не ясна; это отрывок, не заключающий полного смысла. Вообще же «Г. Баратынский более мыслит в поэзии, нежели чувствует» — и даже более того: «его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства». Это — о вышедших «Стихотворениях» Баратынского, и здесь почти прямая полемика с Плетневым и Пушкиным: «никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах»[231].
«Северные цветы», введя критику на свои страницы, становились предметом полемики и вступали в нее сами. Но в их критическом лагере не было полного единства. Пушкин и Плетнев не сходились с Сомовым во многих мнениях — и противоречия были почти неизбежны: альманахом нельзя было управлять так, как журналом. Более того: с расширением состава участников ослаблялись внутренние связи внутри дельвиговского кружка — и первой причиной тому были недавние события, все смешавшие и перевернувшие. Кружку нужно было определять свою позицию в литературной борьбе.
В двадцатых числах января 1828 года Дельвиг покидает Петербург; у него назначение по службе в Украинско-Слободскую губернию, и он должен жить в Харькове вплоть до окончания всех дел. Вместе с ним едет Софья Михайловна.
У Софьи Михайловны — роман с Алексеем Вульфом, сыном П. А. Осиповой, приятелем Пушкина и Языкова. Вульф умен, красив и опытен в любовных делах. Отъезд разрушает его надежды, и он досадует.
Несколько дней Дельвиги остаются в Москве: повидаться с друзьями и расширить литературные связи. Дельвиг отправляется с визитом к И. И. Дмитриеву, затем к В. Л. Пушкину. Василий Львович пишет «романтическую поэму» — «Капитан Храбров», которую Баратынский шутя называет «совершенно балладическим произведением», а самого поэта — Громобоем, продавшим душу романтическому бесу[232]. В поэме действительно мелодраматический сюжет — но вместе с тем и легкая пародия на романтиков.
Баратынский и Вяземский сводят Дельвига с «низшей братией московской» — с Раичем, «благоухающим анисовою водкою» и похожим на «домового пииту», с Шевыревым. «Шевырев пел, вопиял и взывал, но не глаголил, — сообщал Дельвиг Пушкину, — гнев противу „Северной пчелы“ носил его на крилиях ветра…» Дельвиг иронизирует, но статьей Шевырева, как увидим далее, раздражен не на шутку.
30 января Соболевский устроил прием в честь гостя и пригласил людей разных партий — Погодина, Полевого, Максимовича и других; вечер был многолюдный. Погодин чувствовал здесь себя чужим и остался недоволен[233]. Взаимная холодность «Московского вестника» и «Северных цветов» нарастала.
Зато с Полевым Дельвиг несколько сблизился. В конторе «Московского телеграфа» продавались книги, и Полевой взял на комиссию «Северные цветы». Из Харькова и из-под Тулы Дельвиг будет писать ему дважды, прося о денежной ссуде[234], У Соболевского он впервые познакомился и с Максимовичем, издателем «Малороссийских песен», о котором Сомов подробно писал в «Северных цветах», — и они с час беседовали о народных русских песнях[235].
На этом вечере был и Мицкевич, только что с дорожной коляски, три дня назад выехавший из Петербурга, где пробыл немногим менее двух месяцев[236].
8 февраля уставшие и намерзшиеся путники, наконец, прибыли в Харьков.
В провинциальном городе не было ни души знакомых и было томительно скучно. Переписка была единственным спасением, но почта из Харькова ходила раз в неделю, и письма шли долго. Дельвиги жили петербургскими и московскими впечатлениями.
Софья Михайловна посылала А. Н. Карелиной «Северные цветы», обращала ее внимание на портрет «милого доброго Пушкина» и раскрывала анонимы: «Мысли в прозе — Пушкина, и пьеса под заглавием „Череп“, под которой он не пожелал поставить свое имя, — также его»[237].
Софья Михайловна еще обсуждала с подругой вышедшие «Цветы», Дельвиг уже думал о следующих. Ему предстояло определять свою позицию в начавшейся журнальной борьбе. Столичные журналы изредка доходили до Харькова, и к Дельвигу поступали сведения, хотя отрывочные и запоздалые. Как бы то ни было, в Харькове он окончательно уверился в том, что пути его и московских «любомудров» расходятся безнадежно.
«Как это ты, живучи в Москве, не приучил к повиновению мальчишек Шевыревых и им подобных? — упрекал он Баратынского. — Это стыдно. Докажи им, что статья о литературе 1827-го года совершенно школьническая, и какая! Даже Булгарин прав, говоря об ней. Не напоминаю уже, что писавши по-русски, надо знать по-русски; не худо сказать им, что с должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее, или он будет недальновиден. Скажи Шевыреву, что мы в нем видим талант в переводах с Шиллера, в свободе писать хорошие стихи, но ничуть не в вымыслах вдохновенных. Изысканность в подобиях, может быть, будет еще смешнее плаксивости Карамзинской и разуверений 1/4 века Жуковского. Скажи ему, что он смешон, укоряя меня в невежестве. Он еще азбуке не учился, когда я знал, что роман, повесть, Гесснерова идиллия, несмотря на форму, суть произведения поэзии.
Порядка же в „С<еверных> цвет<ах>“ не переменю — потому же, почему никто из славных поэтов не перемешивал вместе своих повестей, стихами и прозою писанных; почему большая часть немецких издателей альманахов не смешивает прозы со стихами, — и так далее. Суждение же его о твоей „Последней смерти“ воняет глупою посредственностию. Аминь»[238]
Мы не напрасно привели эту длинную выдержку: нам еще придется вспомнить о ней. Полемический ответ Дельвига в общих чертах почти сложился, и Баратынский, как это нередко бывало и раньше, становится первым поверенным. Он, конечно, не может учить «мальчишек Шевыревых»: они его не слушают и трактуют снисходительно-благожелательно.
Дельвиг ищет у Баратынского не управы, а единомыслия. «Союз поэтов», пусть разрозненный и рассеянный, жив для него, и следующую книжку «Цветов» он думает украсить портретом Баратынского. Итак, первый — Пушкин, Баратынский — второй. «Пишешь ты ко мне редко и ничего не говоришь о портрете твоем; готов ли он? Если готов, то похож ли? Если похож, то держи его до моего приезда». Осенью того же года Баратынский писал ему: «Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? Признаюсь, это было бы приятно моему самолюбию». Портрет был готов, но почему-то Дельвигу пришлось отказаться от своего замысла[239].
Литературное же кредо его, высказанное Баратынскому, вскоре будет сформулировано в «Северных цветах». В нем есть все — и эстетическая позиция, и литературная тактика. Дельвиг не спорит с тем, что век Карамзина и Жуковского отходит в прошлое, — но тем более они требуют исторической оценки. «…С должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее…»; рвущееся к литературным высотам новое поколение не может, не должно уничтожать литературную традицию: оно не заменит ее собой. Так писал Пушкин — в «Отрывках…». Там речь шла о других людях, но и отношением «Вестника» к современным писателям Пушкин не до конца удовлетворен; он выбрасывает из статьи В. Ф. Одоевского неуместно резкие суждения о Карамзине и Державине и упрекает Шевырева за непонимание творчества Баратынского. Он почти согласен с Дельвигом; «почти» — потому, что связан с «Вестником», не собирается порывать отношений и даже рад столь недипломатично начавшейся войне с булгаринской «Северной пчелой».
Впрочем, сам он, как и Дельвиг, сохраняет пока еще с Булгариным худой мир.
Дельвиг в Харькове, Пушкин в Петербурге.
8 Петербурге Вяземский, Грибоедов, Мицкевич. Идет жизнь — лихорадочная, беспорядочная, жизнь дневная и ночная — у Перовского, у Филимонова, у Жуковского… Жизнь без оглядки, все как будто торопятся, словно чувствуют, что видятся в последний раз. Грибоедов уже не вернется из Тегерана, Мицкевич больше не увидит России. Пушкину и Вяземскому нужно уехать — необходимо нужно, все равно куда: в Париж ли, в Лондон, в действующую армию. Их не отпускают. Пока же они заражают Крылова своим нетерпением: ехать в Европу; не шутка для парижан видеть четырех русских литераторов. Крылов в эти месяцы как будто сбросил десятки лет и врожденную флегму и проказничает с молодежью.
Пушкин читает «Годунова», читает главы из начатого романа об Ибрагиме — царском арапе. Мицкевич ночью у Пушкина импровизирует по-французски; Пушкин, Вяземский, Жуковский, сам импровизатор взволнованы до слез.
9 мая Пушкин участвует в морской прогулке; на пароходе Оленины и художник Доу, он возвращается на родину, в Англию. Доу набрасывает карандашом пушкинский портрет. В тот же день в пушкинской тетради появляется запись: «9 мая 1828. Море. Ол.<енина>. Дау» и в ближайшие дни — стихи: «То Daw, Esq»:
Рисуй Олениной черты…Оленина. Он видел ее девочкой, теперь вновь встретился с ней в доме ее родителей, втором доме Крылова. В стихах к Доу — первый проблеск зарождающегося чувства. Оно будет расти и крепнуть.
В Приютине у Олениных приемы и вечера. Грибоедов, Вяземский, Мицкевич, Пушкин.
Пушкин влюблен.
Пустое вы сердечным ты Она, обмолвясь, заменила…27 мая он едет в Приютино, чтобы увидеть Оленину и отдать ей только что законченное стихотворение «Ты и вы». «Она», чья обмолвка вызывает к жизни поэтическое признание в любви, — молоденькая девушка, Аннет Оленина, имя которой Пушкин пишет на черновиках «Полтавы»: «Annette Olenine Annette Pouchkine».
Он уже знает, что сделает предложение.
И, как всегда, накануне решительных перемен его охватывают сомнение и тревога. Итог прожитой жизни рисуется ему безрадостным, будущее неясным и зловещим, настоящее смутным и неустойчивым.
19 мая — «Воспоминание», 26-го — в день рождения — «Дар напрасный, дар случайный», в июне — «Предчувствие». Самые мрачные пушкинские стихи.
В стихотворении «Не пой, красавица, при мне» как будто совместились мотивы двух этих своеобразных «циклов»: любовных стихов к Олениной и «прощальных», типа «Воспоминания». Грибоедов привез с Кавказа мелодию народной песни; и когда ее услышал молодой Михаил Глинка, однокашник Левушки Пушкина и тоже посетитель Олениных, он обработал ее. Пушкин написал текст уже под мелодию. Это было в июне 1828 года[240].
Глинка играет у Олениных; приезжают Сергей Голицын, поэт и композитор, страстный меломан, приятель Глинки, по прозвищу Фирс; Крылов, Гнедич. Грибоедова нет больше — он уехал в Персию, откуда не вернется.
Грибоедова провожали 6 июня; на следующий день уехал Вяземский. Через неделю — 14 числа — уезжал еще один член мужской компании — Николай Дмитриевич Киселев, дерптский товарищ Языкова; он едет в Париж, третьим секретарем русского посольства, но по пути собирается в Дерпт и зовет с собою Пушкина; Пушкин отправляет с ним письмо к Языкову со стихотворным посланием: «К тебе сбирался я давно…»[241].
Июль, август.
Пушкин продолжает ездить к Олениным, а грозовые тучи уже сгущаются над его головой. До правительства только теперь дошла «Гавриилиада». Он вынужден объясняться с верховной властью и успокаивать семейство Олениных, где с ним говорят холодно и даже резко. Он — «вертопрах», без состояния, без положения в обществе; мало того, он — неблагонамеренный.
С родителями он почти что в разрыве, но любовь к дочери не исчезла.
Он стремится отвлечься, ухаживает слегка за Закревской; эта женщина, вскружившая голову Баратынскому, в Петербурге. У Олениных повторяют ее имя. Аннет записывает в свой дневник стихи о ней Баратынского: «Как много ты в немного дней Прожить, прочувствовать успела…»
Пушкин пишет о ней «Портрет» — стихи о «беззаконной комете» — и, кажется, «Наперсника».
В сентябре он зайдет к Олениной попрощаться: он собирается в деревню — «если у него хватит духу», добавляет он.
Тонкая элегическая грусть окрашивает его прощальные стихи к Олениной — «Город пышный, город бедный…»
Все эти стихи, перечисленные нами, все решительно, появятся в дельвиговском альманахе; «26 мая 1828» будет оставлено для следующей книжки.
И, вероятно, в эти же месяцы Пушкин становится невольным соавтором еще одного произведения, напечатанного в «Северных цветах».
Однажды, поздним вечером, он рассказывает у Карамзиных сказку о «влюбленном бесе». Эту новеллу он уже раз рассказывал — в 1825 году в Тригорском, собрав в кружок дамское общество; А. П. Керн вспоминала много лет спустя этот рассказ — «про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров». Романтическая гофманиада, давний его замысел, оставленный им, воскрес в его памяти теперь, когда он, случалось, проводил вечер у Карамзиных, и все семейство слушало его с охотой и удовольствием. На этом вечере присутствовал и В. П. Титов, оставивший на сей раз свой обычный сдержанный скептицизм; воротясь домой, он не мог заснуть всю ночь; его преследовали мастерские вымыслы с апокалиптическим числом 666, черти, играющие на души, рога, зачесанные под высокие парики. Он не успокоился, пока не записал новеллу, не отправился с тетрадью к Пушкину в Демут и не убедил его прослушать все от начала до конца. Пушкин сделал какие-то поправки и отдал все в полное его, Титова, распоряжение.
Эту повесть — «Уединенный домик на Васильевском» Титов отдаст Дельвигу по его возвращении[242].
«Северные цветы на 1828 год» расходились тем временем за пределами столиц. В марте П. А. Катенин, высланный за пять лет до того из Петербурга за вольнодумство и фрондерство и с тех пор живший в своем сельце Шаево Костромской губернии, находит книжку альманаха у своего двоюродного брата и обнаруживает упоминание о себе. Отзыв был благожелателен, но содержал и упреки стихам в «Андромахе», и Катенин дал волю своему раздражению.
Он уже потерял почти все свои литературные связи, и один Н. И. Бахтин вел с его ведома нескончаемую полемику в его защиту с петербургскими и московскими журналистами. Сам он был в Петербурге в последний раз в 1827 году, виделся с Каратыгиными и с Пушкиным и тогда же начал писать большое стихотворение «Старая быль», о котором рассказал Бахтину и еще кое-кому из литературных знакомцев, — например, брату Языкова Александру Михайловичу[243]. Со второй половины года он снова засел у себя в деревне и демонстрировал презрение к современной словесности; за отзывами о себе следил, однако, внимательно и «Старую быль» продолжал писать. Стихи вырастали на автобиографической основе и в них была «ar— rière pensée», — аллюзия, задняя мысль: за двумя певцами, греком и русским, вступившими в состязание при дворе князя Владимира, угадывались современные литераторы. Грек, в сладостном песнопении восславивший царя и двор, был едва ли не Пушкин, с его «Стансами», русский певец-воин, отказавшийся от своей песни, чтобы не участвовать в позорном прении, был сам Катенин. Блестящие стихи «Старой были» играли красками почти памфлетными, и Катенин приложил к ним комплиментарное посвящение Пушкину, где впрочем, задел слегка «молодых романтиков» и «прославленного, пренагражденного» историографа Карамзина. Смысл «Старой были» тем самым как будто смягчался или даже изменялся, и Катенин, хотя не без колебаний, собирался послать ее самому Пушкину[244]. Он так и сделал; не зная адреса, он отправил письмо Погодину в Москву, с просьбой доставить по назначению, и Погодин тогда же переслал все в Петербург.
В мае в руках Пушкина находились уже и «Старая быль» и «Посвящение», и письмо Катенина, где он хвалил и «Онегина», и «Нулина», и портрет, приложенный к «Северным цветам», и предоставлял «множество» своих стихов в полное распоряжение Пушкина с правом печатать их где и когда угодно, так как он сам, Катенин, ни с какими «журналистами и аль-манахистами» знакомства не водит. Этим правом Пушкин воспользовался буквально и пока что держал стихи у себя и не отвечал ничего. Катенин рассчитывал на немедленный ответ и его невероятная мнительность еще увеличивала муки ожидания.
Пушкин, однако, удерживал у себя стихи с намерением отдать их Дельвигу, — во всяком случае, он не послал их в «Московский вестник», как мог бы сделать. Привлечь Катенина к сотрудничеству было, как мы помним, давним его желанием, — но здесь был случай особый: требовался ответ, столь же комплиментарный и дипломатичный, но с недвусмысленным возражением, понятным Катенину. Площадкой для этой скрытой полемики мог быть только «свой» орган. Поэтому он отвечал через А. М. Каратыгину, что очень виноват, что летом ничего писать не мог, «стихи не даются», а прозой отвечать на послание Катенина нельзя, «но завтра, завтра все будет». Катенин ждал, досадовал и раздражался и начинал подозревать «Сашиньку» «в некоторого рода плутне», о чем не замедлил сообщить Бахтину[245].
Тем временем к Пушкину продолжали стекаться чужие стихи. Вероятно, в июле или августе он получает письмо от Кюхельбекера.
Когда десять месяцев назад произошла их драматическая встреча на глухой станции, Кюхельбекера перевозили в арестантские роты Динабургской крепости. С тех пор он оставался в Динабурге. Ему было разрешено писать — только к родным; но он сумел нарушить запрет и писал к Бегичеву и Грибоедову. 10 июля он отправил письмо «любезным братьям поэтам Александрам» — Пушкину и Грибоедову, — не зная, что последнего уже месяц нет в Петербурге. Вместе с письмом он посылал несколько «безделок», сочиненных им в шлиссельбургском заточении[246].
Нет сомнения, что это были стихи «Ночь», «Луна» и «Смерть», связанные между собою единой темой тюремного одиночества и тюремных воспоминаний.
В этих стихах даже и «arri è re pens é e» нет: это лирический дневник узника. Если решаться их печатать — а это немалый риск для издателя — то это можно сделать только в «Северных цветах».
И еще одно стихотворение Пушкин получает в эти месяцы — от Вяземского; со времени своего отъезда князь успел побывать в пензенских имениях и даже слегка увлечься провинциальной красавицей, молоденькой Пелагеей Николаевной Всеволожской; в письме от 26 июля он сообщал Пушкину только что написанный ее стихотворный портрет: «Простоволосая головка»[247].
Пушкин собирает стихи для Дельвига — свои и не свои; он все более охладевает к «Московскому вестнику». 1 июля он пишет Погодину письмо, где ободряет издателя и оправдывается в «неизвинительной лени». Он обещает осенью выслать «оброк сполна», — пока же посылать нечего.
К 1 июля готов уже весь цикл «оленинских» стихов, «Не пой, красавица, при мне», главы исторического романа…
15 сентября приехавший в Петербург Шевырев получает у Пушкина «главу из романа для альманаха». Итак, снова «для альманаха»… «Здесь сотрудники „Московского вестника“ решительно не верные, — пишет Шевырев в Москву. — Это узнал я по опыту»[248].
За весь 1829 год в погодинском журнале появилось восемь пушкинских стихотворений, причем одно из них — «Утопленник» — предназначалось, кажется, тоже для «Северных цветов». Во всяком случае, так думал Вяземский. Перед отъездом Шевырева за границу Пушкин подарил ему «Утопленника», перевод из «Конрада Валленрода» и несколько других стихотворений и советовал издать в особом альманахе — но Шевырев передал их Погодину[249]. Если бы он поступил по пушкинскому совету, «Московский вестник» располагал бы только тремя или четырьмя стихотворениями Пушкина.
В «Северных цветах на 1829 год» появилось семнадцать пушкинских произведений и два — в «Подснежнике» того же 1829 года.
Дельвиг предполагал остаться в Харькове до 10 июля, но судьба судила иначе. 8 июля скончался его отец, и ему пришлось задержаться в тульском имении. Он писал к Пушкину, писал к Сомову, и Сомов от его имени обращался к Языкову с просьбой и на следующий год поддержать альманах и если будут стихи, то доставить их через Булгарина[250].
Во второй половине сентября Дельвиг приезжает в Москву[251]. Он останавливается в белокаменной уже второй раз в течение года, и на этот раз надолго — почти на две недели. Еще в июле, сидя в Харькове, он знал, что сделает это, и даже определил себе двухнедельный срок. За это время ему нужно было собрать литературную дань.
Он встречается с Вяземским и слушает его новые стихи, в том числе только что написанного «Русского бога». Вернувшись в Петербург, он будет цитировать в письме к Вяземскому строчку этого стихотворения. Оппозиционные настроения не исчезли у Вяземского; напротив, кажется, окрепли, превратившись в устойчивое отвращение к официальной России. Оно прорывалось даже в письмах, посланных по почте, — и, конечно, он не скрыл от Дельвига своих симпатий и особенно антипатий.
Вместе с Вяземским он вторично посещает Василия Львовича Пушкина и слушает главы из «Капитана Храброва», которые и берет для «Северных цветов». Он проводит время у Полевого с Вяземским и Баратынским и забавляется экстравагантностями Сергея Николаевича Глинки, всем известного чудака старой Москвы, когда-то «Шатобриана московского ополчения 1812 года», а ныне цензора «Московского телеграфа», памятного своей честностью и полудомашним отношением к своему цензорскому званию[252]. У Баратынского он берет «Бальный вечер», который намеревается издать отдельно, и «сказку» «Переселение душ» — для альманаха[253]. Помимо них, Баратынский дал еще «Смерть», пять «антологических стихотворений» (в их числе такие знаменитые впоследствии, как «Мой дар убог и голос мой не громок» и «Не подражай: своеобразен гений»), «Деревню», «Старика» и, по-видимому, «Фею» и «Уверение». Два последних стихотворения были обращены к А. Ф. Закревской, и Баратынский отдал их Дельвигу, вероятно, не для печати, а для приватного чтения[254].
Вяземский сообщал А. Тургеневу, что в «Северных цветах» будет «прекрасно рассказанная сказка Баратынского». «Будет много и моего», — добавлял он[255].
Между тем Дельвиг увозил от него не так уж много, самое большее пять стихотворений: три коротенькие эпиграммы, «Послание к А. А. Б. При посылке портрета» и лирическую миниатюру — перевод из Т. Мура «Когда мне светятся глаза, зерцало счастья…». Одно стихотворение — «Простоволосую головку» он, как мы помним, послал Пушкину в июле; накануне же приезда Дельвига он отослал Пушкину для «Северных цветов» послание другой своей новой провинциальной знакомой — «Стансы. (Анне Ивановне Готовцевой)».
Анна Ивановна Готовцева (впоследствии по мужу Корнилова) была молодой поэтессой, с которой Вяземский встретился во время своей летней поездки в Кострому. Она уже успела напечатать несколько стихотворений, в том числе в «Телеграфе» и в «Литературном музеуме» В. В. Измайлова; самые ранние из этих стихов были написаны в 1823 году. Вяземский познакомился с ней у Юрия Никитича Бартенева, масона, философа, покровителя молодых дарований, известного всей Костромской губернии и даже Москве своими чудачествами; о нем ходили анекдоты. Вяземский хорошо знал его и ценил за ум и образованность; Готовцева принадлежала к числу бартеневских протеже[256].
Когда «Северные цветы на 1828 год» достигли Костромы, Готовцева прочла в них пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания» и в них — рассуждение о женщинах. «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностию самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души… Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения редки». Этот психологический и эстетический этюд вызвал естественное сопротивление, и Готовцева написала стихотворный ответ, комплиментарный, но тем не менее полемический, в виде послания к Пушкину. Заметим, что авторство отрывка не осталось для нее секретом, — не Вяземский ли просветил ее?
В послании Вяземского к Готовцевой соединены две темы: женского очарования и поэзии. Стало быть, он отвечал Готовцевой; к стихам его, посланным Пушкину, Ю. Н. Бартенев сделал приписку. Об их ранних литературных взаимоотношениях мы знаем немного; сохранившееся в бумагах Вяземского письмо Готовцевой позволяет отчасти уловить тот тон доброжелательного покровительства с одной стороны и граничащей с робостью почтительности — с другой, какой установился в отношениях корреспондента и адресата.
«Я робею, не знаю, с чего начать и что сказать вам, — писала Готовцева Вяземскому, — все мысли мои начинаются и оканчиваются благодарностью, — но все, что я ни сказала бы, слишком слабо изобразит ее: она равняется чувству удивления моего к вам» (…) «Я не один раз читала sta, viator! оно воскресило в памяти счастливую эпоху моей жизни, немногие часы, проведенные вместе с вами у почтеннейшего Юрия Никитича, который действительно был благодетельным временем, доставившим мне счастие видеть, слышать вас и получить впоследствии столько незабвенных знаков воспоминания вашего: портрет, книги (из числа которых две имею честь препроводить к вам), „Северные цветы“, „Галатея“ и наконец стихи мои, удостоенные столь обязательного внимания, — все наполняет меня такою благодарностью, которая превышает выражение.
Я с благоговейным вниманием перечитываю письмо ваше и стараюсь запечатлеть в памяти драгоценные советы, в нем заключающиеся. Снисходительное внимание ваше ободряет меня к возобновлению некоторых занятий моих, которые совершенно прекратила продолжительная болезнь и разные sta, viator! в лучших надеждах моих и желаниях! Пользуясь позволением, столь обязательно вами мне данным, я повергну к стопам знаменитого духовника моего первый поэтический грех мой»[257].
Итак, провинциальные вояжи Вяземского, которые он в письме к Пушкину шутя сравнивал с гастрольными поездками спавших с голоса артистов, приносили литературные плоды. Его усилиями скромная костромская поэтесса была вызвана на страницы «Северных цветов» — и он же еще раз заставил ее имя прозвучать в русской литературе. Письмо, на которое отвечала Готовцева, письмо, содержащее литературные советы и наставления, нет сомнения, и было тем известным «письмом к А. И. Готовцевой», отрывок из которого Вяземский напечатал годом позже в альманахе «Денница» и которое заняло свое место в истории русской критики тридцатых годов.
Теперь же Вяземский отправлял ее стихи в дельвиговский альманах вместе со своими и просил «мадригала» от Пушкина, чтобы поместить стихи начинающей между двумя ободряющими посланиями известных поэтов. Забегая вперед, скажем, что так и произошло. В «Северных цветах» появились два послания Готовцевой к Пушкину и к Ю. Н. Бартеневу — оба 1828 года. После них она опубликовала, кажется, только четыре стихотворения и навсегда ушла из литературной жизни. От нее не осталось почти ничего, кроме небольшой тетради стихов, в том числе неизданных, — тетради, относящейся к 1851 году, да редких упоминаний о ней в биографии поэтессы Ю. В. Жадовской, которой она приходилась родной теткой.
Дельвиг слушает историю Готовцевой у Вяземского и, вероятно, увозит с собой ее стихи, — по крайней мере, стихи к Бартеневу.
7 октября, ввечеру, он возвращается в столицу.
Квартира Дельвигов — на Владимирской, в доме бывшем Кувшинникова, ныне Алферовского, в Московской части[258]. В том же доме в маленькой квартирке живет и А. П. Керн. Она помнила, как Пушкин, узнав о приезде Дельвига, приехал, перебежал через двор, обнимал его и целовал ему руки. Весь следующий день у него Вульф; он тоже обрадован и очарован приветливым добродушием барона; вместе они рассматривают привезенные стихи.
8 Петербурге — литературные новости; Пушкин пишет «Полтаву», пишет в упоении, по целым дням, ночью вскакивает с постели, чтобы впотьмах записать преследующие его строки. Он появляется у Дельвигов, у Керн, повторяя только что написанные и особенно запомнившиеся стихи:
И грянул бой, Полтавский бой…13 октября он читает Вульфу почти оконченную поэму, и 16 октября переписывает в беловую тетрадь третью песнь. Теперь он может дать себе отдых[259].
18 октября он заезжает к Дельвигам, чтобы поправить стихи, предназначенные для «Северных цветов»[260]. Следующий день — 19 октября, лицейская годовщина; прямо с вечера Пушкин уезжает в деревню.
В доме Дельвигов возобновляется литературная жизнь, и Вульф вносит свою лепту. Егор Аладьин, издатель «Невского альманаха», приносит ему письмо от Языкова: Языков прислал послание Вульфу[261] стихи для Аладьина. Вульф недоволен: Языков дает Аладьину слишком много. Оборотливый издатель просьбами и услугами сумел-таки заставить Языкова работать на себя. Языков сосватал ему и стихи Вронченко, дерптского своего знакомого, отдавшего в «Невский альманах» перевод из «Дзядов» Мицкевича и несколько переводов из Томаса Мура[262]. Этого Михаила Павловича Вронченко Вульф тоже знал по Дерпту и, вероятно, встретился с ним, когда тот ненадолго приехал в Петербург — в марте — апреле 1828 года. Из числа «ирландских мелодий» Мура, переведенных Вронченко, две появились в «Северных цветах».
Послание к Вульфу по случаю намерения его ехать на театр военных действий тоже будет в «Северных цветах». Наконец, 3 ноября приходит еще одно послание — на этот раз к самому Дельвигу.
Языков уплачивал Дельвигу свои поэтические долги.
В его послании был след литературной полемики. Николай Полевой задевал его в «Телеграфе»; поэзия вина и буйной юности казалась ему мелкой и однообразной. Языков отвечал в июне в другом послании к Вульфу — «Не называй меня поэтом…»; теперь он, подобно Баратынскому, поднимал голос против площадной толпы журнальных судей, этих крикунов торговой словесности, в защиту независимой и свободной поэзии. Теперь и он готов был пополнить ряды «союза поэтов», отправляя свое послание в его литературное средоточие — «Северные цветы».
Дельвиг читает вместе с Вульфом стихи Языкова — старые и новые; Вульф показывает ему и те, которых он не знал. Дельвиг не вполне доволен: стихи слабые, годятся только для эпиграфов. Вульф соглашается, хотя вообще к стихам друга пристрастен.
3 ноября они читают и другие пьесы, предназначенные для альманаха: Пушкина, Баратынского, Дельвига, Вронченко. Они уже прошли цензуру, альманах готовится к печати. Своего Дельвиг дает совсем мало: хор, написанный в Харькове, «русскую песню», «Сон» и «Романс» («Одинок месяц плыл…»). Он показывал Вульфу и «пастушескую идиллию», «Конец золотого века», но в книжке почему-то не поместил; может быть, приберегал для издания «Стихотворений». Идиллия Вульфу особенно нравилась, как, впрочем, и другим: Баратынский из Москвы спрашивал, не печатает ли ее Дельвиг в альманахе, и очень советовал это сделать[263].
Вульф упоминал еще об одном произведении для «Северных цветов», прочитанном им, вероятно, в это же время: о сцене из Шекспира, «признании в любви Ромео и Юлии, когда ночью, из саду, Ромео через окно разговаривает с Юлиею»; он считал эту сцену одной из лучших у Шекспира и вспоминал с удовольствием, как удачно передал Плетнев «простоту, невинность и силу чувств Юлии»[264]. Итак, Плетнев завершал переводами из Шекспира свой поэтический путь; сцена будет заключать поэтический отдел альманаха, и Плетнев не поставит под ней своего имени. Эпоха стихов для него оканчивалась.
Произведения, названные Вульфом, были в руках у Дельвига уже в первой половине ноября. 8 числа С. А. Соболевский, прогостивший у Дельвига неделю, проезжал за границу через Дерпт и рассказывал Языкову, что в «Северных цветах» будет множество стихов Пушкина и что Дельвиг сердится на него за «непроходимое молчание на Парнасе»[265]. Языков полагал, что Дельвиг, как всегда, выпустит книжку «к святой неделе» — к пасхе, но на этот раз издатель «Цветов» вознамерился, очевидно, успеть к новому году. В ноябре Пушкин присылает ему одно за другим два письма со стихами. Он написал в деревне «Ответ Катенину» — на послание, с ядовитыми комплиментами; с тонкой иронией он отказывался следовать по пути Катенина и уступал ему, затравленному литературными врагами, свое место на русском Парнасе. Кубок с волшебным поэтическим питьем, столь обязательно предложенный ему Катениным, он предлагал ему опорожнять в одиночку и пожинать «с похмелья» лавры Тасса и Корнеля.
Героическая фигура, сведенная с пьедестала, обнаруживала почти жалкую манию величия — но жало убийственных сарказмов было увито лавровым венком.
Пушкин прислал и ответ Готовцевой — с холодными комплиментами. Он решительно не мог понять, чего хочет от него незнакомая ему поэтическая девица и в чем она его упрекает, — но выполнял просьбу Вяземского и соблюдал ритуал посвящения таланта в столичные литераторы[266].
Кажется, Пушкин представил свой поэтический оброк полностью. Теперь Дельвигу оставалось договориться окончательно с Баратынским. Ему очень не хотелось лишаться стихов к Закревской, и он просил Баратынского разрешения напечатать их хотя бы анонимно. Баратынский не соглашался: он читал их в Москве, и снятие имени еще увеличивало двусмысленность его положения. Он настойчиво просил исключить две «известные пьесы» и обещал взамен новое стихотворение под названием «Бесенок». Скрепя сердце, Дельвиг должен был уступить, и Баратынский выполнил обещание. Он прислал стихи почти в последнюю минуту, когда книжка альманаха уже печаталась. Сомов привозит «Бесенка» цензору 18 декабря[267].
К концу ноября книжка альманаха сложилась почти полностью. Дельвиг мог быть доволен: с 1825 года у него не было такого разнообразия и изобилия. Он получил от Крылова три басни и маленькое стихотворение. Крылов был верен себе: он никому не давал новых басен и лишь для Дельвига делал исключение. Он готовил в это время новое издание, и из припасенных в нем новинок (21 басня) подарил Дельвигу четыре и одну в 1830 году отдал Полевому. Мелких же своих стихотворений он вообще предпочитал не печатать, но опять же Дельвиг сумел получить три из них.
«Бритвы», «Бедный богач», «Пушки и паруса» — три превосходные басни — появятся в «Северных цветах на 1829 год».
Жуковский опустошал для Дельвига свои закрома. Он почти ничего не писал после возвращения из-за границы; лекции наследнику поглощали все его время и силы. В сентябре он пишет Тургеневу, что переводит отрывки из «Илиады» по немецкому переводу Фосса. Еще восемнадцать лет назад он начинал так читать Гомера; теперь он вернулся к старому замыслу, чтобы попробовать свои силы в переложении[268].
Он отдает в «Северные цветы» балладу «Торжество победителей» — ею и начинался стихотворный отдел, — «Видение» («Блеском утра озаренный…») и несколько позже «Море» и отрывки из «Илиады». Относительно последних он не уверен — годятся ли?[269]
Дельвиг берет отрывки, хотя брать их рискованно: Гнедич может усмотреть в этом конкуренцию себе. Правда, отношения с Гнедичем дружеские — и у Дельвига, и у Жуковского — и «Илиада» его закончена; все в Петербурге об этом знают и ждут выхода книжки со дня на день. Но Гнедич, хотя и окреп на юге, все еще не вполне здоров, и его мнительность не уменьшилась. Правда, Жуковский специально оговаривает в печати, что его перевод — не с подлинника, что это лишь отдельные отрывки, связанные воедино его собственными стихами, и что их и нельзя и не должно сравнивать с переводом Гнедича, передающим самый дух подлинного Гомера, — все же положение щекотливо, пока гнедичева «Илиада» не явилась в свет.
Как и следовало ожидать, Гнедич не простил Дельвигу этой опрометчивости. Он получил от него книжку в самый день нового года и вернул ее столь поспешно, что Дельвиг не успел еще встать с постели. При этом он послал рассерженную записку, где горько укорял автора и издателя и отказывался даже видеться с ними, пока не будет напечатан его собственный перевод. Пушкин смеялся этой размолвке и сообщал Вяземскому, что Гнедич сердится, как откупщик на контрабанду[270].
Дельвиг достал и два неизданных сочинения покойного Веневитинова: отрывок из романа «Три эпохи любви» и «Завещание»; эти последние стихи появились у него около середины ноября: 18 ноября Сомов отсылал их цензуровать к Сербиновичу — и петербургский цензор пропустил их, ничего не меняя[271]. Московский был строже и две строки поправил, испугавшись слов «вольный дух». Это было в 1829 году, когда московские друзья готовили первую часть собрания сочинений Веневитинова; дельвиговская публикация, как и в случае с Крыловым, была преддверием книжки.
Цензурование в этом году идет, кажется, благополучно: новый цензурный устав, вступивший в силу 22 апреля, предписывает цензорам смотреть на явный смысл сочинений и не выискивать скрытых намеков. Купюра сделана, кажется, только в «Старой были», где идет речь о скопце-греке. Зато не ослабляет строгостей духовная цензура. Она задерживает «Видение Иоанна» Ротчева, и, что еще более важно, с оглядкой на нее Сербинович не пропускает двух строк Баратынского в стихах, посвященных Мицкевичу, где певец характеризуется строками священного писания. Это стихотворение особенно заботит Сомова: он убеждает цензора, что кощунства в нем нет, что высокий предмет требует высоких слов. Он докучает Сербиновичу 27 ноября, потом 6 декабря — пока, наконец, цензор не выносит стихи на заседание комитета и тот не соглашается их пропустить[272].
Отдел прозы уже почти собран: в нем обзор Сомова, Веневитинов, глава из исторического романа Пушкина, Булгарин. Пушкин и Булгарин рядом; соседство для Пушкина не совсем желательное — но дело в предмете. Булгарин дал исторический отрывок о Петре — «Петр Великий в морском походе к Выборгу». Далее — анонимная статья «О новоустроенной церкви при Обуховской градской больнице» — обязательная статья памяти только что скончавшейся вдовствующей императрицы Марии Федоровны (больница — ее филантропическое учреждение) и, наконец, какая-то статья П. П. Свиньина.
Тогда-то, в конце ноября 1828 года, Титов приносит Дельвигу «Уединенный домик на Васильевском».
Дельвиг доволен повестью; он требует немедленно ее напечатать. Места в альманахе уже нет — и он жертвует статьей Свиньина. Сомов возвращает автору статью с дипломатическим изъяснением причин; он жалуется, что вновь поступившая повесть оказалась «отменно длинной, длинной, длинной» и благодарит Свиньина, как и полагается, «за приятный подарок»[273].
Покровительство Дельвига, впрочем, не избавит Титова от чувствительных уколов самолюбию: критики нападут на его повесть, а Жуковский, не подозревавший об авторе, скажет Дельвигу в его присутствии: «охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахе такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима…»[274]
Уже альманах не вмещает желающих — но место для постоянных участников находится. К декабрю Дельвиг получает басню А. Е. Измайлова «Скупой и окулист»; бывший издатель «Благонамеренного» вице-губерна-торствовал в Архангельске и возвращался к литературной жизни. Подал голос из Тихвина и элегик Александр Крылов, казалось, уже вовсе умолкнувший; П. А. Плетнев, прежний его приятель, три года назад пытался вернуть его к поэзии. Крылов прислал два маленьких стихотворения — «К клену (Подражание Парни)» и «А. А. К-ой», — едва ли не последнее, что известно нам из его стихов: на него уже надвигалась смертельная болезнь[275].
Приходит отрывок из «Дон-Карлоса» Шиллера, переведенный П. Ободовским, 15-я ода Горация — «Прорицание Нерея» В. Вердеревского и, наконец, Вяземский: «Выдержки из записной книжки» и стихи. Все это печатается в конце поэтического отдела.
О. М. Сомов — К. С. Сербиновичу
Милостивый государь Константин Степанович!
Между несколькими стихотворениями К.<нязя> Вяземского, А. Е. Измайлова, Ободовского и прочих, препровождаю к вам снова Хор Барона Дельвига, к которому сочинитель приписал примечание. Не желая ничего печатать без вашего ведома, даже и самых мелочных примечаний, представляю на утверждение ваше и сие. Если можно, я пришлю к вам завтра — и что можно попрошу вас нам доставить. С совершенным почтением и преданностию имею честь быть ваш, Милостивого Государя, покорнейший слуга О. Сомов. 9 декабря.
Р. S. Присовокупляю еще прозу К.<нязя> Вяземского: если можно, благословите и ее к завтрему. Очень меня обяжете; ибо завтра кончается у меня печатанием последняя прозаическая статья[276].
Отдел прозы печатается; тем временем литературные события развиваются стремительно.
В ноябре 1828 года в «Московском вестнике» появляется критика на «Историю государства Российского». Автор ее, Н. С. Арцыбашев, некогда выступавший со своими историческими сочинениями и развивавший идеи скептической школы, жил в то время в Цивильске Казанской губернии и вот уже тридцать лет как составлял свод летописных источников. Прочитав в «Московском вестнике» небольшую статью Погодина, оспаривавшую Карамзина, он вспомнил свои старые выступления против историографа и вооружился; он нападал на исторические неточности, на методологию карамзинской «Истории» и даже на ее слог. В отношении слога он был архаиком, убежденным и безнадежным. Противника своего он собирался уничтожить полностью; не только «скептическая школа», по и давно сошедшие со сцены воители «Беседы» вступали в последнее сражение. Здесь говорила и разница исторических позиций, и личная неприязнь.
Для Погодина это был спор об истории; для сторонников Карамзина — спор об общекультурном значении труда Карамзина.
Поэтому Погодин помещает статьи Арцыбашева в журнале, навлекая на себя резкие нападки. В начале декабря взбешенный Вяземский откликается в «Телеграфе» памфлетом «Быль», где переводит спор в литературный и культурный план. Даже друзья Погодина понимают, что дело идет об этом и что выступление «Московского вестника» далеко перерастает рамки научных несогласий. В полемику с погодинским журналом втягивается почти вся московская и петербургская печать[277].
«Северные цветы» уже заявили о своем отношении к Карамзину отрывком из пушкинских записок. Когда развернулась полемика, литературный обзор Сомова, написанный в последних числах октября[278], был уже напечатан, и в нем не было ни слова о новом выступлении «Московского вестника». Лишь к середине декабря Дельвиг получает из Москвы антикритику.
Статью написал В. В. Измайлов, и Дмитриев, более других оскорбленный нападением на память его покойного друга, настойчиво просил ее поместить[279]. Впрочем, и сам Дельвиг должен был подтвердить раз занятую его альманахом позицию в отношении Карамзина.
Статья Измайлова «О новой журнальной критике» заключала отдел прозы.
В ней не было ни полемических выпадов, ни спора о частностях, хотя была сделана ссылка на памфлет Вяземского. Она была написана умеренно и благоразумно и по мере способностей автора развивала идеи, уже высказанные Пушкиным в прошлой книжке. «Писатели, способные быть органами мнения», говорят о Карамзине «с удивлением», замечал Измайлов и ссылался на пушкинский отрывок, — почти раскрывая аноним; он настаивал на том, что критика, будучи родом литературной диктатуры, не должна быть в руках людей, ничем еще не доказавших морального на нее права. Самую же «Историю» Карамзина он рассматривал как национальное культурное достояние, которое заслуживает не ниспровержения, но уважения.
Статья Измайлова, конечно, была выступлением адепта, — но она повторяла хорошие образцы. Самая же история ее показывала лишний раз, насколько непрочно и не мобильно положение альманаха, если он хочет быть «органом мнения» в противоборстве общественных и литературных групп.
У пушкинского кружка не было своего журнала — и им не мог стать альманах «Северные цветы».
В книжке на 1829 год «Северные цветы» достигли своего полного расцвета.
Шестнадцать первоклассных стихотворений Пушкина — «Воспоминание», «Предчувствие», любовный «цикл» Олениной; антологические стихи Баратынского, «Торжество победителей» и «Море» Жуковского, басни Крылова, «Старая быль» Катенина, «Завещание» Веневитинова, Кюхельбекер, Языков… В прозаическом отделе — главы «Арапа Петра Великого…».
Все это принадлежало к лучшим достижениям литературы своего времени и надолго пережило свою эпоху.
Как и в прошлом году, альманах открывался литературным обозрением Сомова. Сомов слегка упоминал о полемике, которую вызвал прошлый обзор, но сам в нее не вступал. Как и ранее, он настаивал на мысли, что в литературе наступает век прозы и особенно ополчался на подражательные стихи. Среди поэтических новинок он выделял три новые главы «Евгения Онегина», «Наталью Борисовну Долгорукую» Козлова и первую главу поэмы «Андрей, князь Переяславский». Знал ли Сомов, что эта поэма написана Александром Бестужевым, прежним его приятелем? Трудно сказать; во всяком случае он недвусмысленно возражал Н. А. Полевому, критически разобравшему ее в «Телеграфе». Он защищал первую главу от упреков в «несообразностях» и подчеркивал то, чем Бестужев дорожил, быть может, более всего, — «знание старинного русского быта». Бестужев заметил этот отзыв, но не очень поверил ему: счел за комплимент[280].
Среди прозаических сочинений внимание критика привлек «Двойник» Перовского и сочинения Булгарина. Отзыв о Булгарине был благосклонным, но сдержанным; Сомов хвалил ясность и точность его повествовательного слога, удачное изображение «странностей и пороков», и вместе с тем в его статье уже обозначался легкий абрис будущих критик. Неестественность «разговорного слога», искусственность персонажей, олицетворяющих «пороки», — все это упреки, которые последующая критика адресует булгаринским романам. Пока это только «Замечания» — но Булгарин уже раздражен. «О. М. Сомов хвалит сочинения Ф. Б., но таким образом, что при сем невольно приходит на мысль ежедневная молитва одного философа: „Господи! Защити меня от друзей моих, а с врагами я и сам кое-как управлюсь!“»[281].
Однако главным объектом нападения Сомова стал «Московский вестник».
Если мы сравним эту часть его статьи с процитированным нами выше письмом Дельвига к Баратынскому, мы легко заметим прямую перекличку. В критике «Московского вестника» Сомов видит самонадеянность и ничем не оправданную заносчивость. Пример тому — суждение о стихах Баратынского, где речь идет об одном «механизме стихов», в ущерб всему остальному; как и Дельвиг, Сомов вспоминает при этом отзыв Шевырева о «Последней смерти». Он не забывает ответить и на критику в адрес «Северных цветов» и замечает ядовито, что Шевырев не напрасно требует смешать стихи и прозу: он сам напечатал в журнале свой перевод «Конрада Валленрода», сделанный «тощей и вялой прозой»[282]. Он нападает на язык Шевырева и Погодина — и единственно в чем не согласен с Дельвигом — в оценке переводов Шевырева из Шиллера, которые склонен ставить очень низко.
Это было прямое, открытое столкновение, и если мы добавим к статье Сомова антикритику В. В. Измайлова, то получим почти журнальную войну.
В этой войне Сомов выражает не только свое мнение. Он опирается на письмо Дельвига, а в других частях своей статьи излагает мысли Пушкина или даже прямо говорит от его имени: так, он уведомляет публику, что от «Фавна и пастушки», напечатанной в «Памятнике отечественных муз» Б. М. Федорова, Пушкин отказывается сам как от стихотворения раннего и незрелого.
Обзор в «Северных цветах» перерастал, таким образом, обычные рамки обзора. Он должен был держать в себе частные заметки и рецензии и совмещать мнения разных критиков пушкинского круга. Наконец, Пушкин, Дельвиг и другие должны были передоверять свои суждения третьему лицу, не имея возможности выступить самостоятельно. Альманах не мог быть журналом.
Нужен был свой журнал — или, еще лучше, своя газета.
Глава V «Отцы» и «дети»
«Северные цветы на 1829 год» вышли в свет в последних числах декабря 1828 года[283], и уже в это время Дельвиг начинает собирать следующий альманах.
Еще 3 декабря, когда книжка только начинала печататься, он писал Вяземскому, прося его доставить как можно скорее недосланные стихи[284]. Речь шла в первую очередь о стихах к Готовцевой, с которыми вышло какое-то недоразумение: Вяземский посылал их Пушкину, но Пушкин уехал в деревню и их не получил[285]. По-видимому, Дельвиг разыскал их сам, но теперь торопился Вяземский. Он прислал два отрывка из своих «путешествий в стихах» — «Саловку» и ставшую потом знаменитой «Станцию», увековеченную Пушкиным в «Онегине» и «Станционном смотрителе», с ее «sta viator!» — «стой, путник!», — превратившимся в ходячее речение. «Станцию» сам он особенно ценил и хотел бы видеть ее отпечатанной отдельно, оттиском, о чем и просил Дельвига. Но стихи Вяземского опоздали[286].
Кажется, впервые у Дельвига собирался запас, как сказали бы теперь, редакционный портфель. Он был невелик; только что изданная книжка вобрала в себя все или почти все, что могли дать ему крупные поэты. Тем не менее начало было положено. Уже в январе у него возникает замысел новой книжки, которую можно было бы издать как раз «к святой неделе», в ставшее традиционным время выхода «Северных цветов».
15 января Сомов от имени Дельвига обращается с письмом к Языкову:
О. Сомов — Н. М. Языкову СПб., 15 января 1829
Милостивый Государь Николай Михайлович!
Препровождаю к вам Северные Цветы и прошу их любить да жаловать, так как и их издателей. Что последних вы любите, о том заверил нас Булгарин, а жаловать их если будете так, как в нынешнем году — это будет истинно царское жалованье. A. H. Вульф уехал в половине декабря колотить Турок; надеюсь, вы уже об этом знаете; но пришлось к слову напомнить о нем, ибо он был как бы толмачом между вами и нами: от него мы получали о вас весточки и ваши стихи. Бога ради, думайте, что он все еще в Петербурге, и позабывшись пишите к нам хоть на его имя, пишите да присылайте к нам щедрые ваши подарки.
Скажу вам, что мы затеваем к светлому празднику еще небольшую книжечку: Подснежник, une esp èce de piquenique littéraire, <род литературного пикника>, там будет и Пушкин, и Баратынский, и Грибоедов, и Вяземский е tutti quanti <прочие>; надобно, чтоб и вы там были. Если вам полюбится цель сего издания, то пришлите нам несколько стихотворений, в нынешнем или в будущем месяце, но не позже начала марта: ибо к 1-му апреля книжка совсем будет отпечатана и выдана.
Б. Дельвиг вам кланяется, благодарит за послание и поздравляет с новым годом; я также. Прося еще вас быть к нам щедрым и благодатным, имею честь быть с истинным почтением и преданностию
ваш
Милостивого Государя
покорнейший слуга
О. Сомов.
Р. S. Адрес мой: у Круглого рынка, в д. Паульсона, на Мойке. — Б. Дельвига: во Владимирской улице, в д. Алферовского, бывшем Кувшинникова[287].
15 января
1829
С. Петербург
Будет Пушкин, Баратынский, Вяземский, Грибоедов… Это обещание или предположение?
Грибоедова уже восемь месяцев нет в Петербурге. Но в столице полный список его комедии; он у Булгарина, которому дано право распоряжаться им по своему усмотрению. Вероятнее всего, Сомов рассчитывает получить от Булгарина отрывок.
Что касается Пушкина, то он только что вернулся из Москвы. О замысле альманаха он, конечно, уже знает; обещание сделано с его слов.
От Баратынского Дельвиг что-нибудь да получит; стихи Вяземского уже есть.
Но основной расчет все же не на старших поэтов. Дельвиг писал Вяземскому, что «предложил нашей молодежи издать „Подснежник“».
«Подснежник» был альманахом младшего литературного поколения.
О «молодых поэтах», собиравшихся у Дельвига, так или иначе говорят все мемуаристы, посещавшие дельвиговский кружок: Керн, Вульф, А. И. Дельвиг, наконец, Подолинский, который и сам принадлежал к числу «молодых поэтов».
Этот «второй ряд», «второе поколение» поэтов далеко уступал «первому» по таланту и литературному влиянию, но в истории кружка он был явлением необыкновенно характерным. Между тем знаем мы о нем мало; даже наиболее значительные из деятелей этого поколения, как тот же Подолинский, почти забыты и не имеют сколько-нибудь подробной и документированной биографии.
Мы знаем, впрочем, что некоторые из них принадлежали к числу воспитанников петербургского Благородного пансиона, вместе с Соболевским и Левушкой Пушкиным. В пансионе существовала школьная традиция. Она в чем-то повторяла традицию лицейскую и питалась лицейским преданием и даже личными связями. Пансионские поэты подражали Пушкину, и Левушка, Соболевский, Нащокин были живым связующим звеном между образцом и последователями; Кюхельбекер, преподававший в пансионе, сознательно и целенаправленно поддерживал эту связь. Во второй половине 1820-х годов она нуждалась уже в возобновлении; но некоторые пути к нему оставались.
У пансионеров не было «годовщин», какие были у лицеистов, — но и окончив обучение, они продолжали держаться «кружком». В «кружок» иной раз входили и лицеисты. А. H. Струговщиков помнил, как М. И. Глинка, уже выйдя из пансиона, приезжал навестить товарищей; он сообщал и об окружении, в котором запомнил Глинку: H. Лукьянович, Римский-Кор-сак, Подолинский и Илличевский. Илличевский — лицеист пушкинского выпуска; остальные — младшие товарищи Глинки: Корсак 1823 года выпуска, Подолинский — 1824 [288]. Это было в 1823 году, а в начале 1827 мы вновь находим Глинку в обществе Лукьяновича и Корсака. Всех троих занимает литература[289].
А. И. Подолинский рассказывал, что он в молодости чуждался литературных знакомств и предпочитал им небольшой кружок прежних пансионских товарищей; эти сходки назывались «ассамблеями» и в них постоянно участвовал Глинка[290].
Глинка, Корсак, Подолинский пишут стихи, но никто из них до 1827 года не печатается и никто не вхож в дельвиговский круг.
Так продолжается, пока из печати не выходит поэма Подолинского «Див и Пери» — в июне 1827 года. Выход ее был почти пансионской декларацией: ее издал учитель российской словесности Благородного пансиона В. И. Кречетов, со своим предисловием, где сочинитель, восторженно аттестуемый, был представлен публике как один из учеников издателя. Так был сделан первый шаг — и он оказался удачен: в «Московском телеграфе» появилась рецензия почти апологетическая; за Полевым последовали другие журналисты. «Северная пчела» сообщала, что «прекрасным стихам» «Дива и Пери» «отдавал полную справедливость один из отличнейших наших поэтов», — конечно, Пушкин[291]. Началась слава Подолинского — но самого поэта почти никто не знал. Пушкин готов был даже считать его имя псевдонимом.
Из петербургских литераторов знал его А. А. Ивановский, издатель «Альбома северных муз». Ивановский был давний семейный знакомый Глинок — и в его-то альманахе появились пансионские поэты — Подолинский и Корсак.
Сохранилось письмо Ивановского к Подолинскому, написанное 25 августа 1827 года и адресованное в Киев, куда уехал молодой поэт. Оно полно почти благоговейных, «кречетовских» восторгов. «…Продолжаете ли вы молиться музам и бережете ли благодать их — вдохновение, так роскошно и блистательно вас посещающее?» Это — о «Диве и Пери», поэме, которую сразу по выходе Ивановский поспешил послать давнему своему другу Ф. Н. Глинке[292]. Какое-то отношение Ивановский имел к этой поэме: вероятно, он наблюдал за выходом ее в свет. «Следуя обычаю, — пишет он, — вы прорекли мне благодарение, а я, следуя внушению сердца, возобновляю усерднейшую благодарность за честь, за удовольствие, за одолжение, которое вы мне сделали, вверив милое чадо свое в некоторую охрану первоначальных предосторожностей. Впрочем, оно так мило, умно, прекрасно, что и без посторонних очей попечительства взяло бы свое, достойное его». Он сообщает Подолинскому, что вся петербургская «премудрость»: Греч, Булгарин, Сомов, Дельвиг и Пушкин — жаждут с ним знакомства, — итак, Подолинский, как и сам он вспоминал впоследствии, еще не вошел в петербургский литературный круг. Он чуждался его — и даже впоследствии, став постоянным посетителем Дельвига, был едва знаком с таким близким к Дельвигу человеком, как Плетнев[293]. Наконец, письмо Ивановского сообщает, каким образом имя Подолинского впервые появилось в дельви-говском альманахе: «Если не скоро еще думаете вы покинуть негу юга и сладость ласк родных, то сделайте одолжение, пришлите что-нибудь для моего альманаха и для альманаха барона Дельвига. Нет сомнения, что у вас есть порядочный запас легких пиес; пришлите их ко мне, сделайте одолжение! Манускрипт я сберегу для возврата вам, а то, что надо будет пустить в альманахи, выпишем для себя»[294].
Ивановскому Подолинский прислал восемь стихотворений; Дельвиг получил от него два — «Фирдоуси» и «Стансы».
Подолинский знаком с Корсаком и с Василием Николаевичем Щастным, которого в декабре 1827 г. приветствует в особом послании: «ты поэт и друг поэта». Щастный в Петербурге с февраля 1826 г. и служит мелким чиновником в Государственной канцелярии. Он был тесно связан с украинской литературной средой; его знакомыми были товарищи и учителя Гоголя по Нежинскому лицею — Кукольник, Любич-Романович. Щастный является в Петербург уже литератором и, по-видимому, литератором, связанным с польской культурой: недаром он окончил иезуитский коллегиум в Кременце, где учился когда-то И. Коженевский и где преподавал в 1820-е годы брат поэта Александр Мицкевич. Мы не знаем, как Щастный попал в альманах Ивановского, но он также дебютировал там и дал издателю шесть стихотворений — немногим менее, чем Подолинский. Среди них было четыре перевода из Мицкевича.
Двух дебютантов должны были связывать общие интересы и даже общие воспоминания: они были земляки, украинские уроженцы.
Подолинский вспоминал потом, что на вечере у В. Н. Щастного он впервые увидел Адама Мицкевича.
В «Северных цветах на 1828 год» были сделаны первые шаги к сближению. Затем Дельвиг уехал, и лишь с его возвращением Подолинский начинает посещать его вечера. 11 декабря 1828 года Вульф видит его у Дельвигов.
В это время и начинается та открытая и шумная жизнь дельвиговско-го кружка, о которой рассказывают нам воспоминания Керн. Два раза в неделю собираются лицеисты первого и второго выпуска: Лангер, князь Эристов, M. Л. Яковлев, Комовский, Илличевский; приходят молодые поэты — Подолинский и Щастный, «которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх»[295]. Являются Сергей Голицын, М. Глинка; к литературе присоединяется музыка. Яковлев, помимо редкого дара имитации, был одаренным композитором и певцом; он восхищал даже Вульфа, мало чему удивлявшегося.
В «Северных цветах на 1829 год» — снова два стихотворения Подолинского: «Сирота» и «Два странника». В последнем — как и в «Фирдоуси» — речь идет о трагической судьбе поэта, на этот раз Торквато Тассо — кумира романтиков 1830-х годов.
В «Подснежнике» на 1829 год — уже шесть стихотворений Подолинского, в том числе «К**» и «Портрет», посвященные Анне Петровне Керн. Эти стихи заметил Пушкин, и они ему нравились, хотя он не упустил случая подтрунить над их мадригальной изысканностью и, вероятно, над чрезмерной пылкостью чувств их автора; он сочинил на них забавную пародию, — впрочем, ничуть не обидную[296].
Сам он, однако, тоже напечатал в «Подснежнике» стихи, посвященные Керн, — «Приметы», которые он написал по возвращении, в феврале 1829 года. Анна Петровна не удержалась, чтоб не показать черновик этих стихов своему новому трубадуру, и Подолинского удивило число перечеркиваний и помарок: легкие строфы, как оказалось, стоили Пушкину немалого труда.
Зимой 1828–1829 года Подолинский, таким образом, осваивается с дельвиговским кружком уже до такой степени, что допущен за кулисы. В это же время здесь появляется и Щастный.
Он тоже печатает стихи в «Северных цветах на 1829 год» и в ноябре или декабре 1828 года уже почти что свой человек в доме; Вульфу и Керн запомнилась прогулка на тройках за город, в Красный кабачок, на вафли: зимней лунной ночью две лихие тройки промчались мимо петербургских дач в этот известный всей столице приют немецких ремесленников; в нем было почти пусто и лишь венгерский музыкант-арфист развлекал редких посетителей. Для Вульфа это был вечер, в который ему удалось победить сопротивление Софьи Михайловны, — и неизвестно, к чему пришел бы роман, если бы ему не нужно было уезжать. В этой-то поездке, совершенно интимной, участвовал Щастный — единственный из литературных знакомых Дельвига, если не считать Сомова, уже ставшего его постоянным спутником[297].
Теперь уже почти весь пансионский кружок и близкие к нему литераторы собирались в доме Дельвига: Илличевский, Масальский, Глинка, Подолинский, Щастный… Но это не была вся литературная «молодежь».
В «Северных цветах на 1829 год» есть стихотворение «Тайна розы (Подражание арабскому)», подписанное «Барон Розен».
Этот Егор Федорович Розен, малорослый светловолосый немец, с певучим остзейским выговором, был фигурой примечательной. Еще в юности он писал латинские стихи и читал историков и философов от древности до нового времени. По-русски он не знал ни слова, но, будучи девятнадцатилетним корнетом, решился освоить язык и занялся им столь ревностно, что через несколько лет уже писал по-русски и даже сочинял стихи. Он уже печатался — в «Московском телеграфе» и «Московском вестнике», и Сомов поддержал его опыты в своем обзоре в «Северных цветах» — но еще до этого Розен появился в Петербурге. Он приехал в начале июля 1828 года с письмами от Шевырева к петербургским сотрудникам «Вестника», и В. П. Титов намеревался вести его к Пушкину — но визит не состоялся, и Розен уехал в Ревель[298]. Он познакомится с Дельвигом в 1829 году, когда будет издаваться «Подснежник».
И, наконец, Александр Павлович Крюков, молодой провинциал, только что появившийся в Петербурге. Он жил в Илецкой Защите Оренбургской губернии, изучал горное дело, математику и механику и писал стихи. Н. Литвинов, знакомый уже упомянутого нами И. А. Второва, приехал в 1822 году на службу в Илецкую Защиту. Он обратил внимание на юношу, который был предметом пересудов за господствующий в нем «сатирический дух». Юноша был умен и ревностен к наукам. Литвинову он понравился, и они подружились. Новый знакомый убедил Крюкова послать свои сочинения в журналы и сам отправил их к Второву с просьбой о содействии. Вероятно, Второв и отослал стихи к А. Е. Измайлову, в «Благонамеренный». Во всяком случае, с конца 1822 года в московских и петербургских журналах изредка появляются стихи, подписанные «К. Илецкая Защита». Стихи были совершенно профессиональны, и иногда в них проскальзывала та ироническая нота, которая создала уже молодому поэту репутацию сатирика. И репутация, и дружба с приезжим чиновником стоили Крюкову дорого: конфликт его с илецкими приказными разрастался, и силы были неравны. В июле 1823 года он собирался вместе с Литвиновым перебраться в Самару. Чем кончилось дело, неизвестно; годом позже путешествующий по России П. П. Свиньин видел Крюкова еще в Илецкой Защите и упомянул о нем в «Отечественных записках». Следующая их встреча произошла уже в Оренбурге; в первой же половине 1827 года Крюков появляется в столице.
Одно из первых стихотворений, написанных им по приезде, — «Воспоминание о родине» — о заячьих травлях, сплетнях и картах, составляющих жизнь провинциальных помещиков, об обществе косном и удушливом, которое только что извергло его из своей среды. В стихах есть биографический штрих: он только что написал какие-то сатирические стихи и должен бежать от поднявшейся бури.
С этого времени две темы сплетутся в его стихах: тоска по родине и отвращение к ней.
Крюков поступает на службу столоначальником в департамент внешней торговли. У него уже составилась целая книжка — «Опыты в стихах». В конце января 1828 года она благополучно прошла цензуру — и не вышла; вероятно, молодой автор не нашел издателя.
В Петербурге он поддерживает знакомство со Свиньиным; сохранилась записка Крюкова, ему адресованная. Может быть, через Свиньина попадают его стихи в «Сын отечества»; может быть, тот же Свиньин доставил ему доступ в «Северные цветы».
В книжке на 1829 год есть одно его стихотворение — «Нечаянная встреча», шутливо и непринужденно пародирующее мотивы романтической лирики.
В «Подснежнике» будет три стихотворения с широким диапазоном интонаций — от лирико-элегической медитации до прозаической бытовой зарисовки ночного города, окрашенной тем же ироническим лиризмом.
Это был незаурядный по своим возможностям поэт и даровитый прозаик, не успевший раскрыться. Он умер, едва достигнув тридцати лет, — от болезни и от вина[299].
Молодые поэты приходили к Дельвигу как из-за хозяина, так и из-за Пушкина и Мицкевича.
Мицкевич у Дельвигов оставлял свою замкнутость и становился оживлен и любезен. Иногда он вступал в спор с Пушкиным — то на русском, то на французском языке. Французский язык не был принят на вечерах Дельвига; говорили обычно по-русски. Подолинский присматривался к двум великим собеседникам: Пушкин говорил с жаром, Мицкевич тихо, плавно и логично. По временам он импровизировал — но не стихи, а рассказы, фантастические новеллы, которые особенно нравились слушательницам: сверхъестественное было в моде.
На одном из вечеров Щастный прочел «Фариса» Мицкевича, написанного недавно и еще не напечатанного. Мицкевич сам передал ему рукопись, и Щастный сделал перевод — на редкость удачный. Так считал Дельвиг и остальные слушавшие — и не ошибались: эти стихи оставили имя Щастного в русской поэзии. «Фарис» был первым стихотворением в новом альманахе.
Дельвиговский кружок вносил свою лепту в пропаганду творчества польского поэта.
В «Северных цветах на 1828 год» были напечатаны три «крымских сонета», переведенных Илличевским. Поэт, всю жизнь работавший над усовершенствованием языка «легкой поэзии», стремился придать своим переводам изящество и точность слога и преуспел. Знаменитые «Аккерманские степи», «Плавание», «Бахчисарайский дворец» превращались под его пером в явление русской поэзии, в своего рода вершины «антологической лирики» в понимании Илличевского.
В следующей книжке «Северных цветов» появляются «Стансы» И. И. Козлова — «вольное подражание» «Rezygnacja» Мицкевича.
«Фарис» в переводе Щастного принадлежал уже тому поэтическому стилю, который мы обозначаем условно как стиль «1830-х годов», «лермонтовский стиль» — экспрессивный, как само переводимое стихотворение с яркими чертами восточного колорита, с нерасчлененным, захватывающим читателя речевым потоком.
И еще один перевод из Мицкевича появится в «Подснежнике» — «Альпугара» из «Конрада Валленрода», романтическая баллада из только что изданной поэмы. Переводчик ее, Ю. И. Познанский, был близок с Н. Полевым, который познакомил его с Мицкевичем. Это было в 1826 году; к этому времени у Познанского уже было несколько готовых переводов из Мицкевича. Он показал их автору и кое-что напечатал в «Московском телеграфе». Выход «Конрада Валленрода» вновь заставил его взяться за перо. Как попал его отрывок в «Подснежник», мы не знаем точно; может быть, Познанский, наезжавший от времени до времени в Москву и Петербург (он служил в западных губерниях, а потом и в Кавказской армии) привез его сам; может быть, передал через друзей — поклонников Мицкевича — Полевого, Вронченко, Подолинского[300].
Мицкевич становился как бы участником дельвиговских альманахов.
С переводом Щастного вышла, впрочем, маленькая неловкость. В «Подснежнике» к нему было сделано примечание: «Стихотворение сие, недавно написанное г. Мицкевичем, до напечатания на польском языке переведено по желанию почтенного поэта с его рукописи». В примечании в спешке была сделана ошибка, и Щастному пришлось публиковать «Предостережение». «В альманахе „Подснежник“, — писал он, — изданном недавно несколькими литераторами (а не бароном Дельвигом и О. М. Сомовым, ибо последний принял на себя только труд редакции), в примечании к переводу „Фариса“ (см. страницу 17-ю) вкралась опечатка, которую по уважению моему к сочинителю, во избежание неблагонамеренных толков, считаю долгом оговорить: уведомляю читателей означенного альманаха, что г. Мицкевич на перевод своего стихотворения никому ни желания, ни запрещения не объявлял, и что вместо „по желанию почтенного поэта“ следует читать „по желанию почитателей поэта“. В. Щастный»[301].
Мицкевич уехал из Петербурга только 15 мая и, конечно, успел прочитать перевод Щастного и даже «Предостережение». В начале марта он подарил своему давнему почитателю два томика только что напечатанного петербургского издания своих стихов при дружеской записке[302].
Щастный писал в «Предостережении», что «Подснежник» был издан не Дельвигом и Сомовым, а «несколькими литераторами». Таким образом, он как будто подтверждал, что альманах был выпущен в свет «младшим поколением» кружка Дельвига, как сам Дельвиг писал Вяземскому. Инициатор альманаха и не мог бы заниматься его делами без серьезной помощи; всю зиму он был болен, семь месяцев его мучили лихорадка и ревматизм[303]. Тем не менее наблюдал за альманахом именно он: с его легкой руки «Фарис» Щастного попал на почетное место в книжке; он же читал повесть своего двоюродного брата «Маскарад» и остался ею недоволен, хотя и напечатал. Автор ее, Александр Иванович Дельвиг (1810–1831), погибший в 1831 году при штурме Варшавы, был молод и самолюбив; он напечатал под псевдонимом «Влидге» еще перевод «Ундины» и повесть «Село Ивановское» — в альманахе «Царское село» в 1830 году. «Маскарад» был подан Дельвигу анонимно; он не догадывался об авторе и высказал свои неодобрения в его присутствии; вспыльчивый кузен обиделся и на некоторое время перестал бывать в доме[304].
Из числа старших литераторов в альманахе, как уже сказано, был представлен Вяземский. Вероятно, в руках Дельвига и Сомова были уже и сочинения Федора Глинки, все еще жившего в Петрозаводске. Тоска не покидала Глинку, здоровье его расстроилось, он просил о переводе в губернию с более умеренным климатом. За него хлопотали Гнедич, Воейков и Жуковский.
Между тем он продолжал писать, и карельская ссылка, как и для Баратынского, становилась для него нежданно источником вдохновения. В 1828 году он присылает в «Северную пчелу» «Письмо из Петрозаводска», в которое включает отрывок с описанием Кивача. Это были первые наброски «описательной поэмы» «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой». Почти одновременно он работает над другой поэмой — «Дева карельских лесов».
В этих поэмах сложно сплелись тема изгнанничества, руссоистские поиски «естественного» человека, не тронутого тлением цивилизации, русская история и карельский фольклор, Державин, Рылеев и Баратынский. Из этой амальгамы вырастало высшее художническое достижение Глинки, его «Карелия», произведение свежее и неровное, с провалами и взлетами, банальностями и открытиями.
У Дельвига был отрывок из этой поэмы и еще «Листок из дорожных записок русского офицера на обратном пути в Россию». Вероятно, в начале года он располагал и произведением другого изгнанника и уже узника в прямом смысле слова — отрывками из трагедии «Ижорский» В. К. Кюхельбекера. Откуда он получил их — на этот счет мы можем только строить предположения.
Сам Дельвиг дал только одно новое стихотворение: «Русскую песню» («Сиротинушка, девушка»); два других произведения — «Хор из Колиновой трагедии „Поликсена“» и «Песня» («Дедушка, девицы») были старыми, девяти-десятилетней давности, но последнее стихотворение печаталось с нотами М. И. Глинки и из-за них.
Сомов дал в «Подснежник» пока только «Русалку», «малороссийское предание». Наконец, нужно было перепечатать из «Цветов» басню Крылова «Бритвы» из-за пропущенных двух строк.
В начале февраля подоспели стихи Языкова. Их привез Вульф, ненадолго опять заехавший в Петербург: он пробыл до 7 февраля и накануне отъезда прислал для «Подснежника» послание «А. Н. В<ульф>у на отъезд его в армию», — не целиком, а маленький отрывок из восьми строк, — и «Элегию» («Мечты любви, мечты пустые…»), написанную несколько лет назад. Итак, Языков все же откликнулся — но, как обычно, ничего не успел сделать до конца.
9 февраля Сербинович поставил на альманахе свою цензорскую подпись.
Теперь-то, собственно, и начиналась основная работа по составлению книжки — по неписанному закону вечно спешивших альманашников.
В феврале в Петербург приехала княгиня Зинаида Волконская. Она отправлялась в Италию с сыном и ждала С. П. Шевырева, который был приглашен воспитывать молодого Волконского и должен был к ним присоединиться; он на несколько дней задержался в Москве.
С отъездом Волконской прекращал свое существование прославленный московский литературный салон. Баратынский, нередкий его посетитель, обратил к его хозяйке скорбные прощальные стихи. Дельвиг просил у нее разрешения поместить их в своем альманахе. Волконская согласилась[305].
16 февраля, в субботу, приехал Шевырев[306].
За двенадцать дней, что он оставался в Петербурге, он попытался возобновить или расширить литературные знакомства. В первый же день Мицкевич написал ему рекомендательное письмо к Жуковскому[307] — но как-то к Жуковскому ему все не удавалось попасть. Зато он побывал у Гнедича, Крылова, повидал Пушкина. Его принимали радушно, но воспоминание о неудовольствиях, полученных от петербургских литераторов, его не оставляло, и его письма в Москву походили на дипломатические реляции из враждебной страны. Он жаловался на всеобщее равнодушие — к «Московскому вестнику», к повестям Погодина — ко всему, что интересовало его самого.
24 февраля он отправился вместе с Пушкиным на воскресное литературное собрание к Дельвигу — и увидел, наконец, своих противников, задевавших его в «Северных цветах». Он говорил с Сомовым и после дружеских бесед ушел в убеждении, что доказал ему собственную правоту и его, Сомова, глупость, о чем с триумфом сообщил Погодину[308]. Он рассказал и о «Подснежнике» и о намерении Дельвига на барыш от альманаха устроить обед для петербургских литераторов и, может быть, даже выписать москвичей.
Он познакомился с Илличевским, с Подолинским, с «каким-то краснощеким Корсаком» — уже известным нам А. Я. Корсаком, приятелем М. Глинки. Он виделся с бароном Розеном и свел его, наконец, с Пушкиным в гостинице «Демут». Через несколько дней сам Пушкин пригласил Розена на дельвиговский вечер[309].
Подолинский вспоминал потом, что, проходя через дельвиговскую гостиную, он увидел сидящих вместе Пушкина и Шевырева. «Помогите нам состряпать эпиграмму», — сказал Пушкин. Подолинский торопился, и когда вновь вернулся в гостиную, эпиграмма была уже готова. Это было «Литературное известие» с полемическим выпадом против Каченовского[310].
Подолинский и Шевырев явно не понравились друг другу. Шевырев обронил в письме Погодину несколько пренебрежительных строк о своем новом знакомом; Подолинский не без яда заметил в своих мемуарах, что не стал интересоваться, насколько помог Пушкину Шевырев. С эпиграммой Пушкин справился один, тем более, что она не писалась экспромтом, а была старой, еще 1825 года[311], — но и Шевырев со своей стороны внес в кошницу Дельвига посильный вклад: он написал стихи «Партизанке классицизма», поэтический ответ Александре Ивановне Лаваль, впоследствии Корвин-Коссаковской. Лаваль упрекала поэта, что он постоянно пишет о крови и ранах. Шевырев отдал эти стихи в «Подснежник»[312].
В то время, когда происходил вечер у Дельвига, альманах собирался уже с большой поспешностью.
«Милостивый государь Константин Степанович, — пишет Сомов Сербиновичу 19 февраля. — Препровождаю к вам еще несколько стихотворений для „Подснежника“ и еще небольшую прозаическую статью. Из стихотворений одно уже вам известное, барона Розена „Черный ангел“, которому по вашему замечанию дал я заглавие „Ангел смерти“. Сделайте одолжение, скажите, можно ли в таком виде его печатать? Кажется, еще очень немногим будем мы еще вас утруждать для „Подснежника“, ибо почти все уже для него собрано и начато печатание сей книжки. С совершенным почтением и преданнос-тию имею честь быть ваш, милостивого государя, покорнейший слуга О. Сомов.
Февраля 19 дня 1829»[313].
Типография уже набирала первые листы альманаха, а последние еще не были собраны, вопреки надеждам и уверениям Сомова. «Подснежник» был альманахом-спутником, внеочередным; в нем не было литературного обзора и того, на чем так настаивал Дельвиг для «Северных цветов», — разделения стихов и прозы. Чтобы соблюсти последнее требование, нужно было действительно составить альманах полностью, на что не было времени. Отказавшись же от строгого порядка, можно было еще в середине февраля включать подоспевшие материалы.
Так и происходило, и если мы сравним печатную книжку с теми реестрами стихов и прозы, которые посылает Сомов Сербиновичу, мы убедимся, что приблизительно с середины книжки произведения идут почти в том же порядке, в каком цензуруются.
О. М. Сомов — К. С. Сербиновичу 13 марта 1829
Милостивый государь Константин Степанович! Препровождаю к вам новую обузу стихов, по списку, приложенному на обороте, и повторяю всегдашний мой вам припев:
«Удостойте взглядом!»
Посланные же мною прежде пьесы покорнейше прошу возвратить. Вот оне, сколько могу припомнить: Шевырева Партизанке классицизма.
NB Если в ней вам дико кажется царственной кровью омытый кинжал, то сочинитель поручил мне царственную заменить пламенной. Б. Розена Прощальная слеза Корсака Иуда Песня
Прощальные поцелуи Щастного К**
Еще одна прозаическая статья, листов в пять писанных, еще несколько небольших стихотворений — и мы не станем более вас беспокоить для «Подснежника».
С истинным почтением и всегдашнею преданностию имею честь быть Ваш, милостивого государя, покорнейший слуга О. Сомов.
13 марта 1829
Стихотворения, при сем прилагаемые:
Б. Розена
Венценосной страдалице
Путь любви
Могильная роза
Пушкина В. Л.
Капитан Храбров, гл. I
Неизвестных
Ангел
Ветер
Любовь узника
Притчи[314]
Здесь нам следует остановиться. Под рубрикой «Неизвестных» скрыты стихи Кюхельбекера, видимо, только что полученные. Все они, кроме «Ангела», напечатаны анонимно в «Подснежнике».
«Ветер» и «Любовь узника» вместе со стихами, вошедшими еще в «Северные цветы на 1829 год», были позднее вписаны Кюхельбекером в особую тетрадь, названную им «Первое продолжение Песней отшельника». В этой тетради мы находим и «Ангела» — стихи о падшем ангеле, возвеличенном страданием, и страдальце-поэте, которого утешили в изгнании его родные. Эти стихи были совершенно невозможны в печати — ни по политическим, ни по религиозным причинам. Если Сербиновичу был подан этот «Ангел» — он, без сомнения, не был пропущен[315].
Вместо него в «Подснежнике» появилось другое стихотворение Кюхельбекера — «19 октября 1828 года» — о лицейской годовщине:
Воспомнит ли в сей день священный, В день, сердцу братьев незабвенный, Меня хотя единый друг?Самая публикация этих стихов была ответом на скорбный вопрос Кюхельбекера.
Союз поэтов продолжал существовать.
«Подснежник» печатался, и издатели не успевали за типографией. 15 марта Сомов вновь писал Сербиновичу. У цензора возникли колебания в связи с «Литературным известием» — не содержит ли эпиграмма «личности»? «Да что прикажете окончательно с застиксовскими журналистами? — спрашивал Сомов. — Благоволите ли дать им цензурное разрешение на объявление о их журнале? Скажите, что можно и чего нельзя напечатать?» Он исправил стихи Шевырева и теперь отсылал Сербиновичу эти два произведения заново и добавлял к ним свой рассказ «Оборотень», «Альпухару» Познанского и два стихотворения без подписи — «Песню» Языкова («Вот еще стакан заздравный…») и «Не наша сторона» Глинки. Из этих запасов, процензурованных Сербиновичем, не все пошло в «Подснежник»: материалов было слишком много даже и на второй альманах. «Не наша сторона» Глинки, «Путь любви» и «Могильная роза» Е. Ф. Розена появятся в следующей книжке «Северных цветов».
Сомов торопится. «…Моя слезная просьба: нельзя ли сделать отеческую милость, поскорее и если можно завтра же прислать мне обратно „Оборотня“ моего? ибо за ним дело остановилось в типографии, а у меня останавливалось за писцом, который пишет очень медленно и живет в Смольном монастыре»[316].
В конце марта Сомов присылает Сербиновичу уже последние стихи для почти отпечатанного альманаха: «Венценосной страдалице» барона Розена и «Эпилог» Языкова.
«Эпилог» принес Аладьин; его текст был записан в письме Языкова к Вульфу, которое опоздало: оно было отправлено 9 февраля. Что же касается стихов, то это и был полный текст послания к Вульфу; издатели «Подснежника» могли убедиться, что они напечатали восемь стихов, а остальные сто двадцать с лишним остались в рукописи. Сомову пришлось спешно менять последние листы: он извлекает языковскую песню и вставляет на ее место «Эпилог», к которому делает примечание, что восемь стихов, доставленных издателям ранее, следует читать на странице 160. Теперь ему приходится и нарушить аноним, на сохранении которого настаивал автор: другого выхода не было.
«Песню» же он отдает Розену. Сохранилась ее копия, сделанная Сомовым и процензурованная Сербиновичем. На ней стоит помета: «Подснежник», зачеркнутая и исправленная на «Царское Село»[317].
Попутно Сомов успевает еще отстоять стих «Спасаю божье дарованье», который Сербинович собирался было вычеркнуть[318]. Он боялся духовной цензуры и был осторожен: через несколько дней, 29 марта, он отправил туда аллегорию для «Северных цветов» «Бог действует в суде, но пребывает в милосердии». Ответа не было; он пришел, когда его уже перестали ждать, — 14 января 1831 года — и гласил, что статья, как «сущая басня» и притом «несогласная с учением церкви», напечатана быть не может[319]. 4 апреля 1829 года новый альманах вышел в свет.
Орест Сомов рассылал участникам экземпляры «Подснежника» и «Северных цветов».
Он писал Языкову, извиняясь перед ним за неисполнение его авторской воли и за то, что «Подснежник» «за спехом не успел еще принарядиться в праздничное свое платье»[320]. Языков, как всегда, сдержан и скорее недоволен: литературные труды дельвиговского кружка он ценит невысоко, хотя и поддерживает с ним приятельские связи. Только отрывок из пушкинского романа приводит его в восхищение: «подвиг великий и лучезарный»[321]. Брат его Александр Михайлович, его литературный оруженосец, высказывается решительнее. «„Сев.<ерные> Цв.<еты>“ я просмотрел, — пишет он Комовскому 1 февраля, — проза в них преподлейшая (исключая малозначущий впрочем отрывок Пуш<кина>), особенно же домик на В.<асильевском> Ост<рове> представляет прекрасный пример галиматьи; что за чудесное, что за Варфоломей, что такое графиня и люди в широких штанах? Я полагаю, что автор от власти (ст. 181) красоты сам сделался скотиною, если не родился в сем почтенном звании. В стихах более порядочного, особливо понравилась мне быль Кат<енина> и значение, которое имеет отдание преимущества раболепному Кострову да Bas-Empire перед поэтом; ему, как видится, и петь не дали! Эту пьесу я знал по началу и основной мысли от самого К<атенина>…»[322].
Итак, катенинские аллюзии были все же замечены, по крайней мере, друзьями. А. М. Языков искал их — все остальное было ему неинтересно. Между тем и сам Катенин получил экземпляр и «преучтивое» письмо от Сомова, где тот благодарил за «Старую быль», просил стихов для следующих книжек и сообщал, что послание к Пушкину сам адресат его счел за благо не помещать. Катенин дал волю своим сомнениям и подозрениям и уже много времени спустя прямо спросил Пушкина о причинах; Пушкин ответил, что, посылая «Быль» в альманах от себя, не мог приложить стихи с похвалами себе же. Катенин и тут продолжал подозревать, что дело не чисто и пришел, наконец, к выводу что «шутка… над почтенным Историографом» и «молодыми романтиками» была истинной причиной непомещения стихов. Как мы знаем уже, причины были глубже и многообразнее, но Катенин не вовсе ошибался: ирония над «пренагражденным» историографом была неуместна в «Северных цветах», только что выступавших как раз против этой официальной версии. Катенин напечатал отвергнутые стихи в собрании своих сочинений, но потом, перечитывая их, исправил на своем экземпляре как раз в этом месте, заменив «пренагражденный» на «преутомленный»[323].
При всех сомнениях и колебаниях, Катенину открывалась возможность печатать свои стихи, и пренебрегать ею для него была слишком большая роскошь. Его литературные отношения были прерваны или испорчены, критика отзывалась о нем с неизменным скептицизмом, а в «Цветы» его прямо приглашали. Сомов выполнял давнее намерение Пушкина — привлечь Катенина. Поэтому Катенин решил отложить на время вражду с «молодыми романтиками» и согласиться на просьбу Сомова. Он написал ему через Бахтина и предлагал «Элегию», посланную недавно к Бахтину. «Элегия» была, как и «Старая быль», насквозь автобиографична — в ней говорилось об отвергнутом современниками и гонимом властителем поэте, гордо замыкающемся в своем собственном творчестве. Аллюзии здесь тоже были прозрачны: деспот Александр Македонский носил то же имя, что и покойный царь, выславший Катенина из Петербурга.
Эту «Элегию» Катенин хотел печатать у Греча — но Греч испугался и прямо сказал катенинским эмиссарам, что автор хочет его «подбить». После этого намерение Катенина напечатать ее в «Северных цветах» стало почти навязчивой идеей. Его поддерживало новое письмо Сомова, полученное им вслед за «Подснежником»: если верить Катенину, Сомов уверял его в совершенной перемене своих мыслей касательно его, Катенина, дарования, хвалил «на чем свет стоит» и «отрекался от Булгарина яко от сатаны». Катенин отвечал на это, что в таком случае не следует скрывать света истины под спудом и нужно вознести ему, Катенину, хвалу печатно.
В ожидании конца переговоров он всматривался в «Северные цветы» и «Подснежник» и находил в них вещи гораздо менее невинные, нежели его «Элегия». «Как любопытны три мелкие стихотворения Кюхельбекера (в цветах), написанные им, кажется, в крепости! Какая у этого несчастного молодого человека чистая однако ж душа! мне коли сгрустнулось, как я их прочел». Откуда он знал об этих стихах?
«В „Подснежнике“ помещены сцены из Кюхельбекера драматической поэмы „Ижорский“; в одной является Бука в виде обезьяны на престоле, в порфире и с пуком розог; и после этого бездельник Греч смеет пугаться за Александра Македонского…»
Катенин не обманулся в своих ожиданиях. В июле он получил от Сомова новое письмо с благодарностями за «Элегию», уже пропущенную цензурой. Теперь связь еще более укреплялась, и Катенин все более смягчался; он думал уже о том, чтобы поместить в «Цветах» свои «Размышления и разборы» — серию обширных статей о литературе от древности до нового времени. Для журналов, как он полагал, статья длинна, из альманахов «Северные цветы» теперь его устраивали более всего: они были, по его словам, «в моде и расходе»…[324] Катенин совершенно не представлял себе возможностей альманаха или попросту о них не думал: «Размышления и разборы» вряд ли уместились бы и на половине книжки.
Сомов вел переговоры с авторами и собирал материалы, а тем временем положение в петербургской и московской литературе менялось — и отнюдь не в пользу пушкинского кружка.
«Московский вестник» не оправдал надежд Пушкина. Да он и клонился к упадку: в 1829 году он был издан в четырех частях — уже почти как альманах. В следующем же году он прекратит свое существование.
Почти в то же время обостряются отношения Вяземского с «Московским телеграфом». Разногласия нарастали исподволь. Полевой уже начинал осторожную борьбу против дворянской литературы и культуры; его буржуазный радикализм развивался и крепнул. Вяземский все более ему мешал. Когда в июне 1829 года Полевой выступит с резкой переоценкой всей художественной и исторической деятельности Карамзина, произойдет разрыв[325].
И тогда Полевой заключит с Булгариным союз против «литературной аристократии», «элиты» — Пушкина, Дельвига, Вяземского.
Что же касается Булгарина, то он укрепил свои позиции. «Северная пчела» дала достаточно доказательств своей благонамеренности, и Фон-Фок и Бенкендорф вписали себя в число ее защитников и ходатаев. Официальная поддержка обеспечивала газете монополию на политические известия — и тем самым исключительную популярность. Вся Россия — образованная, полуобразованная и почти необразованная — читала «Пчелку» и за малым исключением полагалась на ее суждение.
Исключением был сравнительно узкий круг образованного дворянства, преимущественно столичного.
И в этом узком кругу существовали уже совсем небольшие группы литераторов, издававших свои произведения, читательская судьба которых зависела от степени расположения к ним Булгарина. У них были и свои мнения о предметах литературы — в том числе и о сочинениях Булгарина — но они должны были оставаться под спудом.
В 1829 году выходят «Полтава» и два тома «Стихотворений» Пушкина; «Стихотворения» Дельвига, Козлова, Веневитинова; готовят издания своих стихов Катенин и Вяземский. Все эти книги должны будут поступить на суд «Северной пчелы».
Одновременно выходит роман Булгарина «Иван Выжигин» — и судьбу его решает та же «Северная пчела». Греч помещает о нем объявление, судя по которому «это произведение единственное в нашей литературе», иронизирует Языков. Баратынский возмущается «неимоверной плоскостью» романа — но тут же вынужден заметить, что публике, кажется, того и надобно, ибо «разошлось 2000 экз. этой глупости». К 1831 году было продано уже семь тысяч, о чем с гордостью сообщал булгаринский же «Сын отечества»[326].
Господа офицеры из Бобруйска благодарили сочинителя романа «небывалого на святой Руси». Провинциальные чиновники находили схожесть в описании канцелярий и восхищались смелостью, с какой сочинитель обличает взятки.
Роман был доступен для понимания: в нем было прямо сказано, где добродетель, а где порок, и добродетель неизменно торжествовала.
Успех «Ивана Выжигина» был неимоверен. Коммерческая, как сказали бы теперь, «массовая культура» торжествовала свои первые победы.
Это была целая эстетика, поддержанная всесильной рекламой, — и она грозила смести элитарную литературу пушкинского кружка. С появлением «Выжигина» она получала свой манифест, и борьба становилась неизбежной.
Еще в феврале 1829 года Шевырев сообщал Погодину, что Сомов «бранит Булгарина и пророчит о разрыве его с Гречем»[327]. Разрыва не произошло, и дельвиговский кружок тоже не порвал с Булгариным, хотя издатели «Северной пчелы» были явно недовольны обозрением Сомова. В письме к Катенину Сомов, как мы помним, опять «бранил Булгарина». Шел март месяц; в марте в книжных лавках появился «Выжигин». К концу месяца Дельвиг сообщает о нем Баратынскому в весьма важном и интересном письме, которое мы приведем целиком.
А. А. Дельвиг — Е. А. Баратынскому
Конец марта 1829 г.
С.-Петербург.
Душа моя Евгений. Пушкин верно сказал тебе, что я не имел силы писать к тебе, так занемог и трудно поправляюсь. Жду погоды — и не дождусь. «Северн<ые> Цветы» прошлого года доставь Василью Львовичу. «Подснежник» выйдет на днях. Я напечатал твои стихи к Зенеиде. Она согласна была, а ты дай, кому обещал их, другую пьесу. Я печатаю мои стихи; к Пасхе выйдут; в них ты прочтешь новую мою идиллию. «Борскому» подстать вышел «Выжигин». Пошлая и скучная книга, которая лет через пять присоединится к разряду творений Емина. Подолинскому говорить нечего. Он при легкости писать гладкие стихи тяжело глуп, пуст и важно самолюбив. Проказник принес мне «Борского» процензурованного и просил советов. Я посоветовал напечатать, другого ничего не оставалось делать, и плюнул. Разве лета его обработают. Дай Бог. Поцелуй за меня Полевова и Раича в лоб и попроси их продолжать, как начали, свои похвалы творениям ничтожным. Прощай, душа моя, трудно писать. Целую тебя и Пушкина. Буду не осенью, а весною к вам. Книги, при сем приложенные, доставь князю Вяземскому. Поцелуй ручки у Настасьи Львовны. Твой Д<ельвиг>[328].
Итак, уже в марте 1829 года в дельвиговском кружке идет брожение. В «Северной пчеле» еще хвалят «отличного поэта» Дельвига, рекламируют «Подснежник» накануне выхода, а по выходе называют «прелестным подарком к весне»[329]. Однако уже ясно, что отзыв о «Выжигине» в следующих «Цветах» будет критическим, и нужно ожидать разрыва. Но и в самом кружке назревают разногласия, в первую очередь с Подолинским, представителем «молодого поколения» поэтов. Шевырев еще в феврале слышал слова Пушкина: «Полевой от имени человечества благодарил Подол<инского> за „Дива и Пери“, теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за „Борского“»[330]. «Борский», байроническая поэма с семейной драмой, с ревностью, с убийством по ошибке, вульгаризовала мотивы пушкинских поэм; как в искаженном зеркале, она воспроизводила сюжетные схемы, легшие в основу в частности «Бала» Баратынского. Понятно, что Баратынский был недоволен поэмой: он воспринимал ее почти как пародию на себя. Страшная опасность эпигонства угрожала «пушкинской плеяде».
Дело осложнялось тем, что поэзия Подолинского поднималась на щит: он был популярен; его хвалили в «Северной пчеле», в «Телеграфе», в «Галатее» Раича. Он чувствовал себя самостоятельным, он смотрел на современную словесность с высоты своих двадцати двух лет и двухлетнего литературного опыта. Литературный суд Дельвига уже становился для него обузой, и он совершенно намеренно дал ему читать поэму только тогда, когда подготовил ее к печати[331], — жест вежливого, но решительного бунта. Новое и старшее поколение переставали понимать друг друга.
Но общение продолжается — и с Подолинским, и с товарищами его по пансионским «ассамблеям». В конце июня Глинка с Корсаком едут вместе с Дельвигами, Сомовым и Керн на четыре дня на Иматру — в путешествие веселое и беспечное, описанное затем несколькими его участниками — Сомовым, Керн и Глинкой. Прогулка была литературной — Иматру воспевали Державин и Баратынский, и имя Баратынского было записано его рукой на окрестных камнях. Путешественники последовали его примеру и примеру бесчисленных туристов всех поколений. Они увидели седой поток водопада, перед ними вставали сумрачные и дикие скалы, так поражавшие воображение Баратынского. Обо всем этом рассказал Сомов в своих путевых очерках. Ямщик-финн пел песню; Глинка заставил его повторить напев и стоя записывал карандашом ноты; «Финская песня» легла потом в основу знаменитой баллады Финна в «Руслане и Людмиле».[332] Этих впечатлений Дельвигу хватило надолго; когда Валериан Шемиот уехал служить в Финляндию, Дельвиг говорил с ним о финской словесности и советовал употребить свободное время на изучение шведского языка: «Поэзия новейшая шведов богата и нова для нас, только начинающих постигать, что границы ее гораздо далее сухого поля французской словесности».[333] Он будет печатать в «Литературной газете» рецензии Розена на Бернарда фон Бескова и статьи о шведской поэзии, и тот же В. Шемиот переведет для него со шведского языка «Песнь лапландца».[334]
«Младшее поколение» кружка еще слушало литературные советы Дельвига. Корсак прямо подражает ему. Он пишет народные песни, известные нам сейчас по романсам Глинки, — «Косу», «Ночь осенняя, любезная», антологические стихи, романсы и баллады — без рифмы, со сложным метрическим рисунком — как «Иуда», напечатанный Дельвигом в «Подснежнике». Он зовет Дельвига к себе в гости, в дом на Торговой улице близ Театральной площади, где живет вместе с Глинкой; он немного робеет перед знаменитым поэтом и подшучивает слегка над своими старомодными пансионскими учителями — в том числе и над Кречетовым[335]. Со времени замужества О. С. Пушкиной связи Дельвига с пансионерами укрепляются: Н. И. Павлищев, пятью годами моложе жены, был пансионером, одного курса с Львом Сергеевичем; он занимался несколько литературой и музыкой и собирал у себя прежних товарищей.
Кружок расширяется, в него приходят и молодые лицеисты. Один из них стал близок к Дельвигу в последние годы. Это был Михаил Данилович Деларю, окончивший лицей с пятым выпуском 29 июня 1829 года и с августа того же года служивший в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий. Еще в лицее он писал стихи и подражал Пушкину, но еще более Дельвигу; говорили, что он был даже внешне похож на Дельвига[336]. В «Подснежнике» его имени еще нет; оно появляется в «Невском альманахе на 1830 год», собранном к осени, где приняли участие и другие уже знакомые нам по «Северным цветам» поэты: Щастный, Сомов и прочие. Вероятно, в это время он начинает бывать и у Дельвигов.
Число поэтов растет, растет и число лирических пьес. «Подснежник» был первым альманахом, отпочковавшимся от «Северных цветов», — первым, но не единственным. В 1829 году барон Розен замышляет свой альманах — и весь кружок готов помочь ему. Он берет в соиздатели Н. М. Коншина — старинного приятеля Баратынского, когда-то начальника его по Нейшлотскому полку; унтер-офицер ввел своего капитана в петербургскую литературу, и Коншин стал тогда подражателем Баратынского, его поэтической тенью. Он был короток и с Дельвигом, а когда в 1829 году стал правителем канцелярии главноуправляющего Царским Селом и поселился здесь, старые связи возобновились. Он написал Баратынскому, и тот поспешил ответить; обещал стихи, но немного: семейные хлопоты и несчастья отвлекали его от поэзии, и он писал мало. «…Чем богат, тем и рад, — предупреждал он, — братски поделюсь с тобой и Дельвигом». Он передавал поклон и Розену, с которым виделся мельком в Москве у Полевого и проникся расположением; «стихи его показывают человека не только с дарованием, но и с сердцем, и такие люди мне очень по душе»[337]. Вообще Розен «персона грата» в дельвиговском кружке; ему обещают стихи Жуковский, Дельвиг, Пушкин. «До приезда моего в Петербург, — пишет он Ф. Глинке, — я не знал ни одного русского литератора, т. е. лично, но в короткое время я имел честь познакомиться с Пушкиным, Дельвигом, Сомовым и недавно с Жуковским». «Одобрение сих достойнейших людей» вместе с «благосклонным отзывом» Глинки вознаградило Розена за «равнодушие <…> публики»[338]. «Я не хотел было печатать моей прозы, — признается он в другом письме, — но барон Дельвиг, Сомов и другие отзываются о ней с такой неумеренною похвалою, что сам начинаю думать, не понравится ли она и другим читателям»[339]. Розен любил скромно сообщать о чужих восторгах по своему адресу, но здесь он если и преувеличивал, то немного. Сомов, который, по собственным словам, был его «повивальной бабкой», писал о нем Глинке еще 10 апреля, посылая «Подснежник»: «Егор Федорович Розен, служивший в гусарах и теперь в отставке и здесь, подает большие поэтические надежды: вы бы подивились, слушая его остзейское коверкание русских слов в разговоре и чтении; но в поэзии его язык чист и промахов встречается очень мало»[340]. Пушкин тоже ценил его стихи и прислушивался к его литературным суждениям, хотя и не мог отказать себе в удовольствии спародировать его чтение: Керн вспоминала, как он цитировал на память «Венценосной страдалице», подражая его голосу и выговору: «Неумолимая! ты не хотела жить». Пушкин дал Розену антологические стихи в честь Дельвига — «Загадка», и педантичный классик не без опаски поправил один гекзаметр; Пушкин отнесся к исправлению благосклонно и, кажется, потом был доволен[341].
В альманахе Розена и Коншина «Царское Село» были «Зимнее утро» Пушкина, две песни Дельвига — в том числе одна старая, посвященная Баратынскому и Коншину, был Баратынский, Ф. Глинка, Сомов, Щастный, Деларю, А. В. Мещерский — другой молодой лицейский поэт, однокашник Деларю, ему же и посвятивший свои стихи. Альманах открывался портретом Дельвига.
«Царское Село» было изданием, связанным с «Северными цветами» не только кругом авторов: Сомов и Дельвиг, по-видимому, прямо участвовали в его составлении. «Любезный Коншин, — писал издателю рассерженный Дельвиг, — альманах наш будет хорош и пьесами и наружностью, но выйдет ли к сроку, не знаю и даже сомневаюсь, если ты не прибудешь сюда и не привезешь денег. Надо деньги за портрет и печатание его и виньетки, надо денег переплетчику, надо денег Плюшару, который только согласился ждать до 1-го января, а он уж не за горами»[342]. Здесь идет речь, конечно, о «Царском Селе», с которым Коншин не может справиться без помощи Дельвига: в этом альманахе напечатаны портрет и виньетка, и только он — в отличие от «Северных цветов» — печатался в типографии Плюшара. И о том же альманахе и с тем же раздражением писал Коншину Сомов: он сообщал, что статьи в книжке распределял, по его мнению, Розен, а, может быть, Деларю, что «все ли пропущено цензурой, он не знает», что ему носят уже вторые корректуры и что он готов уладить какие-то дела с Плюшаром[343]. Итак, все хлопоты по «Царскому Селу» легли на плечи Дельвига и Сомова; Коншин спрашивал у них о том, что он должен был бы знать сам, будь он хоть несколько сведущ в делах собственного альманаха.
«Северные цветы на 1830 год» тем временем собирались, и кое-что, как мы помним, у Дельвига было припасено еще от прошлой книжки: стихи Розена, Глинки; лежала, ожидая своей очереди, и процензурованная «Элегия» Катенина. «Младшее поколение» работало усердно, и парнасский родник не иссякал; его хватило и на «Невский альманах» Аладьина, и на «Царское Село», и на «Подснежник», и на «Северные цветы». Розен, занятый своим альманахом, добавил к прежним только одно стихотворение — «Венчальный обряд»; помощник его Деларю принес четыре («Поэт», «К Неве», «Ангелу-хранителю», «Слеза любви»); у него был неистраченный запас еще лицейских стихов. С двумя стихотворениями явился в альманахе Подолинский, одно — «Друзьям» — напечатал В. Шемиот. Это последнее стихотворение имело потом своеобразную судьбу: оно было приписано Рылееву, положено кем-то на музыку и распевалось в «рылеевских местах» — в Острогожске и Воронежском крае. Полагали, что Рылеев написал его при отъезде в Петербург[344]. Как обычно, свою лепту принес и Платон Ободовский: ему принадлежала «сельская элегия» «Эрминия».
Зато со старшего поколения петербургских поэтов Дельвигу в этот раз почти не удалось собрать литературной дани. Ни Крылова, ни Жуковского в альманахе не было; Гнедич был с Дельвигом в ссоре. Только один И. И. Козлов дал в «Цветы» два стихотворения, «К тени ее» и «Из Байронова ДонЖуана», да Измайлов снабдил Дельвига двумя баснями — «Скотское правосудие» и «Обманчивая наружность». Плетнев, писавший совсем мало, отдал в альманах еще одну сцену из «Ромео и Юлии» — к этому времени он перевел уже четыре действия[345]. В примечании к ней был напечатан фрагмент из «рукописного сочинения А. С. Пушкина» о Шекспире, по-видимому, неосуществленного. Дельвигу нужно было рассчитывать прежде всего на себя самого, и он отобрал для альманаха восемь стихотворений.
Здесь были, как обычно, антологические стихи («Четыре возраста фантазии», «Грусть», «Слезы любви», «Удел поэта»), фольклорные стилизации («Русская песня», «Малороссийская мелодия») и две новые идиллии. Одна из них — «Изобретение ваяния» была посвящена Василию Ивановичу Григоровичу, как обещал ему Дельвиг четырьмя годами ранее. Пластические искусства продолжали занимать и волновать его, и связи его с художниками не ослабевали. Когда в сентябре 1829 года М. А. Максимович приехал в Петербург, Дельвиг ведет его в Эрмитаж вместе с Сомовым и Лангером[346].
Другая идиллия — «Отставной солдат» — была опытом так называемой народной идиллии.
Это был тоже давний замысел, который в свое время пытался воплотить и Гнедич в своих «Рыбаках». Баратынский вспоминал потом, что самая тема идиллии была подсказана Дельвигу Гнедичем. Но Дельвиг подошел к ней иначе: ему хотелось сохранить античное построение, но так, чтобы оно выражало строй мыслей и чувств, которые он находил в русском фольклоре. Он послал идиллию Баратынскому — и Баратынский понял замысел: он отмечал «слишком возвышенные» и «просвещенные» обороты и «греческий тон». Кажется, потом Дельвиг давал идиллию и Пушкину — и тот поправлял стихи[347].
То, что Дельвиг напечатал в этой книжке своего альманаха, было лучшим из его созданий. И это стало его лебединой песней.
Больше он ничего не напечатает в «Северных цветах». Он как будто предчувствует это — и в его «Грусти» проскальзывает мотив смерти.
Дельвиг болен, и его посещают мысли о неудачно сложившейся жизни. Семейное благополучие его омрачено давно — и бесповоротно. Он видит, как сменяются увлечения Софьи Михайловны, — и замыкается в своем грустном одиночестве, из которого нет выхода. Но ему остаются еще друзья — и литература.
И он занимается своим альманахом, как занимался им в высшие моменты своего счастья.
Он напоминает Баратынскому, что намерен продолжать «Цветы», и просит прислать стихов, которые нужны ему не только для альманаха, а и для голодной души, питающейся «журнальными сухариками». «Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе что сделаю, да мне писать трудно…»[348]. 30 августа он отправляет письмо Вяземскому: «опять бью вам челом и прошу не оставить моего альманаха ни стихами, ни прозой». К этому времени он получил письмо от Пушкина и рассказывал Вяземскому, что Пушкин «ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади»[349]. Пушкин находился в Арзруме, но по пути заезжал в Москву и виделся с Баратынским и Вяземским.
Баратынский писал мало: он был озабочен своими семейными делами. Письмо Дельвига застало его в трудную минуту: маленькая дочь его была больна; спасти ее так и не удалось. Но он выполнил обещание и осенью прислал стихи.
Вяземский тоже переживал трудное время. Над ним сгущались политические тучи. О нем велась секретная переписка как о человеке злонамеренном и притом «развратного» поведения. Фон-Фок подавал Бенкендорфу записку о планах Вяземского вместе с Пушкиным и издателями «Московского вестника» предпринять в Москве политическую газету с тайными противоправительственными целями. Среди умышленных или неумышленных пособников «якобинцам» назывались Жуковский и Дашков, в это время товарищ министра внутренних дел.
Дашков получил записку на прочтение и ответил точно и резко. Он писал, что вся она есть следствие заведомой интриги, и угадывал авторов — это были «петербургские журналисты», боявшиеся конкуренции. Все это было очень похоже на истину: Вяземский, «Московский вестник», Жуковский — старинные неприятели или недоброжелатели «Северной пчелы», которая одна имела монополию на политические новости. К тому же и Булгарин, и Греч были знакомы с Фон-Фоком домашним образом.
Дашков сказал это первый, но и Вяземский был в том же глубоко убежден. Он писал московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну и назвал имена Булгарина, Греча и Воейкова; относительно двух последних, впрочем, потом стал сомневаться. С этого времени в пушкинском кругу на Булгарина стали прямо смотреть как на человека, связанного с тайной полицией. В марте 1829 года Баратынский писал Вяземскому, что «Иван Выжигин» заключает в себе лишь одну характерную черту: посвящение министру юстиции[350].
Но Булгарин не был прямым политическим осведомителем, и все дело было сложнее. Он был политическим конформистом, но прежде всего литературным буржуа в феодальной России. Он не нападал, а защищался, сохраняя свою собственность — газету, подписчиков, покупателей. И здесь он не разбирал средств и искал сильных покровителей. Ясный ум Дашкова проник в мотивы его поведения.
Вяземский не мог прислать Дельвигу многого, потому что писал свою политическую исповедь, был встревожен неизвестностью будущего и жил то в Москве, то в пензенском имении.
Дельвиг получил от него одно стихотворение — «Слеза» — лирическую миниатюру, совершенно не выражающую того, что творилось с ним в это время.
Так обстояло дело с «петербургскими» и с «московскими» поэтами; кое-что, впрочем, Дельвиг получил из провинций. Неизменным вкладчиком был, конечно, Федор Глинка; по подсчетам московских журналистов, он в среднем давал в альманах 5–6 стихотворений. В дополнение к уже имеющемуся он прислал «Псалом LXVII», «Деву и видение», «Царь и мудрец» и прозу — «Вступление большой действующей армии на позицию при с. Тарутине» — мемуарный отрывок о 1812 годе. 29 октября Сомов благодарил его за прозу и «Деву и видение»: «прелесть и по созданию, и по милой, ласкающей слух мере стихов»[351]. Осенью же издатели получили «Прощание с Адрианополем» Хомякова; эти стихи были написаны только 7 октября.
Неизвестно, когда и как были пересланы в альманах стихи двух Туманских. Оба они находились на юге. Василий служил в качестве дипломатического чиновника при главной квартире 2-й действующей армии (как и Хомяков, он побывал в Адрианополе; он участвовал в редактировании мирного трактата). Федор с 1828 года был чиновником канцелярии полномочного председателя диванов Молдавии и Валахии. В «Северных цветах» мы находим «Pensйe» В. Туманского — стихи старые, еще 1825 года, и его же «Спаси меня», написанные только в феврале. Что до Федора Туманского, то Дельвиг напечатал его «Родину», — точнее, перепечатал, быть может, сам того не подозревая: шесть лет назад беспечный автор поместил их в «Соревнователе» под анаграммой[352].
К осени 1829 года стихотворный отдел альманаха, таким образом, был не особенно богат; значительно благополучнее было с прозой. Как обычно, Сомов писал обзор и, кроме того, дал народное предание «Кикимора». В издательском портфеле были мемуары Глинки, но еще большим приобретением был «Киргизский набег» Александра Крюкова. Скромный провинциальный поэт оказался прозаиком — и весьма даровитым: под его пером ожил военный быт киргизской степи, полуэкзотический и совершенно реальный, увиденный им воочию. За «Киргизским набегом» последуют отрывки из его романа «Якуб-Батыр» в «Литературной газете», затем «Рассказ моей бабушки» в «Невском альманахе» — и с этим последним произведением Крюков прямо подойдет к темам, животрепещущим для Пушкина. «Рассказ моей бабушки» станет одним из сюжетных источников «Капитанской дочки» — но уже в «Киргизском набеге» можно уловить некоторые, хотя и слабые, соприкосновения с пушкинским романом[353].
И далее, на юг и восток — в Аравию — ведет читателя повесть Сенковского «Вор» — свободный пересказ арабского сюжета, сделанный блестящим знатоком подлинного Востока. Из близкого окружения Булгарина Сенковский последний, кто остается в «Северных цветах»; ни Греча, ни самого Булгарина уже нет; совершается перераспределение литературных сил.
В альманахе еще нет ни Пушкина, ни Баратынского; Вяземского нет или почти нет, но уже к концу октября издатели «Цветов» чувствуют себя уверенно. Они только что сошлись короче с Максимовичем, побывавшим в Петербурге, — и уже готовы помогать ему собирать альманах «Денница»; мало того, Сомов, вечно нуждавшийся в деньгах, намерен издать и собственный альманах[354]. Впрочем, на это у него не хватит времени. Он уже в хлопотах: материалы спешно идут в цензуру.
О. М. Сомов — К. С. Сербиновичу 30 октября 1829 г.
Милостивый Государь Константин Степанович!
В сем пакете препровождаю к Вам продолжение моего Обозрения и три пьесы в стихах. Не смею озабочивать Вас докучливыми моими просьбами; но если бы можно было Вам, т. е. если бы досуг Вам позволил просмотреть, к завтрашнему утру, напр. часам к десяти — один только этот лоскуток обозрения, по прежней и всегдашней Вашей ко мне благосклонности — то сим бы вы меня крайне одолжили.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть Милостивый Государь Ваш покорнейший слуга
О. Сомов. Октября 30 дня 1829.
О. М. Сомов — К. С. Сербиновичу 8 ноября 1829.
Милостивый Государь Константин Степанович!
Препровождаю к вам новую тетрадку моего обозрения и прошу снова благосклонного вашего о ней призрения: мне бы хотелось, если можно, получить ее обратно завтра утром, ибо типография, за моими недосугами и недугами (но право не за ленью), сидит покамест почти без дела. Еще одна, сепаратная статейка моей просьбы: чтобы покамест, до выхода С. Ц., суждение мое о Выжигине оставалось покамест между нами. Я совершенно уверен в том, что от вас никто не узнает тайн, исповедываемых вам на духу литературными грешниками, от них же первый есмь аз; но Булгарин как-то всегда узнавал прежде печати то, что ему должно было узнать после, и это написал я, чтобы сказать себе, как Погодин: dixi et salvavi animam <сказал и спас душу>. С совершенным почтением и всегдашнею преданностью имею честь быть ваш
Милостивого Государя покорнейший слуга О. Сомов.
Ноября 8 1829.
Р. S. То, что я сказал, касается не моих сочинений, а посторонних, и чтобы все досказать, не вами цензурованных: знать наперед о моих Булгарин доселе не имел необходимости[355].
Итак, война.
Сомов говорил об «Иване Выжигине» то, что думали и Пушкин, и Дельвиг, и Вяземский, — но тон его был лоялен, без полемической запальчивости. Он признавал в романе не только достоинства популярного чтения, но и «истинно прекрасные» частности — целое же осуждал за архаичность построения, как будто взятого из старых авантюрных романов, за «бесхарактерность» главного героя и искусственность сюжетных перипетий; он писал о неточности картины нравов светского общества и о холодной правильности слога. Это были общие упреки Булгарину, приводившие его желчь в движение, и Сомов знал, что отныне не только он сам, но и весь альманах приобретает ожесточенного врага. До сего времени он сотрудничал в «Северной пчеле», теперь ему предстояло вовсе уйти из булгаринских изданий.
В эти самые дни в Петербург приезжает Пушкин.
Пушкин провел в разъездах почти весь этот год. Им владела «охота к перемене мест» — так же, как и его Онегиным; какое-то беспокойство гнало его то в Москву, то на Кавказ, то в деревню и наконец опять в Петербург. В Москве он прожил половину марта и весь апрель, здесь он получил только что вышедшую «Полтаву».
Москва раздражала его. Московские журналисты открыли против него войну. Надеждин в «Вестнике Европы» довольно грубо обвинял его в безнравственности за «Нулина», и Погодин втайне сочувствовал новоиспеченному критику. «Полтава» вызывала споры, и тот же Надеждин вновь пустил в него критическую стрелу под эгидой Каченовского. Пушкин отвечал эпиграммами в «Московском телеграфе». Полевой уже давно не был его союзником, но когда дело касалось Каченовского, Пушкин готов был объединиться и с Полевым.
Он написал памфлет, где летописным тоном рассказал о литературном скандале, занимавшем Москву: Каченовский подал жалобу на цензуру, пропускавшую критики Полевого на него, профессора и кавалера. Возникла тяжба, и Каченовский проиграл. Пушкин бесстрастно рассказывал о перипетиях этого единоборства, напоминая о грубых критиках Каченовского на Карамзина и высмеивая его иерархические претензии. Статья лежала без движения, но эпиграмму по этому поводу Полевой напечатал.
В Петербурге Булгарин поместил в «Пчеле» кисло-сладкую статью о «Полтаве», которой отводил третье место среди пушкинских поэм — после «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган». И. В. Киреевский готовил ответ в «Галатее».
В Москве говорили о «Выжигине». Баратынский написал эпиграмму о Булгарине, внушающем публике, что нехорошо лгать и воровать; он замечал при этом, что моралист, кажется, сам недавно пришел к этому выводу. Пушкин послал эту эпиграмму в Петербург Плетневу; тот смеялся и благодарил[356].
Пушкин остается в Москве, но литературные дела, кажется, не слишком занимают его в этот раз. У Погодина он почти не бывает, с Вяземским тоже видится редко; впрочем, и сам Вяземский вскоре уезжает в Пензу. Остается Баратынский — но оба чувствуют, что они становятся и почти уже стали чужими друг другу; прежних дружеских связей не возникает.
Он посещает дом «пресненских красавиц» — сестер Ушаковых; в старшую, Екатерину, он был серьезно влюблен два года назад, пока новый образ — Олениной — не ослабил несколько его прежнего чувства. У Ушаковых собирались литераторы: Вяземский, Шаликов, Ротчев. Альбомы сестер были испещрены пушкинскими стихами и рисунками. Пушкин пользовался взаимностью; чувство Екатерины было светлым, преданным и почти самоотверженным; она не упрекала его и продолжала принимать и тогда, когда на пути ее стала Оленина, и когда новая московская звезда — Натали Гончарова — безраздельно приковала к себе внимание ее непостоянного возлюбленного. Теперь Гончарова держала его в Москве; Пушкин делал предложение, но получил отказ от семьи: он был беден, он был неблагонадежен.
И как будто бросая вызов своей судьбе, он сразу же после отказа едет в Арзрум, в Тифлис, живет в палатке Раевского, и вокруг него собираются прежние «государственные преступники», ныне рядовые армии Паскевича, и он не скрывает своей радости, встречаясь с ними. От него спешат вежливо избавиться, и уже по возвращении его настигает раздраженно-холодное письмо Бенкендорфа с требованием объяснений самовольной поездки. Но это его уже мало беспокоит.
Путешествие не только отвлекло его: оно дало ему, кажется, новые силы. По пути в Петербург он заезжает к Вульфам, в тверские имения и проводит здесь всю вторую половину октября и начало ноября. Осень; его тянет к перу.
Уже давно в его стихах не было таких бодрых, мажорных нот[357].
В мае, под свежим впечатлением последних встреч с Гончаровой, он пишет «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», эту удивительную элегию о чувстве, которое может существовать само по себе и для себя, даже если оно и не разделено. В эти месяцы любовь его, даже неудачная, теряет оттенок напряженного трагизма — нет его и в прощальном стихотворении — «Я вас любил». Какие-то отсветы этих стихов падают и на «Легенду» — «Жил на свете рыцарь бедный», того же 1829 года — любовь во имя самой любви, где надежда на взаимность невозможна, где ч7у6вство есть религиозная святыня, которой служат сумрачно и фанатично[358]. И уже окончательное просветление наступает в ноябрьских стихах, написанных в деревне Вульфов — в «Зимнем утре», во «2-м ноября»: «Зима. Что делать нам в деревне?…»
Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева русская свежа в пыли снегов!..Пушкин весел, он шутит.
Он забавляется тем, как Павел Иванович Вульф переделал его стихи к Вельяшевой: совсем в духе мещанского романса:
Подъезжая под Ижоры, Я взглянул на небеса И воспомнил ваши взоры, Ваши синие глаза[359].Именно так он их и напечатает у Дельвига.
Все эти стихи и еще некоторые другие будут в «Северных цветах», только два он отдаст Розену.
В альманахе на 1830 год будут: «Онегин» — четыре строфы из главы VII, «Зимний вечер», «Олегов щит», «2-го ноября», «К**» («Подъезжая под Ижоры»), «Я вас любил», «К N. N.» Из прежних стихов — «28 мая 1828» — трагические стихи, тревожно диссонирующие с новым «циклом».
И будет полемика с Каченовским и Надеждиным: эпиграмма «Мальчишка Фебу гимн поднес», «Отрывок из литературных летописей» и еще одна эпиграмма — «Седой Свистов», подписанная «Арз.» («Арзамасец») и по комическому недоразумению принятая на свой счет издателем «Северного Меркурия» М. А. Бестужевым-Рюминым, которого Пушкин печатно не задевал, так как тот не стоил этой чести.
Все это Пушкин отдает Дельвигу в конце ноября. Проза альманаха уже печаталась — и поскольку «Отрывок из литературных летописей» шел в прозаический отдел, нужно было спешно провести его через цензуру Сербиновича. Между тем с этой статьей вышло затруднение.
Пушкин первоначально отдал ее в «Невский альманах», но Главное управление цензуры не пропустило статью, где шла речь о действии цензора и цензурной тяжбе. Это было еще в сентябре, запрещение последовало 8 октября. От напечатания статьи Пушкин, однако, не хотел отказываться; он собирался нанести Каченовскому и Надеждину решительный удар памфлетом и двумя эпиграммами и выбросил из «Летописей» все, что касалось собственно цензурного дела. Так ее и отдали Сербиновичу.
Сербинович повез ее Д. Н. Блудову, товарищу министра народного просвещения, и 3 декабря вынес на суд цензурного комитета. Начиналось новое цензурное дело.
Комитет признал, что «в представленном ныне экземпляре сей статьи исключено все то, что упоминалось прежде о действиях цензурных так, что оная приняла совершенно литературный вид». 10 декабря ее отправили в Главное управление цензуры; мнение комитета гласило, что поскольку в статье исключено все, что было ранее причиной запрещения, он, комитет, «не видит более законных причин» для недопущения ее в печать.
24 декабря Главное управление цензуры согласилось с мнением комитета и в тот же день известило его о разрешении статьи[360].
Пока решался вопрос со статьей Пушкина, материалы для «Северных цветов» продолжали поступать. 22 ноября Сомов отправляет Сербиновичу стихи Баратынского — «Муза» и отрывок из поэмы «Вера и неверие». Кроме них, Баратынский дал еще эпиграмму «В восторженном невежестве своем». Эпиграмма была направлена против Полевого, начавшего в «Телеграфе» критику «Истории государства Российского».
Одновременно со стихами Баратынского Сомов отдает Сербиновичу и «Отрывки из путевых записок» кн. З. А. Волконской.
В «записках» отразились веймарские, баварские, тирольские впечатления. «Письма русской путешественницы», отделенные четырьмя десятилетиями от своего образца, походили на него сочетанием документальности с лирическим размышлением; подобно Карамзину, Волконская вспоминала о встречах с европейскими знаменитостями и вставляла в свой рассказ драматические древние предания. Эти записки стояли в конце целой литературы подлинных путешествий, которые Дельвиг печатал в «Цветах» начиная с первой книжки: Дашков, Перовский, Ф. Глинка, Илличевский… Самое «Путешествие в Арзрум» Пушкина включалось в эту цепь, которая продолжится и после в пушкинских изданиях: их увенчает «Хроника русского» А. Тургенева в «Современнике».
«Северные цветы» порождали традицию.
В том же ноябрьском письме Сомов упоминал еще о двух произведениях. «Ротчев, узнав, что стихотворение его „Видение“ удержано цензурой, — писал он, — просил меня объяснить вам, что под таинственным лицом, к которому он обращается, разумел он Клару, которую у Гете в трагедии видит Эгмонт в минуту своей казни; и что Ротчев не назвал ее по имени только по каким-то личным своим причинам».
Мы не знаем этого «Видения»: текст его не дошел до нас. В «Северных цветах на 1830 год» появились только его стихи «В альбом К. Н. У-вой» — той самой пушкинской Екатерине Ушаковой, у которой Ротчев бывал и совсем недавно. Он приехал из Москвы только осенью: еще в половине сентября мы находим его в Москве, среди гостей С. Т. Аксакова, старого его знакомого, — а в ноябре он уже в Петербурге наносит визит престарелому адмиралу А. С. Шишкову, с племянниками которого дружен.
Он привез из Москвы стихи к Ушаковой — но не только их.
Нам приходилось уже обращать внимание на его устойчивый интерес к мрачной эсхатологической поэзии Библии и Корана; в «Цветах» на 1829 год он поместил свой перевод байроновской «Тьмы» — пророческого видения конца мира. Общественные катаклизмы породили в нем это сгущенно трагическое мировосприятие; глаз жандарма наблюдал за ним и за его друзьями. В их числе был Александр Ардалионович Шишков, которого дважды возили с фельдъегерем в Петербург за антиправительственные стихи и высылали в Динабург, где томился в заключении Кюхельбекер. Все эти впечатления свои и чужие, общие и частные — преломляются в поэзии Ротчева; «эпигон декабризма» обращается к Апокалипсису. По-видимому, у Ротчева был целый цикл переложений знаменитого «Видения Иоанна» — и некоторые из них должны были появиться в «Северных цветах». Духовная цензура упорно задерживала их. Сомов упоминал об одном его не пропущенном «Видении»; другое «Видение» предназначалось еще для «Цветов» на 1829 год и было запрещено в ноябре 1828 года, на рукописи третьего, появившегося в 1831 году в «Санктпетербургском вестнике», есть помета цензора «Нельзя. 2 янв.» и еще одна: «Назначалось для Сев.<ерных> цветов».
Все это рассеялось по журналам или пропало; в «Северных цветах на 1830 год» осталось только стихотворение к Ушаковой. Рядом с ним была напечатана «Эльфа» приятеля его А. А. Шишкова. В романтической сказке есть след воздействия «Ижорского» — сцен, напечатанных в «Подснежнике».
Общение с динабургским узником не прошло для Шишкова даром[361].
Последним, кого назвал Сомов в письме от 22 ноября, был Виктор Григорьевич Тепляков.
Человек с бурной и полной драматизма биографией, прозванный «русским Мельмотом» за свою скитальческую жизнь, Тепляков только что обосновался в Одессе, как будто сделав короткую остановку среди бесконечных странствий. За его плечами была военная служба, отставка, несколько месяцев жизни в столице как раз во время восстания и арестов, затем отказ от присяги Николаю I, уклонение от исповеди, арест и разрушенное здоровье в каземате Петропавловской крепости. Потом он был выслан на юг, где его ограбили и чуть не убили. Его взял к себе Воронцов, проникшийся к нему сочувствием и, может быть, симпатией; и по настоянию Воронцова Тепляков был отправлен для археологических разысканий в Болгарию, где еще разыгрывался финал русско-турецкой кампании. Он видел дымящиеся равнины с неубранными трупами и ежеминутно смотрел в лицо смерти и чуме; после всего, что с ним случилось, он не слишком дорожил жизнью. В этой поездке родилась книга его блестящей эпистолярной прозы — «Письма из Болгарии», на основе подлинных писем, писанных им, главным образом, брату Алексею Григорьевичу, — и столь же примечательный цикл «Фракийских элегий». Печатался Тепляков мало и редко; ни с одним из петербургских и московских журналов он не был связан сколько-нибудь прочно. Выбрал «Северные цветы» он, конечно, не случайно: прибежище пушкинского круга должно было стать и его прибежищем.
Его «пьеса» «Странники» с горькой иронией утверждала преимущество «странника» перед «домоседом», еще не освободившимся от всех жизненных иллюзий. Стихи нравились Дельвигу и Пушкину; отправляя их Сербиновичу, Сомов писал: «Пьеса прекрасная! Нельзя ли ее как-нибудь выгородить от убавок?» Сербинович докладывал в цензурном комитете о своих опасениях: скептический 1-й Странник слишком язвительно говорил о любви — «божественном союзе» душ. В этом месте диалога осталась цензурная купюра; вычеркнутые строки до нас не дошли[362].
И пушкинская «Легенда» — «Жил на свете рыцарь бедный» — о жертвенной любви паладина к богоматери — не попала в альманах. Пушкин подписал ее «А. Заборский» — у него были основания опасаться цензуры императора — но это не помогло[363].
Любви полагалось быть законной и нравственной, мировосприятию — чистым и светлым. Когда митрополит Филарет прочтет в «Цветах» «Дар напрасный, дар случайный», он переделает эти стихи в поучение автору: сам-де виноват, ибо живешь не богобоязненно. И Пушкин с изящной иронией назовет топорные вирши его преосвященства «арфой Серафима».
Арфа ли, цензура ли — делали одно дело: они заглушали голос сомнения и отчаяния.
В двадцатых числах декабря 1829 года «Северные цветы на 1830 год» вышли в свет[364].
Новая книжка альманаха обладала особенностями столь явственными и характерными, что они бросались в глаза. Она была полемична. Сомов задел не только Булгарина: он напал на критики Надеждина и Каченовского и взял под защиту Карамзина от Полевого и Арцыбашева. Он спорил с Ксенофонтом Полевым о только что вышедших «Стихотворениях» Дельвига, разъясняя ему, в чем, по его, Сомова, мнению, состоят особенности дельвиговских подражаний древним и подражаний народным песням[365]. Он разбирал «Полтаву» Пушкина, явно противопоставляя свое мнение статьям Надеждина и, быть может, Булгарина, — и даже исторические его экскурсы имели оттенок полемический. Сомов остался верен и своим прежним симпатиям и антипатиям: он уязвил попутно воейковского «Славянина» и отметил «слабость… исторической критики» в статьях Погодина о Грозном и Годунове.
Все это в большей или меньшей степени отвечало общей литературной позиции дельвиговского кружка. В пушкинских «Отрывках из литературных летописей» также было нападение на Каченовского и упоминание о неприличных критиках на Карамзина; в эпиграмме Баратынского речь шла о Полевом. Надеждину Пушкин посвятил две эпиграммы.
Помимо всего прочего, в статье Сомова был намек на разногласия «старшего» и «младшего» поколений. Критик подробно разбирал поэму Подолинского «Борский»; и, отдавая должное «прекрасным, свободным и звучным стихам», пытался показать неудовлетворительность «содержания»; упреки его, впрочем, были достаточно лояльны, как и упреки другому «пансионскому поэту», К. П. Масальскому, выпустившему в 1829 году стихотворную повесть «Терпи, казак, атаман будешь» — «Ивана Выжигина» в стихах, как потом называл ее Вяземский[366].
Пушкинский круг определял свою позицию в литературных противоборствах. Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Вяземский, Плетнев, теперь уже и Сомов составляли ядро кружка; вокруг него вырастали ряды сочувствующих. Здесь была не только петербургская литературная молодежь типа Деларю: география альманаха оказывалась довольно широкой. К нему стягивались литературные силы с разных концов пишущей России: стихи и проза шли с севера — от Ф. Глинки, с юга — от двух Туманских и Теплякова, из Москвы и центральных губерний.
Этого не было раньше, когда Дельвигу приходилось рассылать мольбы о помощи и месяцами ждать отклика от авторов.
Книжка печаталась, переплеталась, продавалась — статьи продолжали поступать.
Катенин, пославший к Бахтину тетрадь своих «Размышлений и разборов», в декабре разражается гневной филиппикой: «…В „Северные цветы“ не попала статья единственно (не прогневайтесь) от медленности NB не моей и от переписки поздней… По Вашим и Сомова письмам я был в твердой несомненной надежде увидеть ее в „Северных цветах“, даже сказал об этом кое-кому, кто спрашивал, и теперь чисто в дураках; приятно ли это? и чем я заслужил?»[367]
«Меня уведомляют, что „Северные цветы“ Дельвига уже вышли, следственно мои стихи туда не попали…»[368].
Это голос человека, давно молчавшего, прославленного поэта-партизана Дениса Давыдова, из села Мазы Сызранского уезда.
12 декабря Сомов благодарит Максимовича за «прекрасный цветок» — статью «О цветке» — но она не попадает в «Северные цветы», ибо вся проза уже отпечатана…[369].
Теперь есть не только необходимость, но и возможность издавать журнал — или газету.
Глава VI «Газетчики» и «альманашники»
18 ноября цензор Сербинович записал в своем дневнике: «Еду к Сомову, он сообщает мне мысль свою и Дельвига об издании журнала, в коем участвовали бы Пушкин, Баратынский, Языков etc. Говорил, что ждут Вяземского из Москвы»[370].
Эта запись — самый первый известный нам документ по истории «Литературной газеты». Замысел еще не оформился; предполагается, что будет журнал. С Сербиновичем советуются пока неофициально.
Журнал должен быть органом пушкинской группы. Будущие участники еще ни о чем не знают — кроме одного. Пушкин в Петербурге уже более недели. Какая роль в этом начинании принадлежит ему — годами мечтавшему о собственном журнале?
2 декабря Сербинович едет советоваться с Блудовым. В тот же день Дельвиг показывает ему «прожект» нового журнала.
5 декабря Ротчев уже сообщает С. Т. Аксакову, что затевается новая газета, что она будет выходить раз в пять дней и называться «Литературной газетой» и что издателями будут Дельвиг, Сомов, Вяземский, Пушкин, Жуковский[371]. Слухи опережают события: программа газеты одобрена 13 декабря.
Днем раньше Сомов писал Максимовичу, что издателем новой газеты будет Дельвиг, редактором — он, Сомов, сотрудниками — Пушкин, Баратынский и, как надеются, Вяземский. Жуковский обещал выписки из английских журналов и от времени до времени — собственные произведения. В. П. Лангер, переводчик и художник-график, делавший виньетки к «Северным цветам», брал на себя отдел художеств. Сомов просил Максимовича заняться «по части естественных наук».
В декабре издатели уже знали, что им обеспечено участие Вяземского. К 20 числу у них было полученное от Вяземского неизданное сочинение Фонвизина — «Разговор у княгини Халдиной», отрывок из биографии Фонвизина, над которой трудился Вяземский уже несколько лет, и целая тетрадь стихотворений[372]. Баратынский, живший в деревне, получил от Дельвига письмо, где прямо сообщалось, что Вяземский в числе издателей. «Правда ли это? — справлялся он у Вяземского. — И как хорошо, если это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным»[373].
«Титов и Одоевский тоже нашего полку, — продолжал Сомов свой отчет Максимовичу. — Если вы дружны с Киреевским, то нельзя ли и его уговорить доставлять нам кое-что из своих трудов?».[374]
Прежние сотрудники «Московского вестника» переходили в дельви-говскую газету. По сохранившимся письмам Сомова к В. Ф. Одоевскому мы знаем, что Одоевский в феврале-марте работал для газеты не покладая рук: писал, переводил, консультировал, наводил справки.[375]
«Московский вестник» еще дотягивает свой последний год, и Погодин недоволен. С «Северными цветами» отношения его более чем холодны, и известие о газете он встречает в штыки. Чтение первых номеров еще укрепит его в мысли, что издатели — «невежи», с «младенческими понятиями о теориях».[376]
Шевырев уговаривает его. «Ты напрасно вовсе чуждаешься петербургской шайки. Где же будет круг наш? Из кого его составим? Из нас двух да Аксакова? Более я не вижу, ибо Языков и Хомяков, верно, не прочь от Дельвига и Пушкина». До Рима дошли уже сведения о газете: еще в феврале Шевырев писал о ней Соболевскому. Он рассказывал, что «пчелисты» — Греч и Булгарин — задеты за живое и «принялись кусать» Сомова, новый альманах Максимовича «Денница», Киреевского, Баратынского. Впрочем, относительно «Отрывка из литературных летописей» он согласен с Погодиным: грех Пушкину «мешаться в эти дрязги». Он сообщает, что в «Пчеле» ругают «Северные цветы»; в альманахе же много хорошего, и лучше всего «Зимний вечер», затем «2-е ноября» и идиллия «Отставной солдат» Дельвига; впрочем, альманах беднее прежних, «много однообразного, скучного…»[377].
Сам он примет участие в «Литературной газете» и вступит на ее страницах в полемику со старинными своими неприятелями — «пчелистами».
К кружку примкнет даже князь А. А. Шаховской, некогда первый боец в стане «Беседы любителей русского слова», писавший язвительные комедийные портреты Карамзина и Жуковского. Пятнадцать лет назад он был мишенью для арзамасских эпиграмм, и Пушкин тоже вплел свои цветы в сатирический «венок Шутовскому». С тех пор утекло много воды; Пушкин помирился с Шаховским, посещал его, а потом их опять развела горькая обида. Они встретились теперь едва ли не впервые после десятилетней разлуки, обнялись и полуобъяснились.
Этот-то Шаховской дает теперь слово участвовать в «Литературной газете», чтобы вместе с прежними своими противниками унимать «литературных напастников». «Напастники» грозили и ему самому: в «Северной пчеле» и «Телеграфе» уже поднялась кампания против Шаховского: он задел «Ивана Выжигина» и Полевого в своем «Романном маскараде». Когда «арзамасские» «друзья Вяземского» подали ему руку, он принял ее, хотя подозревал, что своим в этом кругу никогда не будет: старая вражда сказывалась. Впрочем, Пушкин вскоре заходит к нему на квартиру, в Коломне, в доме Лемана, а Шаховской начинает посещать Жуковского; здесь при Пушкине, Гнедиче и Крылове он читает свою драму «Смольяне в 1611 году», отрывок из нее помещает в «Литературной газете»[378].
Все эти события происходят в отсутствие Дельвига: 3 января он уехал в Москву. Он видится с Вяземским, и тот пишет для газеты статью о московских журналах, статью остро полемичную, наполовину урезанную цензурой.[379]
Дельвиг в Москве, Пушкин в Петербурге, и он-то объединяет вокруг газеты петербургские литературные силы. Во втором номере газеты он помещает заметку о только что вышедшей «Илиаде» Гнедича. «С чувством глубоким уважения и благодарности, — писал он, — взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига». Гнедич откликнулся прочувствованным письмом. «Это лучше царских перстней». Тень, омрачавшая в последнее время отношения Дельвига и Гнедича, стиралась[380].
Круг сотрудников и сочувственников газеты определялся, круг противников ее также.
Булгарин, чутко следивший за литературными новостями, знал о новой газете еще до ее выхода и, встретясь с Сомовым, спросил его: «Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?» Сомов отвечал утвердительно. «И вы будете меня ругать? — Держись!»
Этого Булгарин уже не мог стерпеть и нанес первый удар. Нужно отдать ему справедливость: он воевал с соблюдением некоторых правил. Он написал письмо к Дельвигу, где предупредил, что намерен писать рекламацию на объявление о невышедшей еще газете. В объявлении было сказано, что писатели, сотрудничавшие в «Северных цветах», будут участвовать и в «Литературной газете»; Булгарин извещал, что ни он, ни Греч, помещавшие в «Цветах» свои статьи, участниками газеты никак не будут. Это произошло еще в двадцатых числах декабря; и тогда же было решено напечатать поправку: в число сотрудников не входят гг. издатели журналов, занятые собственными повременными изданиями. Булгарину только того и нужно было: он сразу же привлек внимание к этому дополнению, недоумевал, что бы оно значило, и сообщал, между прочим, что два писателя, не журналисты, а прозаик и поэт, поручили ему известить публику, что и они не намерены сотрудничать в газете, хотя и печатались в «Северных цветах»[381]. Может статься, что самый факт не был вымышленным; прозаиком, вероятнее всего, был Сенковский, а поэтом — может быть, Масальский, все более сближавшийся с булгаринской группой. Но рекламация была, конечно, тактическим ходом и значила: не верьте обещаниям, газета будет беднее, чем альманах. И второе: газета будет голосом литературной партии, преследующей свои узкие цели.
Все это пахло литературным скандалом и должно было отпугнуть подписчиков. Булгарин пустил в ход старые, уже испытанные способы борьбы с конкурентом — но в этом начавшемся споре была и своя принципиальная сторона.
Пушкин писал о необходимости журнальной критики, измеряющей достоинства сочинений со стороны художественной или общественной, — и в этом полагал цель «Литературной газеты»; он оговаривался вместе с тем, что газета была необходима не столько для публики, сколько «для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям явиться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов». С тех пор как Вяземский и Баратынский порвали с «Московским телеграфом», это относилось к ним более всего. Силою вещей газета Дельвига должна была стать органом писательской корпорации.
Булгарин отвечал на это, что не понимает, как можно издавать газету «не для публики, а для некоторого числа писателей»[382].
Булгарин был по-своему прав: Пушкин допустил оплошность. Он вовсе не хотел сказать, что «Литературная газета» не нуждается в аудитории: без «публики» она была бы и бессмысленна, и невозможна. Речь шла о другом: должен ли писатель формировать свою аудиторию, способную разделить его сложную философию, его тонкий эстетический вкус, его общественные позиции, — или же он должен принять ее такой, как она есть, говорить на ее языке, внушать ей моральные правила, которые она может понять, и не требовать от нее ничего большего?
Не будем думать, что ответ на этот вопрос предрешен заранее для всех времен и исторических ситуаций.
«Северная пчела» к началу 1830-х годов имела 4000 подписчиков.
На «Литературную газету» в конце ее существования — подписывалось сто человек.
Пройдет несколько десятилетий, пока история переменит роли и перераспределит литературные репутации, пока массовый читатель созреет для Пушкина и его друзей. Сейчас еще их читатель — светское общество и образованные круги дворянской интеллигенции.
Сейчас Пушкин — «элитарен», Булгарин — «демократичен».
Сейчас две группы стоят друг против друга и завязывается борьба не на жизнь, а на смерть.
В январе и феврале на страницах газеты появляются только отдаленные предвестия приближающейся бури. Пушкин печатает свой критический разбор первого тома «Истории русского народа» — обширного сочинения, которое Николай Полевой противопоставил «Истории государства Российского» Карамзина.
Первая статья Пушкина об истории Полевого была, собственно, статьей о Карамзине и в некоторых местах прямо перекликалась с «Отрывками из мыслей, письмами и замечаниями». Пушкин брал под защиту Карамзина — не от научной критики, но от крикливых и поверхностных журнальных атак. Мысль о непрерывности культурной традиции, требующей «уважения к именам, освященным славою», пронизывает его статью; в таком уважении он видит залог истинной просвещенности. И он еще раз напоминает о «подвиге честного человека» — о соблюденной Карамзиным мере исторической объективности, — и отзвуки старого спора с М. Ф. Орловым вновь слышатся в его возражениях: «Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели». Это — ответ тем, кто упрекал Карамзина в самодержавных тенденциях; историческое значение его труда шире его «апофегм», «отдельных размышлений», в которых «не полагал» он «никакой существенной важности».[383]
Это была первая статья; через месяц Пушкин напечатает вторую — едва ли не единственную в это время попытку серьезного критического анализа «Истории» Полевого. Он не скроет от читателя достоинств критикуемого им труда и упрекнет его рецензентов — Надеждина и даже Погодина — в непростительной грубости и пристрастии. Он стремится сохранить умеренность в полемике — но вскоре борьба выйдет за пределы чисто литературных споров.
Пока что Булгарин рецензирует в «Северной пчеле» последние «Северные цветы» и обрушивается на разбор Сомова, которому не может простить отзыва об «Иване Выжигине»; попутно он задевает и Дельвига, и «доморощенных Гете, Байронов… и Аристофанов». Впрочем, о стихах Пушкина он пишет благосклонно — в особенности о «26 мая 1828 года».[384]
28 февраля 1830 года в Петербург приехал, наконец, долгожданный Вяземский. Он успел повидаться с Пушкиным и провести с ним три дня: 4 марта Пушкин уехал в Москву, оставив Вяземскому попечение о «Литературной газете». С начала марта на страницах газеты систематически появляются стихи и проза Вяземского.
Он берет в свои руки бразды и жалуется Пушкину, что Дельвиг «ленив и ничего не пишет», рассчитывая на Сомова. Сам он ведет с Булгариным войну систематическую, от номера к номеру, и, кажется, целит выше. Он намекает печатно, что «журнальные отголоски» лишь повторяют «некоторые указания» о духе партий и «литературном аристократизме», — другими словами, что самое понятие пущено в оборот политическими осведомителями. На этих тайных агентов «Александра Христофоровича» Вяземский намекал постоянно, то глухо, то совершенно прозрачно — и имел в виду конкретное лицо: Булгарина.
Он ведет себя тем более неосторожно, что приехал в Петербург, намереваясь снять с себя политические подозрения, а доступ к царю лежал через Бенкендорфа.
Вяземский написал письмо к Николаю I, выставляя себя жертвой клеветы. Николай приказал принять его на службу[385].
В этих условиях ему следовало бы, как Гречу, «сидеть тихо».
Между тем он входит в прямой контакт с газетой, за которой уже начинает пристально следить правительство, и более того, передает в нее стихи ссыльного Александра Одоевского.
Стихи были присланы Вяземскому П. А. Мухановым из Читинского острога при письме от 12 июля 1829 года, — конечно, нелегальным путем.
Петр Муханов был в Чите председателем каторжной «академии», где читали стихи и прозу, взаимно обучали языкам и слушали лекции по словесности, истории, математике, астрономии, философии, военным наукам… Здесь впервые зародилась дерзкая и неосуществимая идея литературного альманаха «в пользу невольно заключенных» — и он был почти собран. Воспоминания Михаила Бестужева донесли до нас названия написанных им повестей: «Случай — великое дело», «Черный день», «Наводнение в Кронштадте 1824 года» — и повести Николая Бестужева «Русские в Париже».
Александр Одоевский был признанным поэтом декабристской каторги. К его стихам писалась музыка, их пели вместе, в них слышали поэтический голос, говорящий за всех.
Муханов просил жен декабристов написать в Петербург, чтобы разрешили издать эти сочинения. Писали, просили; ответа не было.
Бенкендорф не входил в сношения с государственными преступниками; ходатаям же отвечал, что печатать их сочинения в журналах неудобно, так как это ставит их в отношения, не соответственные их положению.
Тогда Муханов отправил письмо Вяземскому.
Он посылал ему только стихи, рассказывал о замысле альманаха и просил помощи. «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать… Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой»[386].
Проза не дошла, она осталась у Муханова и погибла.
Тетрадь со стихами Вяземский, по-видимому, привез с собой в Петербург. 1 апреля в № 19 газеты появляется первое стихотворение из нее «Элегия. На смерть А. С. Грибоедова».
Почти одновременно, 28 марта, цензор газеты Н. П. Щеглов читает другое стихотворение — «Что вы печальны, дети снов» — и П. И. Гаевский объявляет, что печатать столь темное и неясное по намерениям стихотворение неприлично в газете, находящейся в широком обращении. Стихи удалось отстоять — но они появились позже, под названием «Пленник» и с купюрами[387].
26 апреля печатается «Старица-пророчица», посвященная Дельвигу. 6 мая — «Узница Востока».
Они будут появляться и после отъезда Вяземского и попадут в «Северные цветы».
«Литературная газета» ведет критическую перестрелку и позиционную войну.
Она поддерживает «Монастырку» Перовского-Погорельского и «Юрия Милославского» Загоскина — бытовой и исторический романы, по методу и литературной ориентации противостоящие романам Булгарина.
Булгарин взбешен: Погорельский и Загоскин могут составить ему конкуренцию. Когда же Дельвиг резко критически оценивает его новый исторический роман «Димитрий Самозванец» — происходит взрыв.
Булгарин был убежден, что статья принадлежит Пушкину, уже уехавшему из Петербурга, — и через четыре дня после выхода рецензии в «Пчеле» появился печально знаменитый «Анекдот» — о некоем поэте, не обнаружившем в своих сочинениях ни одной высокой мысли или полезной истины, вольнодумце перед чернью и оскорбителе святынь, который тайком ползает у ног сильных, чтобы ему позволили нарядиться в шитый кафтан. Здесь был намек на «Гавриилиаду», только что бывшую предметом политического процесса.
Еще через две недели Булгарин печатает критику на 7-ю главу «Онегина», провозглашая «полное падение» Пушкина, — и сообщает попутно, что автор этого «пустословия», быв свидетелем побед русского оружия, не напитался патриотическими чувствами[388].
Это были удары, рассчитанные на уничтожение, литературное и политическое.
Теперь Пушкин пишет свою эпиграмму на «Видока Фиглярина» и памфлетную статью о Видоке — полицейском сыщике, на досуге занявшемся литературой.
Теперь, наконец, сказано громко то, о чем говорили между собой Вяземский, Баратынский, Пушкин в 1829 году: в борьбе против своих неприятелей Булгарин пользуется поддержкой III отделения.
За этой полемикой правительство следит с опаской и беспокойством. Обе стороны вызывают неудовольствие, но за Булгарина ручается Бенкендорф: у него уже прочная репутация благонамеренного.
Пока развертывается эта ожесточенная война, в дельвиговском кружке происходят перемены.
В № 19 газеты, от 1 апреля, Дельвиг печатает свою статью о «Нищем» — новой поэме Подолинского. Отзыв был строг, даже суров: в «Нищем» сошлись, как в фокусе, все пороки, свойственные и ранним поэмам Подолинского: неточность и изысканность поэтической речи, искусственность мелодраматического сюжета, наконец, подражательность. Статья была для Подолинского неожиданностью: Дельвиг не предупредил его, и самолюбивый поэт обиделся, — вероятно, с некоторыми основаниями. Он гордо удалился — но удалился не молча. Он написал эпиграмму на «Литературную газету», где повторил насмешки Булгарина: «Не для большого ты числа, А ради дружбы выходила…» и на время нашел себе приют в «Северном Меркурии» Бестужева-Рюмина, бульварной газетке, осыпавшей Дельвига вульгарными и беззубыми насмешками.
Бестужев-Рюмин взял Подолинского под защиту. Он разбирал «Нищего» в семи номерах газеты подряд, доказывая, что Дельвиг пристрастен. К нему присоединились Булгарин и Греч. Наконец Рюмин поставил точку: в памфлете с прозрачно зашифрованными именами он сообщал, что Подолинский — опасный соперник Пушкину и что последний есть душа всей интриги.
Вероятно, и сам Подолинский думал так же: в поздних своих воспоминаниях он обошел щекотливый вопрос о роли Пушкина в этом деле — но заметил, что Дельвиг боялся, как бы чужой успех не повредил пушкинской славе. Вскоре он уехал из Петербурга в Одессу; до своего отъезда он успел еще раз встретиться с Дельвигом, и тот первым протянул ему руку[389].
Ушел Подолинский, еще ранее отпал от кружка Масальский. Он писал теперь стихотворные комедии, и «Северная пчела» усиленно хвалила их и сообщала, что, по слухам, на автора собирается гроза — но вот уже приступлено ко второму, а там и третьему изданию. Масальского Вяземский очень точно сравнивал с Булгариным: та же плоская моралистичность, та же безжизненность и гладкость стихотворного слога. Об этом написал Дельвиг; в том же смысле высказался и Сомов в «Северных цветах на 1831 год». Булгарин упорно отстаивал «своего» автора и заявлял, что «Литературная газета» пристрастна к нему, потому что он нравится издателям «Пчелы» — но ему, Масальскому, бояться нечего и следует искать благоволения публики, а не «некоторого числа писателей»[390].
Третьим покинул Дельвига барон Розен. У него тоже оказались поводы для недовольства. Кажется, ему не понравился устный отзыв Дельвига о новой его поэме «Рождение Иоанна Грозного». Через некоторое время Дельвиг высказал его в печати. В поэме Розена он находил те же недостатки, что и у Подолинского: искусственность фабулы, рационализм. «Молодые художники! — писал он. — Списывайте более с натуры и не спешите писать на память, наугад». Как и Подолинскому, Розену показалось это диктатом.
Впрочем, к уязвленному авторскому самолюбию примешивались и иные неудовольствия. Сомов сообщал Максимовичу, что Розен рассорился с ними за «безделку»: он хотел, чтобы «лучшее» из припасенного для новых «Северных цветов» было отдано в его альманах — и рассердился на отказ. Все это произошло, по-видимому, в октябре, когда собиралась его «Альциона». В конце ноября Розен сообщал Подолинскому: «И я в разладе с нашими литературными аристократами — что делать!»
Он пытался возместить потерю, укрепляя связи за пределами кружка. Подолинскому он пишет: «Я чувствую, что мы сольемся сердцами! Судьба скоро сведет нас: поэт заглянет в откровенную душу поэта — более не нужно при одинакой страсти к изящному, при истинном благородстве чувств, чтобы заключить поэтический союз <…> Если бог продлит мои дни, то ежегодно буду издавать альманах, с помощию любезного певца Пери, Борского, Нищего и Русалки». Он рассказывал о собственных работах — он действительно писал много — и добавлял: «Греч и Булгарин также дают по статье».
Розеновская «Альциона» переставала, таким образом, быть «спутником» «Северных цветов», хотя и сохраняла близость к ним по составу участников и даже по типу. В этом альманахе нет критического обзора, и Розен не враждует с издателями «Пчелы»; по крайней мере, не враждует явно, в печати; с Гречем у него отношения лояльные, Булгарина он недолюбливает — и, может быть, поэтому из обещанных ему статей Булгарина и Греча в альманахе появляется только вторая. Тем не менее «Северная пчела» рецензирует «Царское Село» и «Альциону» довольно благосклонно[391].
Розен не враждует с Дельвигом, но отходит от него и перестает на какое-то время участвовать в «Литературной газете» и «Северных цветах». Ни Дельвига, ни Сомова нет в его альманахе — но весь круг молодых поэтов представлен, и в их числе не только фрондирующий Подолинский, но и близкий к Дельвигу Деларю.
Деларю был, кажется, единственным из молодых поэтов, кто сохранял неколебимую верность кружку. Может быть, отчасти поэтому его так ценили Плетнев и Дельвиг — и в скудных обрывках переписки с ним читатель может ощутить ту мягкую ласковость интонаций, которая иногда говорит о слепоте дружбы.
M. Д. Деларю — А. А. Дельвигу (Конец октября 1830 г.)
Вот, почтеннейший Антон Антонович, скудная жертва, которую приношу я вам для «Северных цветов». Впрочем, если в «Сев.<ерных> цветах», по какой-либо причине, стихотворения сии не могут быть помещены, то не помещайте — и вообще располагайте ими как вам заблагорассудится. Что же касается до последнего стихотворения («Слава нечестивца»), то мне самому кажется, что его лучше поместить в «Литературную газету». Сделайте одолжение, почтеннейший Барон, прочтите все сие и дайте мне знать с моим же человеком, как Вы намерены распорядиться с сими стихотворениями. А для того, чтобы Вам не беспокоиться много, то посылаю при сем заглавия четырех пьес — и вы только против них напишите — куда что пойдет. Сим весьма меня обяжете. Милостивой государыне Софье Михайловне прошу засвидетельствовать мое почтение, а малютку поцеловать. Как только можно будет — непременно к Вам явлюсь. При сем честь имею быть
покорнейшим слугою Мих. Деларю.
А. А. Дельвиг — М. Д. Деларю (Конец октября 1830 г.)
1. Эдемская ночь? — Сев. цветы
2. Выздоровление? -
3. Глицере? -
4. Слава нечес.<тивца>? -
все четыре пьесы прекрасны и за все благодарю милого Поэта. Особливо «Выздоровление» дышит высокою лирическою поэзией, звуками, подобных которым я давно не слыхал. Пишите, милый друг, доверяйтесь вашей Музе, она не обманщица, она дама очень хорошего тона и может блестеть собственными, не заимствованными красотами. Барон Розен у меня бывает всякой день и в рассеянии не заметил, что я хвораю. Он мне говорил, что вы его спрашивали обо мне и он отвечал, что я здоров. Не верьте ему, если бы мне можно было выходить, давно бы вы меня видели у вас. Целую ручку у почтеннейшей вашей маминьки и поклонитесь Даниле Андреевичу. Всем вам желаю здоровья. Здравствуйте.
Дельвиг[392]
Безусловное одобрение? Слепота дружбы?
В 1831 году Плетнев напишет Пушкину о Деларю и упомянет о прекрасном его таланте. Пушкин ответит сдержанно. «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства. Это второй том Подолинского. Впрочем, может быть он и разовьется»[393].
Дельвиг снисходительнее и пристрастнее и, подобно Плетневу, вероятно, склонен считать талант Деларю «прекрасным».
Но что значит осторожный совет «доверяться своей музе», которая «может блестеть собственными, не заимствованными красотами»? Может — но еще не блестит? Не есть ли это совет не подражать никому, в том числе и ему, Дельвигу?
В «Северных цветах на 1831 год» Дельвиг поместит «Глицере», «Выздоровление», «Могилу поэта» и еще «Сон и смерть» — большое стихотворение, изданное потом отдельно с благотворительными целями; Дельвиг принял издержки издания на свой счет и написал предисловие[394]. Стихи «Глицере» начинались парафразой из Пушкина, «Сон и смерть» — из И. И. Козлова: «Могила поэта», написанная на смерть Веневитинова, была прямым подражанием эпитафии Дельвига.
Дельвиг не мог этого не видеть. Быть может, и «Выздоровление» он предпочел другим стихам отчасти потому, что в нем было менее всего красот заимствованных.
Во всяком случае, он не оставил Деларю без предостережения, которое постоянно адресовал теперь молодым поэтам. Число же их не уменьшалось; на место отколовшихся, отделившихся, обретших самостоятельность — подлинную или мнимую, — в «Северные цветы» приходили другие, в том или ином качестве уже появившиеся на страницах «Литературной газеты».
Два московских поэта открывают этот список имен.
Один из них — Дмитрий Юрьевич Струйский, писавший под псевдонимом «Трилунный», меломан и теоретик музыки, поклонник Байрона. Он был двоюродным братом Полежаева, сыном Юрия Струйского от крепостной, но сыном узаконенным. Семейная вражда разделяла две ветви семейства Струйских; Александр и Дмитрий в одно время учились в московском университете, но общались мало и холодно. Потом они стали сближаться; в 1836 году, когда Полежаев уже в полной мере испытал тяжесть солдатчины, Струйский писал ему и заботился об устройстве его денежных дел. Посредником между ними был близкий приятель Полежаева и также поэт — Лукьян Андреевич Якубович.
Трилунный печатал стихи в «Атенее», «Галатее», «Московском вестнике». Он был близок к «любомудрам» и более других — к Шевыреву; в стихотворении, обращенном к нему, он вспоминал об их дружеских спорах и писал о своем намерении отправиться к нему в Рим:
Нет денег — ехать не могу. Пойду пешком…Этот странный человек, вечно погруженный в себя, с порывистыми движениями и небрежным туалетом, постоянно впадавший в меланхолию, выполнил свое поэтическое обещание. В 1834 году Вяземский, путешествовавший по Италии, встретил в пустынном саду Боболи во Флоренции человека в форменном русском мундирном фраке. Это был Струйский, действительно прошедший пешком пол-Европы; его скудного жалования не достало ни на дилижанс, ни на щегольское одеяние туриста. Он дошел до Рима и был дружески принят русскими художниками; он старался не упустить ни одной музыкальной или живописной достопримечательности и повидал многое и многих. Вернувшись, он печатал статьи о музыке, европейской живописи, путевые записки, писал музыку и стихи. Он умер в середине 1850-х годов, впав в помешательство, — не то в Париже, не то в Оверни, куда его отвез брат.
Этот-то человек появляется в июне 1830 года на страницах «Литературной газеты»; несколько ранее, в номере от 1 мая, Дельвиг благосклонно отзывается о его «альманахе» «Стихотворения Трилунного», состоявшем только из его собственных стихов. Критик был верен себе и сказал молодому поэту то же, что говорил и Подолинскому и Розену: пишите, но не торопитесь печатать, берите пример с Пушкина, «выдерживающего» свои стихи. Трилунный не обиделся советом, в отличие от Розена и Подолинского — да он и не был избалован похвалами: «Северная пчела» решительно отказала ему в поэтическом таланте.[395] Он начал печататься в газете Дельвига систематически и опубликовал здесь около трех десятков стихотворений, прозаических отрывков и музыкальных рецензий.
И почти таким же образом начинает участвовать в газете будущий глава московского философского кружка, памятный в летописях русской литературы Николай Владимирович Станкевич. В июле Дельвиг рецензирует его трагедию «Василий Шуйский»; он обращает внимание на несомненный талант юного драматурга — но трагедию оценивает критически, измеряя ее меркой «истинно романтической» трагедии в понимании Пушкина. Так же отнесется к Станкевичу и Сомов в очередном обзоре в «Северных цветах» и повторит при этом уже ставшую привычной дельвиговскую заповедь молодым писателям «обдумывать зрелее свои творения» и не увлекаться скоропреходящим успехом.
Когда Станкевич переедет из Воронежа в Москву, он станет посылать в «Литературную газету» свои стихи.
Он пришлет сюда «Кремль» («Склони чело, России верный сын…»), «Грусть» и стихотворение «Филин», напечатанное в «Северных цветах на 1831 год». В следующей же книжке альманаха — на 1832 год — появятся его «Песнь духов над водами» (перевод из Гете) и «Бой часов на Спасской башне». Какие-то из присланных стихов остались ненапечатанными: когда Греч и Булгарин поместили у себя без ведома автора стихи «На могилу сельской девицы», Станкевич печатно протестовал и сообщал читателям, что они «отосланы были несколько лет тому назад к покойному О. М. Сомову вместе с другими, давно напечатанными в „Литературной газете“ и „Северных цветах“, и как попали в „Сын отечества“ — неизвестно». Уже в 1831 году ему далеко небезразлично, где появятся его стихи, и именно в «Литературную газету» он отправляет песню «Перстень» «самородного поэта г. Кольцова», двадцатилетнего воронежского мещанина, прося Сомова представить его читателям[396].
Дельвиговский кружок собирает литературные силы.
Среди них — писатели первой величины, средние, малые. Станкевичу предстоит стать главой кружка, формировавшего Белинского, Кольцову — одним из ведущих поэтов времени Белинского, Трилунного ждет забвение, других — полная неизвестность.
В «Литературной газете» и «Северных цветах» есть писатели, которых мы не знаем даже по имени.
В № 43 от 30 июля 1830 года рядом с пушкинским «Арионом» напечатано стихотворение «Смуглянка», подписанное только в оглавлении всего тома, и то тремя буквами фамилии: «Ш-б-в». Восточная экзотика этих стихов привлекла внимание читателей; «Смуглянку» читали и распространяли в списках. Ее приписывали перу Пушкина.
Удивительнее всего, что так думал даже А. Н. Вульф и, вероятно, П. А. Осипова, приславшая ему экземпляр «Литературной газеты». Они знали, что «Арион» — пушкинские стихи и распространили его авторство на соседнюю анонимную пьесу.
Списки «Смуглянки» с именем Пушкина всплывают и по сей день; это одно из самых популярных стихотворений в псевдопушкиниане.
О подлинном авторе почти ничего неизвестно, и даже фамилию его мы устанавливаем предположительно. Он напечатал еще несколько стихотворений в «Литературной газете», «Альционе» и в двух книжках «Северных цветов» — на 1831 («Неаполь») и 1832 год: «Элегия» («Недолго теплый ветер лета…») и «Утешение, из А. Шенье». Стихи эти довольно типичны для эпигонской романтической лирики начала 1830-х годов; их особенность — устойчивый интерес их автора к поэзии Андрея Шенье. Они подписаны «Ш…ъ», «Ш-б-въ», «Н. И. Ш-б-въ».
Анаграмму эту обычно раскрывают как «Шибаев» — вероятно потому, что этой фамилией подписан рассказ, появившийся в 1834 году в «Библиотеке для чтения», да потому еще, что в петербургской адресной книге за 1837 год значится некий чиновник 12 класса Николай Иванович Шибаев, живущий на Адмиралтейской площади. Но может быть — да и скорее всего — это другое лицо или даже другие лица.
Одно стихотворение этого поэта адресовано Василию Евграфовичу Вердеревскому, который, видимо, был с ним как-то связан. Вердеревский долго жил в Москве; среди московских жителей в 1830 году был некто штабс-капитан Николай Иванович Шибаев, в следующем же году вышедший в отставку.[397]
Тот ли это человек, которого мы ищем? Или автор «Смуглянки» окончательно поглощен литературным небытием?
Мы не знаем о нем ничего, как ничего не знаем о другом поэте, по имени «Н. Ставелов», который печатался в «Литературной газете» и «Северных цветах». И лишь немногим более нам известно о Платоне Григорьевиче Волкове, поэте, поместившем в «Северных цветах на 1831 год» два стихотворения: «Мечта» и «Русалки (Фантазия)», — хотя у Волкова были более широкие литературные связи и он был не только автором, но и издателем[398].
Писатели средние, малые, вовсе незаметные.
В их числе будет провинциальный юноша, издавший под псевдонимом «В. Алов» идиллию «Ганц Кюхельгартен», строго раскритикованную «Телеграфом» и «Северной пчелой». Это было в 1829 году, когда Сомов писал обзор для «Северных цветов на 1830 год» и единственный из всех ободрил начинающего. Молодой человек пугливо скрывался от столичных литераторов; он анонимно послал свой труд Плетневу — и затаился.
Вероятно, от Плетнева Сомов получил книжку и, конечно, обратил внимание на украинизмы. Может быть, по связям своим с Сербиновичем он поинтересовался автором. Сербинович цензуровал идиллию, и безызвестный «В. Алов» писал ему и трижды являлся с визитом в мае 1829 года[399].
Сербинович знал, что юношу зовут Гоголь-Яновский и, вероятно, знал, что он приехал с Украины, из Нежина. Далее для нас все скрывается во мраке. Мы можем предполагать только, что Сомов сознательно поддержал молодого земляка.
Он дорожил своими связями с Украиной. Он писал об украинском фольклоре, истории и быте и печатал эти свои повести в «Северных цветах». В «Полтаве» Пушкина он искал следы исторического прошлого Украины; Максимовича настойчиво побуждал продолжать «Малороссийские песни» и обменивался письмами с Иваном Петровичем Котляревским, самым крупным из здравствовавших тогда украинских писателей; тот обещал ему прислать свои арии из «Полтавки» и «Москаля Чаривника» и отдал в «Северные цветы на 1830 год» «Малороссийскую песню»[400].
Так начиналась предыстория отношений Гоголя с «Литературной газетой» и «Северными цветами» — но сближения в этот раз еще не произошло: внезапно Гоголь исчез.
Обескураженный неудачей своего первого опыта, не найдя места в Петербурге, увлекаемый вдаль какими-то одному ему известными таинственными обстоятельствами, он сел на корабль, отправлявшийся в Любек. Месяц он пробыл за границей, затем снова искал службу, сотрудничал у Свиньина в «Отечественных записках» и бывал у Булгарина.
Он вернулся в лоно «Северных цветов» осенью 1830 года — каким образом, нам неизвестно. В книжке альманаха на 1831 год была напечатана его «глава из исторического романа» — по-видимому, «Гетьмана», от которого остались только отдельные отрывки.
«Литературная газета» отнимала у издателей, казалось, все время и силы — но Дельвиг не собирался отказываться от «Северных цветов». Тому было много причин, и не последней была та, что доход от газеты был не велик. Она подорвала влияние Булгарина в литературных кругах, но не могла привлечь на свою сторону то читательское большинство, которое и составляло основную аудиторию «Северной пчелы». Она оставалась газетой для писателей и небольшого круга образованных читателей.
Альманах должен был поддержать материальные дела издателей.
Уже 3 сентября в газете появляется объявление о готовящейся книжке «Северных цветов».
Печатая этот анонс, Дельвиг понимал, конечно, что перед ним встают трудности особого рода. Газета, конечно, объединила прежние разрозненные силы — но лишь до известных пределов. Ее основными участниками все более становились поэты «младшего поколения», бывшие здесь, рядом; в ней трудился в поте лица Орест Сомов, сам Дельвиг — и, пожалуй, Вяземский и Пушкин; остальные появлялись от времени до времени. Вяземский жил теперь в Петербурге, но постоянно отлучался; Пушкина не было в столице уже несколько месяцев: он был в московских предсвадебных хлопотах. Баратынский за все время напечатал в газете три эпиграммы на Полевого и умолк. С отъездом Вяземского и нового друга его И. В. Киреевского Москва пустела для него; он жил в подмосковной и редко наезжал в город. С 1829 года он писал большую поэму «Наложница», которая должна была вызвать всеобщее возмущение журнальных моралистов: самое название было вызывающим, а сюжет — «ультраромантический», с безумием чувственной страсти, ревностью и ядом. Все это казалось похожим на Подолинского, и потому Баратынского так раздражал «Борский»; отличие было в том, что бурные страсти в «Наложнице» вытекали из логики характеров и ситуаций, — но как раз этой разницы, как можно было предвидеть, не поймет ни критика, ни публика.
С Языковым дело обстояло не лучше. Он, правда, отдал в газету стихи первоклассные, но числом Баратынского не превзошел: от него тоже было получено три стихотворения. Самые следы его потерялись: он уехал из Дерпта в Симбирск, а с марта 1830 года тоже жил в Москве. Сомов просил Максимовича справиться об адресе.
Даже Федор Глинка, надежда и утешение всех альманашников, не подарил до сих пор газету ни одним стихотворением — и это было совершенно понятно. В начале 1830 года долговременные хлопоты его петербургских друзей увенчались, наконец, частичным успехом: он был переведен из Петрозаводска, хотя и не в Петербург, но в Тверь, лежавшую на почтовом тракте между Петербургом и Москвою; он переезжал, устраивался, ему было не до стихов, и связи с ним предстояло налаживать заново.
Дельвиг сделал это через Левушку Пушкина, который приехал в Петербург на летние месяцы и отправлялся обратно через Тверь. Левушка взял с собой письмо Дельвига к Глинке. «Кто не ездит в Москву из Петербурга и обратно? — писал он. — Кто из добрых людей не посмотрит на вас и не привезет к нам об вас весточки?»[401] Письмо было написано 18 июля — а 29 августа в газете появляется первое стихотворение Глинки.
Баратынский, Языков, даже Глинка — все это были вкладчики прежних книжек, без которых «Северные цветы» грозили опуститься до уровня в лучшем случае «Невского альманаха». Между тем они должны были быть представительнее даже «Литературной газеты», чтобы иметь успех. Дельвиг должен был конкурировать сам с собой.
В середине июля приехал Пушкин, и Дельвиг говорил с ним об альманахе. Пушкин обещал стихи и даже, кажется, наметил, какие именно.
3 августа вернулся Вяземский со своих ежегодных ревельских купаний[402]. И Пушкин, и Вяземский торопились в Москву.
В этот приезд Вяземскому неожиданно пришлось ближе сойтись с Дельвигом. Они разговорились случайно, во время поездки к какому-то общему знакомому на дачу под Петербургом, — и Вяземский открыл для себя Дельвига, как несколько лет назад открыл Баратынского. Он удивлялся ясной и спокойной философии своего собеседника, говорившего с ним о смерти. Какое-то предчувствие послышалось Вяземскому в его словах. И тогда же Дельвиг рассказал ему план задуманной им повести о домашней драме, подмеченной с улицы.
Вероятно, Вяземский понял, что Дельвиг говорил о себе. «Домашняя драма» была его драмой, и даже недавнее рождение дочери не в силах было стереть ее.
10 августа Пушкин и Вяземский уезжали. Дельвиг пошел проводить Пушкина до Царского Села. Они вышли вдвоем. Было раннее утро, и у Дельвига, привыкшего вставать поздно, болела голова. Они зашли позавтракать в придорожном трактире и затем отправились далее. Завтрак подкрепил Дельвига, ему стало легче, и он развеселился.
По дороге он рассказал Пушкину тот же сюжет, который уже слышал Вяземский[403].
И Вяземский, и Пушкин запомнили этот разговор — и не без причины.
Во Франции была революция, в России — холера.
Три дня на парижских улицах лилась кровь и летели камни с баррикад в швейцарских гвардейцев; на третий день были заняты Лувр и Тюильри. Карл Х бежал, и фигура «короля-буржуа», с зонтиком подмышкой — Луи-Филиппа Орлеанского — уже вырастала перед опустевшим троном.
Шатались пьедесталы законных монархий в Европе.
Холера двигалась на север от Астрахани, охватывала Саратовскую и Нижегородскую губернии и уже показывалась в Москве. Путь ее отмечался карантинными кордонами. Жизнь замирала, одни повозки, наполненные трупами, следовали по опустевшим улицам. Почта не принимала посылок, получались только письма, проколотые и окуренные серой.
С эпидемией шла волна холерных бунтов.
Такова была осень 1830 года.
29 октября Дельвиг писал Вяземскому обеспокоенное письмо, где в числе других новостей сообщал, что собирает и уже начал печатать «Северные цветы».
Двумя днями ранее Сомов жаловался В. Г. Теплякову, что Пушкин, Вяземский и Баратынский в Москве и по сие время строчки не прислали для альманаха и газеты, что Языков как в воду канул, а Подолинский в Киеве и сердится за отзыв о «Нищем»… «Жду от вас обещанного, — напоминал он, — 3-го письма из Варны, 1-й Фракийской элегии и еще несколько стихов»[404].
Материалы для книжки понемногу все же приходили. Из Рима Дельвиг получил продолжение очерков Зинаиды Волконской и довольно большой запас стихов от Шевырева. Здесь совершенно неожиданно помог Булгарин, задевший Шевырева в «Пчеле»; тот отправил в «Литературную газету» полемический отклик, затем второй[405] и с этим вторым прислал по крайней мере восемь стихотворений. Семь из них Дельвиг поместил в альманахе. Это были «Чтение Данта», «Две песни. Любовь до счастия и после», «Широкко», «Ода Горация последняя» (стихотворение оригинальное, как предупреждал и сам Шевырев), «К Фебу», «Тройство». Стихи были навеяны римскими впечатлениями и итальянскими поэтами, изучению которых с усердием предался новый поклонник вечного города. Он собирался прислать и прозы, но что-то помешало ему.
Объявился и Языков. Дельвиг получил от него элегию на смерть Арины Родионовны, «прекрасную элегию», как писал он Вяземскому. В ней был и поэтический привет Пушкину — воспоминание о Михайловском лете 1826 года.
Языков, хотя и с запозданием, платил свой долг: 17 марта в «Литературной газете» был напечатан отрывок из послания Пушкина к Языкову: «Издревле сладостный союз…»
Баратынский обещал отрывок из «Наложницы», но медлил.
Наконец, в Петербурге был Василий Туманский. В «Северные цветы» он отдал одно из самых знаменитых своих стихотворений — «Мысль о юге» и несколько других, также удачных: перевод из Шенье «Гондольер и поэт», «Романс (На голос вальса Бетговена)», «Судьба», «Идеал» — и еще два, о которых позже.
Обо всем этом Дельвиг рассказывал Вяземскому, несколько менее подробно, и просил его поторопиться присылкой стихов и если можно прозы и передать Пушкину, чтобы он также поспешил.
Дельвиг спокоен и одобряет Вяземского: «Пишите и верьте в мое счастие. Кого я люблю, те не умирают»[406].
Между тем над собственной его головой собирается гроза.
Письмо Вяземскому писалось на следующий день после того, как в «Литературной газете» были опубликованы четыре стиха Казимира Делавиня, посвященные жертвам июльской революции.
Дельвиг не знает еще, что через несколько дней его введут в кабинет Бенкендорфа в сопровождении жандармов, и тот возвысит голос и станет обращаться к нему на «ты» и пообещает упрятать его в Сибирь вместе с его друзьями — Пушкиным и Вяземским. Давние подозрения вырвутся наружу: у Дельвига собирается кружок молодых людей, настроенных против правительства. Здесь не будет места ни объяснениям, ни оправданиям: разъяренный шеф жандармов не станет слушать ни тех ни других. Он сошлется на Булгарина как на источник своих сведений, и гнев его достигнет апогея, когда Дельвиг намекнет, что Булгарин — агент тайной полиции.
15 ноября приходит официальное уведомление о запрещении Дельвигу издавать «Литературную газету» [407].
У него хватило сил написать Пушкину полушутливое письмо, в котором он не смог скрыть горечи от незаслуженного оскорбления. Он сообщил, что газета не принесла выгоды и к тому же запрещена; что Булгарин, из корыстолюбия творящий «мерзости», объявлен верным подданным, а он, Дельвиг, карбонарием, и что в этих обстоятельствах ему срочно нужно «стихов, стихов, стихов» для «Северных цветов», которые должны помочь ему более чем когда-либо. Он писал Пушкину в середине ноября, еще, видимо, не получив его письма от 4 числа.
Письма шли долго: Болдино было окружено карантинами. 4 же ноября Пушкин выслал «барону» свою «вассальную подать», «именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов»[408].
Пушкин прислал пять стихотворений: сонет «Поэту», «Ответ анониму» и три написанных в путешествии: «На холмах Грузии…», «Монастырь на Казбеке» и «Обвал». Второе из них было для Дельвига новостью: оно было написано уже после отъезда. Первым Дельвиг открыл стихотворный отдел: это была декларация, которой его альманах отвечал на эстетические и политические требования «Пчелы» и «Телеграфа»:
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.Все это потом Пушкин перефразирует в своем поэтическом завещании:
Хвалу и клевету приемли равнодушно…От Баратынского пришли два отрывка из «Наложницы». Вяземский откликнулся почти молниеносно: уже 21 ноября он отправил Дельвигу два письма, одно со стихами. Вяземскому принадлежало в альманахе семь стихотворений: «Осень 1830 года», «Святочная шутка», «Эпиграмма», «Леса», «Родительский дом», «К журнальным благоприятелям», «К А. О. Р***» — юной Александре Осиповне Россет, чьи «черные очи» Вяземскому уже случилось воспевать однажды. Три последних стихотворения были напечатаны в самом конце альманаха; вероятно, они были присланы в последний момент. 24 ноября Вяземский посылал через Баратынского еще «Прогулку в степи», но эти стихи опоздали. Когда в декабре 1830 года «Литературная газета» вновь стала выходить — уже под редакцией О. Сомова — «Прогулка» нашла себе приют на ее страницах[409].
Вяземский дал в альманах стихи, написанные за последние месяцы; в них говорили разные голоса и настроения. Тон шутливый или мадригальный сменялся саркастической веселостью эпиграммы в «Журнальных благоприятелях»; элегическая интонация «Родительского дома» — торжественной меланхолией «Лесов». В «Осени 1830 года» лирика природы перестала быть вневременной: лютый мор, царивший вокруг, отразился в стихах лирической темой бедствующего и гибнущего человечества.
Вяземский явился в альманах, как и в прошлый раз, в окружении молодых поэтесс. Место Готовцевой заступила теперь Екатерина Александровна Тимашева, которой и была адресована «Святочная шутка»; наряду с этим шутливым мадригалом а альманахе появился и «Ответ» Тимашевой, несомненно, также присланный Вяземским. Литературному покровителю Тимашевой не было нужды рекомендовать ее Пушкину, как Готовцеву. Пушкин знал ее по Москве и в 1826 году обменялся с ней посланиями — но Вяземский, по-видимому, подвигнул Пушкина на вежливый жест: послать Тимашевой альманах с ее стихами, что очень польстило ее авторскому самолюбию, впрочем, не чрезмерному[410]. Тимашеву в Москве знали: она была не лишена дарований и очень привлекательна. Языков и Баратынский посвятили ей по стихотворению.
Тимашева была «белой дамой» из «царства фей», влекущих к себе неодолимой силой скрытого страдания.
Так представлялась она двадцатилетней Додо Сушковой, посвятившей ей стихи в 1831 и в следующем году.
Додо Сушкова — будущая Евдокия Петровна Ростопчина — была второй поэтессой, попавшей в альманах с легкой руки Вяземского. Девушку воспитывали в семействе деда — И. А. Пашкова; Пашковы же были знакомы всем коренным москвичам, и Вяземский бывал у них. Он прочел стихи Додо, которые она писала втайне от патриархальных родных, считавших это занятие предосудительным; списал «Талисман» и без ведома автора отправил в «Цветы», подписав «Д……а» — Дарья Сушкова — так он расшифровал семейное уменьшительное имя. Секрет вышел наружу; дед и бабка разбранили внучку и строго заказали ей печататься — но исправить дела уже было нельзя. «Талисман» переписывали, заучивали наизусть. Это были стихи непривычные и необычные: стихи о тайной и едва ли не запретной любви, написанные двадцатилетней девушкой[411].
Через десять с лишним лет известная поэтесса графиня Ростопчина включит их в свой автобиографический стихотворный роман «Дневник девушки». Юная Зинаида — поэтический двойник Додо Сушковой — прямо обратит их к предмету своей девической страсти. Мотив «талисмана» пройдет через всю шестую главу романа, названную «Она любит», и в главе получат разъяснение скрытые намеки и случайные на первый взгляд образы, которые есть уже в первой редакции «Талисмана».
Быть может, старики Пашковы угадывали интимный смысл в лирических стихах внучки? И «Дневник девушки» в том или ином виде уже существовал в 1830 году?
В одиннадцатой главе поэтической исповеди Зинаиды мы находим несколько стихотворений романсного типа, обращенных к возлюбленному:
Люблю я взор его очей, Люблю я звук его речей…Все они довольно близки к другому стихотворению в «Северных цветах на 1831 год» — «Любила я твои глаза…», подписанному экзотической анаграммой «З…я Р…». Почти нет сомнений, что автором их была та же «Зинаида» — Додо Сушкова — особенно тщательно скрывшая здесь свое имя.
Эти стихи тоже знали — в кругу Вяземского. Знакомец его М. Ю. Виельгорский написал к ним музыку. Романс был издан поздно, но пели его уже в 1830-е годы. 16 февраля 1834 года Виельгорский исполнял его у И. И. Козлова в присутствии Жуковского, Вяземского и Даргомыжского[412].
8 цензурной рукописи «Северных цветов» стихи А. Одоевского, «З…и Р….ой», «Талисман» и три стихотворения самого Вяземского («Святочная шутка», «Эпиграмма», «Родительский дом») переписаны одной рукой. Видимо, Вяземский дал их переписать своему писцу в Москве и прислал одновременно.
Третьего же октября он послал Дельвигу письмо «с отрывками к.<нягини> Зенеиды» — Зинаиды Волконской, — и Дельвиг уведомлял его, что они будут напечатаны в «Северных цветах»[413].
При помощи и покровительстве Вяземского женщины-авторы являлись в дельвиговском альманахе. Они писали уже не только путевые записки, дидактические романы и благочестивые стихи — они заявляли перед публикой свои права на лирическое самовыражение и духовное самоутверждение.
Это было новостью и знаменем времени. Борьба за общественное равноправие женщин еще впереди — но «женское движение» уже делает свои первые шаги.
Из тетради Вяземского пришли к Дельвигу три стихотворения Александра Одоевского — «Тризна», «Бал» и «Луна».
Первое из них — «Тризна» — принадлежало к лучшим стихам декабристской каторги. В песне скальда как будто воскресал мажорный дух прежней гражданской поэзии:
Утешьтесь! за падших ваш меч отомстит…Дельвиг продолжал печатать «недозволенное».
9 декабря 1830 года цензор Н. П. Щеглов вынес на суждение Петербургского цензурного комитета два стихотворения В. И. Туманского — «Сетование» (в новой, переработанной редакции) и «Стансы» и статью графа Д. Н. Толстого-Знаменского «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина».
Этот Толстой стал впоследствии довольно известным историком; тогда же он был скромным молодым чиновником комиссии принятия прошений и только начинал свое литературное поприще. Он приехал из Москвы, где в числе его знакомых были люди, тронутые декабристскими веяниями. Двадцатилетним юношей он отказался идти на празднества в честь коронации «деспота». В Москве он приобщился и к литературе; сослуживец его В. П. Пальчиков, довольно коротко знавший Пушкина, приносил ему новые пушкинские стихи. В своей статье Толстой писал об общественном значении поэта, который есть «выражение образа мыслей и чувствований своего века» и потому представитель гражданской и интеллектуальной жизни нации. Таков Ломоносов, Державин — и таков Пушкин. Общественное мнение увенчало его, и это дало ему право называться великим, ибо он «ответствует сему мнению, ответствует направлению народного духа и идет наравне с веком…».
С мыслями Толстого словно перекликались «Стансы» Туманского:
Теперь не суетную лиру Повесь на рамена, певец! Бери булат, бери секиру, Будь гражданин и будь боец.Стихи говорили об июльских событиях во Франции и начавшемся польском восстании. Туманский не был на стороне восставших, но в «Стансах» звучала еще прежняя, декабристская символика. Его поэт был уже не только голосом нации, но избранником и вождем. И словно нарочно, та же тема варьировалась в катенинском «Гении и поэте», присланном для «Цветов» еще в конце октября. Катенин прямо писал о свободе Греции и процветании «Вашингтоновой земли». В годину борьбы за свободу, заявлял он, поэт должен возвышать голос: иначе его покинет поэтическое вдохновение.
Катенин предчувствовал, что его стихи не пройдут через цензуру, — так и оказалось. Равным образом в «Стансах» и статье Толстого было обнаружено «направление мыслей неблагоприятное, судя по обстоятельствам времени». «Сетование» было разрешено с изменениями, и Туманский перепечатывать его не стал. Из всех подозрительных стихов по странной иронии судьбы только стихи «государственного преступника» А. Одоевского прошли через цензурный кордон[414].
То же, что было задержано, в совокупности своей должно было читаться как прямая декларация гражданственности в литературе — и она готовилась к печати уже после того, как была запрещена «Литературная газета» и произошел разговор Дельвига с Бенкендорфом.
Дельвиг не собирался, конечно, дразнить самодержавную власть. Но его личность и взгляды были сформированы не ею, а эпохой и обществом, которые во многом ей противостояли. И эти взгляды должны были на каждом шагу противоречить официальным требованиям.
Он совершенно искренно отвергал обвинения Бенкендорфа в злоумышлениях против правительства — но шеф жандармов не верил ему. И тот, и другой были по-своему правы.
Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков — прежнее «ядро» участников альманаха — предстало и в этой книжке «Цветов». Из старших поэтов — И. И. Козлов с «Песней Дездемоны» и Гнедич.
Выход «Илиады» и пушкинский отклик примирил Гнедича с дельвиговским кружком. Сомов в своем обзоре заявил еще раз печатно, что гнедичева «Илиада» была бесспорно «замечательнейшим поэтическим явлением сего полугодия», и необъятная разность существует между нею и всеми до сих пор бывшими переводами древней поэмы. Он вступил в полемику с Надеждиным, который в «Московском вестнике» противопоставлял перевод Гнедича новейшей романтической поэзии. Гнедич также поспешил ответить «Возражением»[415]. Он не собирался стать орудием сторонников Каченовского в борьбе против Пушкина.
Сомов вносил свою лепту в «борьбу за Гнедича» — и словно в завершение этой борьбы «Северные цветы» перепечатывают два старых послания — Плетнева к Гнедичу и ответное Гнедича к Плетневу. Последнее из них еще не появлялось в печати полностью: отрывок из него, как мы помним, был помещен Дельвигом в «Северных цветах на 1828 год». Теперь читателю предлагался весь поэтический диалог, из которого вырисовывалась фигура Гнедича как наставника литературной молодежи — поздний отзвук той репутации Гнедича, которую создала ему поэзия начала 1820-х годов.
С этими стихами в альманах как будто входило веяние еще не столь давнего прошлого. Прежние члены Общества любителей российской словесности собирались за одним столом.
Плетнев дал в альманах еще одно стихотворение: «Отрывок» («Покинув родину, страну суровых вьюг…»).
Федор Глинка прислал прозаическую аллегорию «Новая пробирная палатка» и семь стихотворений («Непонятная вещь», «Отрадное чувство», «Тоска о нем», «К синему небу», «Бедность и утешение», «Осень и сельское житье», «Приметы»).
Пять стихотворений, как мы уже говорили, принадлежало Василию Туманскому.
Давние знакомцы были рядом, на соседних страницах, под одним переплетом. Но как все изменилось в них и вокруг них!
Старшее поколение уходило с литературной сцены. «Илиада» была лебединой песнью Гнедича. Глинка достиг в «Карелии», кажется, своего предела. Мелкие его стихи уже более ничего не открывали: кимвалы 1820-х годов перестали греметь, страдание узника и поселенца уступило место усталой резиньяции. Плетнев уже почти не писал стихов.
Вокруг кипела жизнь нового литературного поколения, и она проникала на страницы «Северных цветов».
Здесь были прежние «любомудры» и их окружение, начиная с Зинаиды Волконской и с Шевырева. «Московская литература» переселялась в Рим и в Петербург. Мы упоминали уже, что Титов и Одоевский сотрудничали в «Литературной газете».
Титов дал в альманах повесть «Монастырь святой Бригитты», подписанную, как и прежняя, «Тит Космократов». Повесть была слабой; образованный и заносчивый эстетик в собственной прозе становился вял и подражателен. «Монастырь святой Бригитты» перефразировал ливонские повести Бестужева[416].
Зато сотоварищ Титова, В. Ф. Одоевский, стяжал успех серьезный и заслуженный. Ему принадлежала повесть «Последний квартет Беетговена», подписанная также псевдонимом-анаграммой: ъ. ъ. й. Эту новеллу о романтическом безумце, оглохшем гениальном музыканте, живущем в мире созданных им звуков, читал Пушкин и пришел в восторг: он пророчил Одоевскому европейскую славу. Даже литературные неприятели «Северных цветов» благосклонно отнеслись к повести Одоевского[417]. Она отнюдь не была дебютом, но первым шагом зрелого писателя.
«Любомудры» уже не были теми «архивными юношами», которые собирались в 1827 году у Погодина. Они менялись, и жизнь разводила их. Но нечто общее сохранялось во всех них: устойчивый интерес к философии, эстетике, искусству.
Трилунный-Струйский наследовал этот интерес. Он печатал в «Цветах» «выдержки из записной книжки» — полуисповеди, полупсихологические этюды, размышления о религии и безверии, о Руссо, о старении человеческих обществ. И вновь о музыке: о Бетховене, Моцарте и Гайдне.
В «Альпийских соснах», в «Слезах» он отдавал дань философско— ал-легорической поэзии старых «любомудров». Он принес в «Цветы» еще два стихотворения: «Смерть праведника» и «Обличитель». Первое пошло в «Литературную газету», второе не попало никуда: в цензурной рукописи «Цветов» сохранился его автограф, кем-то зачеркнутый[418].
А далее шли новые прозаики и поэты, привлеченные к участию в дельвиговской газете: Платон Волков («Мечта», «Русалки»), Деларю, Станкевич, Тимашева, таинственный «Ш-б-в» («Неаполь», «Элегия»), В. Н. Щастный, поместивший здесь отрывок из драматической фантазии старинного своего знакомца Юзефа Коженевского «Отшельник». В числе поэтов второго и третьего ранга был, как обычно, и старинный участник «Цветов» и «Полярной звезды» — В. Е. Вердеревский, принесший два перевода из Горация «К Фидиле» и «К Мельпомене».
Из этих поэтов самым значительным был Виктор Тепляков.
Тепляков выполнил то, что обещал Сомову. В «Северных цветах» появилось его «Письмо III из Турции» — проза блестящая и ироническая, составившая затем одну из главок «Писем из Болгарии». Первые два письма он опубликовал в «Литературной газете». Из этих писем вырастали его «Фракийские элегии», и первая из них — «Отплытие», напоминавшая читателю о Чайльд Гарольде и молодом Пушкине («Погасло дневное светило»), — также напечатана в «Северных цветах на 1831 год». Тепляков прислал еще эпиграмму «Современное благополучие» и «Румилийскую песню», также написанную по впечатлениям путешествия.
На страницах «Северных цветов» очерчивалась биография «русского Мельмота» — не литературная только биография, но драматическая жизненная судьба.
Таково было содержание «Северных цветов». Но мы забыли одно имя, — точнее, оставили его напоследок, как самое важное приобретение альманаха в новой литературе.
Строго говоря, имени не было. Оно было обозначено четырьмя «о»: оооо.
Эта подпись стояла под «главой из исторического романа», которую написал человек с четырьмя «о» в имени и фамилии: Николай Гоголь-Яновский.
За несколько месяцев Гоголь успел познакомиться с петербургскими журналистами, напечатать несколько статей у Свиньина в «Отечественных записках» и порвать со Свиньиным: самоуправный редактор слишком вольно обходился с чужой литературной собственностью, печатая ее анонимно и исправляя до неузнаваемости. Уйдя от Свиньина — поздней весной или летом, — Гоголь решился на некоторое время оставить сотрудничество в журналах, но тут-то и произошло его сближение с дельвиговским кружком. Едва ли не Сомов снова сыграл здесь свою роль. Уже во второй половине года, когда он писал свой обзор, ему было известно, что украинская повесть «Бисаврюк», анонимно помещенная в «Отечественных записках», сочинена «одним молодым литератором, Г-м Г. Я…», Гоголем-Яновским, и он не преминул отметить ее в своей статье. «Молодой литератор» служил в это время в департаменте уделов, под началом старинного знакомца Сомова В. И. Панаева; впрочем, это была только одна линия возможных связей. В «Литературной газете» сотрудничал «однокорытник» Гоголя по Нежину В. И. Любич-Романович, переводчик Мицкевича, о котором Сомов также отозвался благосклонно; цензор Сербинович, о чем мы уже упоминали, также был общим их знакомым; Плетневу Гоголь посылал первую свою книжку; наконец, В. Н. Щастный был близок всему нежинскому кругу. Таким образом, у Гоголя не было недостатка в путях, по которым он мог войти так или иначе в дельвиговский кружок[419].
Два его сочинения Сомов помещает в первом номере «Литературной газеты» за 1831 год.
Сохранилась цензурная рукопись «Северных цветов на 1831 год». По составу и расположению она соответствует печатной книжке, что естественно: она была и наборной рукописью.
Ее листы заполнены разными почерками; писарские копии, автографы сплетены вместе. На ней дата: 15 ноября 1830. В это время рукопись поступила в цензуру; окончательное же разрешение получила позже: 18 декабря.
Крупным, разборчивым почерком Сомова переписан его собственный обзор. Чем далее к концу, тем больше в беловой рукописи зачеркиваний и помарок. Вероятно, Сомов писал уже без черновика: спешил. Он же переписывал стихи Пушкина — «Поэту», «Ответ анониму», «Монастырь на Казбеке», «Отрывок (На холмах Грузии…)»; Вяземского — «Осень 1830 года», Готовцевой — «Ответ» и «Приметы» Ф. Глинки.
Другим почерком переписаны отрывок из «Наложницы» Баратынского и «Леса» Вяземского. Это, вероятно, рука Софьи Михайловны Дельвиг.
Безыменный петербургский писец переписывал присланные стихи Станкевича «К синему небу» и «Непонятную вещь» Глинки, «Главу из исторического романа» Гоголя; другой — «Анониму» и «Обвал» Пушкина, третий — стихи Вердеревского, четвертый — Шевырева…
Тверской писец трудился над стихами Глинки, одесский — над сочинениями Теплякова. У Теплякова ужасный почерк: даже исправления на копию нанесены писцом. Листки, присланные Тепляковым, проколоты: холерный карантин.
В. Ф. Одоевский перемарал копию: сделал вставки и изменения в «Последнем квартете Беетговена». Аккуратный Василий Туманский поступил противоположно: все свои стихи переписал сам каллиграфически. То же сделал и Деларю: все его стихи — автографы, кроме «Могилы поэта». В автографах — стихи Плетнева, Трилунного, неизвестного нам «Шибаева», который и здесь поставил вместо подписи анаграмму: «Ш-б-въ».
Все эти люди — рядом, в Петербурге, они близки к делам альманаха.
Под каждым из произведений стоит изящная, четкая подпись цензора Н. П. Щеглова, сменившего Сербиновича.
Его пометы мы находим и на полях рукописи. В обзоре Сомова он подчеркивает полемические резкости, но строже всего следит, чтобы было соблюдено уважение к священным предметам.
В «Монастыре святой Бригитты» Титова он отчеркивает выпады против монахов и монастырей. «О монахах не худо судить поосторожнее». Монахи католические, и для пресечения кривотолков он всюду, где можно, вставляет собственной рукой: «римские», «римско-католические». Два пассажа заменяются по его требованию[420].
В любовных стихах Деларю — «Глицере» он отмечает «святой огонь» и «божественные красы». «NB. Святость тут совсем не у места»[421].
Эта осторожность напоминала времена легендарного Красовского, запрещавшего стихи, где возлюбленная называлась ангелом.
Еще в феврале Пушкин обращался к попечителю Петербургского учебного округа с просьбой вернуть Сербиновича или дать вместо Щеглова цензора менее «своенравного»[422]. Просьба последствий не возымела. Впрочем, дело было и не в Щеглове.
Его замечания на рукописи «Северных цветов» были лишь отражением общей цензурной политики, которая уже дала себя почувствовать в запрещении «Литературной газеты» и с начала тридцатых годов все более клонилась к стеснению и без того эфемерной свободы печати.
«Северные цветы на 1831 год» вышли в свет 24 декабря 1830 г.[423].
Как обычно, они открывались обзором Сомова за конец 1829 и первую половину 1830 года, и обзор этот был кратким резюме мнений «Литературной газеты».
Сомов вступал в полемику, и порой довольно острую. Он даже старался сдерживать себя: смягчал и вычеркивал полемические пассажи о «Северной пчеле» и «Северном Меркурии». Дважды он начинал говорить о «клевете» Булгарина, но цензор Щеглов следил за парламентарностью выражений. Сомов не стал настаивать[424].
Булгарин и Полевой с его «Историей русского народа» оставались для Сомова основными противниками. Третьим был Надеждин, с которым Сомов готов был соглашаться только тогда, когда «Никодим Надоумко» атаковал Полевого.
Сомов писал о «непризванных и непризнанных никем» литературных судьях, движимых мелким своекорыстием, и в доказательство намекал на булгаринский разбор седьмой главы «Онегина», которой посвятил несколько страниц, довольно, впрочем, бесцветных. Эстетики пушкинского романа он, вероятнее всего, не ощущал, как не ощущали ее и прежние его литературные соратники по «Полярной звезде».
Он одушевлялся гораздо более, когда писал о новой книге басен Крылова: здесь говорила живая заинтересованность. Несколько благосклонных пассажей посвятил он и «Карелии» Глинки.
Сомова влекла к себе проза, за развитие которой он так ратовал еще в прежних книжках «Цветов», — и в этом была его принципиальная литературная позиция. Прозе он посвятил половину своего обзора, вдвое больше, чем поэзии и журналистике.
Теперь, когда он не был больше связан с булгаринскими изданиями, он критически разбирал «Димитрия Самозванца», развивая подробно то, что писал о нем Дельвиг. Сомов нападал на анахронизмы в построении характеров, на отсутствие исторического колорита, на безжизненную правильность языка. Он противопоставлял булгаринскому роману «Юрия Милославского» Загоскина, как это делала и «Литературная газета»; впрочем, он упрекал и загоскинский роман за бесцветность исторических персонажей. Далее он переходил к современному бытописанию, чтобы решительно отвергнуть «нравственно-сатирический роман» и его адептов: Свиньина, автора «Ягуба Скупалова», П. Сумарокова с его «Федорой», выдвигая в противовес им «Монастырку» Погорельского и даже «Записки москвича» Павла Лукьяновича Яковлева, бывшего члена Измайловского литературного сообщества, хорошо ему знакомого. Это тоже была политика «Литературной газеты».
И он обращал внимание читателей на две повести, напечатанные в «Сыне отечества и Северном архиве» — «Испытание» и «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», — подписанные «А. М. Дагестан, 1830».
Он знал автора, знал несомненно. Повести были написаны той же рукой, что и стихотворение «Часы», помещенное без имени в № 27 газеты за 1830 год.
Александр Бестужев в обличье Марлинского возвращался в литературную жизнь.
С тех пор, как Пушкин уехал в августе из Петербурга, он не виделся с Дельвигом и лишь в письме послал ему свою «цветочную подать». Холера удерживала его в Болдине до конца ноября — и эта осень оказалась самой детородной из всех. Он вез в Москву «Домик в Коломне», две главы «Онегина», «маленькие трагедии», повести Белкина, «пропасть» полемических статей и лирических стихов. В болдинском уединении он думал и о «Литературной газете», где «круглый год» не должны умолкать песни трубадуров; он почти заново написал начатую еще для прежних «Цветов» статью о Баратынском и начал набрасывать послание к Дельвигу: «Мы рождены, мой брат названный, Под одинаковой звездой…» В послании вырисовывался уже знакомый нам облик поэта, в уединении творящего прекрасное, бегущего «низких торгашей».
Пушкин продолжал полемику с Полевым и Булгариным, но он не знал последних событий. О запрещении «Литературной газеты» Дельвиг написал ему в середине ноября; почта из-за карантинов шла долго, и неизвестно, успел ли Пушкин получить это письмо.
Он приехал в Москву 5 декабря, встретился с Вяземским, Баратынским — и на него нахлынули известия последних месяцев. Он пишет Плетневу в беспокойстве и досаде, что «шпионы-литераторы» «заедят» Дельвига, если он не оправдается, и вслед за тем просит E. M. Хитрово похлопотать через влиятельных знакомых.
В хлопотах Хитрово уже не было нужды: помог Блудов. 8 декабря было подписано цензурное разрешение на выпуск в свет номера за 17 ноября; официальным редактором «Литературной газеты» стал Сомов.
По-видимому, в самом конце декабря Пушкин получил и «Северные цветы».
Он недоволен альманахом. 2 января он пишет Вяземскому в Остафьево: «Сев.<ерные> цв.<еты> что-то бледны. Каков шут Дельвиг, в круглый год ничего сам не написавший и издавший свой альманах в поте лиц наших?» И то же самое он говорит Плетневу в письме 7 января: Дельвиг поступил с друзьями, как помещик с крестьянами: они трудятся, а он сидит на судне, да их побранивает. И что за стихи набрал: в «Бедности и утешении» Глинка просит бога к себе в кумовья! Это годится для пародии, если представить дело воочию.
Пушкин досадует и выговаривает, а тем временем требует от Вяземского, чтобы тот не отдавал «Обозы» в альманах Максимовича «Денница», а лучше отослал бы Дельвигу.
Вяземский не соглашается: он уже обещал Максимовичу эти стихи, и Пушкин отдает их «скрепя сердце». Максимович усиленно просит от Вяземского и прозы — но здесь уже упрямится Пушкин. «Твою статью о Пушкине пошлю к Дельвигу — что ты чужих прикармливаешь? свои голодны». К тому же эту статью — некролог Василия Львовича — Дельвиг сам просил Вяземского написать несколько месяцев назад.
Эта переписка между Москвой и Остафьевом происходит 10–13 января.
Ни адресат, ни корреспондент не подозревают, что Дельвиг, предмет их споров и суждений, лежит в постели в жестокой простуде и зловещие пятна проступают на его теле.
12 января он впадает в беспамятство.
13 января. Пушкин — Плетневу:
«Что Газета наша? надобно нам о ней подумать. Под конец она была очень вяла; иначе и быть нельзя: в ней отражается русская литература. В ней говорили под конец об одном Булгарине <…>»
13 января. Дельвиг не приходит в сознание.
14 января. Вяземский — Пушкину:
«Хорошо, дай „Пушкина“ Дельвигу, а скажи Максимовичу, что пришлю к нему несколько выдержек из записной книжки. < …> Что за разбор Дельвига твоему Борису? Начинает последним монологом его. Нужно будет нам с тобою и Баратынским написать инструкцию Дельвигу, если он хочет, чтобы мы участвовали в его газете. <…>
При том нужно обязать его, чтобы по крайней мере через № была его статья дельная и проч. и проч. А без того нет возможности помогать ему»[425].
14 января. Доктора признали опасность.
Около 7 часов вечера. Гнедич и Лобанов заезжают к больному и спешат к Плетневу с вестью, что он близок к разрушению.
В восемь часов вечера 14 января Деларю закрывает ему глаза.
Плетнев — Пушкину.
«Ночью. Половина 1-го часа. Середа. 14 января, 1831. С. П.бург.
Я не могу откладывать, хотя бы не хотел об этом писать к тебе. По себе чувствую, что должен перенести ты. Пока еще были со мною добрые друзья мои и его друзья, нам всем как-то было легче чувствовать всю тяжесть положения своего. Теперь я остался один. Расскажу тебе все, как это случилось. Знаешь ли ты, что я говорю о нашем добром Дельвиге, который уже не наш?»
Плетнев рассказывал Пушкину все то, о чем уже знает читатель. «И так в три дни явная болезнь его уничтожила. Милый мой, что ж такое жизнь?»
Сомов — Баратынскому, 15 января
С чего начну я письмо мое, почтеннейший Евгений Абрамович? Какими словами выскажу вам жестокую истину, когда сам едва могу собрать несколько рассеянных, несвязных идей: милый наш Дельвиг — наш только в сердцах друзей и в памятниках талантов: остальное у бога! Жестокая десятидневная гнилая горячка унесла у нас нашего друга! <…> Ради бога, постарайтесь видеться с Михаилом Александровичем Салтыковым <…> Приготовьте Пушкина, который верно теперь и не чает, что радость его возмутится такой горестью. Скажите Кн. Вяземскому, И. И. Дмитриеву и Михайлу Алексан. Максимовичу — и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей наш умолк на вечность. <…> Утрата сия для меня горьче, нежели утрата ближнего родного. Сердце мое сжато и слезы не дают дописать.
Весь Ваш О. Сомов.
Пушкин — Вяземскому, 19 января.
Вчера получили мы горестное известие из П. Б. — Дельвиг умер гнилою горячкою. Сегодня еду к Салтыкову, — он вероятно уже все знает <…>.
Пушкин — Плетневу, 21 января.
Что скажу тебе, мой милый? Ужасное известие получил я в воскресение. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову объявить ему все — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. <…>
Баратынский болен с огорчения. <…>
Баратынский — Плетневу, июль 1831
<…> Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, — боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мои, потеря Дельвига нам показала, что такое <…> опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. <…>[426]
27 января у Яра московские друзья Дельвига собрались на тризну. Был Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков[427].
Десятью днями ранее в Петербурге были похороны.
Четвертый и пятый номера «Литературной газеты» не вышли вовремя. Сомов не имел силы заниматься ими. Четвертый номер был траурный.
В нем был некролог Дельвига, написанный Плетневым, и статья «К гробу барона Дельвига». Статью написал Василий Туманский. Он приехал в Петербург как будто только для того, чтобы проститься со старым товарищем.
И здесь же было напечатано Гнедичево надгробие. Он в первый раз писал элегическим дистихом — любимым размером Дельвига, каким писали эпитафии античные поэты:
Милый, младой наш певец! на могиле, уже мне грозившей, Ты обещался воспеть дружбы прощальную песнь…Это было несколько лет назад, когда Гнедич уже не чаял поправиться.
Так не исполнилось! Я над твоею могилою ранней Слышу надгробный плач дружбы и муз и любви! Бросил ты смертные песни, оставил ты бренную землю, Мрачное царство вражды, грустное светлой душе…Темная тень ложится на грустно-элегические строчки. «Мрачное царство вражды».
Гнедич посылал свою элегию к Гречу, в «Северную пчелу».
Греч отказался ее печатать и вернул с объяснительным письмом.
«Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в Сев.<ерную> Пчелу? — спрашивал Плетнева Пушкин. — Радуюсь, что Греч отказался — как можно чертить анфологическое надгробие в нужнике? И что есть общего между поэтом Дельвигом и <…>чистом полицейским Фаддеем?»
Вяземский предлагал напечатать письмо Греча в «Деннице» или «Телескопе». «Должно вывести этих негодяев к позорному столбу»[428].
Кого надлежало вывести к позорному столбу? Греча? Булгарина? Или, может быть, кого-то еще неназванного?
Старик Энгельгардт, бывший директор Лицея, рассказывал Ф. Ф. Матюшкину о перипетиях борьбы Дельвига с Булгариным, о запрещении его газеты. «Эти и множество других неприятностей верно много содействовали к его болезни»[429].
«Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который <…> назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним», — записывал в дневнике 28 января цензор А. В. Никитенко[430].
Так писал и А. И. Дельвиг в своих мемуарах.
Осиротевшее семейство и ближайшие друзья боялись прихода жандармов. Несколько вечеров подряд М. Л. Яковлев, В. Н. Щастный и другие бросали в пылающий камин бумаги Дельвига[431].
Письма и рукописи, бесценные памятники человеческих мыслей и дел, маленькие звенья самой истории — вспыхивали в огне и рассыпались кучками пепла.
Глава VII Тризна по Дельвиге
Все было так неожиданно — горе, хлопоты, смятение, что Софья Михайловна Дельвиг даже не заметила поначалу свалившегося на нее нового несчастия. Бог весть, как и когда из портфеля Дельвига исчезли ломбардные билеты на 55 тысяч — больше половины всего состояния[432]. Это было почти разорение.
Пушкин еще не знал этого, когда предлагал Плетневу «помянуть» покойного друга изданием «Северных цветов». Теперь Плетнев сообщал ему о положении дел, и нужда в издании альманаха увеличилась еще более.
Как-то не уговариваясь, все предоставили Пушкину заняться «Цветами», и Плетнев писал ему, что Сомова надобно вознаградить той же суммой из выручки, какая приходилась на его долю и прежде, и на тех же условиях взять из его рук «Литературную газету», которая иначе увянет вовсе. Еще ранее Вяземский предлагал то же самое Плетневу[433].
Пушкин отвечал 26 марта, что об альманахе следует переговорить и что он готов издать «последние С. Цветы» вместе с Плетневым, но что у него тем временем созрел иной план. План был еще не совсем определенен; 11 апреля он намекает осторожно: «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго? — и газеты».
Итак, он не оставлял старого плана: лучше всего — газета, хорош и журнал; на худой конец — альманах.
Но что бы это ни было — оно должно быть «своим», изданным «кучкой». На протяжении всего 1831 года он будет возвращаться к этой мысли, и в ней будет поддерживать его Вяземский. Вяземский уже намечает и будущий состав: А. Тургенев, Баратынский, Иван Киреевский, В. Ф. Одоевский, Жуковский. «Войдешь ли в переговоры с Сомовым и будешь ли требовать его интервенции или нон-интервенции?»[434]
Легкие ноты отчуждения проскальзывают каждый раз, как называется имя Сомова: ни Пушкин, ни Вяземский, ни даже Плетнев не считают его «своим».
Он был «своим» только для Дельвига, и со смертью его постепенно ослабевали его связи с пушкинским кругом. Но о «нон-интервенции» его не могло быть и речи: издатели последних «Северных цветов», даже если бы и захотели, не смогли бы обойтись без его помощи.
Пушкин приехал в Петербург в конце мая вместе с молодой женой и тут же уехал в Царское Село. Он ждал к себе Вяземского — но так и не дождался.
Холера двигалась на север империи, и в июне Царское Село оказалось отрезано карантинами.
В Петербурге вспыхивали холерные бунты.
В Европе продолжались волнения — и царскосельские затворники ждали известий о ходе польской кампании.
В июле приехал двор, и Царское Село обратилось в столицу. Теперь здесь был и Жуковский, от которого Пушкин узнал, что Вяземский не приедет.
Сама судьба мешала «кучке» соединиться. Плетнев жил на даче, в Спасской мызе; Сомов в Петербурге; Вяземский был в Остафьеве; Баратынский уехал в казанское имение.
«Что же твой план „Сев.<ерных> Цветов“ в пользу братьев Дельвига? — спрашивал Пушкин Плетнева в середине июля. — Я даю в них Моцарта и несколько мелочей. Жуковский дает свою гекзаметрическую сказку. Пиши Баратынскому; он пришлет нам сокровища; он в своей деревне. — От тебя стихов не дождешься; если б ты собрался, да написал что-нибудь об Дельвиге! то-то было б хорошо! Во всяком случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, так она сядет на мель. Обозрения словесности не надобно; черт ли в нашей словесности? придется бранить Полевого да Булгарина. К стати ли такое аллилуия на могиле Дельвига? — Подумай обо всем этом хорошенько, да и распорядись — а издавать уже пора: т. е. приготовляться к изданию».
Но Плетневу было не до альманаха.
Новая жестокая горесть посетила его: холера унесла П. С. Молчанова — человека, к которому он после Дельвига был привязан более всего. Он впал в апатию. Пушкин был, кажется, последним среди его петербургских друзей — и теперь он ждал, когда и Пушкин его оставит. Он отложил всяческие дела и не имел сил тронуться с места. Он отвечал Пушкину: «Северные цветы готовь, но мне никаких поручений не делай. Живу я в такой деревне, которая не на почтовой дороге. Писем отсюда посылать не с кем, а получать еще менее можно. Итак к Баратынскому, к Языкову, Вяземскому и другим пиши сам. Мое дело будет в городе смотреть за изданием. Написать о Дельвиге желаю, но не обещаю».
С Плетневым переписка шла почти наугад: письма доходили с опозданием и нерегулярно. Пушкин пишет Михаилу Лукьяновичу Яковлеву, который оставался в Петербурге при отъезжающей Софье Михайловне: «Что Сев.<ерные> Цветы? с моей стороны я готов». Он просит оставшиеся письма свои к Дельвигу: когда-нибудь можно будет издать двустороннюю переписку. «Еще просьба: у Дельвига находились готовые к печати две трагедии нашего Кюхли и его же Ижорский, также и моя баллада о Рыцаре, влюбленном в Деву. Не может ли это все Софья Михайловна оставить у тебя. Плетнев и я, мы бы постарались что-нибудь из этого сделать».
Пушкин торопится: июль на исходе, на все издание остается менее пяти месяцев.
Яковлев сомневается в успехе: времени слишком мало, участники рассеяны и отрезаны друг от друга. Кто будет легок на подъем в этот страшный холерный год? Разве только ради Пушкина.
«С Цветами надо перегодить. Впрочем от тебя одного зависит успех издания оных. Твои окружные грамматы будут самые действительные».
Холера постепенно идет на спад, но слухи о холерных бунтах доходят до Царского Села. До литературы ли теперь?
На почте принимают только письма: их прокалывают и окуривают серой. Рукописи пересылать нельзя.
Пушкин пишет Плетневу:
«Что же Цветы? ей-богу не знаю, что мне делать. Яковлев пишет, что покаместь нельзя за них приняться. Почему же? разве типографии остановились? разве нет бумаги? Разве Сомов болен или отказывается от издания?»
Пушкин — Вяземскому (конец августа): «<.> У Дельвига осталось 2 брата без гроша денег, на руках его вдовы, потерявшей большую часть маленького своего имения. Нынешний год мы выдадим Сев.<ерные> Цветы в пользу двух сирот. Ты пришли мне стихов и прозы; за журнал наш примемся после. <…>…»[435].
Тем временем из Петербурга подает голос Орест Сомов.
Сомов не был «болен»; он принял все меры предосторожности, выходил редко и соблюдал умеренность в пище. Холера миновала его дом, в котором только что произошло приращение семейства: родился сын.
Литературная же газета погибла.
Итак, случилось то, чего ждали Плетнев и Вяземский. Но Сомов был не вовсе виноват: в холерный год никому было не до газеты. Число подписчиков падало катастрофически, рукописи не проходили через карантины, самая рассылка газеты была затруднена.
С мая он работал почти один, с помощью маленького кружка, остатков дельвигова окружения. Неизменный Деларю печатал свои надгробия покойному другу и покровителю и стихи к его маленькой осиротевшей дочери. Вернулся и Розен; он дал в газету посвящение Софье Михайловне и обращенные к Дельвигу стихи «Тени друга» — сожаление, прощание, раскаяние:
Но зачем мы на земле Примириться не успели?[436]Оставался В. Н. Щастный, не покидавший газету до последнего номера, и Струйский-Трилунный.
Вероятно, Михаил Лукьянович Яковлев привел сюда своего племянника, Лукьяна Андреевича Якубовича, только что приехавшего из Москвы в Петербург; он учился в Благородном пансионе, участвовал в литературном кружке Раича и был дружен с Полежаевым. В январе 1831 года он встретил в Москве Пушкина и испытал прилив поэтического восторга[437].
Среди рассеянных остатков кружка Дельвига он должен был найти знакомых: Трилунного, может быть, Ротчева.
С начала апреля он напечатал в газете пять стихотворений.
И еще одно имя, поэта совсем начинающего, появилось у Сомова: Александр Александрович Комаров (1813–1874), сослуживец и товарищ нежинского приятеля Гоголя Н. Я. Прокоповича, страстный любитель литературы, напечатал в газете два стихотворения. Быть может, здесь не обошлось без протекции Гоголя, с которым Сомов уже успел познакомиться короче[438].
Несколько стихотворений прислали из Москвы Хомяков и Станкевич. Уже не «второе поколение», но остатки его едва поддерживали угасающую газету.
Она прекратила свое существование на тридцать седьмом номере от 30 июня 1831 года.
За всеми хлопотами, делами и несчастьями Сомов не писал никому, и только в конце августа возобновил свои связи с внешним миром. Оказалось, он не сидел сложа руки: писал одновременно несколько собственных романов и «былей» и исподволь собирал материалы для «Северных цветов». Он раздобыл уже кое-что, хотя бы ненапечатанную и мало кому известную повесть Батюшкова «Предслава и Добрыня». Обо всем этом он написал Пушкину 31 августа, напоминая ему, что пора думать о «Северных цветах»[439].
Просматривая книжку альманаха, мы можем приблизительно представить себе, что пришло в нее через Сомова.
Из собственных сочинений он поместил в ней два рассказа: «Сватовство (Из воспоминаний старика о его молодости)» и «Живой в обители блаженства вечного» и одно маленькое стихотворение, под которым не поставил своего имени. Стихи эти — «К убегающей красавице» — были уже напечатаны более десяти лет назад, и не совсем понятно, по каким причинам Сомову вдруг захотелось воскресить их; стихи были слабые, даром что их потом стали приписывать Пушкину[440]. Далее — «Предслава и Добрыня», добытая им от какого-то любителя словесности, который получил ее от самого Батюшкова; можно думать, что Сомов сделал и примечание к повести, предупреждающее нападки критики: «Может быть, найдут в этой повести недостаток создания и народности, <…> но поэтическая душа Батюшкова отсвечивается в ней <…> и нежные, благородные чувствования выражены прекрасным гармоническим слогом»[441].
Наконец, в том же прозаическом отделе Сомов поместил «Байкал.
Письмо к О. М. С…» — к нему, Сомову — известного синолога, отца Иакинфа, в миру Никиты, Бичурина, — и анонимный «Отрывок из китайского романа „Хау-Цю-джуань“, т. е. „Беспримерный брак“. Перевод с китайского». Здесь была история совсем особая.
Отец Иакинф был признанным знатоком Китая, и современники находили даже нечто китайское в его облике. В пушкинском кругу он появился с конца 1820-х годов и с этих пор систематически дарил Пушкину все свои книги. Когда он собирался ехать в Китай в 1829 году вместе со знакомцем своим, П. Л. Шиллингом, некогда вызволившим его из монастырской тюрьмы, Пушкин просился с ним, но ему отказали[442].
С самого начала «Литературной газеты» отец Иакинф стал ее сотрудником и тогда же, вероятно, сблизился с Орестом Сомовым.
Сомов упоминал о нем в «Северных цветах на 1831 год» и печатал в газете выписки из его корреспонденции[443]. В 1831 году они вступили в переписку: Бичурин жил в Кяхте и посылал Сомову свои замечания на книгу фан-дер-Фельде «Английское посольство в Китае», в которой находил незнание китайских нравов[444]. В июле он ездил в Горячеводск и оттуда прислал Сомову описание Байкала[445].
Китайский же роман перевел сам О. М. Сомов.
Он, конечно, не знал китайского языка, но этот роман существовал уже во французском переводе. Вероятно, Сомов им и воспользовался; однако экзотическим подзаголовком он вовсе не вводил читателей в заблуждение.
Он пользовался консультацией о. Иакинфа и Шиллинга, знавших подлинный текст. 4 января 1832 года он писал Максимовичу, что ждет Иакинфа, чтобы пересмотреть вместе с ним перевод и сравнить с китайским и маньчжурским списками, принадлежавшими Шиллингу[446].
Около четырех десятков стихотворений доставили постоянные участники газеты. Деларю, ближайший его помощник, дал в альманах 7 стихотворений: «Увядающая роза», «Замужней Елене», «Псалом», «Элегия» («Не долго, в тишине сердечной…»), «К*** при посылке тетради стихов», «Лизыньке Дельвиг» и «Анфологическое четверостишие», элегические дистихи, посвященные памяти Дельвига; кроме того, он поместил свой перевод «Мирры» Овидия, подписав его псевдонимом «Д. Казанский»; псевдоним, впрочем, был раскрыт в оглавлении. Здесь же поместились «Станцы» его однокашника по Лицею кн. Александра Васильевича Мещерского. Почти столько же получил альманах от Лукьяна Якубовича: «Иран (Из Гафиза)», «Музыка», «Мольба», две «Украинские мелодии», «Леший», «Зима». Молодой поэт как будто спешил блеснуть разнообразием — а быть может, эклектичностью? — своего лирического творчества: здесь были и ориентальные стихи, и фольклорные, и философские, и даже антологические. Это выходило, нужно думать, непроизвольно: Якубович отдал в альманах почти половину всего, что написал за последние два года[447].
Трилунный, «добрый малый», как характеризовал его Сомов, напечатал отрывок «Дума», посвященный памяти графа Каподистрия, президента Греции и русского дипломата, имя которого связалось прочно с либеральными годами царствования Александра. Каподистрия был убит 27 сентября 1831 года, — стало быть, «Дума» была написана не ранее октября. Кроме нее, в альманахе был еще его перевод «Тьмы» Байрона, апокалиптической фантазии, популярной в 1830-е годы, и стихотворение «Возрождение».
Щастный, вообще печатавшийся мало, дал «Турецкую песню», «Камин», «Два желания», стихи мелкие и малозначащие, и сверх того отрывок из своего перевода драматической поэмы «Отшельник» Ю. Коженевского, польского поэта, знакомого ему еще по Кременцу. Это был после «Фариса» основной переводческий труд Щастного, который он очень хотел видеть на сцене. Театральная цензура не пропустила его: в нем являлись монахи и развенчанный преступный король. Когда 1 декабря 1831 года цензор альманаха В. Н. Семенов представил в комитет отрывок из «Отшельника», цензоры заколебались; несколько строк — о преступлении — были исключены[448].
Три стихотворения — «Пастуший рог в Петербурге», «Проклятие», «Гречанке» — принес барон Розен.
Розен не мог дать большего: он усиленно собирал «Альциону на 1832 год» и находился в столь же трудном положении, что и Сомов. Ему так же приходилось рассчитывать более всего на петербургских авторов и на себя самого: он написал свой альманах почти на четверть: две повести и десять стихотворений[449]. Он обращался к Пушкину и получил от него «Пир во время чумы» — лучшее украшение своего альманаха. Сомов, с которым он общался в эти месяцы довольно тесно, также поддержал его, почти наполовину заполнив прозаический отдел альманаха. Несколько помогли ему и его связи за пределами дельвиговского кружка: у него были стихи Подолинского и Андрея Муравьева[450]; не от Греча ли с Булгариным он получил и два произведения Бестужева?
Впрочем, он отдавал Дельвигу стихи, обратившие на себя внимание Гнедича и Пушкина: оба говорили ему, что «Пастуший рог в Петербурге» «выше обыкновенного»[451].
Были стихи А. Комарова («Ночь», «Отрывок из сельской поэмы „Маша“»), который на этот раз появился вместе с Прокоповичем. Последний не подписал своего имени; его маленькое стихотворение («Полночь»), довольно примечательное, напоминающее слегка «ночную» лирику Тютчева, было подписано «— чь». Стихи эти знал Гоголь и, посылая А. С. Данилевскому вышедшую книжку, обращал на них внимание, впрочем, довольно иронически [452].
Были таинственные «Ш-б-в» («Утешение. Из А. Шенье») и Н. Ставелов. Из двух стихотворений последнего — «Странник» и «Горная вершина», абстрактно-философичных, согласно начинавшейся моде, в альманахе появилось первое, и то не без трудов. Во втором, по подозрениям цензоров, выражалось «сомнение касательно бессмертия души»; оно было решительно запрещено[453].
Из московских участников газеты — Станкевич, Е. Тимашева («К застенчивому», «К незабвенному»), из Одессы — два стихотворения Теплякова — «Жестокий призрак», «The blue stockings» — «Синий чулок».
За очень небольшим исключением весь этот запас был средней «альманашной» литературой, которую Сомов мог почерпнуть из опустевшего портфеля увядшей газеты. Но и он к августу 1831 года далеко не был собран полностью.
«Золотой век» русской поэзии отходил в прошлое, в то прошлое, когда Дельвиг горделиво признавался, что берет сочинения второстепенных поэтов «с большим выбором». Теперь альманашная книжка без них превратилась бы в тонкую брошюру — в особенности холерным летом 1831 года.
Сомов работал незаметно, но самоотверженно. Мы увидим далее, что собранным запасом он не ограничился. Но основной расчет был все же на «окружные грамоты» Пушкина.
31 августа Вяземский отправил Пушкину письмо с упоминанием о «Северных цветах».
Это были не те «Цветы», о которых писал Пушкин, а «свои» «Цветы», альманах ли, журнал ли, который предполагалось издавать «кучкой». Вяземский сообщал, что «пора приниматься» и что у него уже есть маленький запас.
В начале сентября до него доходит короткая пушкинская записка, и он спешит отложить свой план: «На Северные цв.<еты> я совершенно согласен и соберу все, что могу, по альбумам»[454]. Здесь речь шла уже о «Цветах» в память Дельвига.
В сентябре в Петербург приехал Плетнев.
Эпидемия холеры почти прошла, и понемногу столица оживала; возобновлялись и литературные вечера. 23 сентября у Плетнева собрались А. В. Никитенко, Розен и другие; ждали Пушкина, но он не приехал, и лишь прислал «едкую критику» на Булгарина и Греча и несколько новых стихотворений для «Северных цветов».
Здесь же Никитенко увидел и Сомова, с которым познакомился еще в марте и потом постоянно встречался на плетневских «средах». Он «теперь очень озабочен по случаю издания „Северных цветов“, — записывал Никитенко в дневнике. — Я обещал ему по его просьбе отрывок из моего „Леона“»[455].
Отрывок из романа «Леон, или Идеализм» Никитенко появится в «Северных цветах».
В конце сентября Пушкин в первый раз посетил Петербург.
Он виделся с Сомовым, и они говорили об альманахе. Он просил Сомова написать к Максимовичу и просить у него для «Цветов» отрывок из «ботаники», а кроме того, связаться через Максимовича с Языковым и «умолить» его прислать стихов «и поболее и поскорее», ибо альманах должен был выйти к 15 декабря.
28 сентября Сомов отправил письмо Максимовичу[456]. Теперь оставалось ждать.
В середине октября Пушкин окончательно перебирается в Петербург.
Можно было объединять усилия.
Накануне отъезда он еще раз писал Вяземскому, прося стихов и прозы и вновь напоминая о Языкове. Он рассказывал Вяземскому о Жуковском, который «написал пропасть хорошего и до сих пор все еще продолжает», о «Вечерах» Гоголя и замечал между прочим: «Северные цветы будут любопытны»[457].
Что он мог иметь в виду?
По составу имен альманах был еще мало представителен. В нем не было ни Вяземского, ни Баратынского, ни Языкова.
Из «любопытного» здесь была посмертная публикация стихов Дельвига.
Элегия «К Морфею», сочиненная «еще до 1824 года», две «русские песни» («И я выду ль на крылечко», «Как за реченькой слободушка стоит»), неизвестный даже ближайшим друзьям ревельский сонет 1827 года «Что вдали блеснуло и дымится?», наконец, отрывок из ненаписанной драмы — «На теплых крыльях летней тьмы», — все это было не так уж много, но в самом деле не лишено интереса. Сонет, законченная песня были стихами совершенно зрелого поэта; хор духов из драмы, где Дельвиг намеревался «дать полное развитие свободной фантазии», приоткрывал какую-то неведомую грань его творчества. К этой публикации кто-то — вероятно, Сомов — написал небольшое предисловие.
Пушкин мог с правом сказать и о своем вкладе: «много любопытного». Он положил на алтарь дружбы две сцены «Моцарта и Сальери», «Дорожные жалобы», «Эхо», «Делибаша», «Анчар, дерево яда», «Бесов» и четыре «анфологических эпиграммы»: «Царскосельская статуя», «Отрок», «Рифма», «Труд».
«Анфологические эпиграммы» как будто прямо вызывали в памяти имя Дельвига. Вероятно, они писались в Болдине с мыслью о Дельвиге и теперь ложились цветком на его могилу.
«Царскосельская статуя» словно вбирала в себя весь круг ассоциаций: надпись к произведению пластических искусств, которые так любил Дельвиг, элегический дистих, наконец, самое воспоминание о Царском Селе.
Все это повторится и позже, уже прямо с именем Дельвига, в стихах «Художнику», в 1836 году[458].
Вероятно, сразу по приезде в Петербург Пушкин взял для альманаха и стихи Жуковского.
Это были не просто стихи, но поэтическая переписка. Жуковский послал И. И. Дмитриеву свою оду на взятие Варшавы — и «парнасский инвалид» откликнулся элегическим посланием «Василию Андреевичу Жуковскому по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы». Жуковский благодарил растроганным письмом 16 октября и послал «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву»[459]. В переписке шла речь не только о победах русского оружия, но и о преемственности поэтических поколений.
К концу октября Жуковский уехал в Москву, но еще до его отъезда было решено, что оба послания будут напечатаны рядом в «Цветах». 28 октября А. И. Тургенев, Чаадаев, Жуковский собирались у Вяземского и Дмитриева, и Жуковский напоминал об альманахе в память Дельвига. Московские поэты пока не дали в него ничего, но зато решили послать Пушкину дополнение к переписке Жуковского и Дмитриева — послание Н. Д. Иванчина-Писарева по поводу послания Жуковского, служащего ответом на послание Дмитриева. Этот третий ярус переписки — совершенно беспомощный — Пушкин печатать не стал[460].
Жуковский дал еще одно стихотворение: «Сражение со змеем», гекзаметрический перевод из Шиллера, — но, видимо, это произошло позже, уже по его возвращении. Эти стихи заключали альманах.
Октябрь был на исходе.
20 числа собирались у Жуковского: Пушкин, Одоевский, Гнедич, приехавший в Петербург Погодин[461]. И у Погодина, и у Одоевского удалось получить прозу.
С Погодиным, вероятнее всего, вел переговоры Пушкин. Сомов уже по выходе книжки благодарил его запиской от имени Пушкина за «подарок»: это был «отрывок из письма к графине N», «Нечто о науке»[462]. С Одоевским, быть может, успел поговорить и Сомов. Сразу за повестью Батюшкова следовала в «Цветах» романтическая новелла Одоевского «Opere del cavaliиre Giambattista Piranesi», одна из лучших его новелл о безумном художнике. Можно думать, что Одоевский собирался дать в альманах и другую новеллу — «Петр Пустынник». Она опоздала, 18 декабря Сомов писал Одоевскому в панике, что писец не окончил переписку, что Пушкин еще не вернулся и он не знает, что делать. Как можно понять из письма, Одоевский просил вернуть манускрипт, и Сомов колебался принять на себя ответственность — хотя в начале декабря уже была отпечатана вся прозаическая часть альманаха[463].
В конце октября Сомов пишет второе письмо Максимовичу. Он обеспокоен молчанием; кроме того, Языков сообщил ему, что отдал Максимовичу несколько стихотворений для «Северных цветов». Он очень торопил Максимовича, сообщая, что альманах должен непременно выйти к 1 декабря.
4 ноября приходят стихи от самого Языкова, а еще через несколько дней — посылка от Максимовича[464].
Пушкин не напрасно рассчитывал на Языкова.
Вечно сторонившийся «союза поэтов», более чем критичный к самому Пушкину, он откликнулся на приглашение охотнее и щедрее других. Почему? Быть может, потому, что безвременная смерть Дельвига не так подавила его, как Баратынского или Плетнева, или напротив — потому, что он все эти годы сохранял привязанность к человеку, с которым виделся редко и случайно? Или просто у него на этот раз был запас свободных, никому не обещанных стихов?
5 октября Вяземский сообщал Плетневу, что на днях высылает в «Северные цветы» вклад свой и Языкова. «Он расписался и прекрасно воспел Дельвига»[465].
Вяземский промедлил, Языков — нет.
Он послал три стихотворения Сомову, еще какие-то стихи отдал для «Северных цветов» Максимовичу, а к 20 ноября прислал новую порцию, и в том числе — послание «А. А. Дельвигу» («Там, где картинно обгибая…»).
Это были стихи о Дельвиге и о себе самом; посмертная благодарность старшему поэту, ободрившему и поддержавшему Языкова при начале его творческого пути. И здесь был поэтический портрет Дельвига, какой Языков писал только с Пушкина — и только в лучшие годы: под пером его обрисовывался облик Поэта, ничем не жертвовавшего земным кумирам, ниже порфире и царскому венцу. «Свободомыслящая лира…» В устах Языкова это было апофеозом.
Эти строки приходилось смягчать — цензура не пропустила бы их[466].
Потому и задержалось стихотворение: он было напечатано в конце книжки.
И еще была «Песня», где громко звучал мотив единения. Языкову виделось уже, как ежегодно в благоуханном саду сходится ночью круг оставшихся и, сдвигая фиалы, поет до утра любимый гимн Дельвига. Языческая тризна «союза поэтов» по своему вождю, античная жизнь, вечно продолжающаяся, о которой писал Дельвиг в своих ранних «вакхических» стихах.
Дружба, поэзия, наслаждение, свобода — единственное, что ценно и прочно в этом мире, прочее — суета.
Пусть видит мир, как наших поминают, Как иногда свирели звук простой Да скромный хмель и мирт переживают Победный гром и памятник златой.Стихи были превосходны. Пушкин предпочитал их посланию[467].
Языков отдавал в «Цветы» еще «Им», «Бессонницу», «К-е К-е Я<ниш>», «И. В. К.<иреевскому> (Об П. В.)» и эпиграмму — вероятно, «Готовясь выдать в свет» — об «Истории» Полевого.
Эпиграмму Пушкин не напечатал, верный своему правилу не вступать в литературные споры над могилой Дельвига.
Семь стихотворений — столько же, сколько Языков передает в свой собственный журнал — «Европеец», который затевает И. В. Киреевский.
Максимович прислал «отрывок из ботаники» — «О жизни растений» (Посвящ. М. П. В.), за который Сомов благодарил его и делал комплименты от себя и от Пушкина.
«Поцелуйте за меня ручки вашим уголовным стихотворицам: они с честию многою приняты и непременно все их пьесы будут помещены в „Северных цветах“»[468], — добавлял он.
Вместе со своим «отрывком» Максимович отправил стихи двух сестер: Надежды и Серафимы Тепловых.
Обе девушки — в особенности Надежда — были поэтессами даровитыми, и Максимович им покровительствовал. Он печатал их в «Московском телеграфе», в своей «Деннице» и вел их литературные дела. Он издал первый сборник стихов Надежды Тепловой — и последний, посмертный, в 1859–1860 годах. Он вводил их — очно и заочно — в литературные круги, представляя их стихи Вяземскому и другим. Их замечают. Языков в 1832 году печатает в «Европейце» свое послание к Серафиме Тепловой, уже вышедшей замуж за Д. Ф. Пельского; Киреевский благожелательно разбирает их творчество в своих статьях; В. В. Пассек, составляя альманах вместе с Герценом и H. M. Сатиным, собирается включать стихи Н. Тепловой, молодой Белинский посылает Е. П. Ивановой достопримечательность: автограф Серафимы.
Этих-то сестер называл Сомов «уголовными стихотворицами» — и было отчего.
Серафима Теплова напечатала в «Деннице на 1831 год» стихи «К***»: «Слезами горькими, тоскою Твоя погибель почтена»; распространился слух, что они посвящены памяти Рылеева. Цензурное дело по этому поводу грозило Максимовичу большими неприятностями — и было улажено не без труда; издатель «Денницы» объяснял, что адресат стихотворения — какой-то утонувший юноша. Слух продолжал держаться; много позже Максимович вспоминал эту историю и чего-то явно не договаривал[469]. До сих пор история этих стихов не вполне ясна; известно, однако, что список их хранился у вдовы казненного поэта и был сделан ее рукой. Стало быть, до Натальи Михайловны тоже дошел этот слух, и она переписала стихи из «Денницы» в убеждении — или в надежде — что они действительно имеют в виду трагическую гибель ее мужа[470]. Больше мы пока ничего не знаем.
В «Северных цветах» появились три стихотворения Надежды («Язык очей», «К ней», «Любовь») и одно — Серафимы («Сестре в альбом»).
Пушкин благодарил Языкова за стихи. Он уже знал о рождении нового журнала «Европеец» и уверял Языкова, что готов служить ему и Киреевскому чем может. Сомов тоже сообщал Максимовичу, что станет «усердствовать». Журнал должен был стать «своим».
Но сначала нужно было закончить дела с альманахом.
«Торопите Вяземского, — просил Языкова Пушкин, — пусть он пришлет мне своей прозы и стихов; стыдно ему; да и Баратынскому стыдно. Мы правим тризну по Дельвиге. А вот как наших поминают!»
Это была цитата из его, Языкова, стихов.
«…И кто ж? друзья его! ей-богу стыдно».Вяземский и сам знал, что стыдно.
«Я виноват перед тобою, то есть перед Цветами, как каналья. Вот все, что мог я собрать. Здесь такая суматоха, что нет часа свободного <…> Если стихов мало, возьми у Donna Sol Южные звезды, черные очи <.…>».
Пушкин не стал брать у Смирновой посвящение ей Вяземского. Стихов было не так уж мало.
«Хандра. Песня», «Тоска. В. И. Бухариной», «Д. А. Окуловой», «Володиньке Карамзину», «До свидания», «Предопределение» — шесть стихотворений, правда, собранных «по альбомам». Вяземский просил дать из запаса стихи для «Альционы» Розена; Пушкин уступил два стихотворения: «К***» («Нет, не дождешься! Верь тоске») и «Вера и София»; больше не мог.
Середина ноября 1831 года.
Пушкин — Ф. Глинке 21 ноября 1831
Милостивый государь Федор Николаевич,
Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние Северные Цветы. Изо всех его друзей только Вас да Баратынского не досчитались мы на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего он был связан.
<…>
Надеюсь еще на вашу благосклонность и на ваши стихи <.>[471].
Пушкин подозревал по каким-то признакам, что Глинка «сердит» на него — уж не за отзывы ли о «Бедности и утешении», которые могли дойти до него кружным путем? Но опасения были напрасны: Глинка ни о чем не подозревал. Еще до Пушкина к нему успел обратиться Сомов, но, видимо не сказал прямо, что альманах составляется в память Дельвига; Глинка узнал об этом от Пушкина впервые. Он однако выслал Сомову пять стихотворений и одну статью в прозе; в ответ на пушкинское письмо он прислал еще один прозаический «лоскуток» и три стихотворения и просил выбрать из всего запаса что надобно, а остальное вернуть.
Выбрали аллегорию «Важный спор», два отрывка из поэмы «Дева карельских лесов», «Псалом 103-й» и «Созерцание».
Глинка выслал стихи Сомову, вероятно, в конце ноября. Можно предполагать, что вместе с ними Сомов получил и отрывок из романа «Последний Новик» Ивана Ивановича Лажечникова.
Лажечников, как и Глинка, жил в Твери, где с марта 1831 года был директором училищ. О работе его над большим историческим романом издатели «Литературной газеты» знали задолго до выхода книжки, еще в 1830 году; затем Лажечников напечатал отрывок из него, а в мае 1831 года вышла первая часть, встреченная весьма благожелательно[472]. Вероятно, Сомов писал к Лажечникову тогда же, когда и к Глинке и, может быть, даже через Глинку, и теперь в руках у него была глава из четвертой части «Новика» — «Страшный суд». При письме от 19 декабря Лажечников прислал Пушкину две вышедшие части романа и напомнил ему о старом и, конечно, забытом знакомстве двенадцатилетней давности. Он благодарил Пушкина за внимание к его трудам, — стало быть, Сомов, как он делал нередко, обращался к Лажечникову от имени Пушкина[473].
Альманах был почти собран; помимо произведений, уже перечисленных, в нем были еще неизвестно когда полученные басня А. А. Шаховского («Сводные дети»), его же «Надписи к двум группам творения И. П. Мартоса» и два присланных из Рима стихотворения Зинаиды Волконской («Надгробная песнь славянского гусляра» и «Моей звезде»).
Теперь из всех друзей Дельвига только Баратынского не досчитывались на поэтической тризне.
Плетнев вспоминал, что кончина Дельвига еще увеличила отчуждение Баратынского от нового поколения литераторов: Дельвиг был звеном, соединявшим его с петербургской литературой[474].
Он знал больше, чем сказал. Со смертью Дельвига распадались связи. Пушкин был свято прав, по пальцам подсчитывая «бедную кучку» «своих»: он сам, Пушкин, Плетнев, Баратынский — кто еще?
В эти месяцы Баратынский не пишет стихов; более того: не хочет их писать.
Он меняет свою среду. В нем совершается какой-то духовный перелом. Он занимается всем, кроме поэзии: семьей, хозяйственными заботами.
По временам он как бы нехотя напоминает друзьям, что оставлять перо не позволяет им долг, что они обязаны свершить свое предначертание. Он пишет об этом Плетневу; он просит Языкова прислать свои новые стихи, которые, может быть, разбудят и в нем угасающее вдохновение.
Через восемь лет он скажет тому же Плетневу с жестокой искренностью: «Давно, давно я не пишу стихов, и мной оставлен тот мир, в котором некогда мы сошлись и сблизились»[475].
Он еще издаст собрание стихотворений, он напишет «Сумерки», он переживет время близости со старыми своими противниками — бывшими «любомудрами», как сейчас переживает период тесной дружбы с Иваном Киреевским, — но к тому миру, где он сблизился с Плетневым, Дельвигом, Пушкиным, возврата нет и не будет.
Он назовет Вяземского «звездой разрозненной плеяды», какой он был и сам.
«Союз поэтов» уходил в прошлое, в историю.
До него дошло письмо Пушкина, призывающее его на «тризну»; он был в это время в имении тестя под Казанью. Отсюда он написал Киреевскому: «Я отвечаю всем альманашникам, что у меня стихов нет, и на днях тем же буду отвечать Пушкину». Стихов действительно не было: даже для «Европейца» Киреевского он смог дать только одно стихотворение.
Он все-таки не ответил Пушкину буквально таким образом. Он послал все, что у него было: «Бывало, отрок, звонким кликом» и другое стихотворение, написанное в память Дельвига: «Мой Элизий» — «Не славь, обманутый Орфей».
Из этих стихов Пушкин напечатал только второе.
Что случилось? Почему — в первый и единственный раз — Пушкин отказывается напечатать в своем альманахе стихи Баратынского, которых он так долго добивался? Был ли здесь умысел или какие-то случайные, неизвестные нам причины?
В феврале 1832 года Баратынский просит Киреевского напечатать «Бывало, отрок…» в следующем номере «Европейца». «Я не знаю, отчего Пушкин отказал ей место в Северных цветах»[476].
В стихах Баратынский говорил о том, что для него прошел возраст поэзии.
Это была своего рода декларация, и, быть может, Пушкину показалось неуместным и странным, что она звучит над гробом Дельвига из уст Баратынского.
В начале декабря проза и половина стихотворений были уже напечатаны. Все, что присылалось позже, уже не попадало в альманах. Сомов, однако, удерживал материалы. Он намеревался издать шесть «Литературных сборников», возместив ими подписчикам «Литературной газеты» недоданные номера за полгода. Первый сборник должен был появиться в конце февраля или начале марта.
Сомов собирал эти полуальманахи и должен был одновременно еще наблюдать за «Северными цветами», которые к 24 декабря благополучно появились на свет. Пушкин был их организатором, и в газетных объявлениях его аттестовали издателем[477]. Сомов просил, чтобы Пушкин сам распоряжался и продажей книжек или поручил бы это Плетневу, — но на свою и Сомова беду Пушкин оставил все дело на его руках, не предвидя, какие недоразумения могут из этого выйти.
Он не знал, что Сомов нерасторопен в коммерческих делах, особенно там, где требуется аккуратнейшая проверка счетов и бухгалтерская точность в расчетах, что книгопродавцы вечно обсчитывали его и что покойный Дельвиг всегда брал на себя переговоры с комиссионерами, переплетчиками и типографией.
Было напечатано 1200 экземпляров книжки и несколько «нарядных» экземпляров, куда шла бумага по цене от рубля до двух за лист. Один такой экземпляр был отправлен Софье Михайловне, некогда Дельвиг, ныне Баратынской: она вышла замуж за Сергея Абрамовича, брата поэта.
Второй экземпляр получил Глинка, третий — Лажечников.
Особо отпечатали оттиски «Пиранези» Одоевского, статьи Максимовича и «Мирры» Деларю, с псевдонимом «Д. Казанский». Все стихи Пушкина были набраны заново, особой брошюрой[478].
Послали экземпляры Языкову, Киреевскому, Максимовичу, Погодину, сестрам Тепловым.
Расходы неприметно увеличивались. Печатание книжки обошлось в 700 рублей, 16 с половиной листов по 40 рублей за лист. 25 рублей платили за стопу петергофской бумаги, всего же пошло 50 таких стоп, на 1250 рублей.
Знаменитый петербургский гравер Чесский брал за виньетку 150 рублей.
Отдельный счет представил переплетчик. Здесь расчеты затруднялись тем, что он переплетал тираж по частям — и еще в ноябре 1832 года у него оставалось 490 экземпляров книжки — более трети всего тиража.
Несколько десятков экземпляров — мы не знаем точно, сколько — предназначались для подарков и для нужд самих издателей. Шесть экземпляров отправляли безденежно в цензурный комитет.
Двести экземпляров было у Сленина, двести взял Смирдин, по 25 — Заикин и Глазунов московский. Книгопродавцы брали также в долг, отдавая деньги по частям.
Во всех этих расчетах Сомов должен был запутаться почти неизбежно — и так и случилось.
Быть может, он брал из вырученных сумм какие-то деньги и для себя, в счет своего гонорара или заимообразно, рассчитывая покрыть дефицит из выручки за сборники. Как бы то ни было, надежда на прибыли от издания оказывалась ложной. «Северные цветы» не принесли почти ничего и не пролили изобилия на вдову и малолетних братьев Дельвига[479].
10 сентября 1832 года Греч сообщал Булгарину, что «Сомов совершенно отринут Пушкиным и никакого участия ни в чем с ним не имеет». В. Д. Комовский в частном письме к Языкову добавлял к этому, что разлад произошел «за благоразумное присвоение почтенным Орестом Михайловичем денег, которые выручил от издания „Северных цветов“…»[480]. Вероятно, Пушкин сказал нечто подобное, когда расчеты рухнули. В запальчивости он склонен был возлагать на Сомова всю вину, часть которой лежала, однако же, и на самом, и на других, хотя бы на Плетневе, который не нашел в себе сил заняться альманахом. Плетнев был, вероятно, единственным, кто мог бы держать в порядке хозяйственные дела; Пушкин же был к этому столь же неспособен, как и сам Сомов.
Он отобрал у Сомова «должность поверенного и хлопотуна» и с тем поразительным умением ошибаться в людях, какое было свойственно ему в дни волнения и раздражения, пригласил вести свои литературные дела Наркиза Отрешкова, человека сомнительной репутации, которого потом сам называл «двуличным» и который впоследствии, уже после смерти Пушкина, присвоил кое-какие его книги и рукописи.
Конфликт этот разыгрался осенью. Сомов не отрицал за собою вольной или невольной вины и обязался частью погасить дефицит из своего жалования, которое получал теперь, став помощником Греча по «Сыну отечества». Всего на нем оставалось три тысячи рублей долгу; большую часть его он собирался выплатить из первых же денег за новую большую работу. Сохранилось его письмо к Пушкину от 18–24 января 1833 года, где он пишет обо всем этом. В письме нет никаких следов обиды или происшедшей резкой ссоры, но есть упоминание о болезни.
«Здоровы ли вы и все Ваше любезное семейство? У меня все больны: о себе уже и не говорю, это письмо пишу я целую неделю; поминутные вертиже в голове и блестки в глазах не дают мне заняться и четверти часа сряду. Беда человеку семейному, обязанному кормить себя и семью свою из трудовых денег, занемочь и быть несколько времени неспособным к работе».
«Малороссийские повести» Порфирия Байского, так славно «двигавшиеся» еще неделю назад, остановились.
И самое имя Сомова исчезло со страниц периодических изданий.
30 мая 1833 года от дома купчихи Балахоновой, что на Знаменской улице, двинулся траурный кортеж с телом Ореста Михайловича Сомова[481].
Кружок Дельвига более не существовал, и «Северные цветы на 1832 год» стали подлинно тризной — и не по одному человеку. Целая эпоха русской литературной жизни уходила в прошлое.
Золотой век альманахов был короток — он совпал с началом века профессиональной литературы. Он был порождением ее — и «Полярная звезда», и «Северные цветы» были тому явственным примером. Но он был и ее жертвой.
Новая эпоха была эпохой не стихов, а прозы, и не альманаха, а журнала.
Альманаху нужен был узкий дружеский кружок, уже переставший быть салоном и еще не ставший редакцией. Но время шло вперед, и те же люди, которые издавали альманахи, готовили их уничтожение, то сознательно, то бессознательно. Они стремились к журналу, газете; они переходили от стихов к прозе, повинуясь требованию века.
Пушкинский «Современник» был альманахом, перераставшим в журнал. Главное место в нем занимала проза, критика, и в нем платили гонорар.
Но разве «Полярная звезда» не прокладывала путей журналу? И разве «Северные цветы» не стали ежегодным периодическим изданием?
Дружеские литературные кружки отворяли свои двери для посторонних, в них появлялись новые люди, делавшие словесность своей профессией; они становились не столько друзьями, сколько сотрудниками. Краевский, помогавший Пушкину в издании «Современника», был сотрудником, а не другом.
Орест Сомов был другом Дельвигу, Пушкину — сотрудником.
Когда в 1838 году В. А. Владиславлев предпримет издание «Утренней зари» — в духе классических альманахов, — он будет собирать его средствами, едва ли не единственными в своем роде: Бенкендорф, его начальник по службе, обратится к литераторам с полуофициальной просьбой об участии, и все, вплоть до графини Ростопчиной, получат почти циркулярные письма за служебным номером. Только таким образом в конце тридцатых годов можно было создать суррогат кружка, питающего альманах.
Уже никому больше не удастся возобновить «Северных цветов» — даже Пушкину.
В январе 1833 года Вяземский будет сообщать Жуковскому, что собирается издать к весне вместе с Пушкиным «Северные цветы». Почти одновременно с ним Баратынский готовился выпустить альманах вместе с московскими своими друзьями, и Вяземский просил А. И. Тургенева помочь им обоим.
В конце марта он пишет Тургеневу: «Альманах Баратынского упал в воду».
В апреле он извещает Жуковского: «„Северных цветов“ нет на нынешний год, но мы с Пушкиным жилимся и надеемся…»[482].
Идея продолжения «Северных цветов» владела всеми.
До нас дошла записка, к сожалению, не датированная, но относящаяся, несомненно, к тому же времени: «Я согласна, чтобы князь Одоевский издавал „Северные цветы“. Софья Баратынская, бывшая баронесса Дельвиг»[483].
Итак, и Одоевский готов издавать «Цветы», но не делает этого: он вместе с Гоголем затевает альманах «Тройчатка», заручается одобрением Жуковского и предлагает Пушкину участвовать.
С. А. Соболевский, только что приехавший в Петербург, пересылает Пушкину его записку и приписывает:
«Так как об ваших Северных Цветах ни слуху, ни духу, то издам я таковой, да издам на славу, с рисунками <…> Гагарина. <…> Христа ради, Александр Сергеевич, стишков и прозы, прозы и стишков…» [484]
И Пушкин приходит в бешенство.
Он сделает еще одну, последнюю, попытку — издать вместе с Плетневым «Арион» или «Орион» — в октябре 1835 года. Но это уже не будут «Северные цветы».
История «Северных цветов» кончилась — начиналась предыстория «Современника».
Указатель содержания «Северных цветов» на 1826–1832 гг. (В алфавите авторов)
1. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1825 ГОД, СОБРАННЫЕ БАРОНОМ ДЕЛЬВИГОМ. Изданы Иваном Слениным. СПб., 1825.
ПРОЗА. Баратынский Е. А. История кокетства. Воейков А. Ф. Прогулка в селе Кускове. Глинка Ф. Н. Древние замки. (Письмо VI, к другу). — Неузнанная. Дашков Д. В. Афонская гора. (Отрывок из путешествия по Греции в 1820 году). [Подп.**]. — Известие о греческих и латинских рукописях в Серальской библиотеке. [Подп.**]. Перовский В. А. Отрывки писем из Италии. [Подп. П…й]. Плетнев П. А.
Письмо к графине С. И. С[оллогуб] о русских поэтах.
СТИХОТВОРЕНИЯ. Баратынский Е. А. [Подп. Е. Б-ий]. Звездочка. — Оправдание. — Сонет. (Мы пьем в любви отраву сладкую). — Череп. [Подп. Е. Б.]. Востоков А. X. Сербские песни. (1. Братья Якшичи. 2. Смерть любовников. 3. Свадебный поезд). Вяземский П. А. К журнальным близнецам. [Подп. Кн. Вяз ……]. — К княжне *** при посылке моих песен. — Младый певец. — Недовольный. — Простосердечный ответ. [Подп. К. В.]. — Черта местности. Глинка Ф. Н. Видение в луне. — Желание бога. — Псалом. (Подражание). Гнедич Н. И. На смерть N. N. [Подп. Н. Г.-чь]. — Греческие простонародные песни. (1. Гроб клефта. 2. Кальякуд. 3. Олимп). Григорьев В. Н. К неверной. Даргомыжская М. Б. Два червяка. Дашков Д. В. Цветы, выбранные из греческой анфологии. [Подп.**]. Дельвиг А. А. Купальницы. — Песня. (Наяву и в сладком сне). — Романс. (Друзья! друзья! я Нестор между вами). — Русские песни. (1. Скучно девушке весною жить одной; 2. Пела, пела пташечка…). Жуковский В. А. Мотылек и цветы. — Ночь. — Привидение. — Таинственный посетитель. Загорский М. П. Царь Фулеский. (Из Гете). [Б. п.] — Перчатка. (Из Шиллера). Измайлов А. Е. С. Д. П [ономаревой]. (В день ее ангела). — Ей же. (В день ее рождения). Козлов И. И. Добрая ночь. (Из Байрона). — Ирландская песня. (Из Мура). — К кн. М. А. Г[олицыной], урожденной к. [няжне] С.[уворовой]. — Киев. [Б. п. Авторство раскрыто на с. VI]. — Сон невесты. Крылов А. А. В альбом Н. Н. Б-ой. Крылов И. А. Богач и поэт. — Лев состаревшийся. — Лисица и осел. — Муха и пчела. — Прихожанин. — Три поцелуя. Масальский К. П. Море и земля. (С греческого, 1820). Ободовский П. Г. Весенний гимн вседержителю. Остолопов Н. Ф. Кот и белка. Плетнев П. А. Альбом. — Измена. — К И. И. Козлову. — Разлука. — А. Н. С[емено]вой. Пушкин А. С. Демон. — Отрывки из «Евгения Онегина». — Песнь о вещем Олеге. — Прозерпина. Туманский В. И. Моя любовь. [Подп. Т.] . — Элегия. (На скалы, на холмы глядеть без нагляденья). [Подп. Г.]. Туманский Ф. А. К…….
2. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1826 ГОД, СОБРАННЫЕ БАРОНОМ ДЕЛЬВИГОМ. Изданы Иваном Слениным. СПб., 1826.
ПРОЗА. Бестужев Н. А. Трактирная лестница. [Подп. Алексей Коростылев] . Глинка Ф. Н. Непонятный союз. — Неразлучные. — Вожатый. Григорович В. И. [Подп. В……]. О состоянии художеств в России. Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. [Б. п.]. — Еще несколько слов о Серальской библиотеке. Илличевский А. Д. Путешествие на Сент-Бернард. Пушкин А. С. Отрывок из письма к Д.[ельвигу]. Б. п. Фирдоуси.
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. К Аннете. — Надпись. — Л. С. П[ушкин]у. Батюшков К. Н. К N.N — Подражание Ариосту. Великопольский И . Е. К подаренному локону. Востоков А. X. К друзьям. — Строение Скадра. Вяземский П. А. Альбом. — К мнимой счастливице. — Нарвский водопад. — О. С. Пушкиной. — Семь пятниц на неделе. — Характеристика. Глинка Ф. Н. Смерть Фигнера. — Степная жизнь. Воспоминания. Поход. — Черты осени. Гнедич Н. И. Пояс Киприды. (Отрывок из XIV песни «Илиады»). Дельвиг А. А. В альбом С. Г. К-ой. — Н. И. Гнедичу. [Подп. — Д. — ]. — Две звездочки. — Луна. [Подп. — Д. —]. — Мы. — Русская песня. (Соловей мой, соловей). — Эпитафия. Дмитриев И. И. [Подп.***]. Надпись к портрету лирика. — Подражание 136 псалму. Измайлов А. Е. Стрелки. Илличевский А. Д. Мадригалл — N.N., поднося ей яблоко. — Надпись к источнику. — Три слепца. — Эпитафия. Козлов И. И. Еврейская мелодия. (Из Байрона). — Княжне С. Р.[адзиви]ль. (Твоя безоблачная младость). — На погребение английского генерала сира Джона Мура. — Стансы к Николаю Ивановичу Гнедичу. (На Кавказ и Крым). — Явление Клоринды Танкреду. (Из «Освобожденного Иерусалима»). Кюхельбекер В. К. [Б. п.]. Пощада певца. Масальский К. П. Развалины. Ободовский П. Г. Отрывки из персидской повести «Орсан и Леила». — Персидский романс. (Из повести «Орсан и Леила»). Ог — в А. Моя эпитафия. (Подражание Скаррону). Ознобишин Д. П. Мир фантазии. Плетнев П. А. Идеал. — Княжне С. Р[адзиви]ль. (Р. S.). (Так в привиденьи идеала…). — Объяснение. — С. М. С[алтыково]й. — Стансы к Д*** [Дельвигу]. Пушкин А. С. Баратынскому. (Из Бессарабии). — Ему же. — Отрывки из второй песни «Евгения Онегина». — Подражание Корану. — Отрывок из поэмы «Цыганы». Раич С. Е. К Лиде. (Подражание К. Галлу). Туманский Ф. А. К увядающей красавице. — Молитва. — Элегия. (Когда на зов души унылой). — Элегия. (Невидимо толпятся годы). Шевырев С. П. Вечер. (Из Шиллера). — Лилия и роза. (В альбом Т. Е. Е-ой). Языков Н. М. Отрывок из повести «Ала». — Две картины. — Слава богу. Яковлев М. А. Элегия. (Желанье сердца не свершилось). Б. п. 17 сентября 1824.
3. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1827 ГОД. ИЗДАНЫ БАРОНОМ ДЕЛЬВИГОМ. СПб., 1827.
ПРОЗА. Батюшков К. Н. Письмо к С. из Готенбурга. Июня 19, 1814 года. Булгарин Ф. В. Развалины Альмодаварские. Вяземский П. А. Выдержки из записной книжки. Глинка Ф. Н. Осенние дни. (Картины). — Чудесная сопутница. Григорович В. И. [Подп. В……]. О состоянии художеств в России. (Письмо V). Илличевский А. Д. Примечательный слепой. Перовский В. А. [Б. п.]. Отрывки писем из Италии. Погодин М. П [подп. З — ий] Русая коса. (Происшествие из жизни М). Сомов О. М. [Подп. Порфирий Байский]. Юродивый. (Малороссийская быль).
ПОЭЗИЯ. Балле И. Несчастному. Баратынский Е. А. Богдановичу. — А. А. В[оей-ков]ой. — Наяда. — Песня. (Когда взойдет денница золотая). — Телема и Макар. — Эпиграмма. (И ты поэт, и он поэт). [Подп. Е. Б — ий] . Великопольский И. Е. Воспоминание. (Из Ламартина). Веневитинов Д. В. Песнь грека. — Три розы. Востоков А. Х. Сербские песни. (1. Яня Мизиница. 2. Сестра девяти братьев. 3. Девица и солнце. 4. Жалобная песня благородной Асан-Агиницы). Вяземский П. А. Нетленный цветок. — Слезы прощания. Глебов А. Н. Август месяц. — Волшебный сад. Глебов Д. П. Сон. (Из Байрона). Глинка Ф. Н. Нетленные глаза. (Восточный аполог. Из Хафиса). — Приключение. Гнедич Н. И. Рыбаки. (Идиллия). Григорьев В. Н. Бештау. Дельвиг А. А. В альбом А. Н. В[уль]ф. — Гений-хранитель. (Сновидение). — Дифирамб. (На приезд трех друзей). — Друзья. (Е. А. Баратынскому). Илличевский А. Д. К брату. — На древнюю вазу. — Орел и человек. — Сельская сирота. (Элегия Суме). Козлов И. И. Лунная ночь в Кремле. (Из поэмы «Наталья Долгорукая», посвященной В. А. Жуковскому). — Подражание Шатобриану о разорении Рима и о восстановлении христианства. (Отрывок, посвященный Александру Ивановичу Тургеневу). Ободовский П. Г. Величие мира. (Подражание Шиллеру). Отрывок из Мюльнеровой трагедии «Die Schuld». Ознобишин Д. П. Фиалка. (Подражание Ибн-Руми). Плетнев П. А. Воспоминание. — Ночь. — Рассудок и страсть. — Садовник. Пушкин А. С. 19 октября. — Отрывок из III главы «Евгения Онегина». (Ночный разговор Татьяны с ее няней). — Письмо Татьяны. (Из 3-ей песни «Евгения Онегина»). — К***. (Я помню чудное мгновенье). Ротчев А. Г. [В подп. ошибочно «Тютчев»]. Подражание арабскому. Туманский Ф. А. 18 апреля. — Птичка. Шемиот В. Элегия. (Из Парни). Шкляревский П. П. Пляска. (Из Шиллера). Яковлев М. А. Эпиграмма. (Такого я успеха). 1 …8… Одиночество. (Из Ламартина). — Сон злодея. (Из Садия).
4. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1828 ГОД. СПб. 1827.
ПРОЗА. Булгарин Ф. В. Падение Вендена. (Историческая повесть). Глинка Ф. Н. Восхождение солнца в бурное осеннее утро (Картина с натуры). — Две сестры, или которой отдать преимущество? Греч Н. И. [Б. п., авторство раскрыто в ред. прим. с IV]. О жизни и сочинениях Карамзина. Плетнев П. А. О стихотворениях Баратынского. (С ред. примечанием). Пушкин А. С. [Б. п.] Отрывки из писем, мысли и замечания. Сенковский О. И. Бедуинка. (Восточная повесть. С арабского). Сомов О. М. Гайдамак (Отрывок из малороссийской повести.) [Подп.: П. Байский]. Обзор российской словесности за 1827 г.
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. Отрывок из поэмы «Бальный вечер». — Последняя смерть. Батюшков К. Н. Элегия. (Есть наслаждение и в дикости лесов). Вердеревский В. Е. Две оды из Горация. (Ода 5, кн. II. К Лидии. Ода 25, кн. 1). Вяземский П. А. Море. Глинка Ф. Н. Переговоры в Белой Церкви. (Черта из жизни Богдана Хмельницкого). — Псалом LXII. Гнедич Н. И. К П. А. Пл[етне]ву, ответ на его послание. (Отрывок). Григорьев В. Н. Послание к Н. Ф[илософов]у. — Сетование. (Израильская песнь). Дашков Д. В. (?) [Б. п.]. Надписи к изображениям некоторых итальянских поэтов. (1. Данте. 2. Петрарка. 3. Гроб Ариоста. 4. Тассо). Дельвиг А. А. Застольная песня. — Идиллия (Некогда Титир и Зоя…). — На смерть В[еневити-но]ва. — На смерть собачки Амики. — Ответ. — Смерть. — Утешение. — Эпиграмма. (Свиток истлевший с трудом развернули…). Зайцевский Е. П. Учан-Су. (Посв. Анне Евстафьевне Удом). Измайлов В. В. Конь и жеребенок. (Басня. Из Флорияна). Илличевский А. Д. Жалоба на счастие. — К портрету Ломоносова. — К часам, при отсылке их сестре. — Опроверженная пословица. — Сила надежды. — Сочинителю посланий. — Три сонета. (Из Мицкевича). (1. Аккерманские степи. 2. Плавание. 3. Бахчисарайский дворец). Козлов И. И. Вечерний звон. (Т. С. Вдмрвой [Вадемейер]). Крылов И. А. Алексею Николаевичу Оленину при доставлении последнего издания «Басен». [Максимович М. А.?]. Пчела и мотылек. Ободовский П. Г. Кончина благотворителя. — Пророчество о Мессии. Плетнев П. А. Безвестность. — Соловей. Подолинский А. И. Стансы. — Фирдоуси. Пушкин А. С. Ангел. — Отрывок из «Бориса Годунова». — Граф Нулин. — Череп. (Послание к Д[ельвигу]). [Подп. Я]. — Элегия. (Под небом голубым страны своей родной…). Рылеев К. Ф. [Б. п.]. Партизаны. (Отрывок). Сомов О. М. [Б. п.]. Русский романтик русскому классику. Суханов М. Д. Цветок и терновник. Туманский В. И. Прекрасным глазам. Языков Н. М. К няне. Б. п. Надежды. (С немецкого). — Падающие звезды. (Подражание Беранжеру). — Характеристика.
5. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1829 ГОД. СПб. 1828.
ПРОЗА. Булгарин Ф. В. Петр Великий в морском походе из Петербурга к Выборгу. (Исторический отрывок). Веневитинов Д. В. Три эпохи любви. (Отрывок из неоконченного романа). Вяземский П. А. Выдержки из записной книжки. Измайлов В. В. О новой журнальной критике. Пушкин А. С. IV глава из исторического романа. Сомов О. М. Обзор российской словесности за 1828 год. Титов В. П. [Подп. Тит Космократов]. Уединенный домик на Васильевском. (Повесть). Б. п. [В огл.:***]. О новоустроенной церкви при Обуховской градской больнице.
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. Антологические стихотворения. (1. Как ревностно ты сам себя дурачишь!.. 2. Старательно мы наблюдаем свет… 3. Мой дар убог и голос мой не громок… 4. Глупцы не чужды вдохновенья… 5. Не подражай: своеобразен гений…). — Бесенок. — Деревня. — Переселение душ. (Сказка). — Смерть. (Подражание А. Шенье). — Старик. [Б. п., в огл.: … *]. Веневитинов Д. В. Завещание. Вердеревский В. Е. Прорицание Нерея. (Гораций, ода 15, кн. 1) . Вронченко М. П. [Подп. М. В…… ко]. Ирландские мелодии. (Из Мура). (1. Мне дорог час, когда бледнеет пламень дня… 2. Может в зеркале вод отражаться луна…). Вяземский П. А. Ирландская мелодия. (Из Мура). (Когда мне светятся глаза, зерцало счастья…). — Послание к А. А. Б. (При посылке портрета). — Предостережение. — Простоволосая головка. — Стансы. (Анне Ивановне Готовцевой). — Эпиграммы. (1. Неустрашимый самохвал… 2. Двуличен он! избави боже!). Готовцева А. И. К Ю. И. Бартеневу. — А. С. П[ушкину]. Григорьев В. Н. Грузинка. Дельвиг А. А. Романс. (Одинок месяц плыл…). — Сон. — Хор для выпуска воспитанниц имп. Харьковского института. Жуковский В. А. Видение. — Отрывки из «Илиады». — Море. — Торжество победителей. (Из Шиллера). Зайцевский Е. П. Е. Ф. Р-ой. Измайлов А. Е. Слепой и окулист. (Сказка). Илличевский А. Д. К статуе Ариадны. — К фантазии. (Подражание английскому). Катенин П. А. Старая быль. (В прим. — отрывок из письма Пушкина]. Козлов И. И. Заря погасла — ветерки… — Стансы. (Вольное подражание Адаму Мицкевичу). Крылов А. А. А. А. К-ой. — К клену. (Подражание Парни). Крылов И. А. Бедный богач. — Бритвы. — Пушки и паруса. — Эпитафия. Крюков А. П. Нечаянная встреча. Кюхельбекер В. К. [Подп. К.] Ночь. — Луна. — Смерть. Масальский К. П. К ручью. (С испанского. Из Вильегаса). Ободовский П. Г. Отрывок из шиллеровой трагедии «Дон Карлос». (Действие 1). Плетнев П. А. [Подп.**]. Сцена из трагедии Шекспира «Ромео и Юлия». Подолинский А. И. Два странника. — Сирота. Пушкин А. С. Воспоминание. — В альбом П. А. О[сиповой]. (Быть может, уж недолго мне…). — Город пышный, город бедный. [Подп.**][485]. — Два ворона. — К И. В. С.[ленину]. [Подп. А. П.]. — К Я.[зыкову]. (К тебе сбирался я давно…). [Подп.**]. — Любопытный. [Б. п.]. — Наперсник. [Подп.**]. — Не пой, красавица, при мне. [Подп. А. П.] . — Ответ. (А. И. Готовцевой). — Ответ Катенину. [Подп. А. П.] . — Подражание Анакреону. (Кобылица молодая). — Портрет. (С своей пылающей душой…). [Подп.**]. — Предчувствие. [Подп.**]. — Ты и Вы. — То Dawe, Esq. [Подп. А. П.]. Пушкин В. Л. Отрывок из повести «Капитан Храбров». (гл. II). Розен Е. Ф. Тайна розы. (Подражание арабскому). Ротчев А. Г. Тьма. (Из лорда Байрона). Сомов О. М. [Б. п.]. Мнимому классику. Щастный В. Н. Беседа милой девы. — Кто приподнял нескромною рукой… Языков Н. М. Барону А. А. Дельвигу. — А. Н. В[уль]фу.
6. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1830 ГОД. СПб., 1829.
ПРОЗА. Волконская З. А. Отрывки из путевых записок. Глинка Ф. Н. Вступление большой действующей армии на позицию при с. Тарутине. (Отрывок из Истории 1812 года). Крюков А. П. Киргизский набег. Пушкин А. С. Отрывок из литературных летописей. Сенковский О. И. Вор. (Арабская повесть). Сомов О. М. Кикимора. (Рассказ русского крестьянина на большой дороге). — Обозрение российской словесности за первую половину 1829 г.
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. Сцена из поэмы «Вера и неверие». — Муза. — Эпиграмма. (В восторженном невежестве своем). Вяземский П. А. Слеза. Деларю М. Д. Ангелу-хранителю. — К Неве. — Поэт. — Слеза любви. (Б[аронессе] С. М. Дельвиг). Глинка Ф. Н. Дева и видение. — Не наша сторона. — Псалом LXVII. — Царь и мудрец. [Подп. Ф. Г., авторство раскрыто в огл.]. Дельвиг А. А. Грусть. — Изобретение ваяния. (Идиллия). — Малороссийская мелодия. — Отставной солдат. (Русская идиллия). — Русская песня. (Как у нас ли на кровельке). — Слезы любви. — Удел поэта. — Четыре возраста фантазии. Измайлов А. Е. Обманчивая наружность. — Скотское правосудие. Катенин П. А. Элегия. (Фив и Музы! Нет вам жестокостью равных). Козлов И. И. Из Байронова «Дон Жуана». (Вольное подражание). — К тени ее. Котляревский И. П. Малороссийская песня. Ободовский П. Г. Эрминия. (Сельская элегия). Плетнев П. А. [Б. п.]. Сцена из трагедии Шекспира «Ромео и Юлия».
Подолинский А. И. Гурия. — Противоположности. Пушкин А. С. 2-го ноября. (Зима. Что делать нам в деревне?). — 26 мая 1828. (Дар напрасный, дар случайный.). [Подп. А. П., в огл. полностью]. — Отрывок из VII главы «Евгения Онегина». — Зимний вечер. — К**. (Подъезжая под Ижоры). [Б. п., в огл. раскрыто авторство]. — К N. N. (Счастлив ты в прелестных дурах). [Подп. А. П., в огл. полностью]. — Олегов щит.: [Подп.**, авторство раскрыто в огл.]. — Эпиграмма. (Мальчишка Фебу гимн поднес). — Эпиграмма. (Седой Свистов! ты царствовал со славой). [Подп. Арз.]. — Я вас любил: любовь еще, быть может… Розен Е. Ф. Венчальный обряд. — Могильная роза. — Путь любви. Ротчев А. Г. В альбом К. Н. У[шако]вой. Тепляков В. Г. Странники. Туманский В. И. [Подп. В., в огл.: В. И. Туманского]. Спаси меня. — Pen-sée. Туманский Ф. А. Родина Хомяков А. С. Прощание с Адрианополем. Шемиот В. Друзьям. Шишков А. А. Эльфа. Б. п. Элегия. (Довольно! вижу: от меня…).
7. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1831 ГОД. СПб. 1830.
ПРОЗА. Волконская З. А. Отрывки из путевых записок. Глинка Ф. Н. Новая пробирная палатка. Гоголь Н. В. [Подп. оооо]. Глава из исторического романа. Одоевский В. Ф. [Подп. ь. ъ. й]. Последний квартет Беетговена. Сомов О. М. Обозрение российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 года. Тепляков В. Г. Письмо III из Турции. Титов В. П. [Подп. Тит Космократов]. Монастырь св. Бригитты. Трилунный (Струйский Д. Ю.). Выдержки из записной книжки.
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. Новинское (Отрывок из 2-й гл. романа «Наложница»). — Сара. (Отрывок из романа «Наложница». Гл. V). Вердеревский В. Е. К Мельпомене. (Гораций, кн. 4, ода 3). — К Фидиле. (Гораций, кн. 3, ода 23). Волков П. Г. Мечта. — Русалки. (Фантазия). Вяземский П. А. К А. О. Р[оссет]. — К журнальным благоприятелям. — Леса. — Осень 1830 года. — Родительский дом. — Святочная шутка. — Эпиграмма. (Вот враль! подобного ему не знаю чуда). Глинка Ф. Н. Бедность и утешение. — К синему небу. — Непонятная вещь — Осень и сельское житье. — Отрадное чувство. — Приметы. — Тоска о нем. Гнедич Н. И. К П. А. Плетневу. Деларю М. Д. Выздоровление. — Глицере. — Могила поэта. (Посвящ. памяти В[еневитино]ва). — Сон и смерть. Козлов И. И. Песня Десдемоны. (С англ.). Одоевский А. И. [Б. п.]. Бал. — Луна. — Тризна. Плетнев П. А. [Подп. П. П.]. К Н. И. Гнедичу. — Отрывок. Пушкин А. С. Монастырь на Казбеке. — Обвал. — Ответ анониму. — Отрывок. (На холмах Грузии лежит ночная мгла). — Поэту. (Сонет). 3 …я Р…. [Сушкова (Ростопчина) Е. П.(?)]. Любила я. Сушкова (Ростопчина) Е. П. [Подп. Д……а]. Талисман. Станкевич Н. В. Филин. (Перевод). Тепляков В. Г. Первая фракийская элегия. (Отплытие). — Румилийская песня. — Современное благополучие. Тимашева Е. А. [Подп. К…а Т…шева]. Ответ. Трилунный (Струйский Д. Ю.). Альпийские сосны. — Слезы. Туманский В. И. Гондольер п поэт. (Перевод неизданных стихов Л. Шенье). — Идеал. — Мысль о юге. — Романс. (На голос вальса Беетговена). — Судьба. Шевырев С. П. Две песни. (Любовь до счастия и после). — К Фебу. — Ода Горация последняя. — Тройство. — Чтение Данта. — Широкко. Ш-б-в [Шибаев?] Н. И. Неаполь. — Элегия. (Недолго теплый ветер лета). Щастный В. Н. Отрывок из драматической поэмы Иосифа Коженевского «Отшельник». Языков Н. М. Элегия. (Я отыщу твой крест смиренный).
8. СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ НА 1832 ГОД. СПб., 1831.
ПРОЗА. Батюшков К. Н. Предслава и Добрыня. (Старинная повесть). Бичурин Н. Я. [Подп. Н. Б.]. Байкал. (Письмо к О. М. С[омову]). Глинка Ф. Н. Важный спор. (Аллегория). Лажечников И. И. Страшный суд. (Отрывок из романа «Последний Новик»). Максимович М. А. О жизни растений. (Посвящ. М. П. В.). Никитенко А. В. Отрывок из романа «Леон, или Идеализм». Одоевский В. Ф. [Подп. ь. ъ. и.]. Opere del cavaliere Giambattista Piranesi. (А. С. Хомякову). Погодин М. П. Нечто о науке. (Отрывок из письма к графине). Сомов О. М. Живой в обители блаженства вечного. — Сватовство. Сомов О. М. [?] Отрывок из китайского романа «Хау-Цю-джуань», т. е. «Беспримерный брак». (Пер. с китайского). [Б. п.]. Трилунный (Струйский Д. Ю.). Дума. (Посвящена памяти графа Каподистриа. Отрывок).
ПОЭЗИЯ. Баратынский Е. А. Мой Элизий. Волконская З. А. Моей звезде. — Надгробная песнь славянского гусляра. Вяземский П. А. Володиньке Карамзину. — До свидания. — Д. А. Окуловой. — Предопределение. — Тоска. (В. Н. Бухариной). — Хандра. (Песня). Глинка Ф. Н. Лесные войны. (Из поэмы «Дева карельских лесов»). — Отрывок из поэмы «Безыменные, или Дева карельских лесов». — Псалом 103-й. — Созерцание. Деларю М. Д. Анфологическое четверостишие. — Замужней Елене. — К *** при посылке тетради стихов. — Лизаньке Дельвиг. — Мирра. (Поэма Овидия Назона. С латинского.). [Подп. Д. Казанский. В огл.: М. Д. Деларю] . — Псалом. — Увядающая роза. — Элегия. (Не долго, с тишиной сердечной). Дельвиг А. А. Пять стихотворений. (1. К Морфею. 2. Сонет. 3. Русские песни. (И я выду ль на крылечко…; Как за реченькой слободушка стоит). 4. Отрывок. (На теплых крыльях летней тьмы). Дмитриев И. И. Василию Андреевичу Жуковскому по случаю получения от него двух стихотворений на взятие Варшавы. Жуковский В. А. Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву. — Сражение со змеем. Комаров А. А. Отрывок из сельской поэмы «Маша». — Ночь. Мещерский А. В. Стансы. Прокопович Н. Я. [Подп. — чь]. Полночь. Пушкин А. С. Анфологические эпиграммы. (1. Царскосельская статуя. 2. Отрывок. 3. Рифма. 4. Труд). — Анчар, древо яда. — Бесы. — Делибаш. — Дорожные жалобы. [Б. п.]. — Моцарт и Сальери. (Отрывки. Сцены I и II). — Эхо. Розен Е. Ф. Гречанке. — Пастуший рог в Петербурге. — Проклятие. Сомов О. М. [Б. п.], Убегающей красавице. Ставелов Н. Странник. Станкевич Н. В. Бой часов на Спасской башне. — Песнь духов над водами. (Из Гете). Теплова Н. С. К ней. — Любовь. — Язык очей. Теплова С. С. [Подп. С-ма Т-ва]. Сестре в альбом. Тепляков В. Г. Жестокий призрак. — The blue stockings. Тимашева Е. А. [Подп. Е. А. Ти…ва]. К застенчивому. — К незабвенному. Трилунный (Струйский Д. Ю.). Возрождение. — Тьма. (Подражание Байрону). Шаховской А. А. Надписи к двум группам творения И. П. Мартоса. (1. Вот Сафо, вот Фаон, вот хитрый бог любви… 2. И Ломоносова пылающим пером…). — Сводные дети. Ш-б-в [Шибаев?] Н. И. Утешение. (Из Шенье). Щастный В. Н. Два желания. (1. Не богатствами Пактола… 2. Всенародному позору…). — Камин. — Отрывок из драматической поэмы «Отшельник». — Турецкая песня. Языков Н. М. А. А. Дельвигу. — Бессонница. — И. В. К[иреевскому]. (Об П. В.). — Им. К[аролине] К[арловне] Я[ниш]. — Песня. (Он был поэт: беспечными глазами…). Якубович Л. А. Зима. — Иран. (Из Гафиза). — Леший. — Мольба. — Музыка. — Украинские мелодии.
II С. Д. П Из истории литературного быта пушкинской поры
Тетушкин альбом[486] (Вместо предисловия)
Немногим менее столетия назад историк театра Н. В. Дризен разыскал в семейных архивах старинный альбом с рисунками и стихами. Альбом принадлежал его двоюродной прабабушке; стихи были частью адресованы ей, и под ними стояли имена, весьма известные в истории русской словесности пушкинского времени.
Гнедич. Измайлов. Кюхельбекер. Востоков. Илличевский. Владимир Панаев. Неизданные, неизвестные стихи.
Автографы опубликованных стихов Крылова, Баратынского, Дельвига. Вклеенный автограф Пушкина.
Рисунки Кипренского и Кольмана.
С миниатюры, вставленной в переплет, на внучатого племянника смотрело лицо прабабки в расцвете молодости и красоты: черный локон развился и упал на плечо, огромные влажные глаза задумчиво-сосредоточенны, на устах полуулыбка, рука рассеянным жестом поправляет накидку. Такой она была семьдесят лет назад, когда все вокруг нее кипело жизнью и молодостью и первоклассные художники и поэты прикасались к листам ее альбома. «Салон двадцатых годов» — озаглавил Дризен статью, в которой рассказал о своей находке.
Слово «салон» для современного сознания несет в себе некий негативный оттенок, — да и во времена Дризена означало что-то искусственное, ненастоящее, лишенное значительного общественного содержания. Но это не совсем верно.
Кружок, салон, общество — все это было неотъемлемой частью литературного быта первых десятилетий девятнадцатого века. Достаточно вспомнить «Дружеское литературное общество» братьев Тургеневых и Жуковского, откуда вышло «Сельское кладбище», начавшее новую эпоху русской поэзии, или «Арзамас» — литературную школу юноши Пушкина. Если мы перелистаем превосходную книгу М. Аронсона и С. Рейсера «Литературные кружки и салоны» (1929), мы убедимся, что ведущая роль в истории русской духовной культуры пушкинского времени принадлежала именно интимному кружку.
В начале двадцатых годов салон с хозяйкой во главе — культурный факт глубокого смысла. В памяти общества сохранялось представление о французском салоне Рамбулье, собиравшем прециозных литераторов XVII века, и уже совершенно современном — салоне мадам Рекамье, прославленном во время Реставрации, где постоянно бывал Шатобриан. Эти салоны обозначались именем хозяйки, которая становилась лицом историческим. Но этого мало.
Сентиментальная эстетика — а в начале 1820-х годов в России она еще не потеряла своего значения — считала женщину «хорошего общества» основным арбитром литературного вкуса. На ее язык, очищенный от просторечия и вульгаризмов, а с другой стороны — от книжной речи и профессиональных жаргонов, — ориентировался Карамзин, реформируя язык литературы. Даже Бестужев, писатель нового поколения, пропагандируя русскую словесность, обращается к «читательницам и читателям». Так и обозначено на титульном листе знаменитой «Полярной звезды».
«Читательница», создавшая литературный кружок, — это была победа русского просвещения. Когда Рылеев и Бестужев издавали первую «Полярную звезду», они рассчитывали на меньшее: убедить читательниц оторваться от французских романов и обратить внимание на отечественную литературу.
Альбом такой читательницы — не только собрание автографов, но указание на существующую между ними связь. Он имеет четвертое измерение: его можно не только открыть, но и развернуть во времени.
В четвертом измерении оживают люди, державшие перо и кисть, они движутся, и говорят, и ведут жизнь, полную драматизма: жизнь увлечений, влюбленности, признаний и разрывов, — и перипетии ее оставляют на страницах альбомов галантные мадригалы, послания, посвящения, любовные циклы. Литераторы объединяются в кружки и партии, противоборствующие друг с другом: страсти кипят, выливаются на страницы журналов, порождают рукописную литературу. И она остается в альбомах и рукописных сборниках.
Существуют альбомы, продолжающие друг друга, дополняющие, разъясняющие, оспаривающие и отрицающие.
То, что не успел или не сумел, не захотел, наконец, рассказать нам альбом, разысканный Дризеном, досказывает второй, хранящийся ныне в рукописном собрании Пушкинского дома в Ленинграде. Лет десять назад обнаружились листы и из третьего, разрозненного и почти полностью утраченного, принадлежавшего все той же темноволосой красавице, которую впервые увидел Дризен на миниатюре альбомного переплета.
Разбросанные звенья складываются в цепь. Нам известны альбомы людей, стихи которых Дризен нашел в «тетушкином альбоме».
Альбом Измайлова и его жены. Альбом Владимира Панаева… альбом Павла Лукьяновича Яковлева…
В альбом Яковлева писали Баратынский и Пушкин.
Это была целая литература, сопоставимая с литературой дружеских посланий и писем, расцветшей пышным цветом в десятые — двадцатые годы девятнадцатого века. За ней стояла жизнь — притом не одного, но многих, составлявших литературное общество, салон, кружок.
За «тетушкиным альбомом» или, вернее, альбомами стоял не просто кружок, но одно из самых примечательных литературных объединений пушкинского Петербурга, куда входили Дельвиг, Баратынский, Гнедич, Измайлов, О. Сомов, В. Панаев; где бывали Крылов, Рылеев, Кюхельбекер, Катенин, почти весь столичный литературный мир, исключая Пушкина, уже высланного на юг.
В книге, которую держит в руке читатель, сделана попытка шаг за шагом проследить биографию этого кружка. Собирая и систематизируя, располагая в хронологической последовательности альбомные записи, печатные упоминания, мемуарные свидетельства, не изданные по большей части документы и письма, мы попытаемся воссоздать то, что от него осталось, внимательно вчитываясь и в превосходные, знакомые многим стихи, в которых отразилась его внутренняя жизнь. Задача эта сложна: домашний кружок обычно не заботится о своей истории и не ведет летописи, в отличие от общества, — и в хронике его всегда не хватает каких-то звеньев, и более всего не хватает точных дат. И потому в ней повышается роль гипотезы, — того чтения «за документом», о котором когда-то писал Ю. Н. Тынянов и которое есть неизбежное и необходимое условие всякого исследования, если оно не превращается в чтение без документа. Мы не будем скрывать этих лакун и гипотез, — ибо это тоже закон исследования.
Итак, начнем: мы в Петербурге, в конце десятых годов прошлого века.
Глава I Петербургский салон
Обычными посетителями были люди известные по литературе или по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе.
В документах и мемуарах 1820-х годов мы нередко встречаем имя Софьи Дмитриевны Пономаревой. «Беззаконной кометой» мелькнет она на литературном горизонте эпохи, оставив по себе несправедливо двусмысленную память всеобщей соблазнительницы, — по милости людей, некогда искавших ее внимания и получавших его. Через тридцать с лишним лет после ее безвременной кончины на мгновение возникнет ее образ в связи с именами Баратынского и Дельвига. Тогда оживут забытые, казалось бы, личные и литературные страсти в поздних воспоминаниях В. И. Панаева, некогда ее поклонника и возлюбленного; он бросит камень в своих литературных неприятелей, а вместе с ними не пощадит и ее. Это будут посмертная вражда и посмертные страсти, ибо мемуары Панаева появятся в печати через восемь лет после его смерти, — но они вызовут отклики еще живых современников. Так начнется воскрешение имени, и с ним кратковременной, но яркой эпохи петербургского литературного быта, когда в салоне Пономаревой собирались люди разных литературных поколений — от Крылова до лицеистов, Баратынского и Рылеева, когда в ее альбомы десятками писались стихи, под которыми стояли имена, известные сейчас каждому школьнику. От этого салона осталось слишком мало, чтобы день за днем восстанавливать его хронику, принадлежащую истории русской культуры, — и, с другой стороны, достаточно много, чтобы попытаться собрать и осмыслить разрозненные и частью не изданные документы. Осталось, в частности, несколько мемуарных свидетельств, о которых пойдет речь в своем месте; но одно из них следует привести полностью, ибо оно попало в литературу в сокращенном пересказе и без указания на источник. Это запись племянника Софьи Дмитриевны, Николая Пономарева, сделанная на листе «тетушкина альбома» 17 января 1868 года, — по свежим следам чтения воспоминаний Панаева и полемического отклика Н. В. Путяты, защищавшего Баратынского от посмертных нарекании. «Софья Дмитриевна Пономарева, рожденная Позняк, жена единственного брата отца моего, умерла задолго до рождения моего. Сведения, которые я имею о ней через отца моего, ограничиваются тем, что она слыла за женщину весьма образованную, от природы умную и очень привлекательной наружности. С мужем жила она, по-видимому, в согласии и вообще пользовалась репутацией небезнравственной женщины. Противное в то время было бы трудно скрыть.
О проказах ее и детской шаловливости, по выражению современников, я мало слышал. Раз жена моя имела случай встретиться с Московским старожилом С, который хорошо знавал мою тетку. Он говорил, что никогда не мог вдоволь надивиться проказам милой шалуньи, так называл он Софью Дмитриевну. И как же она меня два раза напугала, — рассказывал С… — Подходит ко мне на одной из станций между Москвой и Петербургом прехорошенькая крестьянка и предлагает яблоки: „Купите, барин, дешево продам“ — да как бросится мне на шею!.. смотрю, глазам не верю!.. Софья Дмитриевна! — Другой раз, что же вы думаете? присылает за мною: „Софья Дмитриевна скончалась“; очень я ее любил — не помню, как и доехал до ее дома. Лежит в гробу; люди плачут. Я только бы подойти, а она как рассмеется!.. „Это я, говорит, друзей испытываю, искренно ли они обо мне плачут!..“.
Не думаю, чтобы все это, а равно и окружение ее себя литераторами и художниками, которыми в то время так богато было наше отечество, могло бы набросить тень на ее нравственность. Гостиная ее была в малом виде „hôtel Rambouillet“[487], этот представитель золотого века Франции. Этому свидетельствует альбом, доставшийся мне по наследству как старшему в роде, по трагической кончине двоюродного брата моего, единственного сына Софьи Дмитриевны. Не могу умолчать о его смерти. Брат мой, служивший в лейб-гусарах, сильно или, лучше сказать, вовсе расстроил очень хорошее свое состояние. Вследствие ли этой или другой причины, мне неизвестной, решился он проститься с жизнью. Поехало их несколько человек на невском пароходике, в одно из загородных гуляний. — „Хочешь ли, я тебе покажу штуку?“ — обратился он к рядом с ним стоявшему и с сими словами перепрыгнул за борт. Тело его не нашли.
Отец мой, желая сохранить родовое имение, уплатил большие долги племянника, но увы! — именья не мог все-таки удержать. Состояние наше этим сильно потряслось. Из этого видно, что альбом мне не дешево достался. Я дорожу им, как редкостью, но вместе с тем и не без сострадания смотрю на портрет несчастной женщины, память которой так гласно и гнусно очернена одним из пользовавшихся ее гостеприимством и дружбою»[488].
На этом оканчивается семейное предание. То, что пишет Пономарев далее, известно по другим источникам: он заканчивает свою запись обширными извлечениями из статей Панаева и Путяты. «Московский старожил», о котором он упоминает, — конечно, Дмитрий Николаевич Свербеев, оставивший в своих записках подробное описание пономаревского салона и рассказавший о совершенно таких же «проказах» хозяйки. Правда, в записках Свербеев относится о ней с гораздо меньшей симпатией и рисует себя скорее жертвой шуток, иной раз задевавших его самолюбие, — но в разговорах с племянником он, конечно, выставлял тетушку в лучшем свете. Родственное описание несколько идиллично, но в нем уловлено то, на что все мемуаристы обращали особое внимание: дух интимной игры, шутливой фамильярности, царившей в маленьком литературно-бытовом кружке; дух артистической богемы, — вовсе не свойственной, кстати сказать, салону Рамбулье. Но прежде чем начать об этом речь, задержимся на минуту на драматическом и театральном самоубийстве единственного сына Софьи Дмитриевны: оно бросает странный ретроспективный свет на быт и психологию кружка, который он застал совсем мальчиком. Дмитрий Якимович (Акимович) Пономарев, поручик лейб-гвардии Гусарского полка, был товарищем Лермонтова еще по юнкерской школе, где юнкера звали его «Камашкой»; он был богат и достаточно независим и жил в Петербурге, на Моховой, в открытой связи с красавицей балериной Варварой Волковой; у них собиралось большое общество. Существует рассказ, что в день смерти Пушкина — 29 января 1837 года — Волкова пригласила гостей «на вишни и землянику», привезенные из-за границы; что среди гостей были великие князья Александр, Константин и Николай Николаевичи, — и что в разгар вечера приехал Лермонтов с сообщением о смерти Пушкина. Вечер не состоялся; гости, потрясенные известием, начали разъезжаться[489].
Блестящий гвардейский офицер, приятель Лермонтова, к которому больной поэт спешит с известием о гибели Пушкина, мот и жуир, принимающий великих князей в полухолостом-полусемейном доме, где блистает балерина выдающейся красоты, получающий в мальпостах землянику в январе месяце, — и расстающийся с жизнью шутя, на пикнике, — нет ли в этой биографии того же духа богемы, которым была отмечена произведшая ее среда? Вероятно, есть; но богема «детей» — уже не богема «отцов»; за ней — горечь, опустошенность, оскудение жизненных начал, не скрытое, а скорее подчеркнутое блеском и роскошью сценического действа…
В начале двадцатых годов все было иначе, — и теперь Дмитрий Пономарев должен сойти со сцены, уступая место своей матери.
* * *
Салон Пономаревой носил на себе явственный отпечаток личности ее хозяйки, — и здесь мы должны были бы заняться ее внешней и внутренней биографией, — но как раз биография этой примечательной женщины была не вполне ясна даже современникам. «Где получила она свое образование, не знаю, — удивлялся Свербеев, — но воспитание ее было самое блистательное: бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что было тогда редкостью; легкая иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы»[490]. Здесь нет преувеличения: мы знаем ее записи в альбомах не только на общеупотребительном французском, но и на малоизвестном в русском обществе тех лет английском языке. В ее альбом пишут и по-немецки, и по-испански, и по-итальянски; среди ее гостей — сын португальского генерального консула Лопец и преображенский капитан Поджио. Впрочем, эти известные петербургские красавцы, как аттестует их Панаев, конечно, говорят с ней по-французски, — а вот ее наперсница, итальянка Тереза, о которой упоминал Свербеев, вероятнее всего пользовалась своим родным языком. Итак, английский, французский, немецкий и, по-видимому, итальянский языки были ей знакомы. Свербеев вспоминал, что Пономарева декламировала приходившим к ней поэтам их собственные стихи и «восхищала своей игрой на фортепьяно и приятным пением»[491]. Это было, говоря словами Вяземского, то «обольщение тонкого художественного кокетства», которое несколькими годами позднее отличало салон Зинаиды Волконской, где хозяйка пела Пушкину романс «Погасло дневное светило» на музыку Геништы. Но дочери князя Белосельского-Белозерского и жене князя Волконского было откуда почерпнуть свой утонченный европеизм; каким образом он стал достоянием дочери Дмитрия Прокофьевича Позняка, «сенатского обер-секретаря одного из петербургских департаментов», хотя бы и «умного и хитрого», и даже просвещенного «дельца по судебной части», как аттестует его Свербеев?
Дмитрий Прокофьевич Позняк был родом с Украины и состоял в дальнем родстве и дружеской приязни с Николаем Ивановичем Гнедичем, которого был старше на двадцать лет. Он пережил Гнедича и после его смерти был одним из его душеприказчиков. Вторым был Петр Петрович Татаринов (1793–1858), выпускник Харьковского университета, чиновник канцелярии статс-секретаря Молчанова, потом канцелярии комитета министров и секретарь общей канцелярии министерства юстиции; страстный любитель театра и литературы[492]. Эти формулярные сведения здесь не излишни: они показывают, что Татаринов некоторое время служил вместе с мужем Софьи Дмитриевны. Связи идут по двум линиям — семейной и служебной. Вместе с Татариновым служит Николай Иванович Бахтин (1796–1869), будущий крупный чиновник, государственный секретарь, член Государственного совета, а ныне юноша двадцати одного года, с вполне заслуженной репутацией очень умного, остроумного и делового молодого человека, самолюбивый и высокомерный, занятый вопросами литературы и «высшей политики»; в той и в другой он обнаруживает нетерпимость и безапелляционность суждений. Этот Бахтин станет через несколько лет учеником и адептом Катенина, которому будет подражать в самом характере и поведении, — а Катенин будет его весьма поощрять. Бахтин тоже с Украины, и Татаринов знает всю его семью, начиная с отца, Ивана Ивановича, известного в свое время поэта-сатирика, а в 1803–1804 годах губернатора Слободской Украины (по позднейшему административному делению — Харьковской губернии). Заметим, что Гнедич — тоже из-под Харькова и окончил Харьковский коллегиум, Бахтин — Харьковскую гимназию, Татаринов — университет. Предыстория их петербургских связей уходит в харьковское культурное гнездо, с которым как-то связан и Дмитрий Прокофьевич Позняк; он сохраняет эти знакомства и в Петербурге, и даже приумножает их. Сенатскому обер-секретарю нужен простор для служебной карьеры, — и вместе с тем он ищет и создает вокруг себя культурную среду. По приезде в Петербург он отдает сына в Царскосельский лицей; в лицейских мемориалах значится Иван Дмитриевич Позняк, лицеист второго выпуска, принятый в 1814 году. Он учится одновременно с Пушкиным и его товарищами и, без сомнения, знаком с ними, как и весь второй выпуск. Старшую дочь Позняк выдает замуж за Григория Алексеевича Андреева, начальника Второго отделения канцелярии статс-секретаря комиссии прошений, «чиновника средних лет, полуобразованного, с манерами довольно приличными, с характером уклончивым и холодным»[493]. Что же касается Софьи Дмитриевны, то ее брак несколько удивлял современников: он казался мезальянсом.
Муж Софьи Дмитриевны, Аким Иванович Пономарев, был старше ее на пятнадцать лет. Свербеев рассказывал, что он был сыном богатого откупщика, отделившего его и давшего ему состояние; в формулярном списке он числится сыном украинского дворянина[494]. В 1797 году, когда его будущая жена была совсем ребенком, он имел уже чин прапорщика. Он участвовал в нескольких походах и в 1808 году вышел в отставку в капитанском чине, а с 1815 года был определен в уже известную нам канцелярию статс-секретаря комиссии по принятию прошений. Но еще ранее немолодой по тогдашним понятиям и ничем не примечательный отставной капитан взял себе в жены блестящую, талантливую, образованную и привлекательную девушку.
История этого семейного союза, как кажется, разъясняется несколько формулярным списком ее отца.
Будущий тайный советник и кавалер, обладатель анненской ленты не имел даже в конце жизни ни родового, ни благоприобретенного имения ни за собою, ни за женой. Образования законченного у него также не было: смерть отца заставила его уйти из Киевской духовной академии, не окончив курса. Шестнадцати лет, в 1780 году, он канцелярист в штате Новороссийского генерал-губернатора, через семь лет — капрал в лейб-гвардии Преображенском полку, с причислением в штат канцелярии генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического. Фортуна, кажется, начинает поворачиваться к нему лицом; в 1793 году он уже капитан в свите графа Самойлова, отправлявшегося чрезвычайным послом к турецкому двору; когда Самойлов был назначен генерал-прокурором, Позняк был оставлен при нем для употребления к статским делам.
В 1795 году он коллежский асессор, секретарь 1-го департамента сената.
По некоторым сведениям, в 1790-е годы он был одновременно и домашним секретарем у земляка своего и тезки, Дмитрия Прокофьевича Трощинского, чиновника и вельможи, так же как и он, питомца Киевской духовной академии.
В эти годы двойного его секретарства и происходит с ним, по-видимому, случай, сохраненный историческим анекдотом: рассказывали, что вместе с черновыми бумагами он по оплошности разорвал переданный ему Трощинским указ императрицы. В отчаянии он хотел покончить с собой; потом решился на крайний шаг: поехал в Царское, пробрался в сад, где по утрам гуляла Екатерина, и бросился перед ней на колени. Екатерина подписала новый текст на его подставленной спине и взяла с него слово молчать, — но Трощинский догадался, что он был у императрицы, когда Позняк получил от щедрот ее триста душ и Владимирский крест; догадался — и гнев его обрушился на подчиненного, который «забегает к государыне задними ходами». Здесь Позняк вынужден был все рассказать, и Трощинский взял назад свое требование об отставке [495].
Если за этим рассказом и стоит действительное происшествие, то он, конечно, приукрашен и в иных деталях прямо неправдоподобен: за что бы, кажется, жаловать чиновника, попавшего в беду по собственной вине? Судя по формуляру, Позняк и не был награжден: никаких «трехсот душ» у него не было, и Владимирский крест он получил только в 1804 году, уже при Александре. При всем том характер Позняка обрисован в анекдоте довольно выразительно: это был человек сметливый, находчивый, умевший рисковать и держать язык за зубами. Он быстро двигался по служебной лестнице и в 1803 году был уже статским советником. В 1801 году он получил «по заслуженным чинам» потомственное дворянство и герб[496], — а с января 1805 года вдруг неожиданно ушел в отставку, как значится в формуляре, «по болезни», с половинным пенсионом по 600 рублей в год.
Это было все, чем мог он располагать; как мы помним, никакого имения у него не было. На руках у него оставалась жена и четверо детей: дочери Екатерина и Софья и сыновья Иван и Петр, трех и двух лет.
Отставка продолжалась шесть лет, и, сопоставляя все обстоятельства, мы должны предполагать, что семейство едва сводило концы с концами, тем более, что в 1810 году рождается пятый ребенок — сын Михаил.
Имущественное положение многочисленного семейства стало бы критическим, если бы в том же 1810 году не произошло другое событие, уже государственного значения, которое резко изменило положение отставного чиновника.
В Петербург приехал новый министр юстиции.
Этим новым министром был известный поэт Иван Иванович Дмитриев, который с первых же дней стал входить в сенатские дела и состоянием их остался весьма не удовлетворен. Его раздражали беспечность и неумение сенатских обер-секретарей; он уволил одного из них, подавшего ему реестр нерешенных дел «в клочках и недописанный». Прежние секретари переводили Монтескье, нынешние не умели составить определения[497]. Он стал искать людей со сведениями и опытом.
11 февраля 1811 года, гласит запись в формулярном списке, Позняк «бывшим министром юстиции тайным советником Дмитриевым призван опять на службу и определен для исправления дел обер-секретаря в I департаменте правительствующего сената»[498].
Нет сомнения, что Дмитриев был осведомлен о деловых качествах Позняка, которого мог знать еще по своей прежней службе в сенате в конце девяностых годов. Он разыскал его и вернул с повышением, а уже через полгода представил к ордену св. Анны 2-й степени, который был почетен и для обер-прокуроров. Положение статского советника было прочным, пока было прочным положение министра, — но и то и другое могло измениться каждую минуту. В комитете министров у Дмитриева были «неудовольствия», и он просил об увольнении еще в 1812 году, — а в половине 1814 года добился отставки и уехал в Москву. Правда, на его место назначили Трощинского — и все же нужно было думать о будущем.
Пока что Позняк добивается определения старшего сына в лицейский Благородный пансион, а оттуда — после публичного экзамена — в Царскосельский лицей.
Софье в это время уже около двадцати лет; за этим рубежом дочь чиновника без имения, без родословной быстро близится к критическому возрасту. Почти нет сомнения, что союз ее с Пономаревым составился по рачительной воле отца. Собираясь опять в отставку, Позняк пристраивал детей. 25 сентября 1817 года — в самый день рождения дочери — он вновь подал прошение об увольнении «за болезнию» и вступил опять в службу лишь в 1824 году.
Выбирая жениха для младшей дочери, он, вероятно, принял во внимание богатство будущего зятя, его спокойный и флегматичный характер, привязанность к Софье и, может быть, старые связи. Но все это принадлежит уже к области гаданий. Мемуаристы упоминают об Акиме Ивановиче как о необходимой принадлежности обстановки салона, о безмолвном и покорном спутнике, «муже-слуге из жениных пажей», коротающем вечера за стаканом мадеры. Свербеев пишет прямо: Софья Дмитриевна вскоре после замужества убедилась, что муж ее не стоит, и устраняла его из общества простейшими средствами. «Вечером, часов в 8, можно было еще встретить ее мужа, но уже не иначе, как навеселе, к 11, после нескольких чашек чаю с ромом, он был готов, и его укладывали спать, гостей прибывало, и беседа, оживленная умной, вертлявой хозяйкой, закипала со всем очарованием изящной, какой-то художественной оргии»[499].
Свербеев был сослуживцем Акима Ивановича — он поступил в канцелярию в марте 1818 года, — но знал его мало. Другие сослуживцы, более давние, относились к нему снисходительнее. Уже знакомый нам Петр Петрович Татаринов постоянно упоминает о нем в своих письмах к Н. И. Бахтину. В этих письмах имя Пономарева встречается уже в 1815 году. Сам же Татаринов знаком с ним еще ранее, о чем свидетельствует весьма любопытное письмо.
П. П. Татаринов — А. И. Пономареву
Павловское, 29 июля 1814
Извините меня, милостивый государь Аким Иванович, что беспокою вас просьбою моею. Короткое ваше знакомство с Николаем Ивановичем Гнедичем подает мне надежду, что вы не сочтете в большой труд исполнить оную: спросить у него только, написал ли он что-нибудь в бытность свою в Павловском в памятной книжке, которая в Розовом павильоне лежит, и какие именно стихи? Не дивитесь моему любопытству, оно не мое: государыня, не знаю, по какому случаю, узнав, что Николай Иванович был в Павловском, полагает, что он должен оставить по себе память в знак своего посещения. Третьего дня, ужинав в ферме, перерыла все книжки, но ничего не нашла; вчера то же было в Розовом павильоне. Нелединский показывал ей какие-то стихи, она изволила их читать; стихи сии, говорят, прекрасны и посему приписывают Н. И. Я не думаю, чтобы Н. И. захотел скромничать, ибо хуже будет, ежели дурные стихи ему припишут. Прошу покорнейше не оставить меня без уведомления вашего о сем случае.
Пребывающий с совершенным почтением и преданности ваш покорнейший слуга П. Татаринов.Прошу покорнейше засвидетельствовать мое почтение милостивому государю Дмитрию Прокофьевичу и милостивой государыне Софье Дмитриевне[500].
Пономарев, по-видимому, выполнил поручение. Во всяком случае, Гнедич написал стихи «Для Розового павильона в Павловске», к которым сделал примечание: «Императрица Мария Федоровна, при случайном проезде моем через Павловск, изволила спрашивать, оставлены ли мною какие-либо стихи в Розовом павильоне»[501]. Мадригал содержал объяснение, почему Гнедич в тот раз стихов не оставил. При нем стоит дата: «1814».
Двумя годами позднее и Татаринов, и Бахтин уже в числе довольно коротких знакомых семьи. «За городом повстречалась с нами какая-то четырехместная карета, — пишет Татаринов (Бахтину) 8 августа 1816 года, — из которой выглянуло прелестное личико, чрезвычайно на Софью Дмитриевну похожее, — и с хохотом мне или нам поклонилось, видя, что князь спал. Ежели будете у нее, спросите между слов, не она ли это была?» 1 октября 1817 года он вспоминает о бале в день именин Пономаревой, на котором он был вместе с Бахтиным, а 5 октября сообщает: «Я исполнил поручения ваши. Кланялся С. Д. и А. И. — завтра обедаю у них на новой квартире, на которую вчера переехали. Квартира не дурна, но не велика; впрочем, все хорошо и на месте; его кабинет — слишком мал». Он рассказывает своему корреспонденту и об обстоятельствах служебной карьеры Пономарева, — весьма скромной: «Иаким Иванович по совету Ив. Сем. оставил вашу канцелярию и перешел в Комиссию, куды и определен в должности регистратора. От него, впрочем, зависит быть столоначальником по отделению Добровольского. Когда я, бывши у него, сказал ему о желании Ивана Семеновича, представьте себе, что у него показались слезы на глазах. Это и меня бы несколько пошевелило»[502].
Красноречивый жест, красноречивое признание! Петербургские чиновники не были избалованы вниманием. Татаринов знал это по себе и жаловался Бахтину на тяготы подневольной службы. Но он служил, не имея состояния, из куска хлеба; а Пономарев был богат. Должность столоначальника была привлекательна не прибавкой жалованья, — но общественным престижем, — столь эфемерным для других, столь вожделенным для него. Титулярный советник в должности регистратора, преданный и молчаливый муж светской красавицы, — ощущал ли он, что судьба предназначила ему вечную роль статиста? — ту роль, которую так настойчиво подчеркивал в своих воспоминаниях Свербеев?
А тем временем его молодые сослуживцы оспаривают друг перед другом право на преимущественное внимание Софьи Дмитриевны. В мае 1817 года Бахтин вдруг неожиданно отлучается со службы в Царское Село, где живут Пономаревы, — к крайнему неудовольствию своей матушки, которая собирается даже жаловаться на него начальству. Татаринов отговаривает ее. «Да как он там остался? — Софья Дмитриевна оставила его, напомнив ему, что вы ей поручили его. — Для города и в городе, а не в Царском Селе, — был ответ»[503]. Родители встревожены: не станет ли сын жертвой соблазна, который распространяет вокруг себя маленькая петербургская цирцея? Но нет, все оканчивается благополучно: юноша благоразумен, и к тому же вскоре уезжает в Москву в числе трех чиновников, сопровождавших статс-секретаря[504]. Татаринов рассказывает ему в письмах, какую уху он ел у Пономарева и как проходил маскарад у ее сестры; маменька Бахтина, с негодованием отвергшая самую мысль о том, что она может поехать на подобное празднество, тем не менее сменила гнев на милость и явилась, даже в маскарадном костюме. «Людей меньше было, чем прошлого года, — с увлечением рассказывал Татаринов, — масок хороших и того меньше. Говорят, а я не видел, что огромный и преискусно сделанный петух внимание всех на себя обратил. Сказывают, что петух двигался римским правом. Я за верное однако ж знаю, что достойный сын Кукольника в нем (в петухе) был. Кстати скажу, что Софья Дмитриевна сердится на вас и весьма резонно. Она писала к вам, а вы, учтивый кавалер и дамский угодник, заставляете ожидать ответа. Куда это годится? Но, может быть, в Москве молчание на дамское письмо называется учтивостью?»[505].
Статс-секретарь с сопровождающими вернулся в Петербург в марте 1818 года, и вместе с ними приехал новый чиновник, Дмитрий Николаевич Свербеев, чьими воспоминаниями нам не раз уже приходилось пользоваться. Это был человек во многих отношениях замечательный. Участник московских кружков в тридцатые годы, а затем глава славянофильского салона, связанный узами дружеской приязни с Чаадаевым, А. Тургеневым, Языковым, Баратынским, Вяземским, он оказался даровитым мемуаристом, — умным, просвещенным и наблюдательным, с философическими, политическими и литературными интересами, воспитанными уроками Каченовского, Мерзлякова и Сандунова в Московском университете. Патриархальное старомосковское воспитание с юных лет выработало в нем, как он вспоминал сам, «степенность <…> характера» и «рассудочную способность», которая обуздывала в нем «все возможные увлечения юности».
Шутливый девиз «m û r en naissant» — «зрелый с рождения» — над изображением гриба, когда-то подаренный ему, в самом деле отвечал сущности его натуры. Даже в поздние годы его слегка шокировали «весьма нескромные» записки Е. А. Сушковой-Хвостовой, приятельницы Лермонтова, — записки скорее невинные по нашим современным понятиям. Познакомившись с петербургскими сослуживцами, он стал бывать у Пономаревых, — но дух богемы был чужд ему, и общество, как он признается сам, не возбудило в нем симпатии. Разговаривая о нем с женой племянника Пономаревой, он снисходительно называл тетушку «милой шалуньей», — в воспоминаниях, написанных для детей, он относился о ней иначе. Легким духом недоброжелательства веет от этих страниц, где мемуарист готов вполне присоединиться к тому, что написал о Пономаревой Панаев и что вызвало возмущенные протесты Путяты. И его ли вина, что девятнадцатилетним юношей он не мог проникнуть в драматический внутренний быт этой чужой ему веселой компании, что его привлекали прежде всего литературные знаменитости, которых он видел впервые? Нужно отдать ему справедливость: он употребил для своего описания не одни только темные краски. Он упомянул и о блистательном образовании, и об уме хозяйки, и даже о ее опасном очаровании, жертвой которого едва не стал сам… Но здесь нам нужно прочитать его воспоминания внимательнее, потому что они содержат едва ли не единственный в своем роде литературно-бытовой и психологический материал.
«Обычными посетителями, — рассказывал Свербеев, — были люди известные по литературе или по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе. Такими собеседниками бывали зрелых лет люди, как-то: изредка баснописец Крылов, переводчик Гомера Гнедич, неразборчивый в своей литературной деятельности журналист Греч, издатель журнала „Благонамеренный“ циник Измайлов, трагики: Катенин и Жандр, закадычный друг Пушкина Дельвиг, Лобанов и Баратынский и другие; женщин не бывало ни одной»[506].
Любопытно здесь самое сочетание имен. Почти все петербургские литераторы знакомы между собой, — но чаще всего бывают в своих, обособленных кружках. Любимое местопребывание Крылова — дом А. Н. Оленина, реже — «субботы» Жуковского. Греч, Гнедич, Измайлов встречаются в двух литературных обществах — Любителей российской словесности и Словесности, наук и художеств, куда Крылов не ходит так же, как Жандр и Катенин. Двое последних — короткие друзья — принадлежат к особому, маленькому кружку литературных единомышленников, куда входит и Грибоедов, — и весьма скептически настроены к большинству своих коллег-литераторов и театралов. Что свело их всех под гостеприимной крышей Пономаревых?
Жандр был одно время сослуживцем П. П. Татаринова, и уже в 1817 году имена его и Катенина появляются в переписке Татаринова с Бахтиным. Знакомы они и с Гнедичем, хотя отношения здесь сложные и чреватые конфликтами: Катенин и Гнедич — наставники двух соперничающих театральных партий. Но это отнюдь не исключает приватного общения. Гнедич, Крылов, Лобанов, Дельвиг — сослуживцы но Публичной библиотеке; Гнедич и Крылов даже дружны и живут рядом. И Гнедич же — старинный друг и родственник всего семейства Позняков.
Именно его стихи, посвященные членам семейства, — самые ранние записи в альбоме С. Д. Пономаревой. Один мадригал адресован «тетушке»: «Когда б все тетушки на вас похожи были…» Второй обращен к сестре Софьи — Катерине Дмитриевне: поэт восхищается ее игрой на фортепиано. Третий — записанный 24 января 1815 года — носил название: «К *** на получение турецкого кошелька с маленькою золотою монетою»… Может быть, эти стихи и не имеют отношения к Софье Дмитриевне.
Зато несомненно к ней обращено стихотворение «К *** извинение», которое через четырнадцать лет Гнедич включил в свою книжку и датировал 1818 годом.
В разлуке с вами, Когда вы пред глазами И чаще и живей, Чем в миг присутствия и даже разговора; Когда я сам, не потупляя взора, Смелей на вас гляжу, к вам говорю смелей, И боле в миг, чем в целый день свиданья, В такой я час, — о сладкий час мечтанья!..Это почти признание, еле скрытое шутливым тоном.
Гнедич увлечен, — в том, кажется, нет сомнения. Его «тетушке» — двадцать четыре года; «племяннику» — тридцать четыре. Но он тут же спохватывается: в час мечтания он хотел написать в альбом — сонет ли, оду, кантату или послание. Не написал же потому, что терзаем сомнениями:
Что мне о Тетушке душа моя шептала, То как Сударыне я мог бы вам сказать; Но что Сударыне хотел поэт писать, За то бы Тетушка мне дурака сказала.Итак, стихов не будет, ибо поэт решил остаться «скромником-племянником», хотя, правду сказать, и не без усилия, ибо
Близ вас заговорит и Дядюшка поэтом.Легкая насмешка звучит в концовке: никто из близких не мог представить себе поэтом Акима Ивановича Пономарева.
Что же касается обращения «тетушка» и «дядюшка», то они, как кажется, проясняют характер родственных связей. Дядька Гнедича, брат его отца, Петр Петрович, был женат на Екатерине Ивановне Пономаревой, по-видимому, родной сестре Акима Ивановича. Софья Позняк, став госпожой Пономаревой, делалась тем самым «тетушкой» Николая Ивановича Гнедича[507].
Среди всех записей Гнедича в альбоме Пономаревой одна обращает на себя особое внимание: это стихи «Дружба», сочиненные еще в 1810 году и вписанные в альбом 14 ноября 1814 года. Они посвящены Батюшкову и имеют пояснение: «по поводу его помолвки». Эти стихи были уже напечатаны, — но альбомный подзаголовок придавал им некий интимный смысл[508]. Гнедич знакомил Позняков или Пономаревых со своими друзьями, — знакомил, может быть, заочно. А 1818 году Батюшков уже упоминает их в своей переписке с Гнедичем, прося передать им билеты на благотворительный концерт. Он бывает у Пономаревых и сам; в альбоме Софьи Дмитриевны есть несколько его рисунков, в том числе и известный автопортрет, нарисованный по отражению в зеркале, с длинными волосами, выбивающимися из-под широкополой шляпы. В 1819 году он пишет Гнедичу из Италии: «Скажи Позняку, что я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы переслать ему виды Неаполя»[509]. Итак, Позняк интересовался его рисунками; может быть, и Софья Дмитриевна получила их от отца и вклеила в свой альбом. Как бы то ни было, Гнедич успел в своем предприятии — представить Батюшкова своим родным, хотя бы мимолетно и ненадолго. И, вероятно, он же приводит в салон Крылова; во всяком случае, два этих имени объединяются в воспоминаниях Свербеева.
«Изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и черезчур напыщенный, как и вся его фигура, прочел однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию „Рыбаки“, превосходное подражание Феокриту, в которой он с неподражаемым поэтическим талантом в этом роде описал светлую, как день, петербургскую ночь и плоские берега величественной Невы, окаймленные великолепными зданиями. В другой раз по просьбе всех прочел он нам остроумную комедию Крылова, которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злою иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана. Им же читались иногда и отрывки из его Илиады; он, как известно, был первым из наших эллинистов и один из всех поэтов усвоил вполне русской поэзии древний греческий гекзаметр»[510].
Все это происходит в начале 1820-х годов. После 1822 года Свербеев уже не мог видеть Катенина, высланного из Петербурга за вольнодумство и фрондирование в театре; ранее 1821 года не мог слышать еще не написанных «Рыбаков» Гнедича. Следы знакомства Крылова с Пономаревыми сохранились в альбомах Софьи Дмитриевны: он подарил ей автограф басен «Лебедь, Щука и Рак» и «Василек»; вторую он вписал, видимо, в том же 1823 году, когда и сочинил ее. В эти годы в списках ходит по Петербургу знаменитая «шутотрагедия» Крылова «Трумф», написанная еще в павловское царствование; в блинном и сонном царстве царя Вакулы современники склонны были видеть злую сатиру на правительство и государственные учреждения, а в немце-завоевателе узнавали задушенного шарфом гатчинского императора. «Трумф» был, конечно, запретным чтением; за него однажды исключили из корпуса трех кадетов, — однако в 1816–1817 годах его ставят на сцене петербургского театрального училища, и будущая знаменитость петербургской трагической сцены — В. А. Каратыгин — играет Трумфа. Особая прелесть заключалась в том, что у Пономаревых эту пародию на классические трагедии читал Гнедич — приверженец классической манеры декламации и учитель великой трагической актрисы Семеновой. Свербеева поражала «напыщенность» его — и недаром: он читал нараспев, «завывая», с особым напряжением голоса, которое молодому поколению казалось неестественным и даже «диким». Гнедич был крив и обезображен оспой и возмещал физические недостатки цветными галстуками и величавой торжественностью осанки. Над ним посмеивались, — но уважали. Сейчас уже невозможно представить себе с совершенной ясностью, как он, то понижая голос до шепота, то выкрикивая ключевые фразы, с экзальтированной жестикуляцией читает, например, следующий монолог:
Ведь, слышь, сказать так стыд, а утаить — так грех: Я, царь, и вы, вся знать, — мы курам стали в смех. Нам, слышь, по улицам ребята все смеются: Везде за нами гвалт — бес знает где берутся! Частехонько — ну страм! — немчина веселя, Под царский, слышь ты, зад дают мне киселя!И рядом с этим — и в той же манере — отрывки из «Илиады» или описание петербургской ночи в «Рыбаках», которое потом Пушкин будет цитировать в «Евгении Онегине»…[511]
Таков был диапазон чтений в салоне Пономаревых.
«Кроме Гнедича читывал, бывало, благонамеренный Измайлов свои простонародные цинические басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка. Греч острил над Булгариным, своим другом»…[512]
Шуточное, пародийное начало в салоне запало в память Свербеева. Им были проникнуты басни Измайлова и его бесконечные стихотворные послания к Пономаревой. Старшее поколение шутило. Гречу, издателю «Сына отечества», было немногим за тридцать, но он принадлежал к «старшим» если не по возрасту, то по репутации. Он появляется в салоне, по-видимому, в 1818 году, — во всяком случае, этим годом датированы его записи в альбоме Пономаревой. В этих записях — стилизованных, слегка жеманных и остроумных, — чем славился Греч, — он надевает на себя ироническую маску школьного учителя и педантичного библиографа, — впрочем, тем и другим он был и на самом деле:
УЧИТЕЛЬСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ
Кто бога боится и честно поступает, тот не страшится ничего.
За столом сиди прямо, с соседями не дерись и не ешь ничего без хлеба.
Ходя по улицам, не заглядывай в окна. Над старыми людьми и учителями своими не насмехайся.
Азбуки своей не марай и не дери, и правила, в оной заключающиеся, исполняй в точности — да благо ти будет и долголетна будеши на земли.
Н. Греч [513].Заповеди писались с умыслу: адресат, кажется, был склонен нарушать если не все, то большинство из них. Другая запись гласила:
IV. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ.
НОВЫЕ КНИГИ.
1818.
«19t. София Дмитриевна Пономарева, комический, но и чувствительный роман с маленьким прибавлением. Санктпетербург, в малую осьмушку, в типографии мадам Блюмер, 19 страниц».
Здесь все — лукаво-галантные иносказания. Рецензируемая «книга» печатана в петербургской модной лавке, — не отсюда ли и последующий намек на «типографские ошибки». «Маленькое прибавление» — ребенок, которого ждет столь необычная и странная судьба. Но что значит «19 страниц»? Девятнадцать лет, — это невозможно понять иначе.
И тот же возраст указывает в своих воспоминаниях В. И. Панаев, считая между собой и Пономаревой разницу в семь лет. Панаев родился в 1792 году. Если его сведения верны, Софье Дмитриевне должно было быть в 1818 году девятнадцать лет.
Но тогда почему же А. Е. Измайлов, ее многолетний друг и поклонник, велит выбить на надгробном памятнике дату ее рождения: «Род. 25 сент. 1794»? И дата, конечно, правильна: вряд ли Софья Дмитриевна вышла замуж неполных пятнадцати лет.
Итак, кокетливая женщина, уменьшающая свой возраст? Биографическая мистификация? Светская любезность?
У нас нет ответа, — и мы вынуждены на этот раз ограничиться лишь той характеристикой личности женщины-ребенка, которую дал в своей «рецензии» Греч:
«Начав читать сию книжку, я потерял было терпение: мысли автора разбегаются во все стороны, одно чувство сменяет другое, слова сыплются, как снежинки в ноябре месяце; но все это так мило и любезно, что невольно увлекаешься вперед; прочитаешь книжку и скажешь: какое приятное издание! Жаль только, что в нем остались некоторые типографские ошибки!
Издатель „Сына Отечества“ Николай Греч»[514].Так создавался верхний регистр салонной игры. Других, более глубоких, Греч не видел. Их видели другие, видел и Свербеев, — и нам нужно теперь выслушать его до конца.
«Дикой козочкой прыгала во всей этой толпе, или, пожалуй, порхала бабочкой между нами Софья Дмитриевна, — повествует он далее, — возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого. Пожилые из собеседников, упитанные холодным ужином и нагруженные вином, в полусонье отправлялись по домам; кто помоложе оставались гораздо за полночь, а самые избранные — до позднего утра. Чего тут ни выдумывали на общую забаву. Я в эти годы был слишком молод, слишком невинен и чист, чтобы вполне воспользоваться знакомством с подобною женщиной; у нее и без меня было много в этой толпе любимцев. Однажды, оставшись с нею наедине, я увлекся ее вызывательным кокетством со мной и позволил себе некоторые вольности; одним строгим взглядом она их удержала, и я вышел от нее олухом. На другой день получил я от нее письмо на французском языке, которым спрашивала она меня, что значило вчерашнее мое поведение: истинная ли страсть или одна прихоть? Требуя ответа, она вместе требовала и возвращения своей записки; я был до того глуп, что отвечал на моем плохом французском языке и возвратил ей эту записку. Софья Дмитриевна сделала меня предметом самых злых насмешек, рассказывая все своим тогдашним фаворитам: до меня это тотчас же дошло, и я решился всякое с нею знакомство бросить.
Видно, кокетливые женщины не любят оставлять в покое удаляющегося от них мужчину, которому они хоть на одну минуту нравились. После моей неудачной переписки прошло более недели, что я не был у Пономаревых. Полупьяный муж, никогда почти меня не посещавший, явился неожиданно ко мне тотчас после моего обеда, в самые сумерки. „Я приехал за вами, — сказал он мне, довольно смущенный, — пригласить вас прокатиться со мною в санях“. — Что это вам вздумалось? — отвечал я. — разве все мы мало катаемся по городу, и неужели вам сани не надоели? — „Сделайте милость! Без отговорок одевайтесь и едем!“ Очень неохотно надел я шубу и сел в его совсем не парадные сани в одну лошадь, которой правил какой-то мальчишка форейтор. Мальчишка этот только что мы поехали маленькой рысцой, то и дело на меня поглядывал и, наконец, громко захохотал. Вышло, что кучерок был Софья Дмитриевна. Вея затеянная ею штука состояла в том, что ей хотелось, в чем она и успела, привезти меня к себе; но раз оскорбленное щепетильное мое самолюбие устояло против дальнейших ее искушений, хотя я и продолжал изредка посещать ее гостиную, заманчивую для молодых людей не одними ее прелестями, но и встречею со всеми почти петербургскими литераторами. <…>
Однажды, гуляя по набережной Фонтанки, встретил я двух, что-то уже черезчур щеголевато одетых охтенок; одна из них несла на плече ведро с молоком, их обыкновенным предметом ежедневной торговли. Я на них с любопытством взглянул, они захохотали и долго шли за мною, преследуя меня своим смехом. Оказалось, что это была Софья Дмитриевна с своей итальянкой. Куда и зачем они ходили, я от них не мог добиться»[515].
Свербеев оборвал свои рассказы, но не исчерпал их. Теперь, кажется, нет сомнения в том, что он и был тем «московским старожилом С…», о котором писал Николай Пономарев, и что ему принадлежали анекдоты о «барышне-крестьянке», предлагавшей ему яблоки, и об открытом гробе, в который забралась Софья Дмитриевна, чтобы проверить искренность скорби своих друзей. Человек суеверный мог бы счесть это последнее испытание дурным знаком, — и, как увидим далее, едва ли не был бы прав, — но беспечная проказливость хозяйки салона двадцатых годов содержала в себе изрядную долю вольнодумства. «Очень я ее любил — не помню, как и доехал до ее дома», — рассказывал Свербеев жене Николая Пономарева, — итак, она все же выиграла этот психологический поединок, утвердив свою власть над самонадеянным юношей. Игровое начало проникало в глубинные сферы духовной жизни маленького кружка, теряя свой салонно-риту-альный характер и становясь самой жизнью. «Жизнью земною играла она как младенец игрушкой», — скажет вскоре о Пономаревой Дельвиг, — и в поэтическом уподоблении даст точную историко-культурную формулу, но только в этой формуле была и другая сторона, — здесь было отчасти осознанное, а чаще всего бессознательное жизнестроение. Над ординарным миром эмпирического быта воздвигался иной мир — эстетизированный мир духовных сущностей, где царит любовь и поэзия, и в центре этого мира была она, петербургская Аспазия, уже не жена ничем не примечательного стареющего канцелярского чиновника, но прекрасная дама, вызывающая своих трубадуров для рыцарского служения госпоже.
Одним из первых явился на вызов Александр Ефимович Измайлов.
Глава II «Писатель для мужчин и дам»
Давно говорили, что одни женщины могут выучить нас приятно говорить и писать.
«Кто этот высокий и толстый мужчина, едущий на дрожках, гнущихся под ним? На нем синий долгополый сюртук, из которого вышло бы два капота для людей обыкновенных; в боковом кармане его торчат бумаги; на черных глазах его сияют серебряные очки; правою рукою держит он огромный зеленый зонтик…»[516]
Так описывал себя самого издатель «Благонамеренного» и председатель Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, известный «фабулист» Измайлов, которого злоязычный Воейков называл «русским Теньером» и «писателем не для дам».
Измайлов писал басни про пьяных отставных квартальных и не чуждался в полемике крепкого словца. Тем не менее он решительно возражал против присвоенного ему титула. Он писал «для дам» нередко, — писал дидактические анекдоты, послания и мадригалы на галантно-прециозном языке легкой поэзии восемнадцатого века. Он наполовину принадлежал этому веку: он родился в 1779 году — в один год с Акимом Ивановичем Пономаревым, — и в описываемое время ему было около сорока лет. Это была уже почти старость; в «Притворной неверности» Жандра и Грибоедова осмеивался «старый франт», который пытается волочиться «слишком в сорок лет». Но восемнадцатый век не считал это предосудительным. Эпоха конца века — «fin du siиcle» — породила либертинаж в поведении и самом чувстве. Вяземский рассказывал, что старик Нелединский-Мелецкий, нежно привязанный к жене и детям, «вне дома имел всегда кумир, пред которым страстно благоговел, который воспевал, подобно Петрарке и Данту, чистыми песнями, кумир, пред которым коленопреклонный возжигал он благоуханный и чистый фимиам любви, страсти»[517]. Пятидесяти шести лет он был влюблен — и влюблен страстно — в юную Елизавету Семеновну Обрескову, и Вяземский с сочувствием и удивлением наблюдал за платонической, но совершенно подлинной любовной драмой, разыгрывавшейся в их доме. Ему это казалось необычным, неестественным, — он уже был человеком новой эпохи.
Александр Ефимович Измайлов был семьянином, заботливым отцом и мужем, писавшим жене трогательные посвящения в стихах. Он был дружен с Пономаревым и в его доброжелательстве не было ни малейшего притворства, — это видно по его письмам. И вместе с тем он, подобно Нелединскому, имел вне дома кумир, — в который был «влюблен но уши», по свидетельству В. И. Панаева, — свидетельству тем более достоверному, что Панаев оказался его соперником. Он был обожателем, певцом, другом дома, постоянным спутником, неизменным участником семейных торжеств и увеселительных прогулок. К его присутствию все привыкли; ему не приходилось ничего скрывать: рыцарское служение происходило публично и даже немного подчеркнуто, с тем подкупающим простодушием, которое вообще отличало Измайлова. О своей любви к Пономаревой он упоминал в дружеских письмах третьим лицам, — и это лишь подчеркивало элемент ритуальной игры, в которую облекалось подлинное чувство. Иногда он сопровождал ее, когда она приезжала в Лицей навестить брата; Д. А. Эристов, однокашник Ивана Позняка, много позднее рассказывал В. П. Гаевскому об этих посещениях, которые, бывало, затягивались на целый день; он вспоминал, что в шумных сборищах принимали деятельное участие и лицеисты первого, пушкинского, выпуска[518]. Если память не изменила ему, значит, Измайлов был у Пономаревых своим человеком уже в 1817 году: напомним, что летом этого года они как раз жили в Царском Селе. Но скорее всего Эристов слегка сместил факты и даты.
«Ее благородие С. Д. Пономареву» мы находим в перечне подписчиков на журнал «Благонамеренный» в 1819 году, — и в том же 1819 году в ее альбоме появляются первые посвященные ей стихи Измайлова.
Эти стихи представляют собою целую поэтическую антологию, лишь в небольшой своей части попавшую в печать. Их первые исследователи насчитывали в сочинениях Измайлова около пятнадцати упоминаний о Пономаревой, — но их больше, и мы не всегда сейчас можем их уловить. Во всем, что бы ни писал Измайлов, он умудрялся быть немного «домашним» литератором; его басни, сценки, анекдоты, не говоря уже о мадригалах и посвящениях, несли на себе то явственный, то едва уловимый отпечаток кружка и кружкового быта, с его иной раз вовсе незначительными событиями, личными отношениями, речениями и словечками, понятными нескольким посвященным. В драматическую сценку «Губа» («Из сочинений на заданные слова») он вставляет реплику: «Не хочу! не хочу! не хочу» — и делает к ней примечание: «Любимая поговорка г-жи Мот…ой, председательницы дружеского литературного общества, в котором читались между прочим и Сочинения на заданные слова»[519]. Пояснение, рассчитанное на читателей, мало что поясняло и принадлежало к той «домашней переписке» издателя, которой было так много на страницах измайловского «Благонамеренного» и над которой смеялся Пушкин: любимую же поговорку «г-жи Мотыльковой» — С. Д. Пономаревой — должны были читать с особой интонацией участники кружка, свидетели и жертвы капризных вспышек «председательницы». Все эти интонации и намеки поблекли или выветрились в течение полутора столетий, — но то, что осталось, отчасти доносит до нас атмосферу кружка. Поэтический венок, сплетенный Измайловым Софье Дмитриевне, интересен не литературными своими достоинствами — весьма скромными, — а запечатленными в нем человеческими отношениями, которые приняли совершенно определенный социально-культурный облик. Они-то и создали то эмоциональное и эстетическое поле, в котором, как мы увидим далее, родились весьма значительные образцы русской лирики пушкинской эпохи.
По-видимому, первым из этих стихотворений был «Экспромт (В альбом С. Д. П.)»:
Могу сказать я про себя, Что я отнюдь не льстец: лесть, право, ненавижу. Умней, любезнее, прелестнее тебя Из женщин не видал — и, верно, не увижу[520].Это было написано 19 августа 1819 года. В сохранившихся альбомах Пономаревой «Экспромта» нет; подзаголовок стихотворения, сохранившегося в рукописях Измайлова, указывает на утраченный и неизвестный нам альбом, содержавший, может быть, драгоценные автографы.
Следующие по времени стихи имеют дату 17 сентября 1819 года — день именин Софьи:
Сегодня ангел ваш, а мне вот как нарочно Нельзя у вас сегодня быть! Я не шампанское, микстуру должен пить И муху к уху приложить! Так поздравляю вас заочно. Желаю вам прожить счастливо до ста лет… Нет, нет! Уж очень много будет до ста; Довольно с вас и девяноста Или не более как девяносто пять. Чего ж еще вам пожелать? Чтобы желания все ваши исполнялись; Чтобы с веселостью вы век не разлучались; Чтоб резвые толпы и Смехов и Утех Повсюду вас сопровождали, Чтоб грации ваш путь цветами устилали И чтобы вы счастливей были всех[521].Альбомные экспромты перемежались письмами. Писем было много; о них Измайлов упоминал в переписке с П. Л. Яковлевым: «С такою исправностию не вел я переписки и с незабвенной, как с тобою»[522]. В рукописный сборник своих стихов Измайлов вписал отрывки их них, под названием «Из писем к незабвенной». Вероятно, не все письма были в стихах, но все, или почти все, включали стихотворные вставки, которые Измайлов создавал с необыкновенной легкостью. Он писал о дневных впечатлениях, о несносных часах, проведенных у богача, чудака и графомана Егора Федоровича Ганина, владельца знаменитого петербургского сада с надписью на фронтоне «Незачем далеко и здесь хорошо» и автора драм, в которых действовали львица, ружье и городское правление: Из письма к С. Д. П.
…………………. Куда же черт меня занес? Представьте — к Ганину! И этот старый пес Заставил бедного меня терзаться До четырех часов! Ну правду говорит Крылов: Не дай бог с дураком связаться! …………………. Угодно ль знать, что делал он? До двух часов играл в бостон. Жена моя с его женой в лото играла И, кажется, зевала; А я сидел один в углу облокотясь И думал все об вас. …………………. И в сани я когда садился, От радости перекрестился, С подробностию все вам после расскажу. Теперь едва-едва сижу[523].Летописец домашних событий, он воспевал семейные праздники, писал поздравления к именинам и дням рождения и кантаты на простуды и выздоровления. Он сочинял бесчисленные экспромты по случаю театральных спектаклей, сравнивал хозяйку дома с Гермионой из «Андромахи» и самой пафосской царицей, к вящему посрамлению двух последних[524]. Он приносил стихи к рождеству, выполняя повеление своего капризного кумира, и вновь заставлял ее одерживать победу над долготерпеливыми античными богинями, — над Венерой и над Минервой[525]. На страницы альбомов из-под его пера изливался поток галантных пустяков.
Подобные же стихи — с небольшими вариациями — писали Пономаревой прежние литературные соратники Измайлова — Востоков, Кованько, Остолопов. Владислав Княжевич, кажется, превзошел остальных в изящной церемонности словесной игры:
Вы имя деспота присвоили себе, По разницу найти нетрудно в сем сравненьи — С сердцами подданных в всегдашней он борьбе, Сердца вам преданных всегда в повиновеньи. В. Кнжвч. СПб. 12 декабря 1820[526].Все это было в духе времени и жанра. Литераторы старшего поколения соблюдали неписаные законы альбомов, где царили мадригал, виньетка, рисованная аллегория,[527] — «два сердца, факел и цветки», как писал Пушкин в «Онегине». Безыменные художники-дилетанты рисовали в альбоме Пономаревой лестницу, венчаемую ступенью «Верность»; Поджио-младший, красавец капитан Преображенского полка, изображал амура в клетке и двух воркующих голубков, — и ему же принадлежали «злодейские» французские стишки, в которых он оставлял другим искусство пленять, претендуя только на умение любить. Стишки были подписаны: «Несчастный Поджио-младший» («L’infortunй Podgio le cadet»)[528].
И едва ли не Аким Иванович Пономарев приветствовал супругу в день ангела 17 сентября 1820 года безыскусными строчками, в которых проблескивала, однако, грустная истина:
Уметь прельщать — твое искусство, Любить тебя — знакомых дал, Тебя ж ценить — сердечно чувство Сам бог в удел мне даровал[529].Это был нижний пласт альбомной лирики, ее массовая продукция, ее безымянный фольклор. Но между ним и тщательно отделанным катреном Княжевича существовали родовые связи. Здесь было и жанровое родство двух мадригалов, и единство адресата, и даже близость внешнего строения. Профессионал играл каламбурами и противопоставлениями, вплоть до звуковых ассоциаций: подданных — преданных, — дилетант в меру сил своих пытался сделать то же самое. Профессионал стремился отыскать неожиданный поворот для вполне тривиальной поэтической идеи, — и дилетант следовал за ним по пятам, хотя бы в намерении. Оба были во власти законов альбомной лирики.
Эта лирика была ограничена в своих темах и заранее заданных целях. Она должна была стать поэтому поэзией внешних форм, если она хотела быть поэзией вообще. Она была привязана к частному событию, эпизоду зачастую мелкому и мельчайшему, неинтересному ни для кого, кроме автора и адресата, и была понятна только им и еще нескольким посвященным. Здесь поэзия прямо соприкасалась с бытом и вырастала из него, — но она же и определяла этот быт, утончая и эстетизируя его.
«Альбомы распространили у нас вкус к чтению и письму — приохотили к литературе, — писал П. Л. Яковлев, о котором вскоре пойдет у нас речь специально. — И это ясно!.. Женщины — эти легкие, непостоянные, ветреные, но всегда милые для нас создания — женщины делают все, что хотят, с нами, их усердными поклонниками. Давно говорили, что одни женщины могут выучить нас приятно говорить и писать; давно сказано, что только их верный, тонкий вкус может заставить нас отвыкнуть от странного и низкого языка, которым витийствуют герои русских романов. Благодарение женщинам! Они ввели в употребление альбомы и доставили приятное и полезное занятие нашим молодым людям. — Я даже уверен, что со времени появления альбомов у нас стали писать лучше, приятнее; выражаться свободнее, приличнее, ближе к общественному разговору <…>
<…> Я видел альбомы, которые драгоценнее всех диссертаций, коими похвалиться может счастливая Россия со времен Третьяковского до наших дней, — я видел альбомы, в которые писали лучшие из наших авторов, в которых рисовали лучшие артисты наши! Что может быть приятнее такой книжки для милой ее владетельницы? — Что может быть полезнее такой книжки для молодых людей?
<…> И как драгоценна становится со временем эта книжка! Перебирая листки ее, мы переносимся в прошедшее — вспоминаем о людях, которые тут писали… Многие состарелись — иные… разделены от нас вечностию — другие морями… Воспоминание, то приятное, то печальное или забавное, занимает нас, и мы дорожим своим альбомом, свидетелем прошедших лет, прошедших знакомств…»[530]
Эта апология альбомов и салонов не была изобретением ее автора. За ней стояла эстетика сентиментализма XVIII века, с которой XIX век уже начинал борьбу. Новому поколению казалось — и не без основания, — что мир тонких чувств и изысканных выражений не в меру слащав, слегка завит и несколько напудрен, и оно не без насмешливости смотрело, как шутник и ругатель Александр Ефимович Измайлов в угоду этикету натягивает на себя пудреный парик.
Впрочем, самому автору статьи об альбомах также пришлось внести свою лепту в разрушение воспетого им галантного мира.
____________________________
В 1818 году племянник А. Е. Измайлова и старший брат однокашника Пушкина и «лицейского старосты» М. Л. Яковлева Павел Лукьянович Яковлев приехал на службу в Петербург.
Он поселился в Троицком переулке на одной квартире с Дельвигом, с которым был дружен, как и почти со всеми лицеистами первого выпуска. По видимому, это случилось летом: в мае Яковлев жил еще в трактире «Лондон», «в комнате № 7», как значится в одном из его очерков[531]. Товарищи Дельвига собирались у них нередко; приходили Пушкин, Михаил Яковлев, Пущин; потом присоединились Баратынский и Эртель[532]. Павел Лукьянович был человек одаренный: литератор, художник, музыкант, обладавший к тому же хорошим голосом. Музыкальность была семейным отличием, как и склонность к пародии и импровизации; но если Павел Яковлев не мог соперничать с младшим братом в искусстве изображать петербургское наводнение, то он превосходил его даром карикатуриста и сатирика. Он писал фельетоны, сатирические сценки, пародийные очерки; он перевоплощался то в «Лужницкого старца», то в величавого невежду Климентия Акимовича Хабарова, одержимого проектом переустройства русской азбуки, то в сентиментального путешественника. От имени этого последнего он в 1820 году начинает печатать в «Благонамеренном» свое «Чувствительное путешествие по Невскому проспекту».
Один из очерков этого «Путешествия», озаглавленный «Модная лавка Mme N.», содержал примечательный эпизод. «…Я вошел в магазин, — рассказывал Яковлев, — как человек, который отроду не видывал ни шкафов, ни женщин; остановился посреди комнаты и в безмолвии смотрел кругом себя; забыл даже снять шляпу. Хозяйка в изумлении смотрела на ловкого посетителя; наконец (всему есть конец) я опомнился — снял шляпу, сделал учтивое приветствие хозяйке и подошел к ящикам, в которых лежали кружева и помочи, часы и чулки, манишки и строусовые перья — все в самом пленительном порядке. Рассматриваю… спрашиваю о цене, и даже дошел до такой дерзости, что… заговорил по-французски. — „Ах, сударь! вы говорите по-французски! — сказала мне хозяйка, — а я думала, что вы приехали с того света!“ — Я не отвечал на этот справедливый и учтивый комплимент и спросил… пару перчаток. Лишь только она подала их — загремела карета… двери растворяются с треском и вбегает в лавку молодая, хорошенькая женщина… в сопровождении человека лет сорока. (Этот человек, как я узнал из разговоров, был ее муж.) Мадам оставляет меня с перчатками, идет к даме и загремел разговор (разумеется, на французском языке). Дама потребовала всего, что есть нового, лучшего, пересмотрела все: все шкафы, ящики, шесть или семь чепчиков, беспрестанно подбегала к мужу и к зеркалу, хохотала и не переставала говорить. Француженка с своей стороны не переставала ей отвечать, хвалила свои моды, и они две подняли такой крик, что я готов был бросить и старые и новые перчатки и бежать вон; но, подстрекаемый любопытством, остался. Муж между тем сидел очень покойно на стуле; вынул часы, рассматривал их, прислушивался к бою; поглядывал рассеянно во все стороны — и зевал… Вдруг (вообразите мое положение) дама подбегает ко мне и, подвязывая чепчик, спрашивает: пристал ли он к ней? к лицу ли? как я думаю? — и, не дождавшись ответа, захохотала, бросилась к мужу, поцеловала его в обе щеки — и опять начинает разговор с француженкой. Я остолбенел… однако заметил, что эта веселая дама расспрашивает обо мне… Француженка качает головой, взглянула на меня, потупила глаза и шепчет: с’est un provincial <это провинциал>. Вслед за этим словом дама подбегает ко мне уже в шляпке и спрашивает: „Вы приезжие? откуда? давно ли в Петербурге?“ — Я путешественник, сударыня. — „Вы путешествуете?“ — По Невскому проспекту! — Она захохотала, отвернулась от меня, наговорила кучу комплиментов француженке и побежала к карете. Муж спокойно встал и побрел… двери хлопнули — и вот мы одни с француженкой; но она не беспокоится обо мне: перед ней лежит куча чепцов, платья, платков, вуалей, которые набросала дама; она убирает все это и, кажется, забыла провинциала. — „Кто эта дама?“ спрашиваю у нее. — Не знаю, отвечает француженка, я забыла ее фамилию. — „Возьмите же деньги за перчатки“. — Положите на ящик. — И вот мы за работой: она убирает платья и шляпки, а я в другом углу записываю свое приключение»[533].
«Приключение» было, как нетрудно догадаться, знакомством Яковлева с четой Пономаревых. Измайлов сам раскрыл прототип в одном из писем Яковлеву[534]. Нам неизвестно доподлинно, когда очерк был написан: предшествующее письмо того же прозаического цикла датировано маем 1818 года — временем первого появления Яковлева в Петербурге. Строго говоря, эта дата должна была бы распространяться и на последующие письма: этого требовало сюжетное единство цикла: в них описаны первые впечатления от столицы молодого провинциала. Но Яковлев был неутомимый мистификатор: он мог поставить фиктивную дату и соединить разновременные впечатления. Мог он, конечно, встретить Пономаревых и в 1818 году и рассказать об этом два года спустя, когда сблизился с семейством. Короткое же знакомство произошло никак не ранее 1820 года. Как ни странно, до этого времени он не был, или почти не был, знаком со своим дядюшкой — А. Е. Измайловым и не был членом руководимого им «Михайловского» общества, как называли Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, собиравшееся в Михайловском дворце; лишь в первой половине года, уже участвуя в петербургских журналах, он представил сюда «Отрывок из рассказов Лужницкого старца» и был принят действительным членом, — однако посетил только одно заседание[535]. За вторую половину года документы Общества не сохранились; мы знаем лишь, что 2 июля здесь была прочитана «Модная лавка», о которой идет речь. К этому времени он уже знаком с Пономаревыми достаточно близко, — настолько, что может позволить себе печатно дружескую шутку на их счет. Добродушный Измайлов сошелся с родственником быстро; вероятно, он ввел его в пономаревское семейство. В конце июля Яковлев уехал в Москву, оттуда в Оренбург и Бухару, и Измайлов горевал; он писал племяннику пространные и очень интересные письма с петербургскими новостями. «Как теперь гляжу я на бодрого Онисима Тимофеевича, переворачивающего и обшивающего циновками чемоданы — на томного Алексея Васильевича, простертого на софе, — на артиста немца, играющего на чекане, — на высокого, стоящего в дверях почталиона, — на длинного Виль… Кю… — на любезнейшего моего Павла Лукьяновича в мундирном сертуке. — Ах! зачем мы так поздно с вами познакомились и зачем вы так скоро отсюда уехали!»[536]
«Вот тебе письмо от уважающего тебя, почитающего, обнимающего Александра Ефимовича. Судя по всем чувствам, которые вы изливаете друг другу в письмах, вы должны быть страшные друзья. Будь здоров. Брат твой М. Яковлев»[537].
Яковлев-младший относится к этой дружбе несколько иронически, а Измайлов подтрунивает над лицеистами. «Длинный Виль… Кю…» — Vile cul — мерзкий зад — Кюхельбекер. Барон Дельвиг носит у него прозвище «Бар… Дель…» — бордель. Кюхельбекер вспоминал потом, что Измайлов был «истинно добрый мужик», — но в печатных перебранках «из рук вон мужиковат»[538]. В письмах же его красное словцо являлось нередко в своей первобытной наготе. Впрочем, Кюхельбекера он любил, и тот платил ему взаимностью.
Яковлев пишет регулярно, но письма идут долго: расстояние между корреспондентами все увеличивается. 13 сентября Измайлов отвечает на вопрос: «Где… комической, но и чувствительной роман с маленьким прибавлением?»
Итак, Яковлев успел перелистать альбом с записью Греча.
«Отв. Этот прелестный роман, который читаю всегда с новым удовольствием, был прежде в сельской, а теперь уже по-прежнему в городской библиотеке. После вашего отъезда видел я С. Д. один только раз, а именно в четверг на прошедшей неделе. В этот день муж ее был именинник. Я обедал у них, после обеда ходил в Общество, оттуда опять воротился к ним, ужинал и просидел у них до трех часов утра. В пятницу она именинница. Разумеется, что этого дня я не забуду и опять там буду»[539].
23 сентября 1820 года:
«A propos к С. Д. Недавно она была именинница. Прихожу к ней и слышу, что она больна, что она в постеле. Можете себе представить мое положение. Однако же меня впустили к ней в спальню и я имел счастие поцеловать прелестную ее ручку и повергнуть к прелестным ее ножкам Басни мои и Сказки, в великолепном сафьянном переплете и с посвящением в стихах».
Мы имеем возможность прочитать это посвящение, сохраненное Измайловым в его рукописях.
С. Д. П с книжкою моих басень
Вот книга редкая: под видом небылиц Она уроками богато испещренна; Она комедия; в ней куча разных лиц, А место действия пространная вселенна. Не я так говорю — Езоп наш граф Хвостов. — Сию смесь рифм и слов При баснях он своих поставил эпиграфом. Но мне ль равняться в баснях с Графом? Нет, Граф не мне чета! Вот у него-то простота И острота! Тон самой легкой, благородной! Язык скотов он знает как природной! Хоть басни у меня не так-то хороши; Но это лучшие мои стихотворенья; И я дарю их вам от сердца, от души В знак совершенного, отличного почтенья, Которое навек к вам сохранит плохой и отставной пиит ваш всепокорнейший и всеусерднейший слуга А. И. 17 сент. 1820.П. П.
Давно уже, давно я басень не писал, А все причиною журнал. Теперь занятия мои в Литературе В одной лишь только корректуре. И я уже не фабулист, Не Лафонтена подражатель, Не переводчик, не писатель, А так — ни то ни се — ну словом журналист![540]«Недолго я наслаждался ее лицезрением, — продолжает Измайлов, — и хотя пробыл тут в доме до 2-го часа вечера, но не видал уже ее более. Через два дни прихожу опять с новыми стихами, а именно с молитвою о ее исцелении — и к счастию нахожу ее здоровою. Слава богу! Слава богу! О как я люблю С. Д. Но вас, может быть, еще более»[541].
«Молитва об исцелении» нам тоже известна. Это то самое стихотворение, которое в печатных изданиях сочинений Измайлова называется «На болезнь С. Д. П.»: стилизация прециозного мадригала, с совершенно, однако же, бытовой концовкой:
У милой Софии Смертельно болят И щечка и зубы! Она простудилась: В ней жар и озноб, Совсем сна лишилась, Пропал аппетит[542].Измайлов был верен себе. В рукописном тексте означена даже причина простуды: София ночью ездила «на дачу водой». Даровитый поэт, Измайлов намеренно вводит эти бытовые сцены, снижая и разрушая холодную приторность галантных посвящений, придавая им прелесть шутливой непринужденности. Таким же тоном он писал и свои письма, — но в последнем из них ощущается след пережитых волнений. Он действительно «любил С. Д.», и в рукописях его рядом с процитированной нами «молитвой» поместилась другая, которая печатается как «Молитва о выздоровлении Селесты», а в автографе называется «Молитва о выздоровлении С.». «С.» — конечно, «София», а «Селеста» — «небесная» — шифр, условно-поэтическое имя, без которого мадригал превратился бы, пожалуй, в слишком откровенное признание:
Охотно я приму смерть люту, Лишь только б мог в последнюю минуту Я на нее взглянуть И ей люблю шепнуть[543].Этих стихов он не записал в альбом, а лишь добавил к первой «молитве» очередное посвящение ко дню рождения 25 сентября:
Всегда прелестна, весела, Шутя кладет на сердце узы — Как Грация, она мила И образована, как Музы[544].Тысяча восемьсот двадцатый год уходил в вечность, провожаемый салонными мадригалами. Но жизнь салона только начиналась. Литературные страсти кипели за стенами пономаревской квартиры, они разрывали два петербургских литературных общества, где уже выступало на сцену молодое поэтическое поколение. Салон Пономаревой не мог остаться от них в стороне.
Глава III «Спор на Олимпе»
Я теперь не пишу романов, я их делаю.
Измайлов рассказывал Яковлеву в письмах об общих знакомых.
Из Парижа вернулся критик, поэт и беллетрист Орест Михайлович Сомов, сотрудник «Благонамеренного». В среду 28 июля он впервые явился к Измайлову, — «в синем парижском сертуке с тесемками со снурками и в широких белых портках» — и заговорил его по-французски. В тот же день он выговаривал Гречу за похвальный отзыв об «Отчете о луне» Жуковского и дал понять, что начинает атаку на всю эту метафорическую «германн-скую» романтическую поэзию и не намерен «лизать задницы» сильным мира сего. Это были первые предвестия баталий вокруг новой романтической литературы, Жуковского и его учеников лицеистов.
Баталии готовились исподволь и приобретали иной раз зловещий политический оттенок. Еще в марте Василий Назарьевич Каразин, избранный вице-председателем общества «соревнователей», воздвигся против «либеральных начал», развращающих нравы и колеблющих устои государства. Каразин был неисправимый реформатор с чертами политического фанатика: он забрасывал правительство своими проектами и предупреждениями до тех пор, пока не попал сам под подозрение и не подвергся преследованию, — но какое-то время к нему прислушивались. Он обратился прямо к министру внутренних дел графу В. П. Кочубею с жалобой «на дух развратной вольности», рассадником которой является, в частности, Царскосельский лицей и Пажеский корпус. Он указывал на пушкинские эпиграммы и на стихи Кюхельбекера «Поэты», где были строки о лицейском «Союзе», «свободном, радостном и гордом», и объединялись имена Дельвига, Баратынского и Пушкина. Он цитировал послание Пушкина к Кюхельбекеру, в котором также упоминалось о «святом братстве», и замечал при этом, что нравственность этого братства и союза выясняется из пьесы Баратынского «Прощание» и из стихов «Послание» и «К прелестнице», — последние принадлежали Пушкину.
8 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку. Накануне, 5 мая, Каразин, после длительных дебатов, был удален из общества «соревнователей». Члены не знали, конечно, о его доносах графу Кочубею, — но Каразин успел восстановить против себя левое крыло общества и публичными своими выступлениями[545].
Орест Сомов не застал уже Каразина в обществе, и сам он вовсе не принадлежал к числу ретроградов. Напротив, в ближайшие же годы он сблизится с либеральными и даже декабристскими кругами. Но литературно он тяготел к антиромантической партии, — во всяком случае, той ее группе, которая уже начала полемику с Жуковским.
Накануне его приезда в «Благонамеренном» была напечатана статья «Спор (отрывок из журнала Жителя Васильевского острова)»[546]. Псевдоним принадлежал князю Н. А. Цертелеву, с 1819 года действительному члену «Михайловского общества», в котором статья его и была прочитана и принята. Цертелев был сторонником Каразина, и его конфликты с партией молодых «либералов» начались еще в «ученой республике»; сейчас он нападал на литературного их учителя, Жуковского, упрекая его в усложненной метафоричности языка и в «таинственных мечтаниях», взятых у немецких поэтов. Вслед за тем Цертелев представил в общество и другую статью: «Письмо к г. Марлинскому», она была прочитана 7 июня, также принята и появилась в первом июльском номере измайловского журнала[547]. Здесь «Житель Васильевского острова» предлагал новый экспонат в кунсткамеру литературных уродцев, которую иронически советовал основать А. А. Бестужев (Марлинский): этим экспонатом было стихотворение Дельвига «Видение».
Итак, война была начата, — хотя, в отличие от Каразина, критики не обвиняли здесь поэтов в политической неблагонадежности. Измайлов смотрит на нее снисходительно и несколько иронически и готов пока что печатать и тех, и других. Ему уже несколько надоел «шум» в обществе, и он решил для себя отказаться от председательства. Впрочем, симпатии его принадлежат скорее «старикам», хотя Цертелева он, кажется, недолюбливает, считая «крикуном». Вместе с «братией» «крикун» убеждает его остаться формальным главой «михайловцев»; Измайлов соглашается.
Полемика тем временем ширится — и устно, и в печати. Орест Сомов включается в нее сразу же; он пишет критику на дифирамб Кюхельбекера из Вакхилида; Измайлов хотел напечатать ее, но цензор не пропустил.
Измайлов досадует, а тем временем собирается читать в обществе присланный Яковлевым «Кухмистерский стол», с резкими нападками на «начальника критической шайки» князя Цертелева, — благо последний в середине сентября уехал из Петербурга. «Только уже вы немилосердо его отделали! Право, мне его жаль стало! Впрочем, если цензура пропустит вашу пиесу, то я ее напечатаю»[548].
«Кухмистерский стол» в журнале не появился, — вероятно, цензор А. С. Бируков воспротивился и на этот раз.
* * *
Полемика — то тайная, то явная — разрывает «михайловское общество». В январе 1821 года Сомов, наконец, выступил против Жуковского под флагом «цертелевской партии». С Цертелевым у него, по-видимому, были связи довольно прочные; еще в 1818 году тот писал свою статью «О подражательной гармонии слова» в форме письма к «О. М. С.», — конечно, Сомову; а Сомов в свою очередь посылал ему из Парижа письма, которые печатались в «Благонамеренном» как корреспонденции[549].
Он демонстративно соотносит свою критику со статьями Цертелева: называет ее тоже «Письмо к г. Марлинскому» и подписывает: «Житель Галерной гавани». Второй абориген предлагал новый экспонат для кунсткамеры — балладу Жуковского «Рыбак». Статья появляется в первом номере журнала «Невский зритель»[550].
В защиту Жуковского выступили Булгарин, Воейков, Я. Ростовцев — и сам Марлинский. В своем ответе от 5 марта основатель литературной кунсткамеры уведомлял, что балладу Жуковского поместил в числе образцовых сочинений, а критику на нее — между уродцами[551].
Сомов отвечал в мартовском номере «Невского зрителя».
Измайлов подзадоривал ратоборцев. Он печатал Цертелева — а вслед за тем и пассажи из присланного ему Яковлевым «Чувствительного путешествия по Невскому проспекту»:
«Нападать явно на людей, которых она (публика. — В. В.) защищает — невыгодно! Надобно насмешки, ситации из Буало, ссылки на старинные книги; надобно каждому из нас преобразиться в какого-нибудь забавного старичка, жителя Васильевского острова, Бутырской слободы, Бродягу…»
Яковлев задевал Цертелева, Каченовского — «Жителя Бутырской слободы», В. В. Измайлова — «Московского бродягу», — и Ореста Сомова:
«Как не прочесть моей статьи, где я докажу, что … не поэт и подпишусь именем какой-нибудь рыбы — или „обитатель чердака у … моста?“»
Намек на «рыбу» был в литературных нравах времени. Воейков объявлял о готовящемся собрании сочинений «Таранова-Белозерова».
«Если ж кто-нибудь станет доказывать, что я не прав — тем лучше для меня! Я сделаюсь известным!»[552]
Яковлев все же нашел способ вступиться, хотя и косвенно, за друзей-лицеистов.
Измайлов сообщал Яковлеву и о другом участнике своего журнала, начиная с самых первых его номеров — идиллике Владимире Ивановиче Панаеве. Панаева в Петербурге не было; Яковлев мог застать его в Казани, его родном городе, — но как раз накануне Панаев уехал в деревню под Казанью, и они разминулись. Тем временем Российская Академия присудила золотую медаль 3-й степени за только что вышедшую книжку его идиллий, которые вот уже два года с лишком печатались в «Благонамеренном»[553].
И Сомову, и Панаеву будет принадлежать важная роль в жизни салона Пономаревой.
Но Измайлов еще этого не знает, как не знает и о том, что вскоре в кружок войдет Евгений Баратынский, молодой поэт, примкнувший к лицейскому братству, приятель Дельвига и самого Яковлева. Баратынскому всего двадцать лет, — но биография его уже омрачена: за школьническую шалость он исключен из Пажеского корпуса и ему закрыты все пути, кроме солдатской службы. Он унтер-офицер Нейшлотского полка, квартирующего в Финляндии, и пока что находится в Петербурге — до 1 марта 1821 года.
В начале года в Петербург возвращается Панаев — 27 января он присутствует на заседании «Михайловского общества» — впервые после длительного перерыва[554]. Он приезжает победителем; неожиданное для него самого увенчание его книжки медалью Академии доставляет ему репутацию «русского Геснера». Поэт и вологодский помещик П. Межаков спешит записать в его альбом преувеличенную похвалу:
Соперник Геснера! Последуй вдохновенью, Иди к бессмертию, пленяя все сердца; Играй с пастушками, душистых лип под тенью; Но вспомни иногда рожденного к забвенью, Уединенного певца! С. Петербург 1821 Февраля 23[555].Еще весной прошлого года, когда вышла книжка, Измайлов оповещал о ней в «Благонамеренном» как о литературном событии. «Простота и естественность разговора, нежность и сила в чувствованиях, верность и живость в картинах и описаниях, легкая и исправная версификация» отличали, по его мнению, идиллии Панаева, «из которых многие, по справедливости, могут назваться образцовыми»[556]. Теперь он спешит поделиться с читателями известием о награждении, к которому императрица Елизавета Алексеевна добавила золотые часы[557]. Правда, восторги Измайлова разделяли не все; Батюшков еще в 1817 году спрашивал Гнедича: «Кто такой Панаев? Совершенно пастушеское имя и очень напоминает мне мед, патоку, молоко, творог, Шаликова и тмин, спрыснутый водой»[558]. Конечно, он читал уже первые идиллии Панаева и проницательно уловил в них «шаликовскую» сентиментальность. Но Измайлова это не останавливало. Панаев вспоминал потом, что их соединяли и дружеские связи, — и они заставляли его предпочитать журнал Измайлова всем остальным. «Человек благородный, добрый, столько ж умный, как и простодушный, совершенный Лафонтен — так отзывался он об Измайлове в тех самых мемуарах, в которых не пощадил многих других. — Под его суровою наружностью билось прекрасное мягкое сердце. Со своей стороны, он любил меня, кажется, еще более, чем я его; даже называл меня братом»[559]. Вероятно, ему приходили на память стихи Измайлова, ему посвященные:
Поэты оба мы; во мненьях, вкусах сродны. Люблю тебя, люблю за сердце, ум и нрав, За образ мыслей благородный, За твердый характе́р… Итак, любезный друг и мой названный брат, Виват![560]Измайлов и ввел Панаева в дом Пономаревой, «по ее настоянию», как утверждал сам Панаев, ввел «на свою беду». Вероятно, Софья Дмитриевна заинтересовалась восходящим светилом на литературном небосклоне. «Она тотчас обратила на меня победоносное свое внимание, — продолжал мемуарист, — но вскоре и сама спустила флаг: предпочла меня всем, даже трем окружавшим ее известным тогдашним красавцам: флигель-адъютанту Анрепу, преображенскому капитану Поджио и сыну португальского генерального консула Лопецу. Они должны были удалиться. Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей и вполне дорожил счастливым своим положением…».
Шестидесяти с лишним лет Панаев вспоминал о своих победах тридцатилетней давности, — и в его интонациях слышится чисто мужское самодовольство. Кое-что Панаев приукрасил, может быть, непроизвольно; кое-чего не мог знать. В 1821 году все было не так просто, — иначе в его мемуарах не звучали бы ноты посмертной неугасающей вражды. «Несчастный Поджио-младший» был отвергнут, — но оставались другие, более сильные соперники, и нам предстоит теперь восстановить по возможности хронологическое течение событий.
Панаев был не единственным, на кого Софья Дмитриевна обратила «победоносное свое внимание».
«В ней, с добротою сердца и веселым характером, — рассказывал он, — соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Она не любила женского общества, даже не умела в нем держать себя, и предпочитала мужское, особенно общество молодых блестящих людей и литераторов; последних более из тщеславия»[561].
То же самое писал, как мы помним, Свербеев, также едва не ставший жертвой чар петербургской обольстительницы. А еще ранее сила их была испробована на Бахтине, хотя и без большого успеха. Мы увидим далее, что каждое новое лицо, примечательное характером или талантом, подвергалось одному и тому же испытанию.
Здесь было и кокетство, и тщеславие, но было и нечто большее — жажда самоутверждения и самораскрытия. Таланты, стесненные обстоятельствами, дремавшие до поры до времени в недрах этой незаурядной натуры, требовали выхода. В доме отца Софья получила редкое по тем временам образование, литературное и музыкальное; она развила в себе способность к изящной и остроумной беседе; природа дала ей женскую привлекательность. Время, социальный быт сословного общества замкнули ее в тесные рамки полумещанской семьи, опутали чопорными условиями общественного этикета: она была замужней женщиной двадцатых годов девятнадцатого столетия.
В эти же годы Авдотья Голицына, «полуночная княгиня», «Princesse Nocturne» светского Петербурга, разъезжается с мужем по взаимному согласию — и, богатая, независимая, собирает вокруг себя салон, украшенный картинами лучших мастеров; она царствует в нем неприступно и высокомерно, заставляя столицу считаться с собой. Могла ли мечтать об этом жена петербургского канцеляриста?
А невдалеке от голицынского особняка на Большой Миллионной, в квартире литератора Воейкова, люди десятых годов с шиллеровским обожанием смотрят на «лунную красоту» жены хозяина, «Светланы» Жуковского, сделавшей своим девизом долг, терпение, страдание, самоотречение. Жить таким образом Пономарева не хотела.
Она бросала перчатку, воздвигая своей «пьедестал», как станут говорить десятилетием позже. Пьедесталом были ум, красота, образованность, дарования. Весь этот арсенал — привлекательный и опасный — составлял ее силу в психологических поединках, в непрерывных единоборствах, где противник обладал равными качествами. Здесь было состязание двух личностей, созданных природой и цивилизацией, состязание воли, обаяния, искусства и ума; здесь раскрывались тайные и влекущие черты натуры, которые становятся явными лишь в минуты любовного тяготения. В этом было творчество петербургской Цирцеи, — и, когда все стадии любовного чувства были пройдены и увенчаны победой, — она оставляла свою жертву, чтобы избрать себе другую. Ни разу, кажется, эти романы не окончились «соблазнительной связью», как скажет Баратынский, вспоминая о Закревской, — и, естественно, напрашивается сравнение их и с «domnei» — «служением» средневековых трубадуров, и с любовным эпистолярным романом французского XVIII века. Но роман переносился в жизнь или жизнь организовалась как роман, — бессознательно, а, быть может, отчасти и сознательно. Кружок Пономаревой был литературен; внимательные читатели психологической прозы, Монтеня, Лабрюйера усваивали психологический опыт уже эстетически оформленным, и «любовный быт пушкинской поры», по удачному выражению исследователя, был почти всегда бытом литературным, культурно значимым[562]. «Я теперь не пишу романов, я их делаю», — пошутил однажды Лермонтов, перефразируя Бальзака, — но между романом «написанным» и пережитым пролегла не столь уж непроходимая грань. И романы Пономаревой, «делаемые», хотя и не «записанные», протекали в тех формах, какие подсказывала ей литературная культура времени, и носили на себе след творчества уже не только в психологическом, но и в культурно-историческом смысле.
Впрочем, они были «записаны», — хотя и не ею самой.
Первыми известными нам стихами, обращенными к Пономаревой в 1821 году, были стихи Баратынского.
Этот маленький хронологический факт важнее, чем кажется: он имеет значение и для истории салона, которой мы сейчас занимаемся, и для творческой биографии одного из самых больших русских поэтов.
Нам неизвестно точно, когда и при каких обстоятельствах Баратынский впервые попал в дом Пономаревых, — но одно не вызывает сомнений: в этом была не случайность, а едва ли не неизбежность.
«Благонамеренный» Измайлова был первым журналом, в котором появилось его имя в 1819 году. Оно стояло под стихами, мало чем отличавшимися от прочей поэтической продукции, и вряд ли могло привлечь к себе особое внимание. Но поэтический голос новичка крепнул день ото дня; его приняли в «михайловское общество», а затем в общество «соревнователей». В 1820 году молодой поэт уже известен любителям словесности, а Пономарева была из них далеко не последним.
Из стихов Е. Баратынского, или Боратынского, как подписывался он иногда в эти годы, вырастала драматическая биография.
Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой, Товарищ радостей минувших, Товарищ ясных дней, недавно надо мной Мечтой веселою мелькнувших? Ужель душе твоей так скоро чуждым стал Друг отлученный, друг далекий, На финских берегах, между пустынных скал Бродящий с грустью одинокой?Здесь были не просто привычные элегические жалобы, — здесь говорил и живой голос «отторженного судьбой».
И я, певец утех, теперь утрату их Пою в тоске уединенной, И воды чуждые шумят у ног моих, И брег невидим отдаленный.Пономарева не могла не знать того, что знал весь литературный Петербург, — что экзотическая страна вечных скал и гранитных пустынь была для поэта ощутимой реальностью, а уныние и страдание, о которых он писал в своих элегиях, имели, помимо всего прочего, и веские жизненные причины:
Счастливцы мнимые! способны ль вы понять Участья нежного сердечную услугу? Способны ль чувствовать, как сладко поверять Печаль души своей заботливому другу! Способны ль чувствовать, как дорог верный друг? Но кто постигнут роком гневным, Чью душу тяготит мучительный недуг, Тот дорожит врачом душевным. (К Коншину, 1820).Эти строки, написанные в Фридрихсгаме, появились в печати уже тогда, когда Баратынский был в Петербурге[563]. 13 декабря 1820 года он присутствует на заседании общества «соревнователей», где читаются его поэма «Пиры» и послание «Дельвигу». И новые знакомые смотрят на него сквозь призму его стихов.
‹‹Мы помним Баратынского с 1821 г., когда еще изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастием, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил о себе, как говорил в стихотворении своем:
Мне мнится, счастлив я ошибкой И не к лицу веселье мне››[564].Это не совсем портрет: в нем много от литературной легенды. Н. М. Коншин, в эти годы близкий приятель Баратынского, вспоминал, что несчастье лишь закалило, но не сломило его. Но читателям свойственно переносить на самого поэта черты его лирического героя. Даже В. А. Эртель, родственник Баратынского, невольно поэтизировал, описывая его облик в 1821 году. «Его бледное задумчивое лицо, оттененное черными волосами, — вспоминал он, — как бы сквозь туман горящий тихим пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его <…> Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях»[565].
Легенда вырастала из элегических строчек Баратынского, она накладывалась на реальную личность, сопутствовала ей и незримо предопределяла ее восприятие. Если бы Эртель не читал стихов Баратынского, он, вероятно, писал бы о нем иначе.
Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что Пономарева познакомилась с легендой раньше, чем с самим поэтом, и, может быть, втайне готова была откликнуться на голос из северной пустыни, взывавший к неведомому «заботливому другу». Более того, она знала, конечно, и о том, что к числу ближайших друзей Баратынского принадлежали молодые петербургские поэты, уже приобретшие широкую известность: Кюхельбекер, Дельвиг, Александр Пушкин, только что высланный из Петербурга. Полгода назад это известие всколыхнуло весь литературный мир.
По всем этим причинам появление Баратынского в ее литературном кружке должно было стать для нее прямой необходимостью.
Исследователи Баратынского иногда склонны считать, что это произошло еще в 1820 году. Но на этот счет нет никаких положительных сведений. Из мемуаров же Панаева как будто следует, что его привел Яковлев в числе лицеистов в конце лета 1821 года, когда сам Панаев уже безраздельно пользовался вниманием Софьи Дмитриевны.
Существенно поэтому, что 7 марта 1821 года в Вольном обществе любителей российской словесности было прочитано два стихотворения Баратынского, адресованных Пономаревой[566]. Написаны они были до 1 марта, когда автор их вынужден был покинуть Петербург и вернуться в полк, в Финляндию.
Одно из них — «В альбом» («Вы слишком многими любимы») — было тогда же напечатано. Никаких указаний на адресата оно не содержало, — и о посвящении его Пономаревой стало известно по семейному преданию[567].
Это было искусное, но довольно традиционное альбомное послание, где автор скромно рекомендовал себя одним из многочисленных поклонников, чьи имена вспоминаются по отметкам в альбомах:
Вы слишком многими любимы: Знать наизусть их имена Чрезчур обязанность трудна, — Сии листки необходимы!Зато второе стихотворение имело гораздо более личный смысл, и, может быть, поэтому Баратынский не отдал его тогда же в печать и оставил у себя. Оно называлось «К …о». Через два года Баратынский опубликовал его под названием «Хлое», потом перепечатал как «Климене» в 1826 году в альманахе «Урания»; затем снял заглавие вовсе. Только в сборнике 1827 года он восстановил первоначальное посвящение: «К …о».
Это стихотворение достаточно хорошо известно, но нам следует перечитать его целиком, обращая внимание на детали.
Приманкой ласковых речей Вам не лишить меня рассудка. Так, Хлоя, многих вы милей; Но вас любить — плохая шутка!В редакции альманаха «Урания» третья строка читается: «Климена, многих вы милей…». В сборнике 1827 года — «Конечно, многих вы милей…».
Теперь посвящение «К …о» становится загадочным. Это, очевидно, имя, на котором почему-то лежит запрет, — и, вероятно, имя из трех слогов, с ударением на втором, как «Климена».
Вряд ли мы ошибемся, прочитав это посвящение как «Калипсо».
Калипсо, прекрасная нимфа, против воли удерживавшая Одиссея на острове Огигия.
Здесь, конечно, был биографический намек, слишком личный для печати.
Вам не нужна любовь моя; Не слишком заняты вы мною; Не нежность, гордость вашу я Признаньем страстным успокою. Вам дорог я — твердите вы, Но честь красы меня дороже. Вам очень мил я, но увы! Вам и другие милы тоже. С толпой соперников моих Я состязаться не дерзаю — И совокупной силе их Без битвы поле уступаю[568].Нет никаких сомнений, что эти стихи обращены к Пономаревой. В изданиях стихов Баратынского, подготовленных его сыновьями, они озаглавлены «С. Д. П.». На адресата указывала семейная традиция.
Психологический поединок прервался отъездом Баратынского, — а тем временем в поле зрения Калипсо попадают новые Одиссеи. По-видимому, к тому же марту месяцу относится недатированный «Экспромт», записанный в альбом Пономаревой Орестом Сомовым. «В первый вечер знакомства нашего, — гласит пояснение, — С. Д. Приказала мне шутя написать ей экспромт и выхвалять ее „моральные добродетели“».
Далее шел текст:
Вы написать экспромт сей час мне приказали И добродетели в нем ваши выхвалять; Ах! если б мне предмет не столь богатый дали, Тогда бы мог экспромт я написать[569].Это было очень плохо даже для экспромта, и Сомов поспешил исправить положение, записав в альбом 31 марта «Спор на Олимпе», где Минерва и Венера вступают в прение за честь называться образовательницей Софии. Побеждает первая, — в соответствии с заданием, продиктованным адресатом:
Одна лишь я Софию создала; Искусства, знания, любезность, благородство, Ум образованный и вкус в нее влила; Она во всем со мной имеет сходство; И наконец… я имя ей дала.«Спор на Олимпе» с посвящением «С. Д. П….ой» был напечатан в «Благонамеренном» вместе со стихами Измайлова, где было то же сравнение с Минервой и Венерой. Стихи Измайлова были написаны ранее, к рождеству 1820 года, — и, по-видимому, от Сомова потребовали пополнить поэтический венок на заданную тему. На этот раз он справился с заданием вполне удовлетворительно, и его мадригал был даже прочитан в заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 21 апреля 1821 года. Читал его Панаев[570].
Сомов уже завсегдатай в доме: он приходит 31 марта, и на следующий день, 1 апреля, — день, для него памятный.
В том же номере «Благонамеренного», где был обнародован «Спор на Олимпе», поместилось другое стихотворение Сомова «К….. (1-го апреля)»:
Апреля первого, шутя В любви меня ты уверяла И, легковерен, как дитя, Тебе поверил я сначала. Увы! прошел прелестный сон И страшно было пробужденье; Тебе ничто иль шутка он, А мне — сердечное мученье! Ах! возврати мне счастья тень! Твой пленник хоть обмана просит: Пускай с собою каждый день Апреля первое приносит; С каким восторгом мысль моя Стремится к милому обману. И первому апреля я Тогда охотно верить стану!Это уже не альбомные стихи: в них сквозит элегический мотив, известный по пушкинским строчкам: «Ах! обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». О добровольном самообмане любовников писали Парни и Мильвуа. Элегическая ламентация прорывается сквозь ткань «легкой поэзии», — но эти стихи еще можно записать в альбом, и Сомов делает это[571].
Он — жертва мистификации, рискованной и не предсказуемой в своих последствиях игры, в этом невозможно сомневаться; и сам он знает это, как никто другой. И все же он сомневается и надеется, он хочет сомневаться и обманывать себя, он хватается за слабый проблеск надежды. Надежды — на что? Вряд ли он и сам знает это. Он влюблен, влюблен до потери рассудка, и почти ежедневно посылает письма предмету своего обожания.
Мы имеем сейчас возможность прочитать этот чудом сохранившийся эпистолярный роман. Он написан по-французски. Подлинные письма пропали с архивом Пономаревых, но Сомов, отправляя письмо, оставлял себе копию, «отпуск»; сложенные вместе, эти копии составили род дневника, и между ними мы находим и черновики писем, и в собственном смысле слова дневниковые записи, обнимающие период с апреля по август 1821 года. Это роман в письмах, на которые нет ответа: таковы были изначала поставленные условия. Сомов и не рассчитывал, и не надеялся на ответы: он писал историю своей души, потрясенной страстью. Он прислушивался к своим внутренним движениям, пытаясь, как сказал однажды Баратынский, дать в сердце отчет разуму, — но в письме стихийное чувство являлось в приличных одеждах, предписанных законами литературной эпистолографии. Во Франции письмо уже давно было привилегированным жанром изящной словесности.
Исповедь, предназначенная для чтения — таково было изначальное условие.
Пономарева читала эти произведения словесности, поощряла сочинителя и хвалила слог. Сомов обижался: он ждал ответа на чувства.
Но почему он собрал и хранил эти письма, — хранил в течение многих лет, когда и Пономаревой уже не было на свете, когда многое изменилось вокруг него и в нем самом, хранил уже женатым человеком, отцом семейства, и однажды обмолвился, что откровенные его признания прочтут разве после его смерти? Итак, он допускал и такую возможность? Сохранял ли он память о так и не изгладившемся чувстве? или память о своей молодости с ее счастливыми заблуждениями? Быть может; но он сохранял и записанный роман, где душевный опыт автора писем стал материалом его литературного творчества.
Глава IV Роман в письмах
Страсти не имеют законов
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ[572]
30 апреля 1821
Вы позволили мне писать вам, сударыня! эта милость наполняет меня радостью; итак, я смогу поверять бумаге те чувства, которые мои уста, слишком робкие вблизи вас, никогда не осмелились бы произнести. Была минута, когда я мог отважиться на такое признание, но в эту минуту я мог бы только обожать вас; я видел, как небо открылось передо мной и все мое существо превратилось в жертвенник, на котором курился чистейший фимиам божеству, которое я обожаю. Божественная женщина! вы меня видели и скромнее и осмотрительнее, чем обычно; я едва осмелился произнести несколько несвязных слов, едва дерзнул расточать вам чистейшие ласки, в то время как сам был более не в силах владеть своими чувствами. Вы будете смеяться, читая эти строки, сударыня! вы будете смеяться над несчастным созданием, осмелевшим до того, что обожает вас и даже говорит вам об этом; что ж! мое положение уже сейчас достойно горького сожаления и в будущем не станет лучше; я покорился всему. Но по крайней мере, будьте в снисходительности похожи на небожителей, которых вы представляете на земле в образе, прекраснейшем из всех возможных; оставьте меня в моем заблуждении, оставьте мне хотя бы видимость счастья.
Странная вещь: я представлялся равнодушным и даже холодным, а в то же время сердце мое было охвачено пламенем. Быть может, я должен был бы скрыть от вас мое поражение, чтобы избавиться от стыда быть смешным в ваших глазах; но для меня такое большое счастье иметь возможность говорить с вами, что я стараюсь забыть о последствиях, к которым это признание может привести. Простите, сударыня, тысячу раз простите, если я причинил вам неудовольствие; лучше пожалейте обо мне: надежда сокрыта для меня под погребальным крепом.
Ваш на всю жизнь О. Сомов.1 мая 1821
Ax, сударыня, что за вечер был вчера! Мое сердце разрывается до сих пор, несмотря на деланное спокойствие, которое я стараюсь сохранить… Будьте искренни и сознайтесь, что вы хотели унизить меня, и каким образом… Это вино, которое вы заставили меня выпить… нет, это была не капля вина, а яд, сильный и мгновенный! и это роковое «не хочу», сорвавшееся с моих губ. О почему через мгновение уже ничего нельзя было вернуть! я испытывал мучения все оставшееся время ужина; я был убежден, что я упал безвозвратно в вашем мнении; одно слово вернуло меня к жизни. Это слово произнесли вы — слово прощения и привета: я увидел, что вы не сердитесь больше, и укоры совести стали от этого только еще более мучительными.
Я часто оказывался жертвой моих первых движений; одна мгновенная вспышка стоила многих слез моей матери, единственной женщине, которая разделяла бы с вами, если бы была еще жива, чувства нежности и обожания, которые сейчас я посвящаю вам безраздельно. А вчера… о как бы я хотел, чтобы изгладилось самое воспоминание об этом вечере! рядом со мной меня оскорбляли адской усмешкой, которая говорила: ты пропал, и я этому очень рад! при этом даже не давали себе труда скрыть от меня свою радость… О если бы он мог видеть мои загоревшиеся глаза, кровь, которая бросилась мне в голову; если бы он мог слышать слово оскорбления и угрозы, которое готово было сорваться с моих губ… Однако я сумел справиться с собой. Пусть бог простит ему, как я прощаю его на этот раз.
Как получается, сударыня, что вдали от вас я думаю только о вас? что когда я хочу сказать любезность даме, ваше имя всегда у меня на устах? Что все, что не вы, наводит на меня смертельную скуку? Вчера я был у Измайлова; печальный и задумчивый, я говорил что-то бессвязное. Приходит ваш супруг — и как будто что-то наэлектризовало меня; я сделался веселым и разговорчивым; во мне родилась надежда увидеть вас этим же вечером. Ваш супруг был так добр, что пригласил меня к вам, и я не заставил повторять приглашение дважды; я помчался к вашему дому так, что добрался до него пешком почти в то же время, что и дрожки г-на Пономарева. Напрасно я искал вас глазами, напрасно я призывал свою веселость: она исчезла на весь остаток вечера и душа моя тоже отлетела, чтобы искать ваших следов.
Прощайте, сударыня! мое сердце все еще не на месте; его еще гнетет смертельное беспокойство. Очень может быть, что вы еще не вполне забыли мою ошибку; скажите мне, как должен я ее искупить?
Ваш раб, покорный и раскаивающийся О. Сомов.2 мая 1821
Я провел бессонную ночь, сударыня, но эта ночь была прелестной; чувство удовольствия обновляет телесные силы; и тому доказательство — что я не чувствую себя разбитым. Я был отделен от вас только пространством комнаты, меня тешило воспоминание, как вы заснули на моих глазах; я дышал воздухом, в котором еще трепетало ваше дыхание, — какое наслаждение, какое счастье! и эта обнаженная рука, скользнувшая на одеяло, и обольстительное лицо, погруженное в сон, это спокойствие души, которое рисовалось в ваших чертах… Я бы оставался до вашего пробуждения, если бы ваш супруг не увлек меня из комнаты. Но я и не думал о сне: однажды только я почувствовал, что веки мои тяжелеют, но эта полудремота была сладостной: ваш образ заново рисовался передо мной в тысячах бессмертных форм.
Во имя бога, скажите мне, сударыня, почему вчера вечером вы поначалу обошлись со мной так холодно? Какой оплошностью навлек я на себя какое-то презрение, с которым вы тогда слушали меня и отвечали мне? Своим письмом? Что такого нашли вы в нем, что могло бы вас уязвить? Нет! вы не должны были толковать ложно самые искренние и чистые чувства.
Скажите же мне, как я должен вам их описывать! почему я почти безмолвен в вашем присутствии? Из-за почтения, которое я питаю к предмету моего обожания
на всю мою жизнь О. Сомов.3 мая 1821
Довольно хорошее утро и предвкушение прекрасного дня — таковы были мои надежды вчера, сударыня. Ах, как они были далеки от действительности! Зачем я пошел на эту несчастную барку? Зачем я не повернул назад, как только пришел к вам? Зачем лукавый толкнул меня на эту барку, где были вы с супругом? Я перехватил презрительный взгляд, который Вы бросили на меня, и кровь во мне оледенела. Другие ваши взгляды, которые скользили далеко от лодки, выражали больше интереса… Я уже имел честь говорить вам, сударыня, что какой-нибудь пустяк может испортить мне настроение и лишить меня веселого расположения духа на весь день: согласитесь, что печальная роль, которую мне пришлось вчера играть, не могла меня особенно развеселить. И почему вы не позволили мне уйти после того, как увидели, что все мои попытки остаться невыносимы и безуспешны?
Я теряюсь в лабиринте догадок по поводу этого важного господина, который был вчера вечером. Вы уверяете, что не можете его переносить, что это самое пустое и наглое создание и т. д. и т. п., и все же ваше обращение с этим субъектом показывает обратное. Я хотел просить у вас указаний, как мне вести себя с другим молодым человеком, но заметил, что вы явно избегаете этого разговора, а в немногих словах, которые вы бросили мне, ощутил какой-то очень оскорбительный для меня страх. Как, сударыня, вы, — с вашей любезностью, возвышенным умом, восхитительной уверенностью в себе, — вы боитесь этого хлыща? да достаточно уверенности в обращении, чтобы внушить ему уважение. А я в ваших глазах настолько презренное существо, что можно унизиться, со мной разговаривая? Ради бога, сударыня, скажите мне об этом, чтобы я знал, как вести себя в дальнейшем. Я очень ясно чувствую и повторяю еще раз: я должен был бы затвориться в своем уединении и никогда не приближаться к вам; довольно было увидеть вас однажды, чтобы понять опасности, которым я подвергаюсь. Мое бедное сердце неисправимо, и несчастья, которые оно испытало, не научили его даже простой осторожности. Но эти же несчастья развили в моем уме способность понимать что к чему, так что при том простоватом виде, который вы уже у меня знаете, я обладаю теперь чутьем, позволяющим видеть вещи как они есть на самом деле. Я внутренне рассмеялся; затем, слушая рассуждения господина Алиборона о платонической любви, я нарочно заговорил о любви чувственной, чтобы дать ему понять неприличие разговора, в который он ввязался. Ему ли об этом говорить? Может ли слепой судить о живописи, а глухой о музыке?
Простите, сударыня, если эта болтовня вам наскучила. Жребий брошен; уже ничего нельзя изменить, будь что будет; но я не молокосос <нрзб.>.
Ваш раб, умирающий <нрзб.>5 мая 1821
Я видел ее, эту кровь, столь прекрасную, столь алую, я видел, как эта сладостная алость соединялась со сверкающей белизной прекраснейшей из ножек, такой изящной округлости, какой я никогда в жизни не видел. Да, сударыня, я был очарован, я был вне себя, но минутой позже меня охватило смертельное негодование на вас. Можно ли так пренебрегать драгоценным здоровьем, как вы это делаете? И из-за чего? из-за пустого удовольствия бравировать опасностью или, смею догадаться, вызывающе подшутить над всеми. Я довел до нескромности нежное участие, которое к вам питаю. Браните меня, сударыня! я потерял голову, сделался глупцом, я не понимал уже, что говорю. И какова же была награда? Вы отказали мне в подарке, который сами обещали за минуту до этого. Ах! если вы хотите изгладить из моей памяти тягостное воспоминание об этом отказе и согласитесь оказать мне милость, которой я прошу у вас во имя любви, меня пожирающей, — отдайте мне окровавленную повязку, которая была наложена на вашу ножку после кровопускания.
Я буду постоянно носить ее на сердце, и, может быть, она облегчит муки, которые оно бедное испытывает. Свежая и чистая кровь всегда обладала способностью нейтрализовать действие медленно и неуклонно убивающего яда.
Мне показалось, что я заметил нечто зловещее во взглядах г-на Бельвизона; может ли это быть? Но нет, прочь эту мысль: она сжимает мне сердце.
Ничтожная победа над беднягой вроде меня не может льстить никому; потому я и не заслуживаю, чтобы меня щадили; мне можно позволить, от нечего делать, ловить тень счастья. Я хорошо помню, что вы разрешили мне следовать за вами повсюду. Да, сударыня, я буду следовать за вами, как тень, повсюду, с риском быть осмеянным или изгнанным. Клянусь честью, я сделаю это (насколько позволят приличия) и беспрестанно буду повторять вам всегда ваш, сердцем и душой
О. Сомов.8 мая 1821
Целый день не видеть вас, сударыня! судите о моих жестоких мучениях. За последнее время я настолько привык и настолько счастлив быть рядом с вами, что все минуты, что я провожу вдали от вас, кажутся мне потерянными для существования. Увы! я строю счастье на собственной гибели, я опьяняюсь чашей, на дне которой моя смерть.
9 мая 1821
Еще двадцать четыре мучительных часа! душа моя разрывается. Если бы вы видели меня плачущего как ребенок, горькими слезами в постели и скрывающего свою тоску в присутствии знакомых, может быть, вы не посмеялись бы над моими муками, может быть, даже смягчились бы при виде моих страданий. Я не могу ни о чем думать, ни о чем писать; первая же мысль, первый образ, который представляется моему уму, это всегда вы. Я хочу набросать несколько штрихов, — на бумаге выходит ваш портрет; я хочу произнести какую-то фразу — я невольно произношу ваше имя; я умолкаю, погружаюсь в сон и грежу только о вас.
Вчера ночью мне приснился сон, который, кажется, предсказывает мою будущую участь. Вначале, как всегда, мне представился ваш образ… он парил надо мной, в нем было что-то неземное, он был окружен небесным сиянием. Потом я увидел, что меня сочетают браком с моей покойной матушкой. Смертельный холод пробежал по моим жилам, я вскочил, вытер холодный пот, который покрывал мой лоб. Мне кажется, я читал в книге судьбы: именно вы, сударыня, да, именно вы не замедлите обвенчать меня со смертью. Не подумайте, что я обвиняю вас за это, — нет, это моя судьба, она написана на небесах и, может быть, даже раньше, чем я начал существовать. Именно там предопределено, что я должен буду некогда предаться во власть неотразимого очарования, во власть законов несравненной женщины; что я говорю? во власть божества, которому я посвящаю каждое биение моего сердца, каждый свой вздох и которое должно будет отплатить мне равнодушием, холодностью, угнетающими бедное сердце и отравляющими мои дни смертельной горечью.
Голова моя идет кругом, я в смятении, в лихорадке. Я больше не могу писать, могу только плакать…
Простите, сударыня, если я передал вам часть беспокойства, обуревающего меня, и эти бессвязные мысли. О, как сладко, что я могу еще подписаться
вечно вашим, до последнего дыхания
О. СомовымСледующее письмо написано по-русски с небольшой вставкой на французском языке.
Майя 11 дня 1821
Ты мне пылать любовью запретила И дружбу лишь велела мне питать. Покорен я — и при тебе, Людмила, Лишь дружбою век буду я пылать. Тебя мои восторги ужасают — Клянуся их, Людмила, умерять; Пускай других глаза твои пленяют — Мой долг тебя как друга обожать. Так! не ищи любви в сих взорах страстных, Старайся в них лишь дружество читать. У ног твоих и на устах прекрасных Позволь, позволь плоды ее вкушать.Вот последствия разговора, который третьего дня был у меня с вами, милостивая государыня! Почтительный тон сего письма должен вас успокоить даже и на счет дружбы, которую осмеливаюсь я питать к вам. Прелестная повязка спала с глаз моих: пустота в сердце, уныние в душе и одиночество в мире — всегдашний мой удел, которого тягость я доселе не столько чувствовал или, по крайней мере, старался позабывать с некоторого времени, — теперь снова и сильнее тяготит меня. Но пусть это будут последние отзывы сердца грустного. На бумаге и в обхождении моем вы увидите одну только беспечность и веселость, веселость, которая так далека будет от меня в сущности. Ночи бессонницы и дни тоски накажут меня за безрассудную доверенность моего сердца, которое все еще не разучилось верить счастию, — но я решился глотать вздохи, пока они не вытеснят дух мой из тела.
Одно только обстоятельство меня тревожит, и я должен у вас просить на него объяснение: третьего дня вы сказали мне во время ужина, что я вас скомпрометировал. Каким же это образом, сударыня? я хорошо помню, что все это время говорил совершенно незначащие вещи и, надеюсь, никак не выдал себя. У меня не вырвалось ни одно слово, ни одно движение, которое могло бы намекнуть на что-либо[573].
Сделайте одолжение, выведите меня из совершенного моего на сей счет сомнения, располагайте моими поступками, управляйте ими по вашему произволу и делайте мне ваши замечания, но только, ради бога, откровенно, и не заставляйте меня мучиться догадками и сомнениями. В противном случае я совершенно потеряю голову, и первое средство спасти себя от таких оплошностей и избавить вас от неудовольствия будет скорое и вечное мое удаление. Я пользуюсь до времени драгоценным правом, которое вы мне дали, правом быть с вами откровенным, и потому осмеливаюсь снова повторить —
вечно вам и душевно преданный О. Сомов.В эти же дни он пишет «Песенку в грустный час»:
Полно сердце! успокойся на часок! Удержися, горьких слез моих поток! Перестаньте, вздохи, грудь мою теснить! Сон забытый! мне пора тебя вкусить! Я обманут был неверною мечтой: Дни надежды пролетели с быстротой: Думал: счастье улыбнется и ко мне… Нет как нет его ни въяве, ни во сне. Вижу: счастие лелеет там других; По цветам текут минуты жизни их; Мне лишь бедному жить в горе суждено; Для чего ж мне сердце нежное дано? Чем же хуже я счастливых тех людей? — Часто думаю в печали я моей. Ах! не тем ли, что в удел мне не даны Ни богатство, ни порода, ни чины?Здесь то же настроение и почти та же фразеология, что и в его письмах.
Он записывает «Песенку» в альбом Пономаревой. 12 мая — на следующий день после очередного письма — он читает ее в заседании «Михайловского общества»[574].
Тем временем в Петербург приезжает Яковлев.
Он является к Пономаревым уже как старый знакомый и даже приносит свой альбом, куда Пономарева собственноручно вносит многозначительные афоризмы:
The world is your country, doing good — your religion.
Страсти не имеют законов.
Mai 1821[575].
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
Майя 17 дня, 1821
Несколько дней, дней вековых я лишен был счастия видеть вас, милостивая государыня! Не смея нарушить вашего приказания, не смея явиться прежде назначенного дни — я покорился суровому долгу: ибо приказания ваши для меня суть долг первейший и священнейший. Наконец вот счастливый день, в который мне позволено льститься надеждою снова увидеть вас — и каждая секунда, приближающая меня к сему бесценному времени, исчисляется мною по биениям моего сердца. Бедное сердце!.. но перестанем говорить о нем: стоит ли оно того, чтобы наскучать им вам, милостивая государыня?
На сих днях я получил письмо от моего дяди. Это добрый провинциал, который некогда живал и в столицах. Имея все право на мою откровенность, — право дружбы, — он спрашивает меня о петербургских моих занятиях, удовольствиях и знакомствах. В ответе моем я пробежал быстро первые две статьи и остановился в последней на одном портрете, который слабое мое перо решилось изобразить. Слова ложились пламенными чертами, и я все еще не был доволен моим списком, все еще он казался мне не имеющим и тени совершенств своего подлинника, которого имени рука моя не смела написать.
Смейтесь, милостивая государыня, я и сам смеюсь — сардон-ским смехом; смеюсь всему: судьбе моей, неисправляющимся глупостям моего сердца, смешному рыцарю печального образа, которому недостает только Росинанта и Санзон-Пансы, смеюсь, пока фибры д. <текст испорчен>
Имею честь быть с <текст испорчен> почтением и преданнос-тию вашим покорным слугою
О. Сомов[576]19 мая 1821
Мне ли осмеливаться возобновлять прежний спор? Какое мне в конце концов дело до великих мира сего, которым я ни в чем не завидую, даже в том, что их хвалят во всех концах вселенной! Простите, сударыня, я готов искупить мою оплошность любыми жертвами, которых вам угодно будет от меня потребовать. Сколько раз, расставшись с г. Кушинниковым и очутившись один на утлом суденышке, я повторял себе:
Вперед люби, да будь умнее, И знай, пустая голова, Что всякой логики сильнее Прелестной женщины слова[577].Я запечатлел эти стихи в своей памяти как правило для своего поведения в будущем. В то время как я предавался этим размышлениям, поднялся ветер, волны, пенясь, ударяли в борта моей лодки, бедняга гребец, угрюмый, как Харон, каким его обычно представляют, работал во всю силу своих жилистых рук. Сказать ли правду, сударыня? Не раз и не два мне хотелось, чтобы бурные порывы ветра или скорее удары волн вырвали меня из моего суденышка и потопили в глубоких недрах Невы, — так я был недоволен собой. Но в искупление моей вины я был наказан только жестокой простудой и несколькими приступами ревматизма то там, то здесь, — впрочем, я вполне этого заслужил.
Ради бога, сударыня, не будем больше возвращаться к теме о великих мира сего, — это очень болезненная для меня тема. Я ценю их, когда они добры; я сожалею, когда они злы. Вот мое исповедание веры на их счет.
Оно совершенно не сходится с вашим, сударыня! Вы мое божество! Я не осмеливаюсь больше говорить вам, что люблю вас земной любовью, но мне позволено и мне сладостно повторять вам, что я поклоняюсь вам, боготворю вас. На этом я стою.
Еще одно признание, сударыня: я сделал попытки усмирить мое бедное сердце, угасить огонь, который пожирает его, — но увы! не все можешь что хочешь. И еще: я схожу с ума при мысли о том, что ожидает меня в будущем: я бросаюсь вниз головой прямо в пропасть; не смею больше говорить вам об этом и очень от этого страдаю.
Как слаб и непостоянен человек в своих намерениях; я обещал вам, что в своих письмах буду весел, а я в лучшем случае бесстрастен. Когда же я исправлюсь?
Терпите же, сударыня, по крайней мере то, что я продолжаю именоваться
вашим на всю жизнь Орестом Сомовым.23 мая 1821
Вы это произнесли, сударыня! вы вернули мне право рассказывать вам о моих страданиях, говорить вам о своей любви? Увы, это право — единственное, что мне осталось. В действительности у меня есть лишь муки и свобода стенать. Другие, более счастливые, чем я, вдыхают сладостный аромат розы; мне достаются лишь шипы. О, почему я не могу излить душу на эту бумагу? почему не могу я писать кровью сердца: эти буквы пылали бы, и вас охватил бы тот же огонь, который сжигает мое бедное сердце!
Поверите ли, сударыня, что я часто чувствую себя счастливее в одиночестве и вдали от вас, чем в вашем присутствии? Сейчас я объясню вам эту загадку. Ваш образ всегда со мной: все мое существо полно им:
Люблю тебя на тысячу ладов, Тебе одной я лиру посвящаю, Тебя одну я в песнях призываю, Везде, во всем ищу твоих следов. В обличьях незнакомой красоты, В любой строке мной читанных поэтов, В живых чертах, на полотне портретов Являешься мне ты и только ты.Вот самое точное изображение того, что происходит в моем сердце, в моем воображении, во всем моем существе. Как мне досадно, что не я написал эти стихи! они так хорошо выражают то, что я чувствую и испытываю. Что ж, сударыня, прибавьте к этому сладостное воспоминание о том, что я видел, слышал, и несколько слов доброты и утешения, которые время от времени ласкали мой слух. «Вот милая по-пинька! Где мой Орест! Играйте же, ангел мой!» — Неужели вы думаете, что я могу это забыть? Я прекрасно знаю, что это лишь слова доброты, утешения, выражения почти банальные, но я повторяю и буду повторять всегда: моему сердцу нравится обманываться, оно во власти этих иллюзий… Действительность же слишком тяжела для него… Я ясно вижу, что перестал быть даже предметом вашего снисхождения; иногда я здесь, подле вас, а вы делаете вид, что меня не замечаете, в то время как я вижу вашу благосклонность к другим, вашу заботу о том, чтобы дать им возможность выразить свои чувства, вашу готовность самой идти за ними. И я нахожусь при этом, я остаюсь один, погруженный в свои печальные мысли… Ax, — это единственный случай, когда я горько упрекал природу и Провидение, что они не осыпали меня своими дарами. В самом деле, почему они не дали мне привлекательного лица, статной фигуры, прекрасных талантов, в особенности умения нравиться, ума острого и утонченного, — короче, всего того, что привлекает и внушает привязанность? Из всех своих даров они оставили мне в удел нежное и любящее сердце и душу возвышенную более, чем позволяет мое положение, — две вещи, которые не приносят счастия своему обладателю, а, напротив, делают его еще более несчастным. Пожалейте обо мне, сударыня! верните мне по крайней мере мое призрачное счастье, которое недавно еще у меня было; клянусь вам торжественной клятвой, что я буду соблюдать ту осмотрительность, которой вы требуете, чтобы избавить вас от неприятной обязанности делать мне те упреки, которые на днях произнесли ваши прелестные уста. Но в чем же я виноват? я всегда был столь почтителен, столь покорен, — и в то же время я видел, как некий молодой человек позволяет себе делать вам при всех довольно резкие выговоры. Вот кто может вас скомпрометировать и вызвать скандал.
Простите, умоляю вас, мою чрезмерную вольность: только в интересах того, что касается вас, — и что поэтому мне дороже жизни — я позволил себе выразить свои чувства по этому поводу. Если бы вы знали всю силу моей любви, вы не рассердились бы на мою искренность. Я падаю к вашим ногам, я умираю, твердя постоянно:
Ваш на всю жизнь О. Сомов.25 мая 1821
Так стало быть, сударыня, вы видите в моих письмах только талант писать! Похвала, которую вы произнесли мне вчера на сей счет, есть не что иное как сатира против моего сердца; и потому вы могли заметить мое замешательство и глупость моих ответов на ваши любезные комплименты. Я был уничтожен, ошеломлен. Ах, сударыня! если бы из одной только жалости вы сказали мне: «у тебя есть сердце, ты умеешь любить, я вижу это; эти выражения могли идти только от любящего сердца, они — не холодные, выисканные слова и не вялый жаргон любовника, почерпнутый в тысячах романов!» Такие слова были бы для меня более лестны, чем пышные похвалы всех академий в мире. Сейчас же я вижу, что вы, сударыня, хотели только подшутить над моей любовью и сделать смешными порывы бедного сердца, — какая награда! Напрасные старания, я любил вас, люблю и буду любить всегда; ни ваша суровость, ни ваши насмешки не угасят страсти, возрастающей с каждым днем, которая составляет мое мучение, мое наслаждение и которая иссякнет разве с моим последним дыханием.
Как мучительна роковая минута, когда видишь, как падает с твоих глаз розовая повязка, которая позволяла искать в будущем частицу счастья и радостей. Как мучительно, повторяю я, положение, когда сердце видит, как оно обманывалось! Вот в точности положение, в котором я нахожусь, сударыня. Надежды улетели; ужасная пустота, которую ничто не заполняет, царствует ныне в моем сердце. Когда-то оно было открыто для нежной дружбы, с недавних пор оно осмелилось биться для любви…
Что же делать, сударыня, если его обманула и любовь, и даже самое желание дружбы. Вы, сударыня, не можете в это поверить, — я вижу по всему тому, что вы сказали мне, что вы не верите, — а если бы вы по крайней мере согласились поверить в это чувство, оно лишь слегка коснулось бы вашего сердца, не оставя в нем никаких следов, в то время как в моем оно оставляет следы огненные, неизгладимые.
И я еще дерзнул вчера спорить с вами? и вы, ангел доброты, вы простили мне эту вспышку безумия? Умоляю, сударыня, как о милости, заставьте в будущем замолчать этот дерзкий язык, который становится полной противоположностью моему сердцу. Сколь убедительны бы ни были мои доводы, вам достаточно сказать: «Таково мое мнение!» — и вы увидите, что я тотчас же приму мой обычный характер, характер скромного и покорного любящего, каким я и остаюсь и хочу быть всегда
вашим О. Сомовым.26 мая 1821
Да, сударыня! Вы хотели этого; вы хотели смертельно оскорбить, сразить на месте сердце, столь вас любящее! Еще вчера я получил тому неоспоримое доказательство: вы велели позвать одного из этих господ, вы разговаривали с ним, вы делали вид, что очень заинтересованы этим разговором… он ушел, я подошел к вам, я осмелился обратиться к вам, — и вы заявили, что хотели помузицировать. Он был очень хорош, этот комплимент, который вы мне сделали: «что вы не хотите получать два удовольствия сразу: видеть меня и читать мои письма». Я перевел его слово в слово на язык сердца и истины: вот что он значил: «Есть у меня время думать о тебе и о твоих письмах». Гримаса, которая сопровождала его, говорила о том же. Вы презираете меня, сударыня; вы боитесь показать другим даже то, что вы имеете терпение меня слушать; я это очень хорошо вижу. Вы все время ищете средств избежать разговора со мной, разговора, для которого я пытаюсь найти минуту: это ясно, и вы сами подсказываете мне, что мне делать.
Да, сударыня! как бы ни была тягостна для меня эта жертва, я совершу ее: я удалю от ваших глаз предмет вашего отвращения и презрения; я избавлю вас от неприятности меня видеть.
Уважение, которое я питаю к вам и вашему супругу, заставит меня изредка появляться у вас, единственно, чтобы избежать толков; визиты эти будут коротки и не скомпрометируют вас, на что вы благоволили мне указать.
Меня побуждает к этому естественная гордость человека, способного чувствовать: я не могу терпеть, когда меня презирают, и равно не хочу никого обременять собой. Я хорошо помню то, что вы однажды сказали о людях, обладающих характером, в связи с одним из наших знакомых: «Он горд, потому что он беден». Отлично, сударыня, я еще беднее его, и я горд; хотя бедность не является достоинством, которое следует выставлять напоказ, она также и не позор, который нужно скрывать.
Одно из предыдущих моих писем должно было послужить вам разъяснением касательно справедливости, которую я умею отдавать самому себе, касательно подлинного мнения моего о своей собственной личности. Остается еще один большой недостаток, о котором я не сказал, но который проявлялся неоднократно: излишняя откровенность.
Что я вам сделал сударыня? я любил вас!..
Если бы вы видели меня вчера, в том смятении, в каком я находился, с пылающими щеками, с блуждающими глазами: если бы вы могли чувствовать прерывистое биение моего сердца. Нет, я не хотел сделать вас свидетелем этого зрелища, которое, может быть, опечалило бы вас; я бежал сломя голову. Около Гвардейского корпуса, против церквушки, мне сделалось дурно; добрый солдат, стоявший на часах, сжалился над моим положением и позвал товарищей, которые меня ввели или скорее внесли внутрь и оказали всяческую помощь, которая могла им прийти в голову; благодаря заботам этих благородных воинов, через несколько минут я почувствовал себя немного лучше и двинулся далее. Придя к себе, я ощутил приступ лихорадки; сон бежал моих глаз, сердце было сжато и грудь давила страшная тяжесть, стеснявшая дыхание. К десяти часам утра два ручья слез, сжигающих слез, слез отчаяния, немного облегчили меня; но я не мог сомкнуть глаз.
Когда вспомню, что вот уже месяц прошел с тех пор, когда со мной обращались иначе. О! это был день моего счастья, слишком <нрзб.>, он единственный оставил сладостные воспоминания, картина которых все еще заставляет меня иногда улыбнуться улыбкой счастливых, он мне приоткрыл небеса, чтобы вновь погрузить меня в пропасть небытия. Я говорю себе: О, от кого зависело счастье? И кто насмеялся над легковерным? Доверчивый, я полностью предался <незак.>
Простой и доверчивый, я чувствую себя так отвратительно, жалкий по своему положению, обманутый счастьем и радостями жизни, почти мертвец в душе. О! Если бы я в самом деле был мертв, это было бы для меня блаженством…[578]
Наслаждайтесь, сударыня, счастьем, которое всегда должно быть вашим уделом. Забудьте несчастного, недостойного вашего воспоминания, уничтожьте его имя везде, где оно еще осталось, равно как и все, что может привести его вам на память. Прощайте, сударыня!
Имею честь оставаться с беспредельным уважением, оставляя в глубине души выражение чувств более нежных,
сударыня, вашим покорнейшим и преданнейшим слугой Орест Сомов.27 мая, в час ночи
Какую силу имеет над нами мнение обожаемого существа!
Оно возвышает нам душу, сообщает нам достоинство либо унижает нас и уничтожает. Несколько дней назад, когда я был удостоен милостивого приема, когда мне было дано разрешение следовать за вами, не навлекая на себя вашего негодования, я был на небесах, я предполагал в себе более достоинств, нежели имел на самом деле, я держал себя более уверенно и, осмелюсь сказать, более благородно, дабы иметь возможность созерцать вас с большим достоинством. Презираемый ныне, отвергнутый, я унижен в собственных глазах, я почти не осмеливаюсь <нрзб.> поднять глаза на вашу особу. В этот самый момент, вернувшись в мою скромную обитель, я сомневался, стоит ли зажигать мне свечу, <оторван край листа> боясь заметить что-либо ужасное <.> и в собственных чертах <.> я боялся самого себя.
* * *
Что означала запись Пономаревой «Страсти не имеют законов», сделанная ею в мае 1821 года в альбоме Павла Лукьяновича Яковлева?
Мы пишем не роман, а документальную хронику, где нет места художественному вымыслу. Контекст этих слов утерян, и остается простор для психологических домыслов. Но они — ответ, быть может, возражение. Пономарева провозглашала право на свободу чувства — скорее всего, своего собственного.
Любовь Ореста Сомова, ставшая для него источником мучений, унижений, ревности, стесняла и, должно быть, пугала ее. Трудно представить себе, чтобы она вовсе не испытывала сочувствия к своей страдающей жертве, — но теперь она стремилась держать ее на расстоянии интеллектуального общения. Похвалы его письмам были в ее устах, конечно, совершенно искренни, но Сомов, ослепленный своей страстью, не встречая на нее ответа, ничего уже не видел в подлинном свете. Его пылкие признания, мольбы и жалобы имели обратное действие: они становились докучны и вызывали досаду.
Тем более, что его ревность и подозрения были, кажется, не совсем безосновательны.
27 мая, на следующий день после его отчаянного письма, где он разрывал отношения со своим кумиром (сделать это, как и следовало ожидать, он не сумел), в альбоме Владимира Панаева появилась маленькая изящная запись, — запись дилетанта, вполне овладевшего техникой стихотворного экспромта. Она шутлива, как и полагается экспромту, но в шутке слышится неподдельное восхищение:
Нет, нет! Панаев не поэт! Скажу назло, наперекор всех мнений, Нет, нет, он не поэт — он гений!Под стихами стоит подпись: «Софья Пономарева»[579]. Даже близкие друзья и адепты Панаева, и даже в шутку, не обращали к нему такого титула. Но… страсти не имеют законов.
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
28 мая, в 11 часов утра
Жребий брошен; это письмо должно дойти по назначению; это мой смертный приговор… Какая пытка! душа растерзана, сердце отдано в жертву тысячам мук, голова идет кругом!.. Помоги мне, праведное небо! дай мне довольно сил, чтобы вручить это роковое письмо.
В полдень
Ах! слово привета, сударыня! и вы удерживаете меня на краю бездны…
У несчастного влюбленного недостало духа отправить свое прощальное письмо. У него не было сил даже окончить свою запись — проект нового послания.
* * *
Панаев отвечал на комплимент Пономаревой. 28 мая в альбоме Софьи Дмитриевны появляется несколько его стихотворений.
Пускай другие в том согласны, Что вы и милы, и прекрасны, Что взоры маленьких китайских ваших глаз Равно и молодым, и старикам опасны, Что на беду для бедных нас Природа вас умом блестящим наделила…Нет, Панаев не был гением. Ему недоставало артистизма, которым была щедро наделена ученица Измайлова. То, что он писал, было почти парафразой пономаревского экспромта. Он воспроизводил мадригальную схему: похвалы от чужого имени, парадоксальное их отрицание — и новая похвала, уже более высокого порядка. Но Софье Дмитриевне понадобилось для этого четыре строки, в которых играла поэтическая энергия парадокса и каламбура. Панаев пишет четырнадцать строчек вялых и прозаических похвал, с концовкой смазанной и неискусной:
Мое совсем иное мненье: Так точно вы в глазах моих Есть только женщин украшенье И вместе зависть их![580]Это был «разыгранный Фрейшиц Перстами робких учениц». Второе стихотворение, — «Желание», записанное им в этот день, гораздо более интересно.
Анакреон, в жару мечтаний, Хотел быть Нисы башмачком, Чтоб ножку милую сжимать тайком; У всякого свой род желаний: Я лучше б сделаться хотел Моей Глицерии корсетом, И признаюсь — уверен в этом, Что мне счастливейший достался бы удел![581]Современный читатель почти наверное остановится перед этими стихами с тайным чувством неловкости, как будто он стал случайным свидетелем интимной сцены. Но он ошибется; психологический смысл записи гораздо сложнее и тоньше, чем простой и грубый эротический намек.
На обратной стороне того же альбомного листа, где поместился первый из процитированных нами мадригалов, записаны стихи, на первый взгляд еще более откровенные:
Из Антологии.
1.
Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет, Трикрат блаженнее, кто говорит с тобой; Тот полубог прямой, Кто выманить, сорвать твой поцелуй умеет; Но тот завиднейшей судьбой, Но тот бессмертьем насладится, Чьей смелою рукой твой пояс отрешится!2.
Родокла слишком уж гордится красотой: Едва ли удостоит взглядом, Когда встречается со мной! Вчера, прокравшись тихо садом, Повесил я венок на цепь ее дверей: Но что ж? надменная венок мой разорвала, И самые листы ногами растоптала! О, поспешите ж к ней скорей, Ты, старость, вы, морщины! Пожните прелестей цветы, Смирите гордость красоты! Вас умоляют все мужчины![582].Все эти стихи были написаны не для Пономаревой и не обращены к ней. Это был цикл «Из антологии», прочитанный Панаевым в двух литературных обществах — «Михайловском» и «ученой республике» — 18 и 21 апреля 1821 года и затем напечатанный в «Соревнователе»[583].
Панаев записал в альбом литературную новинку, плод своего поэтического творчества, обсужденный и одобренный петербургским ареопагом словесности.
Но, став альбомной записью, уже известный поэтический текст попадал в новый контекст — альбома и бытовых, личностных взаимоотношений, получая новые, не предусмотренные заранее смыслы.
И здесь нам нужно немного отвлечься, чтобы рассмотреть эти смыслы исторически.
* * *
Когда в 1828 году — через семь лет после описываемых событий — вышел в свет «Граф Нулин» и журналисты обвинили поэму в безнравственности, Пушкин писал:
«В одном журнале сильно напали на неблагопристойность поэмы, где сказано, что молодой человек осмелился войти ночью к спящей красавице. И между тем как стыдливый рецензент разбирал ее как самую вольную сказку Бокаччио или Касти, все петербургские дамы читали ее и знали целые отрывки наизусть <…> Что сказали б новейшие блюстители нравственности <…> о чтении „Душеньки“ и об успехе сего прелестного произведения? Что думают они о шутливых одах Державина, о прелестных сказках Дмитриева?»[584]
Нам важна здесь историческая перспектива. За каких-нибудь три-четыре десятилетия изменился литературный этикет. Пушкин замечал совершенно справедливо, что «Граф Нулин» уступает в «вольности» сказкам Дмитриева и Богдановича; «шутливые оды Державина» были, пожалуй, еще более откровенны. Если же мы заглянем дальше, в глубь восемнадцатого века, мы найдем у Сумарокова песни и эклоги, на которые не решился бы Дмитриев. Притом это была не потаенная литература, а известная публике по журналам и печатным сборникам. «Душенька» и сказки Дмитриева принесли славу своим творцам. Если бы они были созданы в середине двадцатых годов, они тоже подверглись бы обвинению в безнравственности, — и более того, — почти наверное были бы запрещены цензурой. Но как классические произведения они читались повсеместно, в том числе, конечно, и «дамами»; знание их было обязательно для культурного человека.
Мы не напрасно начали со слова «этикет». Этикет — общепринятые формы внешнего поведения, разные для каждой эпохи и социальной среды. Эти формы связаны с глубинными слоями общественного сознания, — но связаны не прямо, а опосредованно, и они всегда — некоторая общественно значимая система условностей. С такой системой условностей мы имеем дело и в нашем случае. Пределы этически допустимого в литературе определяются в конечном счете нравственными нормами общества, — но мы не рискнули бы утверждать, что русское общество 1830-х годов, проповедовавшее мораль в литературе, было «нравственнее», чем зачитывавшаяся эклогами Сумарокова культурная элита 1770-х годов. Мы знаем разительные примеры разрыва между этикетом и реальной практикой общественного поведения, — вспомним нападки Лермонтова на «ледяной, беспощадный свет». Не в меньшей мере ощущается этот разрыв в индивидуальных судьбах и индивидуальном творчестве. Ни Богданович, ни Сумароков, ни Державин не навлекли на себя обвинений в излишнем гедонизме; Дмитриев вообще чуждался женщин и умер холостяком, — между тем моралист Бестужев-Марлинский вел жизнь довольно бурную, и по иронии судьбы строгий критик «Графа Нулина» Н. И. Надеждин был обвинен именно в нарушении моральных норм сословного общества. И здесь не было никакого лицемерия, — потому что творчество подчинено закону этикета в большей мере, нежели единичная биография.
Так рисуется проблема в ее «вертикальном», хронологическом разрезе.
Но для литературы существует еще «горизонтальный», синхронный разрез, — и здесь нам приходится говорить не только об общественном, но и о специфически литературном этикете. В начале XIX века действовали законы жанра. То, что Сумароков свободно вводил в эклогу, он никогда не позволил бы себе в элегии. Дмитриев, автор эротических сказок, осуждал за «чувственность» «Руслана и Людмилу», — все же поэму, хотя и шуточную. В анакреонтических, антологических стихах действовали иные этические законы, нежели в элегии или даже в романсе: они освящались вековой традицией[585].
Автор прочитанных нами только что эротических стихов «из антологии» был моралистом настолько последовательным, что его постоянно упрекали в слащавости. Герои и героини его идиллий — пастушки столь невинные, что поцелуй для них — душевное потрясение. Конечно, здесь уже действует жанровый этический закон идиллии, — но Панаев писал и новеллы, и повести, и послания, везде выдерживая моралистический и дидактический тон. В сороковые годы он сожалел, что литераторы перестали интересоваться «нравственными сюжетами»[586].
«Сюжеты», вписанные им в альбом Пономаревой, не были «безнравственными»: они были санкционированы законами времени и жанра. Как мы уже сказали, стихи эти и не были ей адресованы, — и, может быть, она сама захотела иметь в альбоме последние произведения своего знакомца. Уже по одному этому в них нельзя прочитать никакого намека на какую-либо интимность. Впрочем, такой намек был бы и невозможен в альбоме, в который все пишут и который все читают.
Но даже при всех этих поправках стихи были знаком устанавливающейся короткости отношений. И в этой короткости была своя демонстрация.
Вспомним, что до сих пор все писали Пономаревой только галантные мадригалы, — все, исключая Баратынского, о котором речь еще впереди. Даже Измайлов не решился внести в альбом любовные стихи. Панаев сделал это — и притом с гласного или молчаливого одобрения хозяйки, которая становилась, пусть и косвенно, — их адресатом. Здесь был элемент игры, которую так любила Софья Дмитриевна: безотносительно к адресату это была просто «антология»; стоило подставить его — она приобретала пряный вкус запретного плода. И эта вторая функция их не ускользнула от зоркого взгляда прочих поклонников Пономаревой.
30 мая Панаев записывает в альбом Пономаревой свою идиллию «Ревность», — идиллию старую, сочиненную еще в 1819 году и перепечатанную в только что вышедшей книжке[587].
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
31 мая 1821
Я знаю, что мне не следовало бы больше писать вам, сударыня! может быть, я и виноват перед вами; но вы, сударыня, вы, божество по облику, по уму, по сердцу, — вы должны были бы обладать и божественной добротой, вы должны были бы простить человеку, у которого голова идет кругом, помрачен разум, чье сердце больно, и больно без надежды на исцеление. Я просил вас как о милости, как о жизни написать мне собственной рукой приглашение на понедельник; записка сказала бы мне, что я еще не совсем пал в вашем мнении, что я не презрен, не изгнан. Я напрасно прождал день, записка не пришла, и я в смертельном беспокойстве, которое не утихло и посейчас.
Да, сударыня, все укрепляет мои подозрения; вы не захотели подтвердить мне их прямо только из человечности, чтобы не ввести в отчаяние того, чьи чувства вам хорошо известны. Сказать ли вам, сударыня? ведь я нарочно, когда в мой последний визит остался наедине с вами, позволил себе слово ласки: это был пробный камень, своего рода проверка. Вы поспешили ответить мне с суровым видом и холодным тоном: «Какая ласка?» Тогда-то мне и стала ясна моя участь; я был совершенно растерян, как вы могли понять по нескольким бессвязным словам, которые я пролепетал вам в ответ. Будьте же хотя бы раз искренни со мною, сударыня! скажите, что я неприятен, докучен вам: такое признание станет с этого времени направлять мое поведение.
Что за необъяснимая вещь сердце! несмотря на пытки, которым я подвергаюсь, несмотря на печальную уверенность, что мне больше не рады, оно бьется только для вас; мое воображение полно вами; прогуливаясь, я встречаю даму с вашей фигурой, и мне кажется, что это вы; пишу за столом, поворачиваю голову — и вижу рядом вас. Это какая-то белая горячка, я брежу, сударыня, не сердитесь, пожалейте меня. Ах! как я завидую… не смею окончить: мой небесный отец разгневался бы… покоряюсь ему.
Несчастный! и я смею еще повергнуться к вашим ногам, сударыня!
Ваш покорнейший и преданнейший слуга О. Сомов.ДНЕВНИК О. СОМОВА
Я заплатил бы жизнью, если бы мог быть хоть раз счастлив с нею; клянусь, что даже сейчас, когда хочу забыть ее, если бы мне сказали: твое желание будет исполнено, но через час ты погибнешь в страшных муках, — я не поколебался бы. Напрасно она декламировала против чувственной любви и в пользу платонической; она не создана для последней. Эти соблазняющие взгляды, это дыхание, источающее наслаждение, эти позы и непроизвольные жесты, столь сладострастные, способные вдохновить и довести до исступления пылкого любовника, эти полуслова, приоткрывающие рай, — все это никак не соответствует сладостному и монотонному томлению платонической любви.
В последнее время она совершенно изменила свое поведение со мною. Она дулась на меня, она упрекала меня даже за желание быть счастливым во время этого рокового свидания. Я видел тогда же ее победу и мое поражение, я видел, что потерян в ее мнении и что она хотела бы торжествовать полностью, отняв у меня и ту тень счастья, которую она однажды согласилась мне дать. Она рассчитывала уязвить, оскорбить меня, отдавая на моих глазах предпочтение то тому, то другому. Беспрерывно разговаривая в стороне с другими, она не оставляла мне возможности перемолвиться с ней двумя словами; если же я оставался наедине с ней, она принимала недоступный и какой-то презрительный вид, которым она, без сомнения, хотела подавить меня. Она ошибается: я лучше, чем кто-либо, знаю, насколько скромны мои достоинства, и в особенности знаю свою внешность — внешность человека ординарного и мягкого, которую никогда не трудился исправить. И в последний раз, зная, что я пришел, она специально звала свою горничную то взять книгу, то принести подушку, недвусмысленно говоря этим: я знаю, что ты здесь, но я хочу тебя обидеть, оскорбить. И зачем? по пустому капризу. О, этому нет имени. Я решился твердо: прощайте, сударыня! Мне двадцать восемь лет, и я устал быть игрушкой ваших фантазий; пора и отдохнуть.
31 мая 1821, в три часа пополудни.
Она не хочет больше меня видеть! Да, это доказательство, что она презирает меня, — но почему сюда примешивается еще и злая насмешка? Она прислала свою горничную сказать, что мне стыдно уходить и что если у меня есть для нее записка, то я могу передать ее через горничную. Итак, нужны письма, а не их автор, они доставят приятное чтение кому-то более счастливому, чем я. Тем не менее я покорился этому новому унижению, передал письма и изречение, которое я приготовил для нее, ничего не сказал горничной и вышел. Сердце мое разрывалось, голова разламывалась, в висках стучало как никогда в жизни; я был близок к обмороку. Я все время шел, забыв, что на Неве есть лодки, так что, когда я пришел в себя от моих мечтаний, я находился уже у Троицкого моста. Я проскользнул вдоль сада, никем не замеченный; к несчастью, меня узнали Плетнев с женой, и я принужден был пройтись с ними. Проходя мимо одной скамейки, я увидел ее отца, и как ни был я мало расположен встречаться с теми, кто мне о ней напомнит, я почтительно приветствовал доброго старика.
Вернувшись к себе, я непроизвольно, не отдавая себе отчета, достал свои пистолеты, которых не брал со случая с C.▫Конечно, я не собирался пустить себе пулю в лоб, — но к чему эти пистолеты, порох и пули? Еще минута, — и при моем характере, склонном к мгновенным вспышкам, я бы, может быть, сделал это. Но добрый старик Шубников принес мои платки, которые прачка ему оставила в мое отсутствие; он увидел пистолеты, мой угрюмый вид и, кажется, перепугался. Я успокоил его, сказав, что мы сейчас отправляемся на дачу и, может быть, они мне пригодятся для большей безопасности во время уединенных прогулок по лесу; кажется, он этим удовлетворился. Через полчаса я пришел в себя.
В 5 часов.
За обедом князь, поскольку был вторник, спросил меня, почему я не обедаю у своих знакомых. Мадам Гол… бросила на меня испытующий взгляд. Я смешался, мне было не по себе, я что-то пробормотал князю, и это что-то было бессмыслицей.
Бедный Архип! умереть в 26 лет! такой славный, такой превосходный малый; как он служил нам — по пути, в Париже, и как был ко мне привязан! Князь очень плакал; я проливал слезы, вспоминая скорее о друге, чем о преданном слуге, — ибо участие, какое он мне выказывал, было более нежным и сердечным, нежели заботливость слуги. Князь не мог уснуть всю ночь; он наградил сиделку бедного Архипа. Как он был прилежен, изучая французские и немецкие слова во время путешествия, этот бедняга! как он по-своему рассыпался в любезностях перед маленькой женевкой в Париже. И умереть в 26 лет, в самом расцвете сил! Но я завидую тебе, добрый Архип: тебя больше не будут мучать. Покойся в мире.
1 июня 1821, в 6 часов утра.
Вчера в 7 часов я пошел в общество Соревнователей. Придя, я не застал никого, ни единой души; двери были еще заперты. Я зашел к Меньшенину, но он ушел еще до полудня. Я постучал к Булгарину, к Яковлеву, к Сенковскому, — никого. Яковлев, как сказали, обедает у нее; может быть, она расскажет ему о моей мнимой невежливости: она возводит подобные обвинения на тех своих знакомых, с которыми поступает несправедливо. Однако, что делать? Отправиться обратно? путь слишком долог, и к тому же в половине девятого нужно снова возвращаться. Что ж, станем бродить без цели и надобности. И вот я у Большого театра. Дают «Двух Фигаро»[588]. Зайдем, чтобы убить время. Я занял место князя; аплодировал репликам против женщин, которые напоминали мне мое собственное положение. О, как я зол! зол на весь этот пол! Я погрузился в долгие размышления, перебирая в памяти все, что я вытерпел от этого вероломного пола. Я пробегал в воспоминании те обещания, которые я получал от моей очаровательной кузины, ветреной Нанины; потом вспомнил легкомысленную Аннету Л…вич, потом Антуанетту Т…ржевскую и задержался лишь на воспоминании о милой Жозефине. Эта не хотела меня обманывать, она не подавала мне никаких надежд, но любила меня любовью друга. Добрая, милая Жозефина, ты плакала, уезжая из В…те-на, ты говорила мне: если вы будете когда-нибудь во Франции, навестите меня. И я был в Яселлоне, в шести лье от Сен-Дьеза и не мог повидать тебя. Прими мой вздох, добрая Д.
Я мечтал, я переносился то в имение моего дяди, то в Харьков, к прелестной Катишь Стр…, то в В…но, то в Польшу; часы летели. Но вот я пробужден от моих мыслей голосом, который здоровается со мной; я оборачиваюсь и вижу г-на Флери; спрашиваю у него, который час. Было девять, говорит он. Я поднимаюсь и спешу в общество, чтобы попасть во-время. Меня очень дружески встречают Глинка, Булгарин, Баратынский, Дельвиг и пр. Я заставляю себя смеяться вместе с ними и неплохо играю свою роль. Я предложил полковника Норова в члены общества; в понедельник, в восемь часов, его будут принимать; в четверг предупрежу его.
В полночь я снова зашел к Яковлеву и застал у него Бахтина. Мы коснулись в разговоре некоторых высокопоставленных лиц и смеялись от чистого сердца. Общество этих молодых людей для меня чрезвычайно приятно, особенно когда мы втроем. Ум без претензий, истина в наблюдениях, верный такт — вот их характерные черты; все вместе приятно и поучительно.
Она ничего не сказала Яковлеву на мой счет. Она дуется на него.
Я вернулся в два часа и лег спать; против моего обыкновения я не мог ничего читать, потому что не имел духа для чтения.
Сегодня проснулся в шесть часов, с тяжелой головой и пустым сердцем.
Думал о том, что предпринять. Не появляться там больше — самое спасительное средство для моего успокоения, но оно нарушило бы приличия и возбудило бы подозрения у мужа. Зачем же я стану компрометировать ее? Лучше всего было бы убедить князя как можно скорее отправиться в деревню, — это послужило бы достаточным извинением и избавило бы меня от унижения быть и дальше игрушкой ее капризов.
Мой Шидловский должен приехать через несколько дней. Княгиня Варвара много рассказывала мне о нем. Вот друг, на груди которого я успокоюсь от мук, которым я подвергался в его отсутствие. В самом деле, если бы он был здесь все это время, я был бы с ним и с его любезной супругой, и я бы не стал слушать Яковлева, который непременно хотел познакомить меня с домом г-жи Пономаревой. Он убеждал меня, что меня хотят видеть в доме; я ожидал удовольствия от знакомства с совершенной женщиной, у которой обширные знакомства и обилие талантов, которая любезна, весела и т. п. Ее муж был два раза на вечерах у Измайлова, мы познакомились, он пригласил меня к себе и я принял приглашение, вовсе не имея в виду им воспользоваться. Однажды вечером я зашел к Яковлеву, у которого был молодой португалец и Бахтин; мы беседовали, и вдруг в передней послышался женский голос. Я уже собирался сказать комплимент Яковлеву, когда он произнес: «Это С. Д.». Я увидел, что вошла молодая дама; в ее спутнике я узнал г-на П…рева; мне кажется, что я узнал и другого, которого где-то видел; мне смутно помнится, что это г-н Т…нов, которого я встречал в Харькове.
Эта первая встреча не произвела на меня большого впечатления: я нашел в ней очень любезную даму, мило щебечущую; я старался, насколько мог, быть при ней веселым и светским; мне казалось поначалу, что мне не угрожает никакая опасность. Это придало мне, может быть, излишнюю свободу и болтливость в тот вечер. Я не люблю принуждения, но в этот раз я сел за партию виста, который я ненавижу, что делал и впоследствии множество раз. Я говорил себе, что это уже слишком, и тем не менее продолжал, все время давая почувствовать, что не люблю ни принуждать себя, ни прятать свои небольшие достоинства за личиной ложной сдержанности; не знаю, понравился ли я этим или нет. Случайно мне выпала честь дважды подряд сыграть робер вместе с Мадам; г-н Бахтин, старший брат Николая, захотел блеснуть своим острословием, заметив, что мы неразлучны; вежливость требовала, чтобы я ответил комплиментом, и я сказал, что это для меня счастье. Дама вскоре прервала партию; мне показалось, что она слегка задета. Минутой позже я услышал, как она говорит Ивану Бахтину: что означает этот комплимент? Мне показалось, что речь идет о моем комплименте, но я сделал вид, что не обратил внимания, и настроение мое не изменилось на протяжении всего вечера. Уходя дама наговорила мне кучу любезностей, например, что она была бы польщена видеть меня у себя и т. д. и т. п. Я кое-как отвечал, и мы расстались.
В первый же раз, что я был у нее, я был очарован: в ней прелестная веселость, много ума, естественная живость, иногда чувство. Я никогда больше не видел ее в таком настроении. Я могу похвастаться, что вначале она была ко мне внимательнее, нежели к Панаеву или кому-либо еще из моих знакомых, с которыми она просто ребячилась; последующие сравнения должны были льстить моему мелкому тщеславию. Однако я всегда держался твердо, сохраняя вежливость и безнадежную сдержанность, и даже потом, посвящая ей весьма нежные стихи, я всегда был осторожен и даже холоден в своем внешнем обращении. Однажды даже, при прощании, когда она спросила, когда я появлюсь снова, и я ответил, что мое единственное счастье — видеть ее как можно чаще, она заметила, что меня не поймаешь, что я пылок на словах и холоден в сердце. Это уже было предупреждением: кто-нибудь более благоразумный и более недоверчивый, чем я, понял бы, что за эту мнимую холодность не замедлит последовать отмщение, — но я не хотел принимать меры предосторожности и дал поймать себя в сети.
Конечно же, мстя за мое равнодушие, она удержала меня у изголовья своей постели 24 апреля. Она сумела отослать всех, но из предосторожности оставила дверь спальни открытой. Она говорила мне о доверенности, какую ко мне питает, о том, что предпочитает меня всем остальным; все это сопровождалось взглядом столь нежным, столь ласковым выражением, что я забыл свои благие намерения быть бесстрастным. Ее плечо обнажилось, потом перед моими глазами открылась грудь. Я потерял власть над собой, я покрывал, пожирал поцелуями эту прекрасную грудь, которая, казалось, создана только для любви и наслаждения, моя дерзкая рука ласкала эту алебастровую шею; я дрожал, я переносил пытку; именно с того момента я посвятил себя ей, — и, безумец! дал ей в этом клятву. Она сказала мне, что я хочу ее погубить, — и бог весть, чем бы это кончилось, если бы не вошел Яковлев под предлогом, что он хочет принести ей извинения. В эту самую минуту губы мои были прижаты к ее губам, она даровала мне поцелуи, которые проникали все мое существо, в глазах ее была истома, еще момент — и может быть, я испил бы чашу блаженства… Но нет! все это было лишь притворством; она видела, что оно — единственное средство приковать меня к своей победной колеснице, и она решилась пренебречь некоторыми условностями, чтоб достигнуть своей цели… Безжалостный Яковлев увлек меня из ее комнаты; смущенный, вне себя, я не сопротивлялся; я вошел в кабинет г-на П…рева и оставался там довольно долго, прежде чем опомнился; я дрожал от головы до ног, трепетал от наслаждения, вспоминая эту сцену, которая до сих пор остается для меня самым сладостным воспоминанием и потрясением, подобным электрической искре, которая прошла через все мое существо.
2 июня, 11 часов утра.
В эту минуту хоронят бедного Архипа; я видел мельком его бледное, искаженное лицо и чувствовал спокойствие смерти, царствовавшее у изголовья его гроба. Вечная память, добрый, любезный Архип!
Г. А. Туманский прислал сообщить, что мой милый Василий возвращается из путешествия и уже в дороге; какие-то новости он привезет из Парижа?
Флери мне недавно сказал, что тоже получил письмо от г. Руссо. Так как я тоже получил письмо от Мадам, через молодого мещанина, и так как эти письма не содержат ничего интересного, а разве семейные новости, я даже не буду просить г. Флери дать мне прочитать последнее письмо. NB[589].
Нужно зайти также к княгине Голицыной, чтобы узнать, нет ли новостей о князе Алексее, и справиться, нет ли там записочки для меня. Я очень боюсь последствий дуэли, которая предполагается у него с графом Меллером. Итак, все знакомые, которых я узнал у княгини Полины, рассеяны по лицу земли!
Мар<ье> в Лайбахе, другой собирается стреляться, остальные отправились на войну бог знает с кем!
Половина второго.
Утром читал «Иерусалим» Тассо. Не знаю, почему, но как только я нахожу что-то красивое, привлекательное, чарующее, я всегда ищу сходства с нею, намека на нее. Всегда она! Она владеет всеми моими мыслями, и все же я решился забыть ее или по крайней мере не думать о ней. Описание Армиды, явившейся в лагерь Готфреда, показалось мне ее портретом; я искал в нем улыбку, взгляд моей обольстительницы, но вот место, которое меня особенно привлекло:
Е in tal modo comparte i detti suoi, E il guardo lusinghiero e in dolce riso, Ch ’alcun non è che non invidii altrui, Nè il timor dalla speme è in lor diviso. La folle turba degli amanti, a cui Stimolo è l’arte d’un fallace viso, Senza fren corre, e non li tien vergogna и т. д.[590]Вчера, возвращаясь от г. Остолопова, я нарочно пошел по Стремянной (?) улице, чтобы испытать удовольствие пройтись по той же мостовой, по которой я столько раз ходил к ней. Мне казалось, что я иду из ее дома в самой середине апреля месяца, когда еще голова моя была полна мечтами о воображаемом счастье; при этой мысли непонятное удовольствие вдруг охватило мою душу, — но вскоре я спустился с облаков и мысленно вздохнул о печальной действительности, которая осталась мне в удел.
* * *
Нам стоит задержаться несколько на этой интереснейшей записи. Не пройдет и полутора месяцев, как в пономаревском кружке возникнет специальная тема «Армида», — и ее, без сомнения, предложит сама хозяйка.
Она будет поручена Измайлову, — и, кажется, Измайлов не справится с этим поэтическим заданием. Он не представит нужных стихов, — а в специальном послании к Софье Дмитриевне будет оправдываться:
Все думаю теперь я об Армиде. Что мне сказать об ней, когда сказал все Тасс? Мне представляется она, но в вашем виде. Есть, правда, разница меж вас: Она блондинка — вы брюнетка; Шалунья вы — она кокетка; Армида так томна — София весела; Армида хороша — София же мила[591].Измайлов предлагал в своей обычной манере образчик «легкой поэзии», лукаво-иронически отказываясь от сколько-нибудь глубинных параллелей. Сомов — первооткрыватель темы, которому вовсе не до шуток, нащупывает именно их. Он погружен в психологические наблюдения и самонаблюдения и в хрестоматийном образе обольстительницы из рыцарской поэмы ищет психологического содержания. Едва ли не единственный из многочисленных русских почитателей Тассо, он обращает внимание на те места в обширной поэме, где описывается техника любовной игры, столь знакомая ему по собственному его неудачному роману:
…И каждому вид кажет особливый, Ни одного душою не любя…Когда же чувствует угасание любви в поклоннике, она стремится вновь пробудить его страсть ободряющим взором или улыбкой, пока не растопит лед, рассказывает Тассо в строфе LXXXVIII четвертой песни, и поражает гневом тех, кто слепо предается своему влечению (строфа LXXXIX), — но и здесь не вовсе лишает его надежды.
Но если кто уныл, в надеждах зыбок, Чуть намекнет о муках ей, — тогда Как бы в любви невинная, являет Вдруг вид такой, что слов не понимает.XCIV
И, вдруг смутясь, потупя взор с гордыней, В лице вся вспыхнет, с гневом на устах…Все это Сомов описывал в своих собственных письмах. Последние же записи его как будто развертывали XCV строфу той же песни Тассовой поэмы:
Когда ж поймет из чьих-нибудь движений, Что ей открыть он страсть свою спешит, — Того бежит, иль высказать ей пени Ему даст повод, иль опять лишит. Так проведя весь день, средь заблуждений Он без надежд измученный стоит…[592].Сумрачный безумец, которому легенда приписывала безнадежную романтическую страсть, заключил в этих строках любовный опыт, почти не изменившийся за двести сорок лет. Он подверг этот опыт осмыслению, рефлексии, отделив его от собственной личности и воплотив в художественном образе. Армида была портретом, в котором дышала человеческая жизнь. Ее можно было узнавать в живых людях, — и Сомов сделал это. Облик старинной обольстительницы сквозил в его письмах; в дневнике он нашел самое слово и произнес его.
Ни в лирике, ни в повестях Сомова мы не найдем, однако, ни подобного образа, ни подобного анализа. Он остается достоянием писем и дневников. Русская проза двадцатых и даже тридцатых годов — еще не психологическая проза. Почти через двадцать лет Лермонтову придется полемически уравнивать в правах историю общества и «души человеческой»; сейчас последняя — еще частное дело, область эмпирического быта, еще не вызванная к жизни литературным сознанием. Но процессы тайного взаимопроникновения, диффузии идут неуклонно — и Орест Сомов берет в руки рыцарскую поэму, ища в ней современного жизненного содержания.
И, конечно же, Пономарева делает то же самое. Вероятно, Сомов обмолвился о сходстве ее с героиней Тассо, и мы вряд ли ошибемся, предположив, что она раскрыла четвертую песнь «Освобожденного Иерусалима». Она должна была узнать модель своего собственного поведения, но, в отличие от Сомова, посмотреть на него не извне, а изнутри, отдав себе отчет в своих тайных стимулах и побуждениях. И тогда она задала Измайлову тему для рассуждения, в котором ему предстояло раскрыть психологию Армиды, то есть сказать то, чего «Тасс» «не сказал». Измаилов отшутился: выполнить задание он не хотел — или не мог.
Когда метод историко-психологических параллелей из салонной игры перейдет в область эстетического сознания, в русской литературе появятся «Египетские ночи».
ДНЕВНИК О. СОМОВА
3 июня, в 7 часов утра.
Вчера в 7 часов я отправился на заседание общества в Михайловском дворце. Застал там Греча. Мы говорили (то есть мы с ним) о нынешних событиях во Франции и в нашем отечестве. Он рассказал мне о многом, что есть в либеральных журналах, между прочим, о голосовании ультра за то, чтобы дети протестантов воспитывались в католической вере. Они что, с ума сошли, эти молодчики? они принимают французов за избирателей?
На заседании единогласно избрали Булгарина, которого предложил я; это дало Гречу повод для замечания о плодах цивилизации и о просвещении века, — ибо литературный противник предлагает своего врага и оба нежничают друг с другом, как истинные друзья, и т. п.
Измайлов спрашивал у меня новости о Мадам. Я ничего не мог ему ответить, так как не видел ее уже шесть дней.
Греч разрешил мне написать к Каченовскому, чтобы предупредить его о злой и очень низкой пародии, которую Воейков собирается напечатать на него в «Сыне отечества». Греч даже просил меня написать ему об этом; у него были большие баталии с Воейковым по этому предмету, — и так как он не мог воспрепятствовать помещению этой статьи, он оставил своего милого приятеля поступать по своему усмотрению до 1 января 1822 г., а потом они расстанутся.
Булгарин намерен прочитать жестокую диатрибу против Воейкова под названием «Печать отвержения».
Мы вышли с Гречем около 9 часов, чтобы идти к Булгарину. По пути говорили о Мадам. Я с большим жаром говорил о ее прелести, уме и талантах. Греч заметил: жаль, что она этого не осознает.
Булгарина мы не застали; я потом пошел к Яковлеву и к Бахтину, но тоже не застал ни того, ни другого. В половине одиннадцатого я вернулся домой, хотел сесть писать, и в этот момент постучали. Я открыл дверь и увидел входящего Яковлева; спросил его о новостях о Мадам, но он тоже ее не видел со вторника. Мы решили отправиться к ней завтра (т. е. сегодня). Посмотрим, что она мне скажет. Не знаю, но после вторника мне бывать у нее не радостно, а неприятно. Думаю, что вид у меня будет печальный, но я постараюсь сдерживаться и казаться веселым, безразличным, насколько это удастся.
Пришли передать мне приглашение от князя на чашку чаю. Прерываю мой дневник, чтобы вновь приняться за него завтра или сегодня вечером.
Здесь нам вновь нужно остановиться. Запись выводит нас за пределы интимного мира Ореста Сомова. В ней слышатся дальние отзвуки литературных сражений, которые вскоре дадут себя знать в литературном салоне Пономаревой.
Мы помним, что без малого год назад Сомов обещал Измайлову, что начнет атаку против Жуковского и «новой школы». Журнальная война уже шла с января 1821 года. На стороне Сомова был Цертелев; против — Греч, Булгарин, Воейков, Бестужев. Но баталии не были окончены; напротив того, они только начинались, и в полемику втягивались все новые имена. Князь Цертелев еще в начале прошлого года ратовал в «Благонамеренном» против Дельвига, ученика Жуковского, как и он, предающегося «таинственным мечтаниям» по образцу немецких поэтов[593], — а в скором времени к нападкам на «мистицизм» добавились и другие. Стихи всей этой молодежи прославляли вино и чувственные утехи; они были безнравственны.
Всегда тверди сто раз одно: Звон чаши золотой, пенистое вино, Восторг любви, конец желаний Есть — сладострастие!Так значились в пародийных «Правилах нынешних молодых поэтов», опубликованных в журнале Измайлова еще в начале 1821 года[594].
Цертелев писал 25 марта 1821 года графу Хвостову о харьковских дарованиях, «не зараженных еще духом новой школы: пиитическим буйством и мистицизмом», о чем он не может вспомнить «без досады». «Скажите, ради бога! долго ли будут потчевать нас бесстыдством и таинственностью? долго ли самозванцы небожители будут говорить языком, которого смертные не понимают, а боги не хотят слушать? что будет с нашею литературою, если этот вкус еще несколько лет процарствует?»[595]
Итак, «бесстыдство» и «таинственность». Любовные стихи Дельвига и Баратынского, сцены в «Руслане и Людмиле» оскорбляли в критике чувство нравственного, но антологические стихи Панаева он готов был принять, и сам, случалось, писал в анакреонтическом духе.
Такова условность литературной этики.
В тот день, когда произошло описанное Сомовым заседание, чтений в обществе не было. Это было публичное собрание, где обсуждали вопрос о программе торжественных чтений, назначенных на 15 июля, день юбилея общества[596]. Но за неделю до этого, 26 мая, когда Сомов также присутствовал и даже читал свою «Песнь о Богдане Хмельницком, освободителе Малороссии», элегик А. А. Крылов выступил вдруг со стихотворным памфлетом. Он назывался «Вакхические поэты» и был направлен против прежних друзей Крылова — Дельвига, Баратынского; именно их поэтический венок, «обрызганный вином», должна была, по мнению Крылова, поглотить река забвения. Эти стихи были вызовом — и на них Баратынский готовил ядовитый ответ, который и был напечатан несколько месяцев спустя[597].
Однако вернемся к дневнику Сомова.
4 июня 1821 в 7 часов утра.
Я был у нее. Я провел у нее весь вчерашний день. Яковлев не пришел; я застал у нее Панаева и этого вечного Лопеса, впрочем, славного малого: он много раз приглашал меня к себе, и, поскольку я намерен изменить теперь мое поведение с нею, я с удовольствием посещу его в одно из воскресений.
Какой холодный прием она мне оказала! У нее был немного недовольный вид, когда она справлялась о моем здоровье; я ответил, что чувствую себя прекрасно. Минутой позже Лопес попросил разрешения откланяться под предлогом поездки на охоту или чего-то в этом роде. Она побежала за ним, якобы для того, чтобы остановить увязавшуюся за ним собаку. Я видел эту уловку и остался в комнатах. Через четверть часа я вышел подышать воздухом и заметил ее у дальнего угла канатной фабрики. Так как они с Лопесом наверняка меня видели, я решил присоединиться к ним. Он ушел, и я проводил Мадам в комнаты. Там произошел короткий разговор наедине, во время которого она упрекала меня, что я не дождался ее во вторник и уехал не повидавшись; как и следовало ожидать, она еще раз произнесла обычную длинную проповедь относительно моих претензий и т. д. и т. п. Ее супруг и Панаев вышли к нам, и переговоры окончились. Я хотел тотчас же уйти, но она принудила меня остаться. Меня подогревало любопытство, и я отпустил моего кучера. После завтрака она села за пианино, и я стал просить ее спеть «Ragazze <1 нрзб.>», что она исполняет прелестно. Панаев напомнил ей о моем романсе «Ты мне велишь пылать» и т. д.[598], она спела и его. Это мне было неприятно; я хотел бы никогда не сочинять этого проклятого романса, ибо он был пробным камнем моих чувств. Поэтому я быстро взял трость и шляпу и вышел прогуляться до дачи графини Безбородко.
Возвращаясь, я встретил Мадам с Панаевым, которые тоже вышли на прогулку. Вежливость требовала, чтобы я присоединился к ним, что я и не преминул сделать. Во время разговора зашла речь о Яковлеве; я сказал ей, что она плохо с ним обошлась, и тем самым дал простор ее выпадам против претензий и т. д. и т. п. Он хочет, сказала Мадам, чтобы все занимались исключительно им, он думает, что им пренебрегают… (NB. Он тут не при чем, это сказал ей я в одном из моих писем, так что я прекрасно понял, кому это косвенно было адресовано). Вернувшись, я сильно насмешил ее за обедом, так что в результате у нее начался нервный припадок. Как жаль, что такая прекрасная телесная организация подвержена истерическим припадкам! У нее, которая должна была бы быть воплощением здоровья, исчислять всю жизнь моментами наслаждений, — у нее слишком слабые нервы: сколько-нибудь сильная радость, сколько-нибудь чувствительное огорчение выбивают ее из колеи и стоят ей часов страданий.
Все время этого посещения я, однако, чувствовал, что она хочет меня огорчить. Несколько раз она принималась оскорбительно смеяться, стремилась дать Панаеву выделиться на моем фоне и т. д. и т. д. Один раз Панаев сказал какую-то глупость, опрометчивость на мой счет, причем совершенно того не желая; она смеялась до колик. Она думает меня задеть, и ошибается: я разгадал ее намерение и смеялся вместе с ней. Чтобы привести меня в замешательство, требуется совершенно другое. Она не знает моего характера: ей неизвестно, что я снесу все от женщины, в особенности прелестной, но не стану ничего терпеть от мужчины, что я умею в словесных стычках отвечать на выпад выпадом и не однажды уже показывал и твердость, и умение владеть достаточно грозным оружием.
Я ушел в половине двенадцатого, сказать правду, не очень довольный проведенным днем.
* * *
Наступал звездный час Владимира Панаева.
В этот день — 3 июня — он вписывает в альбом «Madame» элегию «К родине», написанную в 1820 году в Тетюшах, в родовом поместье Панаевых под Казанью, с воспоминаниями о детстве, о волжских ландшафтах и о певце их — Державине. Эти стихи были Панаеву дороги — через много лет он собирался включить их в свои мемуары[599], в те самые, в которых он нашел место для хозяйки альбома.
Он вспоминал в них, как мы уже знаем, о своем триумфе и об удалении Поджио и Лопеса. О Сомове он не помнил, — или не счел нужным упомянуть.
«Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей, — читаем здесь далее, — и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил ее, любил нежно, с заботливостью мужа или отца (ей было 22 года, а мне уже 29 лет), остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она держать себя, потому что не всякий мог оценить ее милые детские дурачества; надеялся во многом ее исправить, требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному. Дело шло недурно: она во многом слушалась меня, в ином нет; нередко прерывала наставления и выговоры мои то выражением ребяческой досады, впрочем, мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня, или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки. Но вдруг втерся в дом их, чрез Александра же Ефимовича, тоже литератор, Яковлев…»[600]
О Яковлеве речь впереди. Пока же Орест Сомов должен испить чашу до конца.
Воскресенье, 5 июня 1821.
Вчерашний вечер, который я провел у Измайлова, не знаю, почему, был не слишком наполнен. Было человек пятнадцать, почти все мне знакомые. Г-жа Измайлова несколько умерила свою сухость и холодный тон, который она с некоторого времени приняла со мной, потому что я однажды в ее присутствии произнес похвалу прелестной Г-же По…вой. Это было еще в начале моего знакомства с этой милой дамой. Мне показалось, что г-н Княжевич-старший был задет совершенно невинной шуткой. Я никоим образом не собирался обидеть его. Его брат вернулся из Лайбаха и рассказывал мне о своем путешествии в Венецию. Мы разговаривали с Норовым и Остолоповым об итальянской, русской и французской литературе. Я обещал Норову зайти к нему утром в понедельник. Мне очень нравится этот храбрый воин; деревянная нога, этот благородный знак его доблести, есть в глазах соотечественников лучшее ему свидетельство. Я вернулся в половине двенадцатого и у самых дверей встретил Яковлева; он зашел пожелать мне доброй ночи. Мы поговорили полчаса; о Мадам тоже зашла речь; мы говорили о ее любезности, и оба желали ей чуть меньше переменчивости в характере, а также чтобы она не обходилась сурово с людьми, которые ей искренно преданы.
Понедельник, 6 июня, 7 часов вечера.
Вчерашний день полностью примирил меня с ней. Я думал провести этот день совсем иным образом, и в восторге от того, что поговорка «Homo proponit, Deus disponit» (человек предполагает, а бог располагает) послужила на этот раз в мою пользу. Днем я собирался к Гречу на дачу (Отрадное); я встретил его на петербургской набережной, мы поговорили немного и затем расстались. Так как я уже вышел из дому, а обед был еще нескоро, и я не хотел вернуться не сделав кое-каких дел, я и решил заглянуть к Madame. Я уже проходил по Выборгскому мосту, отчаянно хромая по милости калош, которые мне жали, когда заметил г-на Воейкова, ехавшего в двухместных дрожках. Я поздоровался с ним, он остановился и пригласил меня сесть в дрожки; хотя я был бы рад отказаться, но не стал кривляться и воспользовался его любезным приглашением, — и вот мы разговариваем и о плохой погоде, и о непостоянстве петербургского климата, и о лондонских туманах, и о 93-ступенчатой лестнице у Греча, и о болезни г-жи Воейковой, и о талантах и любезности г-на Норова, — одним словом, болтали и сплетничали напропалую от моста до Медико-хирургической академии. Там я попросил его остановиться, сказав, что должен зайти в академию. Мы обменялись множеством комплиментов, и я был счастлив, что избежал более длительного разговора.
Прихожу к Madame, нахожу там Яковлева и Кушинникова, который явился минутой позже. Madame вначале принимает меня довольно сухо. Она хочет удержать Яковлева, который уходит. Собираются на прогулку вместе с г-жой Гоффар и детьми; и в самом деле, она отправляется с ними. Я догоняю ее и подшучиваю, что у нее вид надзирательницы в пансионе; она возвращается домой. Мы обедаем, разговариваем, и неожиданно она дарит мне платок, чтобы носить на рубашке под жилетом. Мы опять собираемся в путь, чтобы идти на дачу, где живут дети г-жи Гоффар: наша компания состоит из г-на Пономарева, Madame, г-на Кушинникова, г-жи Гоффар, Александрины и меня. Madame дает мне руку; мы добираемся до дачи г-на Дурнова и берем лодку, которая довозит нас прямо к даче Безбородко; идем через сад; Madame все время дает мне руку, чтобы вести ее; в конце сада находим полуобрушившийся крытый мост, всего две балки, соединенные посредине моста. Я веду Madame со всеми предосторожностями и вниманием. Гектор остается на середине моста, не смея перейти на вторую балку. Madame в затруднении, как заставить его это сделать; она зовет его, он визжит и остается в нерешительности. Я бросаюсь на мост, беру собаку на руки, всю перепачкавшуюся, переношу на другой берег, — и получаю любезную, даже нежную фразу Madame: «Какая милая попинька. Кто бы поступил, как он!» Эта малость меня совершенно пленила и вновь подчинила ее власти; я не чувствовал под собою ног, я внутренне поклялся навсегда принадлежать ей. В этот момент она показалась мне прекрасна как никогда; и если бы я мог, я бы задушил ее поцелуями; я был готов тысячу раз обнимать ее собаку; но я боялся скомпрометировать ее перед свидетелями. Звук ее голоса, когда она произносит любезные, полные благодарности слова, проникает до самого моего сердца и возбуждает в нем новое пламя; я чувствую себя на седьмом небе и так смущен, так счастлив, что не знаю, что ответить; не хватает ни слов, ни дыхания; я лишаюсь чувств от радости. Нет! никогда ранее я не был так влюблен; тогда я был моложе и чувства еще не были столь глубоки, столь определенны.
Остаток дня прошел для меня довольно приятно. Пообедав, мы отправились на лодке на Крестовский; там я отлучился на некоторое время, присоединился к ним уже в лодке, придумав причины и извинения. Однако она упрекнула с горечью: «Вечно вы устраиваете эти фарсы! очень хорошо!» К несчастью, она промочила ноги; я тоже промок до колен и молчал. Она жаловалась, что на лодке холодно, и я за нее боялся. Добравшись до дома, она по нашим неоднократным и настоятельным просьбам велела растереть себе ноги ромом и потом легла. Она хотела силой удержать г-жу Гоффар, Кушинникова и меня, чтобы мы провели ночь на даче, но затем согласилась нас отпустить. Я приблизился к ней, чтоб попрощаться… Смущенный, я опять увидел эту прекрасную грудь, которая составляет мое мучение; я сделал усилие, чтобы не выдать себя, я почти уже не владел собой. Я напечатлел поцелуй на ее руке и вырвался с этого острова Калипсо.
Я забыл заметить, что она ругала меня неизвестно за какие претензии, когда я попросил у нее прощения неизвестно за какие прегрешения. Потом она смягчилась; она выразила сожаление, что я ей больше не пишу, а я возобновил просьбу позволить мне писать, что мне и было разрешено.
Вторник, 11 часов утра. 7 июня
Я писал почти все утро в понедельник; сердце и голова все время полны ею. В половине первого я вышел, чтобы идти к Норову, которого я не застал дома; затем зашел от нечего делать к Сленину и там нашел моего полковника на деревянной ноге. Он просматривал несколько итальянских изданий. Мы пошли обедать к Талону; затем поднялись к Плюшару, где еще перелистали нескольких из наших любимых итальянцев в ожидании дрожек полковника. Когда дрожки приехали, мы заехали к нему, чтобы захватить стихотворение, которое я буду читать за него в Обществе. Я все больше очаровываюсь этим любезным полковником: ни тени военного чванства, много предупредительности и вежливости; разговор разнообразный и поучительный; он не выглядит столь ученым, каков он есть на самом деле. Вот люди, которых я люблю, — потому что я люблю бывать с теми, кто стоит больше, чем я. Это род эгоизма, я признаю, — я здесь выигрываю, в то время как в обществе тех, кто глупее меня, я теряю слова и время. Я убежден, что так же поступают и по отношению ко мне, потому что это всеобщее primo mihi[601].
В 7 часов я зашел к Яковлеву; мы еще поговорили о ней; именно она делает разговор приятным. Но я стараюсь всячески скрыть мои истинные чувства от Яковлева, который, при всей своей проницательности, ни о чем не подозревает. Я думаю, что мы друг друга обманываем.
8 часов. Я пошел в Общество; настаивал, чтобы избрали Норова действительным членом; когда проголосовали, оказалось, что за принятие подано 15 голосов, а против — один; таким образом, он избран почти единогласно. Я передал Глинке послание Норова к Панаеву, где он говорит ему, что человеческая природа портится все более и более; хорошие стихи, только есть несколько неисправностей в стиле. Глинка читал их на том же заседании, и все их одобрили.
7 июня 1821
Вы прощаете меня, сударыня! вы возвращаете мне ваши милости! Нет! я обманываюсь: большая часть вашего существа имеет в себе нечто божественное, и эта прелесть, эта доброта, — все это — небесного происхождения. Ах! достоин ли я единого вашего взгляда, — одного из тех взглядов, которые наполняют таким блаженством всякого, на ком вам заблагорассудится его остановить! О, если бы вы видели, сколько я перестрадал, пытаясь победить, преодолеть страсть, которая сделалась для моей души тем, чем жизненный дух является для тела, — неотделимой от моего существа. Я думал уже, что потерял навсегда сладостные мечты о счастье, мечты неосуществимые, но тем не менее драгоценные для меня, ибо они представляют образ счастья более совершенного, более ощутимого, которому я смел предаваться только в мечтаниях.
И все же мне кажется, что вы иногда словно сомневались в искренности моей любви. Увы! я ли виноват в том, что это лицо без выражения, эти глаза, лишенные огня, столь слабо выражали то, что я чувствую? Весь пламень, который не одушевлял ни моих глаз, ни моих черт, сосредоточился в моем сердце; в нем ваш алтарь, где вы окружены беспредельным обожанием. Нет! пламень столь сильный не может умереть, даже вместе с моим существом; он переживет его, он будет жить за пределами гроба и станет для моей души прекраснейшим залогом бессмертия. Я увижу там вас, сударыня, вы будете ангелом добра, который приобщит меня к вечному блаженству; без вас я впал бы там лишь в бесконечную тоску.
И вы больше не сердитесь, сударыня? вы искренне простили меня? вы не оттолкнете более сердца, которое бьется только ради вас? Ах! если бы не было свидетелей, я бы тысячекратно расцеловал тогда вашего Гектора, который заставил вас произнести те сладостные слова, которые навсегда запечатлелись в моей памяти; именно он сумел убедить вас хотя бы немного в той любви, которою я к вам пламенею. Судите же сами, сударыня, как я должен ласкать его и могу ли я смотреть равнодушно на создание, которое в некотором роде явилось моим благодетелем? и сколь драгоценную ношу я находил в нем! Я держал на руках создание, которое вы любите, сударыня, а то, что дорого вам, тем более дорого мне, ибо все ваши привязанности передаются моей душе, усиливаются и умножаются в ней!
Для меня нет большего удовольствия, чем испытывать одни с вами чувства! Если бы я мог надеяться на взаимность… но я не смею рассчитывать на это; это было бы счастьем, которого мне не дано в удел.
Итак, мне довольно моих собственных чувств, мне довольно единого преимущества, которое мне предоставлено, — осмелиться высказать их вам.
Как ваши слова, дышащие дружбой и добротой, отозвались сладким теплом во всем моем существе: «Какая милая попинька! ну кто бы поступил подобно ему!» — эти любезные слова беспрестанно звучат в моих ушах и текут по моим жилам волнами несказанного счастья. Ах! повторяйте мне чаще такие слова; их так легко сказать, — и счастлив тот, кто может столь малой ценой доставлять другим неоплатное счастье! Тот, кто делится счастьем, счастлив и сам: он счастлив сам по себе.
Вновь, сударыня, повергаю к ногам вашим свое сердечное почтение, которое вместе со всем моим существованием принадлежит вам навеки.
Среда, 8 июня, в полдень.
Вчерашнее утро прошло довольно спокойно. Я написал Мадам первое письмо после возобновления отношений, где описал мою страсть. Оно было очень длинным, это письмо, и я боюсь, что оно ее утомило; наскучить же очаровательному существу есть прегрешение против природы. Я должен был обедать с князем и предполагал идти к ней сразу же после обеда, как вдруг княгиня просит меня найти в библиотеке книги, которые она сама не может отыскать. Я скрыл досаду, которую произвело во мне столь несвоевременное поручение, поискал книги и нашел их почти сразу же. Княгиня была со мной очень любезна; я принес ей в кабинет книги, которые она просила, и она заговорила со мной об удовольствиях, которые ждут нас в деревне. Чтобы закончить разговор, я ответил, что не возражал бы остаться в городе, так как лето не обещает быть хорошим. К пяти часам я отправился на дачу г-жи П…вой. Я застал там Лопеса, который почти сразу ушел, и полковника Слатвинского. Мадам была нездорова; на качелях она получила приступ ревматизма. Почувствовав недомогание, она легла, а я вышел прогуляться. Встретил обоих Кочубеев, которые возвращались в город от княгини Лобановой; приветствовал их мимоходом. Около дачи г-на Дурнова встретил его двоих сыновей и г-на Дугольца (?), поболтал с ними, и адъютант осыпал меня знаками уважения; все они звали меня наперебой зайти к ним, но я отговорился, извинившись. Вернувшись, я застал Измайлова; Madame была еще в постели; немного спустя пришел Андреев, и она позвала его в комнату, потом захотела встать и вскрикнула от боли. Я побежал, чтобы по возможности помочь ей; вдвоем с г. Слатвинским мы ее подняли. Она была очень любезна со всеми; остальные ушли, только мы с Измайловым остались ужинать. Она была очаровательно весела. После ужина я зашел в ее спальню и видел, как она ласкала собаку Лопеса. Как я завидовал этой собаке! Я сказал ей об этом несколько раз, наконец, подошел, с жаром поцеловал несколько раз руку, а прощаясь, напечатлел поцелуй на ее губах, и она меня тоже поцеловала. Она хотела оставить меня ночевать на даче, но я извинился невозможностью, зная, что нужен князю. Несмотря на это, она велела приготовить мне постель в гостиной и сама поправила подушки. Я не мог этого выдержать, я не ушел бы отсюда до конца дней моих, я покорился, целуя ей руку… Увы? неужели я должен буду ограничиться этим? Я спал не более двух часов; когда пробило четыре, ее собака, которая поранилась днем, подошла к моей постели и разбудила меня. Она страдала, а я не могу видеть страдающее существо, не говорю уже об ее собаке. Я поднялся, взял собаку на руки и уложил ее, уступив ей мое ложе; чтобы не коснуться ее и не причинить ей боли, я оделся и отправился домой. Этот вчерашний день — один из тех, о которых я сохраню самое приятное воспоминание. Какую цену имеет в моих глазах самая ничтожная ее ласка, доброе слово, маленький знак заботливости! О, если бы я действительно был любим, как бы я умел чувствовать всю бесконечность моего счастья!
Четверг, 9 июня 1821.
Вчера утром я получил от Остолопова пригласительный билет на вечер. Билет был написан по-итальянски, и я должен был как умел отвечать на этом языке. Потом я пошел к Булгарину, чтобы пригласить и его от имени Остолопова, после чего пошел к Никитину. Я внушал ему мысль об объединении двух обществ и мог убедиться, что она ему вовсе не по вкусу.
Булгарин не пустил меня в спальню. Я видел, как по его приказанию туда внесли портрет, и мне кажется, заметил фигуру живописца-миниатюриста. Слуга поляк по оплошности уронил завесу с портрета, и я узнал черты г-жи Воейковой. Э, г-н Булгарин! поздравляю вас; но я не сказал ему о том, что видел.
Пятница, 10 июня, 1821.
Вчера я ждал полковника Норова, чтобы в полдень идти вместе познакомить его с Пономаревыми, но он пришел только к двум часам, так что все утро у меня было потеряно. Мы разговаривали о г-же Пономаревой, я внушил ему желание познакомиться с ней, и так как он считает неудобным приходить к обеду при первом визите, он обещал мне придти туда завтра к 6 часам. Затем мы беседовали о русской и иностранной литературе. Я дал ему почитать 4 тома Парни. Не забыть бы сообщить ему справку о лучшем комментарии Данте. Вот он: «La Divina Commedia» di Dante Alighieri, col commento di G. Bignioti; 2 toms. Parigi, 1818, in 8. Preste Dondey Duprè in via S. Luigi[602], 10 с. 4 С. Он мне обещал заказать экземпляр в Париже. К трем часам полковник ушел.
После 7 часов я был в Обществе любителей словесности, наук и художеств в Михайловском дворце. Булгарин читал нам свои воспоминания о войне в Испании, очень интересные. Он описывает с большим жаром прекрасный пол этой страны, климат, природу. После него Остолопов читал рассуждение о трагедии, которое он хочет поместить в Словарь древней и новой поэзии. Хорошая компиляция, но немного подробна для статьи в большом сочинении. К десяти часам я предложил Измайлову зайти вместе к Панаеву, которого мы нашли страдающим еще сильнее, чем раньше. Я остался до полуночи и вернулся к себе к половине первого ночи.
10 июня 1821.
Как я благодарен дурной погоде, которая меня держит в городе, сударыня! Я еще испытываю потребность в приятном предвкушении увидеть вас два или три раза до моего отъезда на дачу. Время от времени мне приходят мысли, противоречащие здравому смыслу: я иногда хочу, чтобы ненастное время года длилось постоянно, так чтобы вы скорее переехали окончательно в город и чтобы я имел счастье видеть вас каждый день. Сердитесь на меня, если хотите, сударыня, но в этом отношении я эгоист и сверх-эгоист, — и не совсем без оснований. Мне кажется, что, когда я рядом с вами, мое существование более полно, более цельно, в то время как вдали от вас я ощущаю, что лишен большой части себя самого, — и это правда: мое сердце, моя душа, мои мысли, мое воображение постоянно следуют за вами и, кажется, витают вокруг вашего обожаемого образа. Все, что составляет лучшую часть меня самого, поглощено вашими совершенствами, — и что осталось мне? лед вместо сердца, постоянная пустота в уме и в душе и грубая оболочка, принадлежащая моему земному существу.
Ах! сударыня! не отнимайте у меня единственного утешения, на которое я уповаю в отдалении от вас! пишите мне так часто, как только сможете, пишите длинные письма, чтобы я мог упиться наслаждением видеть нечто, исходящее от вас. Я знаю, что моя мольба дерзка, но я обращаю ее к ангелу, а ангел никогда не отказывает в утешении бедным смертным. Как сильно будет биться мое сердце, когда я буду ждать известия от вас! О! я их буду носить у сердца, ваши письма, и они вновь возродят в нем тот сладкий пыл, который ослабеет в вашем отсутствии, — или вернее, который будет отражаться в ваших глазах.
Каждый раз, как я вижу вас, сударыня, я влюбляюсь все больше. В последний раз в особенности… о! этот вечер запечатлеется в моей памяти среди самых счастливых минут моей жизни. Я видел, как вы собственными руками раскладывали подушки на постели, предназначенной для меня; ах! с каким восторгом я напечатлел поцелуи на этих несравненных руках! Осмелюсь ли я сказать… но нет! мое сердце еще слишком полно этим счастьем, и самые красивые слова были бы холодны и несовершенны.
Ах, если бы вы могли, сударыня, хоть в малейшей степени чувствовать то, что я чувствую по отношению к вам! я был бы самым счастливым из людей, как сейчас я самый любящий из них.
Ваш навеки О. Сомов.Суббота, 11 июня 1821
7 часов вечера.
Нет, довольно! за всю мою любовь, за всю мою преданность — только презрение, оскорбления, обиды! Вчера она показала себя в черном цвете: она преследовала меня, терзала… и за что? За безделицу, пустяк, о котором не стоит даже говорить.
Я был очень занят все утро, и все же нашел время написать ей очень нежное письмо, где изобразил мои чувства. Около двух я вышел; было туманно и печально, и на сердце тоже было слегка печально; им владели какие-то смутные предчувствия. Я захожу к ней и застаю мужа в гостиной; мне говорят, что Madame за туалетом. Дул сильный ветер, время от времени начинался дождь; все словно соединилось, чтобы вывести меня из равновесия. Наконец через полчаса дождь прекратился и погода стала налаживаться. Я сказал г-ну П…ву, что собираюсь пойти прогуляться, и в самом деле отправился. Вернувшись, я увидел, как на балкон всходят Измайлов, Остолопов и двое Княжевичей. Через минуту я постучал в дверь, за которой одевалась Madame, и передал ей письмо. Она говорила со мной из-за двери, не позволяя мне войти, потому что, сказала она, она в рубашке. Когда же она появилась, я заметил в ней какую-то холодность и раздражительность ко мне и уже предчувствовал все неприятности, которые ожидали меня в дальнейшем. Она послала меня за своим дневником, желая показать этим господам свой рисунок; а затем притворилась, что не находит писем Панаева, которые, как она сказала, были в этом дневнике; смеясь, она обвиняла всех, что они взяли записки; я в это не верил, потому что был уже знаком с этими женскими уловками. Однако до конца обеда все еще было ничего, если не считать, что она больше не обращалась ко мне и отвечала мне раздраженно. Когда пришел Лопес, она вышла поговорить с ним в спальню и оставалась там около получаса. Мне это надоело, и я собрался уже взять шляпу и пойти еще раз прогуляться, хотя дождь лил во все время обеда. Она спросила меня, куда я собрался, и я ответил в сердцах: «Я ухожу, сударыня», что и повторил несколько раз. Она рассердилась немного, но я все же отправился. Она смотрела в окно и позвала Гектора, который хотел идти за мной. Я сказал, чтобы она была спокойна и что я не собираюсь уводить ее собаку. На это она состроила мне гримасу, которая заставила бы меня рассмеяться, если бы я не уловил в ней злости. Я побродил без цели на даче Безбородко и на обратном пути застал даму на качелях, подошел и приветствовал ее. Она спросила резко: «Что вы хотите мне сказать?» Я ответил на это, что ничего, и не потерял самообладания. Немного спустя я последовал за ней и спросил о причине ее недовольства; она ответила, что я недостоин того, чтобы со мной разговаривать, и что она относится ко мне так же, как к Яковлеву. «В таком случае, сударыня, — ответил я, — мне придется более к вам не приходить». За ужином она пользовалась любым случаем расстроить меня, придиралась ко всему, что я говорил, и часто смешным образом. Я обращал все в шутку не подавая виду, что замечаю ее враждебность. Я отвечал на ее обиняки и часто их опровергал; кажется, это задевало ее из-за присутствия окружающих и как раз в тот момент, когда она хотела за мой счет продемонстрировать свое остроумие. После ужина я подошел к ней и пожелал ей доброй ночи, прибавив, что, может быть, не скоро буду иметь счастье ее увидеть, потому что намерен вскоре отправиться на дачу. Она вначале протянула мне руку, отвернув лицо, потом подозвала меня знаком руки и спросила, не хочу ли я остаться. Я ответил отрицательно, и она сказала: «Поцелуйте же мне руку». Мне показалось, что она улыбнулась. Я удалился, довольный собой, но очень недовольный проведенным днем.
Воскресенье, 12 июня 1821.
Я работал все утро и выбрал время только для того, чтобы совершить маленькую прогулку по саду. Я думал о постигшей меня немилости; мне было грустно, и я искал уединения. Однако после обеда я решился идти к Измайлову, чтобы он не подумал, что я все еще сохраняю настроение вчерашнего вечера. Так как я должен был проходить мимо дома Панаева, я зашел к нему, чтобы поздороваться. Он меня принял довольно холодно; у него был Рихтер, перелистывавший какие-то бумаги. Панаев сказал, что он слышал от г-на Остолопова, Княжевича и Измайлова, которые заходили его навестить, что Madame дурно обошлась со мною вчера вечером. Я рассказал ему все, и он протянул мне записку Madame, очень резкую и оскорбительную, где она обвиняла меня в похищении писем Панаева. Я никогда не ожидал такой выходки. Панаев передал мне, что она ему также писала, уведомляя об этой предполагаемой краже.
В 11 часов утра
Ее бывший человек, Владимир, пришел ко мне просить помочь ему получить место. Я был обрадован возможностью оказать услугу тому, кто ей служил. На этот счет у меня слабость: если я люблю кого-нибудь, я люблю все, что до него касается, что с ним связано, даже тех, кого он просто знает. Я считаю своей приятной обязанностью помочь ее прежнему слуге и поговорю о нем с князем.
В половине пятого пополудни.
Князь просил меня привести к нему Владимира, и, поскольку слуга сказал мне, что можно его выкупить, князь согласился тем более, что один из его лакеев умер, а второй заболел. Князь сказал мне любезность, что-де моей рекомендации достаточно; что я всегда советовал ему только хорошее. Это правда, я рекомендовал ему прекрасного человека: г-на Коломийцева в качестве управляющего в Институте глухонемых; поэтому князь полностью доверяет моим рекомендациям. Я буду счастлив, если мне удастся освободить Владимира из когтей его нынешнего хозяина.
12 июня 1821.
Сударыня!
В последний раз, когда я имел честь провести день у вас, я имел возможность заметить, что вы ищете любого случая и средства меня огорчить, унизить и поставить в смешное положение, хотя я не дал вам к тому ни малейшего повода. Будучи совершенно спокоен в отношении вас, — ибо все мое поведение отличалось постоянной почтительностью, — и, привыкнув к доброжелательству, с которым вы меня принимали ранее, я, соглашаюсь, может быть, и не остерегся так, как мне бы следовало. Так, когда вам было угодно спросить меня, что я намерен делать, я имел честь отвечать вам, что собираюсь прогуляться, как делаю обычно за неимением лучших занятий. Ответом мне была угрожающая мина, но я убедил себя, что в дальнейшем вы будете судить обо мне лучше. В самом деле, сударыня, не ясно ли, что, когда у вас собирается общество или когда вы приглашаете меня на званый обед, я присутствую у вас как один из тех китайских уродцев, которых ставят на камин, просто чтобы занять место. Если я осмеливаюсь обратиться к вам, предложить вам мои услуги, вы принимаете это с отвращением, которое очевидно для всякого из присутствующих; в остальное же время у вас такой вид, словно вы не замечаете, здесь я или нет. Зачем же приглашать к себе человека, к которому выказываешь презрение или которого хочется оставить в забвении? Не стоит ли оставить в покое того, кто вас вовсе не интересует? В пятницу, например, вы старались развлечь каждого из присутствующих — и один я удостоился только гримас и оскорблений.
Со своей стороны, я приемлю смелость заметить, сударыня, что так легко меня не смутить. Я еще был принужден принять на себя роль, менее всего соответствующую моему характеру, — роль наглеца, и эта роль, как вы сами видели, не так уж плохо мне удалась. Я притворялся беззаботным и даже веселым, хотя это было прямо противоположно тому, что я чувствовал в последний раз.
Вы сказали мне, сударыня, что не хотите больше со мной разговаривать, как не хотите больше говорить с Яковлевым. Сделайте мне милость, скажите, есть ли это ваше искреннее намерение. Я должен знать это, чтобы в дальнейшем определить свое поведение. Я не забыл чина унтер-офицера, который показался вам столь низким. Эта маленькая выходка может послужить объяснением другой в том же роде, которая была сделана в адрес людей бедных. Я прекрасно знаю, что я беден и не чиновен, но я имею преимущество знать много людей чрезвычайно богатых и по положению гораздо высших, чем я, и которые тем не менее не считают для себя зазорным обращаться со мной дружески. Сам я никогда не ищу новых знакомств; я нахожу их либо случайно, либо склоняясь на предложения, которые мне делают; отчасти и это поселило в моей душе довольно гордости, чтобы оценивать по достоинству несправедливости, мне причиняемые.
Разрешите мне, сударыня, вернуться к предмету «претензий», — слово, которое постоянно на ваших устах и которое имеет у вас несколько значений. Какие претензии вы приписываете мне, сударыня? Я никогда не претендовал, чтобы занимались исключительно моей ничтожной персоной, но я тем не менее не хочу служить мишенью для оскорблений, когда вам заблагорассудится дуться на кого-либо. Все мои претензии сводятся к тому, что я хочу, чтобы со мной обращались так же, как с другими и как со мной обращаются повсюду; если же нет — нет.
Приняв на себя смелость высказать вам предмет и причины моей уязвленности, я осмелюсь еще умолять вас, сударыня, не лишать меня вашей доброты и милостей, единственного счастья, к которому я стремлюсь, — и соблаговолить верить чувствам самого глубокого почтения, с которыми имею честь быть, сударыня, вашим покорнейшим слугой
О. Сомов.Этот жест оскорбленной гордости стоил писавшему труда: он искал слов, вычеркивая, исправляя, перемарывая. Но рядом на странице мы находим другое письмо, без даты, написанное почти без помарок. Может быть, он не решился отправить его и заменил вторым, уже в который раз покорившись судьбе, бороться с которой он не имел силы?
Достойно ли вашего характера, сударыня, поступать со мной таким образом? Можно ли называть именем вора человека, которого принимают у себя и который не запятнал ни одним низким поступком доброго мнения, которое, кажется, у вас о нем сложилось? Чужая собственность священна для меня настолько, что для меня тягостно быть подозреваемым даже в том, что я рылся в чужих бумагах; всем, кто удостоивал меня своим знакомством, я всегда давал основания для слепой доверенности. И разве вы когда-либо замечали за мной нечто подобное? заставали меня за чтением или просмотром писем на вашем столе? Ах, сударыня, вы плохо изучили мой характер, если вы полагаете меня способным на такую низость! Если же это подозрение мнимое, и за ним стоит намерение совсем иного рода, то я сожалею, сударыня, что вы не избрали какого-нибудь другого предлога, потому что г-н Панаев хорошо знает мои принципы и совершенно во мне уверен.
Понедельник, 13 июня 1821.
Завтра мы отправляемся на дачу. Я очень рад: это послужит мне в глазах г-на Пономарева извинением в том, что я перестану у них бывать столь часто.
Вчера в час пополудни я сам отнес мой ответ Madame. Я выбрал именно это время, чтобы показать ей, что слишком ценю ее, чтобы оправдываться перед ней лично, и что настолько уверен в моей невиновности, что не собираюсь избегать встречи; я знал в то же время, что их не будет дома; хозяин сказал мне еще в пятницу, что в воскресенье они не будут обедать у себя. Таким образом я сумел согласить долг почтительности по отношению к Madame с моим намерением избежать тягостного свидания, во время которого я мог вспылить и наговорить ей неприятностей, — а я не хочу пренебречь почтением, которое к ней сохраняю. Письмо скажет все; я передал его в конверте, запечатанном домашней печатью, единственному слуге, которого я отыскал. Лучше было бы переслать его с горничной, но ее не было.
После обеда я пошел к Измайлову, который накануне обещал повести меня к знаменитому Ганину, у которого по воскресеньям музыка и т. п. Измайлов, однако, нарушил обещание: он не обедал дома и еще не вернулся. На обратном пути я зашел к Панаеву, которому лучше, и пил с ним чай. Он принял меня дружелюбнее, чем накануне. Мы говорили о Madame, и за разговорами о том о сем я пробыл у него до одиннадцати часов. К нему зашел и Яковлев. Он рассказывал много о священнике Мансветове, и я укрепился в хорошем мнении, которое о нем составил.
Возвращаясь от Панаева, я провел часок у Амелии, которая тщетно рвалась ко мне три последних месяца. Я посмеиваюсь над собой: я каждый раз мщу самому себе за несправедливости, которые мне достаются. На Украине, в Польше, после неудач с женщинами хорошего общества, я бросался в объятия куртизанок, словно для того, чтобы отомстить за свои собственные чувства. Амелия, однако, исключение: она хороша собой, скромна, даже чувствительна, как хочет показать; ее личико, хорошенькое на немецкий лад, ее фигура, тоненькая и грациозная, хорошие волосы, красивая грудь могут внушить иллюзии за неимением лучшего. Она была очень рада меня видеть, но заметила, что я очень рассеян.
Я был слишком благоразумен в последние три месяца; я пожертвовал своими удовольствиями, укрощал свой бешеный темперамент в угоду человеку, который над этим смеялся. Теперь поговорим о глупостях, попытаемся забыться, вкусив из чаши легких наслаждений, и оставить соблазнительные мечты о воображаемом счастье. На этих страницах, где я рисую себя таким, каков я есть на самом деле, и которые никто не прочтет, по крайней мере, до моей смерти, мне нет надобности притворяться.
Вторник, 14 июня 1821.
Все утро вчера я писал. Около двух часов, однако, вышел подышать воздухом в саду. Там я встретил графа Хвостова, который морил и мучал меня переводом своего послания; он угрожал мне приехать в деревню к князю и привезти мне несколько экземпляров перевода Сен-Мора.
К 7 часам я пошел в общество Соревнователей, чтобы до открытия зайти к Булгарину и Яковлеву: мне нужно было поговорить и с тем, и с другим. На Большой Мещанской встретил полковника Норова на дрожках; он ехал ко мне или, если не застанет, к Измайлову, чтобы вместе ехать на акт его принятия у Соревнователей. Я сказал ему, что он прибыл слишком рано, так как заседание начнется лишь в 8 часов, и пригласил его с собой к Булгарину, которого мы нашли в обществе двух поляков-литераторов. Немного спустя к нему пришли Воейков, Греч, Гнедич и Николай Бестужев, и мы вместе отправились в общество. На лестнице бедный полковник упал, поскользнувшись деревянной ногой на отполированном камне. На заседании Гнедич прочел нам превосходную речь, очень патетическую, где благодарил общество за принятие его в действительные члены. Он произносил ее с большим жаром и с тем искусством декламации, какое никто не может в нем оспорить. Все были как наэлектризованы, я был весь внимание. Речь длилась довольно долго, но я хотел бы, чтоб она была вдвое длиннее. Его выбрали вице-президентом Общества.
После того, как заседание окончилось и были избраны члены правления на наступающий семестр, общество прервало свою деятельность на полтора месяца. Гнедич, Греч, Баратынский, Глинка, Дельвиг, Лобанов и я пошли на чай к Булгарину. Собрание было очень оживленным; болтали, рассказывали анекдоты и т. п. Гнедич спросил меня, не обедал ли я сегодня у его тетушки? Я отвечал, что нет. — Но там же званый обед. — Я заранее знал, что не буду приглашен. — Почему? — Madame сердита на меня. — Она успокоится со временем; это у нее долго не длится. — Согласен; но у меня тоже есть причины являться туда как можно реже.
Лобанов был на этом обеде. Он говорил, что был только он с женой и толстяк Крылов.
Когда все разошлись, мы остались втроем: Булгарин, Глинка и я. Я читал им мои стансы на Свободу; они нашли их хорошими, но советовали никому не давать списывать.
Вернулся я домой после двух часов.
<……………………>
15 июня 1821.
Первая ночь, которую я провел на даче, была очень приятна. Вчера я приехал сюда с княжнами около 9 часов. Проезжая мимо дверей Яковлева, я велел остановить экипаж и на минуту зашел к нему извиниться, что не мог ждать его днем. Я спросил, нет ли чего нового о г-же П…вой. Никаких следов жизни: кажется, что нас обоих намерены забыть. Правда, мое письмо было немножко резкое, — но я был оскорблен несправедливостью, мне сделанной. Можно ли думать, что я позволю себе недостойный поступок, и писать мне об этом в таком тоне, как если бы это было установленной истиной? И какая мне надобность читать эти проклятые бумажки? Какой мне в них интерес?
Приехав, мы совершили прогулку по даче. Г-жа Головина приняла меня со своей обычной любезностью. Немного спустя пришли обе княжны. Мы все вместе еще прогулялись до большого канала. Я передал г-же Головиной приветы от молодых Дурновых, а она не упустила случая осведомиться о г-же Пономаревой; в вопросе звучала легкая насмешка. Я сказал только, что давно ее не видел и не рассчитываю скоро увидеться. Она дала мне понять, что размолвки только укрепляют узы, привязывающие к предмету любви, — в чем я сильно сомневаюсь, хорошо зная свой характер.
* * *
Мы можем теперь ненадолго оставить Сомова, пропустив несколько страниц его дневника. Он побывал на карусели, устроенной князем по образцу тивольских; он проводил вечера в обществе молодых княжен и г-жи Головиной, как видно, несколько заинтересованной его сердечными делами — из чисто женского любопытства, потому что у них установились приятельские отношения без тени интимности… Обо всем этом он писал отчеты в дневнике, — отчеты подробные, но не разнообразные. Он пробыл на даче четыре дня: с 15 по 19 июня; двадцатого, в понедельник, он вернулся в город. В эти дни в доме Пономаревых происходили события весьма примечательные, — и то, что Сомов ни словом не упомянул о них, кажется на первый взгляд немного странным. Дело в том, что 10 июня, — в то самое время, когда он переходил от надежд к отчаянию и обратно, разрывал отношения, принимал вид холодности и на коленях умолял о прощении, — в этот самый день некий учредительный комитет образовал у Пономаревых дружеское литературное общество.
По своему положению в петербургской литературе и в пономаревском кружке Сомов должен был войти в общество сразу же по его возникновении. Но обстоятельства сложились так, что он не только не был среди учредителей, но, скорее всего, ничего не знал и о самом замысле. Десятого июня он был у Пономаревых в последний раз и ушел рано, а затем предпринимал тщетные попытки рассеяться. Он приехал за два дня до первого объявленного заседания новорожденного литературного объединения, которому предстояло сыграть в истории русской словесности если не выдающуюся, то во всяком случае заметную роль.
Глава V «Сословие Друзей Просвещения»
…Новый год собственно для нас должен отныне счисляться с 22 июня, яко со дня открытия нашего Общества.
Этот кружок, получивший поначалу название «Вольное общество любителей Премудрости и Словесности», — по образцу уже действовавших в Петербурге обществ, — довольно хорошо известен; история его рассказана в нескольких специальных статьях; о нем постоянно упоминают биографы Кюхельбекера, Дельвига и Баратынского. Опубликован и первый из сохранившихся его документов: «Представление» «госпоже попечительнице», подписанное Измайловым, двумя Княжевичами, Остолоповым и Панаевым: полубуффонское-полусерьезное обращение, в котором собравшиеся члены ссылаются на «постановление комитета» от 10 июня, в силу которого они обязаны представить для чтения свои труды к 22-му текущего месяца, — и подтверждают свое обещание, замечая, однако, что просят не посягать на их «законную свободу», — словечко, весьма популярное в политической жизни начала 1820-х годов. Члены умоляли «не чинить им ни малейшего принуждения, а кольми паче насилия, как то: не отбирать у них шляп, сертуков и прочих вещей, необходимо нужных для возвратного путешествия, и не запирать самих членов как преступников: в противном случае столь благонамеренное сословие, каковым должно быть Вольное общество любителей Премудрости и Словесности, непременно разрушится при самом своем учреждении»[603].
Общество начиналось с шутки, проказы, салонной игры. Так начинался и «Арзамас», — но «Арзамас» уже при самом возникновении своем знал, что решает литературные задачи, лишь облекавшиеся в форму буффонады. Здесь же литература занимала положение подчиненное; она не поднималась над бытом и не вырастала из него, а как бы снисходила; так известный поэт по неотступным просьбам пишет в альбом знакомой барышне незначащий мадригал. Мы можем представить себе, что капризная «попечительница» арестовала на своей даче учредительный комитет, заперев шляпы членов в дождливую ночь, и требовала немедленного литературного собрания, что гостям показалось уже слишком. Среди измайловских мадригалов есть один, несомненно относящийся к этому эпизоду, происшедшему, нужно думать, как раз 10 июня:
Пародия
С. Д. П
Мы тебя любим сердечно, Любим — любить будем вечно. Наши зажгла ты сердца — Ах! ты достойна венца! Ходим к тебе в непогоду — Молви — и бросимся в воду. Этот с тобою нам край Кажется рай, рай, рай!.. Только нам шляпы отдай!!![604]Обо всем этом нет никаких упоминаний в дневнике и письмах Сомова. Конечно, его не собирались отстранять от участия в обществе, — оно предполагалось само собой. О нем просто забыли на этот раз, — забыли невольно, а может быть, намеренно. Он был докучным вздыхателем и вызывал досаду. Он подлежал временному отлучению.
Длился звездный час Владимира Панаева.
Он должен был написать по требованию хозяйки акростих «Китайский урод» — на статуэтку, стоявшую в гостиной. Здесь, конечно, был особый смысл, отчасти угадываемый из писем Сомова: он обижается, что его третируют, как «китайского уродца», — прекрасно, она заставит его соперника воспевать уродца стихами. Панаев, со своей стороны, может быть, видел в заказе и некий намек: немногим более двух недель назад он хвалил в альбоме Софии ее слегка монголоидную красоту, «маленькие китайские глаза», чьи взоры равно опасны и юношам, и старикам. Но он не стал развивать далее эту тему. Он написал:
Как я соскучился по вас! И можно ль иначе? Чем более вас знаю, Тем, право, более люблю и почитаю. Ах, видно, в добрый час Идиллии писать, потом предать тисненью Со страхом пополам решился робкий я. Коль многим одолжен я музы вдохновенью! Они и на Парнас, и к вам ввели меня. Умею ль вашею приязнию ценить? Решит, докажет время. От доброго на свет произошел я племя: Долг благодарности старались мне внушить.Извините, если дурно: что путного сделаешь из Китайского урода?[605]
Под стихами дата: «14 июня 1821». Мы помним по письмам Сомова, что как раз в эти дни на него обрушился гнев хозяйки, подозревавшей его в похищении каких-то панаевских писем. Итак, «роман в стихах», гласный, публичный, альбомный, но с тем самым вторым смыслом, о котором нам уже приходилось упоминать, совершенно естественно сопровождался перепиской, не предназначенной для посторонних глаз. И здесь не было никакого криминала, — лишь этика салона 1820-х годов, с ее своеобразным «domnei», культом дамы и любовного чувства. Мадригал Панаева отвечал всем правилам «служения»: он был декларацией почтительной благодарности и потому мог при желании служить уроком Сомову и другим, например Яковлеву.
Впрочем, это были не единственные стихи, написанные Панаевым Пономаревой в те же июньские дни.
Второе его стихотворение — «Элегия», посвященная всему Обществу любителей Словесности и Премудрости, — было прямо связано с той самой болезнью, о которой упоминал Сомов в своих июньских записях. Болезнь была не опасна, но мучительна. Почувствовав облегчение, Панаев уже мог подшучивать над нею в стихах:
Напрасно изливал я миро пред богами, Обильный возжигал бессмертным фимиам: Дым жертвы не достиг ко гневным небесам…Увы, бессмертные покарали несчастливца прозаическим недугом:
И я, отверженный, я мучусь все — зубами!Он рассказывал в стихах о трехдневных страданиях, о бессонных ночах, о единственной пище своей — чае и о бесполезных окуриваниях ромашкой и камфорой; он предупреждал против неумеренности и неосторожности любителей сладкого и охотников беспечно гулять по садам и дачам в холодную погоду[606]. Все это было не более чем шуткой, но вот что не было шуткой: Софья Дмитриевна была весьма обеспокоена его состоянием. Мы знаем об этом потому, что через пять с лишним лет он напечатал другое стихотворение, поставив под ним дату «1821» и назвав «К вылечившей меня от жестокой зубной боли»:
Напрасно я искал страданьям облегченья У щедрости аптек, у мудрости врачей — Ты, ты одна была виною исцеленья! Твоей — решительно ничьей — Я помощи обязан! Взгляни: по-прежнему и весел я и жив, В речах, в движениях развязан; По-прежнему в моих желаньях прихотлив… Но как понять твое чудесное искусство? Что кажется простей лекарства твоего? «Ах, недогадливый! как не понять того? Я в эту скляночку мое вдохнула чувство!»[607]Это уже стихи не о зубной боли, а о силе симпатии, привязанности, «чувстве» — любовном чувстве, в котором автор стихов, кажется, уже не сомневается.
Тем временем Сомов появляется в Петербурге.
ДНЕВНИК О. СОМОВА
21 июня. Вторник, 11 часов утра.
Я вернулся в город в понедельник в 11 часов и сразу же отправился к Норову, но он уже ушел. Затем я пошел в амортизационный банк и провел там больше часа с г. Головиным. Выходя из банка, я зашел посмотреть, что делается у Сленина. Ничего нового. Я пообедал у Головина; мы были только вдвоем.
Сразу же после обеда я пошел к г-же Пономаревой, чтобы посмотреть, как она меня примет. Она готовилась сесть за стол с мужем, братом и Панаевым. Вначале она встретила меня холодно, но потом мы помирились. Я все же упрекнул ее за записку, которую она мне написала; она попросила эту записку и разорвала ее. Я бросился перед ней на колени, прося у нее прощения за письмо, которое написал по этому поводу, умоляя разорвать и его, но она ответила мне, что сохранит его, как и все, которые получала от меня. Я больше не настаивал, но сказал ей, что очень огорчен потерей ее записки, потому что она была единственной, которую я имел счастье получить от нее. Она ответила, чтобы я не терял надежды получить другие. Я был очень весел, даже слишком весел, — и по этому поводу ее брат заметил, что в жизни не видел более беззаботного малого. Так как это был день обручения ее сестры с г-ном Андреевым, Madame предупредила меня, что должна идти к ним, и я, видя, что Панаев тоже приглашен, ушел рано. Я собирался нанести визит адъютанту Дурново, но не застал дома ни его самого, ни его брата. Таким образом я принужден был вернуться домой по сильному дождю, который промочил меня до костей. Неважно, у меня было несколько приятных минут. Не знаю, смогу ли я сдержать обещание, данное Madame, провести среду у нее; я сделаю это с удовольствием, если ничто не помешает.
На среду 22 июня было назначено заседание общества.
Сомов, кажется, не придал значения этому приглашению и не пришел. Вероятно, с самым замыслом его познакомили лишь в общих чертах, — а может быть, он был настолько поглощен перипетиями своих отношений с хозяйкой, что не мог думать и писать ни о чем другом. Как бы то ни было, первое заседание прошло без него, и хозяйка была уязвлена; в протоколах значится, что Измайлов отсутствует «по болезни», а Сомов — «по неизвестной причине». Присутствовали Панаев и оба Княжевича.
В этом заседании члены впервые были записаны под шуточными псевдонимами. Здесь также скрывалось подражание «Арзамасу», — и также обозначалась разница. Новый дружеский кружок не обладал арзамассской способностью к «галиматье» вдохновенной, артистической, перехлестывающей через край, когда Уварова именовали «Старушкой», а Дашкова — «Чу». Здесь прозвища были благопристойны, галантно значащи, — в духе XVIII столетия. Пономарева именовалась Мотыльковым, Аким Иванович — Бесединым, Измайлов — Басниным, Панаев — Аркадиным, как идиллик. Остолопов, работавший над словарем древней и новой поэзии, получил псевдоним Словарев; Д. Княжевич, собиравший синонимы («сосло-вы») для своего словаря, — Сословин или Сословов, братья его были Софьиным и Юльиным. Когда из Бухары приехал П. Л. Яковлев, он стал подписываться Узбек. Сомова обозначили Стрункиным, но псевдоним требовал большей поэтичности, — и он стал Арфиным. Самое же название общества должно было заключать в себе имя хозяйки салона, и потому в нем было слово «Премудрость» (София); окончательное же название — «Сословие Друзей Просвещения» — давало в аббревиатуре ее инициалы: «С. Д. П.».
В добропорядочности этих продуманных домашних шуток было что-то коллежско-асессорское.
На первом заседании было читано вышеупомянутое «Представление», а затем речь «попечителя» по случаю открытия общества. Текст этот сохранился, и мы прочтем его: это одно из немногих дошедших до нас сочинений Софьи Дмитриевны Пономаревой.
НОВЫЙ ГОД
РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ОБЩЕСТВА
Извините меня, почтенные члены общества Любителей Премудрости и Словесности, естьли вступая на поприще литературы, буду оспоривать общее мнение, что Новый год счисляться должен не с 1-го Генваря.
Будучи совершенно с сим несогласен и следуя правилам тех Обществ, которые вопреки истин, принятых целым светом, проповедывают свои собственные — я беру смелость утверждать не токмо пред лицом ученых, полуученых и неученых, но даже лицом Вашим, милостивые Государи, что Новый год собственно для нас должен отныне счисляться с 22 июня, яко со дня открытия нашего общества.
Такова воля моя — да увенчает ее Ваше согласие!
Попечитель Мотыльков[608].Потом читался акростих Аркадина — Панаева и его же «Элегия», посвященная обществу, и сочинения и переводы Остолопова и Княжевичей. Почти все они — кроме акростиха, конечно, — были напечатаны затем в 11–12-й книжках журнала Измайлова «Благонамеренный».
Сочинения было определено хранить в архиве общества. «На будущее заседание назначено: г. Попечителю избрать предмет по собственному его произволению; господам членам: [Стрункину] Арфину — „Судьба“, Баснину — „Армида“, Сословину — „Молва“, Софиину — „Сон“, Аркадину — „Анекдот“, Словареву — „Выбор любезной“». Собрание назначалось на середину июля. Общество решило обзавестись и собственной печатью — с изображением семи звезд с Минервиным — Софииным — шишаком посредине[609].
На следующий день прочитанные сочинения были препровождены к больному Баснину — Измайлову, вместе с журналом, «с тем, чтобы оные по миновании надобности возвращены были для хранения при делах означенного общества». «При сем нужным почитаю сообщить вам, — писал „секретарь общества Беседин“ — А. И. Пономарев, — что Общество приняло за правило заданные предметы непременно обрабатывать к назначенному времени, в случае же болезни или непредвидимых других обстоятельств сообщать труды свои не позже следующего заседания на имя секретаря Общества, которо<му> сверх того предоставлено право в случае отсутствия какого-либо члена за оного задавать темы и вынимать билеты»[610].
Это письмо очень интересно: оно показывает, как салонный быт становится на грань литературно-профессионального.
«Билеты», заранее назначенные темы, — все это принадлежит салонной «игре». Но уже из списка тем совершенно ясно, что не только «г. Попечитель», но и другие члены выбирали иной раз темы «по своему произволению», — так, «Анекдот» Панаева, прочитанный в следующем заседании, был «анекдотом» «из английской истории Х века»; конечно, ему было известно заранее, что именно он намерен читать. Другие темы были, действительно, заданы. Мы говорили уже, что Измайлову не удалось справиться с темой «Армида», а Сомов, помимо «юмористического рассуждения» «Судьба», представил еще и другую статью, которая впоследствии и была напечатана, в то время как «Судьбе» — весьма посредственному нравоописательному сатирическому рассуждению — суждено было остаться среди бумаг общества. Литературная продукция домашнего кружка не могла переходить на страницы журнала без отбора и в своем первозданном виде, и «заказанные» темы, подобно буриме или стихам на заданные слова, должны были остаться достоянием домашних альбомов. И вместе с тем несомненно одно: Общество предполагало давать материал для Измайловского журнала.
Вероятно, это и было решено в том заседании, когда Софья Дмитриевна отобрала у участников шляпы.
Отсюда и требование — обрабатывать материалы непременно к назначенному времени, за чем должен был следить секретарь. Отсюда и специальное извещение, посланное Измайлову вместе с материалами вплоть до «минования надобности». Все это было уже серьезно.
«Благонамеренному» не хватало сотрудников. В Петербурге было два литературных общества и два журнала — «Соревнователь просвещения и благотворения» и «Сын отечества», и уже намечались первые признаки конкуренции, которой вскоре предстояло перерасти в настоящую журнальную войну[611].
Почти все участники пономаревского кружка, — собственно все, кроме самой хозяйки и ее мужа, — входили в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, а некоторые — и в общество «соревнователей»: и печатались в трех журналах. Сейчас создавался маленький обособленный литераторский мир, помогавший только Измайлову. Здесь не было заранее продуманного плана: все устраивалось само собой.
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
7 июля 1821. На даче.
Семнадцать дней не видеть вас, сударыня! Судите же, как должно быть растерзано мое бедное сердце. Тысячу раз я уже готов был идти, бежать, лететь к вашим ногам, но враждебный гений каждый раз изобретал какие-то досадные помехи, какие-то обстоятельства, которые тут же являлись, чтобы расстроить мои намерения. В довершение всех несчастий князь подвернул ногу и не мог выходить из комнаты, а я, его компаньон в делах и несчастьях, должен был оставаться прикованным к изголовью его постели. Наконец я пользуюсь первым благоприятным случаем, я бегу, я лечу, чтобы упасть ниц перед моей повелительницей и принести ей клятвы в верности и почтении — столь многократные и искренние.
Не подумайте, однако, сударыня, чтобы это прискорбное отсутствие уменьшило, ослабило чувства к вам, которые наполняют мою душу! Вдали от вас, быть может, забытый, изглаженный из вашей памяти, я посвящал вам самые драгоценные свои мысли, такие, которые я больше всего лелею в своем воображении: я жил, я дышал только будущим, только надеждой однажды сообщить их вам. Удаленному от вас, мне всегда сопутствовал ваш образ: я читал только те книги, о которых мы говорили с вами, только те, которые вы были добры мне дать. Я стал более благочестив, я горячо молюсь два раза в день — и все для того, чтобы чаще повторять ваше имя, которое я помещаю в своих молитвах. Вы угадаете без труда, что ваш образ теперь витает надо мною как ангел-хранитель, и если бы я захотел когда-либо увидеть того ангела, которого милосердый бог дал мне при моем рождении, я бы хотел, чтобы он явился мне в вашем облике: к нему бы я обращался, его бы особенно любил. Мне нравится здешнее уединение, потому что я здесь наедине с вами. Я воображаю еще себя подле той, кого обожаю, восхищаюсь ее прелестью, талантами, любезностью; я представляю ее себе в разных видах и формах, во всем разнообразии настроений, которое ей свойственно. То мне кажется, что я вижу, как она смеется, я слушаю ее милый оживленный лепет, где ум просвечивает сквозь покров веселости, которым она хочет его скрыть, — то слушаю, как она поет арии, которые я так люблю и которым она придает своим голосом еще большее очарование; я весь превращаюсь в слух, я не смею дышать, боясь упустить малейший звук, малейшую модуляцию голоса. По временам я слышу, как она рассуждает о литературе, обнаруживая тот чистый вкус, точность и такт в суждениях, какие ей свойственны. Иногда я поглощен созерцанием ее внешних совершенств, — и ничто тогда от меня не ускользает: благородное одухотворенное лицо, черты, которые для меня есть воплощение идеальной гармонии, счастливое сочетание красоты и прелести, чарующая улыбка, глаза, которые огнем охватывают смельчака, посмотревшего в них, сверкающая белизна кожи, кожи столь нежной и тонкой, прелестная маленькая ножка, настолько изящная, что, кажется, сами грации слепили ее по своему образу и подобию, прекрасная грудь, престол любви и сладострастия… глаза мои блуждают, ласкают все изгибы этого обольстительного тела, мое воображение увлекает меня, я теряю голову, я пылаю, горю, я уничтожен порывом жгучей страсти, моими столь соблазняющими мечтами!..
Увы! сколь печальна та действительность, которую я вижу вокруг себя, как только я решаюсь спуститься на землю, покинув эти прекрасные области фантазии, куда занесло меня мое воображение! Я один, в пустыне; красоты природы не впечатляют меня, красоты искусства еще менее!
Я говорил вам однажды, сударыня, что меня часто посещают идеи, не имеющие, кажется, ничего общего со здравым смыслом. Здесь, вдали от вас, и еще того хуже. Вот одно из тех заблуждений необузданного воображения, которое пытается работать, когда действительность не предоставляет ничего лучшего. Я упрекаю природу и мою несчастную звезду теперь уже не за то, что они не создали меня красивым и одаренным, но за то, что они не наделили меня безобразием и уродством. И вот почему: вначале бы вас оттолкнула моя внешность; затем вы стали бы сравнивать свое совершенство с моим уродством; вас поразил бы контраст; вы сказали бы: почему это существо столь безобразно, в то время как я столь прекрасна? почему ему суждено отвращать от себя всех, а мне только привлекать… и вы пожалели бы меня, — а в вашем сожалении заключается во всяком случае больше счастья, нежели в вашем равнодушии. Вы, может быть, захотели бы утешить меня в моей несчастной судьбе, — и уже это принесло бы мне радость!.. Ах, утешьте же меня хотя бы видимостью надежды, загляните в мое сердце, прочтите в нем любовь к вам и облегчите бремя, которое его тяготит! Мои страдания могут обратиться в счастье, как только вы решитесь поверить в искренность моих чувств, — тех чувств, которые я не умею изобразить лучше, как беспрестанно твердя вам о них.
Ваш навеки О. Сомов.* * *
15 июля он явился на второе заседание общества и привез с собой «Судьбу» — уже упомянутое нами рассуждение о том, что всякий сам виноват в своих несчастиях. По-видимому, эта довольно холодная шутка не вызвала особого одобрения; в делах общества против нее сделана запись: «Требуют продолжения». Второе же читанное им произведение было много интереснее. Оно называлось «Журналист. Прогулка жителя Галерной гавани» — и представляло собою литературный памфлет.
«Смотри, — сказал он (Звонкин. — В. В.) мне, показывая одного человека средних лет, смуглого, с очками на носу, с беспорядочно разбросанными на голове волосами, — смотри, вот известный журналист Ужимкин: не правда ли, что эта рожа с первого взгляду не располагает в свою пользу? Если справедливо, что лицо есть зеркало души, то можешь судить об этом человеке по первому взгляду: кажется, печать отвержения положена на нем, как на челе Каина; кажется, природа хотела сказать людям при самом его сотворении: „берегитесь!“ Всмотрись в эту улыбку: она как будто шепчет каждому: „я тебя ненавижу!“ Он смеется надо всем, смеется над логикою, усиливаясь доказать, что черное бело; смеется над языком и грамматикою, делая против них, как бы умышленно, непростительные ошибки; смеется над красноречием и стихотворством, называя в них превосходным то, что другие едва признают за посредственное; наконец, смеется над своими друзьями, которых хвалит наоборот, выказывая их публике с невыгодной стороны. Зато гораздо лучше и полезнее иметь его неприятелем, нежели другом: ибо, желая вредить явно, он имеет оплошность открывать слабую свою сторону, в которую противник его может смело наносить ему удары… Смотри, смотри, как он рассыпается в учтивостях перед сим мужчиною, который имеет такую благородную наружность! Бьюсь об заклад, что он в душе своей не терпит этого человека…»[612].
Описание было портретно. Уже один внешний облик журналиста Ужимкина безошибочно указывал на Александра Федоровича Воейкова, тогда сотрудника Греча по «Сыну отечества», уже бывшего с ним на грани разрыва. Памфлет был настолько прозрачен, что напечатать его было невозможно.
Литературные споры и ссоры проникали в маленький кружок любителей премудрости.
Измайлов читал «Описание сада Ганина», много позже, уже после его смерти, напечатанное в Собрании его сочинений, и «Губу» — «на заданные слова». «Губу» он поместил все же в «Благонамеренном», — и на печатных страницах отпечатлелась та «домашняя шутка», о которой мы уже упоминали в начале нашего рассказа.
«Слушай, Иван! Ты выводишь меня из терпения. Спрашиваю тебя в последний раз: хочешь ли ты жениться на Губиной?
— Не хочу! не хочу! не хочу!»
«Любимая поговорка г-жи Мот…ой, — гласит примечание, — председательницы дружеского литературного общества, в котором читались, между прочим, и сочинения на заданные слова»[613].
Сочинения «Армида», как мы уже говорили, он не представил.
Одно произведение — сказка Словарева (Остолопова) «Выбор любезной» — не было одобрено.
Но едва ли не интереснее всего, что сама «г-жа Мотылькова» выступила на этот раз в роли автора, — точнее, переводчика. Первой главы «Вакефильдского семейства», переведенного ею начала знаменитого романа Гольдсмита, в бумагах общества нет; однако, судя по тому, что ей было рекомендовано продолжать перевод, оно было прочитано. Нам известно уже, что Пономарева владела английским языком, что отнюдь не было обычным в те годы, — и, конечно, переводила с подлинника.
Измайлов писал в Москву И. И. Дмитриеву о литературных занятиях Пономаревой:
«Она <…> имеет необыкновенные таланты и получила отличное воспитание: знает прекрасно немецкий, французский и итальянский языки, даже отчасти латинский; переводит на русский прозою лучше многих записных литераторов; пишет весьма недурно стихи; рисует, танцует, поет и играет на фортепиано превосходно. Жаль только, что очень мало занимается и ведет слишком рассеянную жизнь»[614].
«Рассеянная жизнь» и «необыкновенные таланты» — в этом были одновременно и драма и способ существования. Иная жизнь для нее была бы невозможна, но именно рассеяние, праздность, сознание нереализованных возможностей становилось постоянным источником внутренней неудовлетворенности. Литературные занятия были выходом или иллюзией выхода, — но на систематический литературный труд она была неспособна.
И она схватилась, как за якорь спасения, за литературное общество, общество-салон, где она могла быть не то членом, не то хозяйкой.
О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
Август 1821.
Вот я снова приближаюсь, сударыня, к местам, где вы обитаете; я оставил блестящее общество, чтобы вновь поселиться под скромной крышей, которая служит моим кровом в Петербурге. Сколько радости, сколько рассеяний обещало пребывание в городе! Мои друзья, Шидловский и Туманский, вернулись, С.-Тома здесь, чтобы рассказывать мне о своих приключениях в Италии и в Испании, чтобы напоминать мне о своей прекрасной родине и время от времени докучать мне градом острот и каламбуров. Нежная дружба вновь готова раскрыть мне свои объятия; раскроет ли их любовь? Нет, — это говорит мне мое сердце, а этот прорицатель, хотя и неутешительный, никогда еще меня не обманывал. Печальная вещь надежда, когда ее испытывают бесконечно: постоянно предаешься тщетным иллюзиям, которые исчезают при малейшем дуновении действительности, и тогда сердце стенает, видя, как разрушаются сладкие заблуждения, которые оно лелеяло.
* * *
Ваше мнение, сударыня, должно быть во всех случаях моим компасом. В последующих моих письмах я осмелюсь начать с вами разговор о русской литературе; о литературе на нашем родном языке; этот предмет не может показаться вам скучным, сударыня, — вам, которая любит творения наших поэтов и прозаиков. Итак, я обещаю выразить в них мои чувства по отношению к каждому, кто добился в наше время какой-то известности. Но умоляю, сударыня, просветите меня своими наблюдениями, помогите мне вашими познаниями; я все время буду опираться на ваши суждения, столь здравые, ваш столь безукоризненный такт, ваш столь чистый вкус. Надеясь заранее на вашу снисходительность, я почтительно приношу к вашим ногам слова любви и обожания, переполняющих мое сердце, — любви и обожания к вам, которая для меня — идеал всего прекрасного, всего возвышенного.
Навеки ваш Орест Сомов.Сомов не осуществил своего намерения систематически образовать Софью Дмитриевну в области русской словесности, — то ли оно было отвергнуто, то ли письма его до нас не дошли. Но, может быть, просто в них не оказалось надобности.
Литературное общество начинало функционировать.
Оно приобрело нового члена: «по предложению Баснина и Узбека» был принят «г. Юльин» — Александр Княжевич. Так гласит запись в протоколе, — но в записи этой имя рекомендующего важнее имени вновь вступившего.
Узбеком именовался П. Л. Яковлев, приехавший из Бухары.
Среди участников первого заседания Яковлев не был упомянут. Вероятно, это случайность: он уже свой человек в дружеском кружке, о нем постоянно говорится и в письмах Сомова. В середине июля мы видим его уже полноправным и действующим сочленом; он получает и задание — тему «Журналистика».
Нам предстоит теперь вернуться к прерванному чтению поздних мемуаров Панаева.
Мы остановились на описании любовной идиллии и сердечного согласия его и хозяйки салона, — согласия, нарушенного появлением Яковлева, который «втерся» в дом.
«Говорю „втерся“, — читаем далее, — потому что, приглашенный однажды за темнотою ночи остаться ночевать на даче, что бывало со мною и с другими, остался совсем жить у радушных хозяев»[615].
У Панаева были причины хорошо помнить детали этого эпизода. «Темнота ночи» — датирующий признак. До конца июня в Петербурге стоят белые ночи; в июньских письмах и Сомов говорит о «квартире Яковлева». Трудно представить себе, чтобы водворение его в доме Пономаревых никак не отразилось бы в сомовских письмах и дневниках; очевидно, это произошло тогда, когда в записях его стали чаще многодневные перерывы. Все указывает нам на вторую половину июля или август 1821 года.
«При всем своем безобразии, бросавшемся в глаза, — продолжает Панаев, — он был очень занимателен: играл на фортепьяно, пел, хорошо рисовал карикатуры. Тем и другим забавлял он ребенка-хозяйку, а с хозяином пил на сон грядущий мадеру. Конечно, приехавши в Петербург за несколько перед тем месяцев, он не имел собственной квартиры и жил у какого-то знакомого, но все-таки такая назойливость была наглою».
Нотки посмертной вражды к сопернику звучат в мемуарах, написанных через тридцать с лишним лет. След неизглаженного конфликта ощущается и в современной переписке:
«Яковлев напрасно совестится передо мною, — писал Панаев Измайлову 21 января 1825 года, и Измаилов спешил передать племяннику этот отзыв. — Я с удовольствием принял его рекомендацию г. Роуде; старался и стараюсь быть для него полезным. Узнав же от вас, что Павел Лукьянович в Вятке, я с нынешнею же почтою пишу к нему и прошу не церемониться со мною в подобных случаях. Что бы ни случилось с нами в свое известное время, а я, право, люблю его за прекрасный его талант, беспристрастие в суждениях и постоянную к вам приверженность»[616].
Об этом же «известном времени» напоминал Яковлеву и сам Измайлов:
«Не раздружились мы и за …vous m’entendez, je vous entends[617], а за журнальные пиэсы, не только чужие, но и мои собственные, верно, не раз-дружимся»[618].
Панаеву было известно, что «победоносное внимание» хозяйки обращается едва ли не на каждое примечательное новое лицо, — а примечательность Яковлева даже для него была вне сомнений. Но в начале августа у них нет еще оснований для прямой ссоры.
В альбоме Яковлева сохранилась запись рукой Софьи Дмитриевны:
«Il y a peu d’idées nouvelles et les idées nouvelles ne frappent que l’hom-me d’esprit — l’homme médiocre a tout vu, tout entendu».
(Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного: посредственность все видела, все слышала.)[619]
Под записью помета: «St. P. Août 1821».
Выше этих строк располагаются стихи Панаева, вписанные его рукой. Это те самые стихи на заданные слова «Любовь» и «Дружба», которые ему предлагалось сочинить к заседанию 12 августа. Они были потом напечатаны и известны под заглавием «К Кальпурнию»:
Ты говоришь, Кальпурний милый, Что наше счастье на земли Есть только призрак легкокрылый, Едва мелькающий вдали? Мой друг! мы слишком прихотливы: Желаньям нашим нет конца; Но всех ли замыслы кичливы Ведут от плуга до венца? Я сам, ты знаешь, от Фортуны Умел немногое сыскать, Одно — искусство лирны струны Моей игрой одушевлять. Я сам равно знаком с нуждою; Далек от славы и честей; Живу под кровлею простою Отшельником мирских затей. Но я обрел всему замену В Любви и Дружестве святом; Постигнул ими жизни цену; Теперь у Счастья под крылом Ищу того ж — увидишь вскоре, Что ропот твой несправедлив. Не веришь мне — читай во взоре У Делии, сколь я счастлив![620]Мы уже читали у Панаева такие стихи с двойным коммуникативным назначением и двойной семантикой: одна — для читателя журнала, улавливавшего в них горацианский культ дружбы и любовных радостей; вторая — для тех или той, кто задавал тему «любовь и дружба» и ждал ответа. Ответ заключался в последней строфе.
Самый факт появления этих стихов в альбоме Яковлева был, конечно, жестом неосознанным. Панаев записывал в его альбом последние стихи, не имея других, — стихи, читанные в обществе и, может быть, понравившиеся владельцу альбома.
Кроме Панаева в заседании 12 августа читали Яковлев — «Путешествие в дилижансе» — повесть на заданные слова (в бумагах есть также отрывок из его комедии «Оставьте мужа и с женою говорите»), Измайлов — прозаический отрывок сатирического содержания «Дарю тебя» (напечатать его было невозможно, и в рукописи стоит помета: «не будет напечатано»), Княжевичи представили переводы. В списке произведений значится вторая глава «Вакефильдского семейства» — перевод Пономаревой-Мотылько-вой — но, как и в прошлый раз, текст отсутствует. «Не доставлены» были сочинения Сомова — «Ветреность», заказанная ему в прошедшем заседании, и «Отрывок из трагедии „Мафан“».
Однако самым интересным в этом заседании были вовсе не сочинения — читанные или нечитанные. Исследователи — собственно, один А. А. Веселовский — обратили внимание на предложенные в нем проекты устава общества, но опубликовали из них только один, и не совсем точно. К этим проектам следует присмотреться внимательнее.
Один из них, названный «Предложение 1-е», был внесен самой попечительницей.
Мм. Гг.
Общество, удостоившее меня избранием в звание Попечителя, возложило на меня обязанность стараться всеми силами достигнуть предполагаемой нами цели. Основываясь на сем предложении, долгом поставляю себе не выпускать сего из виду доколе буду пользоваться вашею доверенностию, по поводу чего излагая мои предположения, прошу вас рассмотреть оные и подать свои мнения по сему предмету. Оные мнения заключаются в нижеследующем.
1-е. Сделать постановление о приеме в члены Общества, стараясь как можно более ограничить число оных.
2-е. На каком основании принимать оных.
3-е. Каждому члену предоставляется избрать предмет трудов по его произволению.
4-е. В собрании Общества никогда не говорить и не читать того, что может быть противно правительству, религии, нравственности или относиться до каких-либо личностей.
5-е. Сделать постановление, на каком основании могут печататься труды членов, читанные в Обществе.
6-е. Могут ли быть принимаемы во время собрания особы, не принадлежащие оному.
7-е. Как поступать с тем членом, который не выполнит своей обязанности?
Мотыльков[621].На полях этого «предложения» жирно, с нажимом поставлена резолюция: «Утверждено». Это шутка, — кажется, единственная в прочитанном нами документе. Все остальное необычно серьезно, — гораздо серьезнее всего, что было в Обществе до сих пор.
Два первых запроса показывают, что «Сословие Друзей Просвещения» — так стал называться кружок с третьего заседания — стояло на пороге расширения. Интимный салон готов был допустить новых членов, «стараясь» — стараясь! — возможно ограничить их число и изыскивая формальные основания для такого ограничения. По прямому смыслу этих пунктов, речь должна была идти не о приеме в дом двух-трех новых посетителей, но о некоей группе, довольно многочисленной, стоявшей у порога и, видимо, грозившей изменить самое течение литературных игр. Почему-то просто не допустить их было нельзя; можно было лишь попытаться сдержать отчасти этот напор.
Третий пункт должен был изменить тематику чтений, придав им подлинно творческий, а не галантно-мадригальный характер. Отныне буриме, альбомные похвалы, прециозные аллегории и этюды на заданные слова уступали свое место иным жанрам, более серьезным.
Четвертое «предложение» — о внутренней цензуре — было еще более важным. Итак, опасность услышать нечто противное «правительству, религии, нравственности» была реальной, и, вероятно, в дом Пономаревых уже проникало что-то, напоенное духом политического и религиозного вольномыслия, который был в двадцать первом году духом времени. Если бы это было иначе, оговорка в уставе не могла бы возникнуть.
В сочетании с другими пунктами устава оговорка эта значила и иное: салон готов был утратить свою интимную узость и приобрести черты литературного объединения, систематически печатающего свои труды. Об этом говорило следующее «предложение».
И он — вспомним шестой пункт — даже готов был подумать о том, чтобы сделать свои собрания публичными.
Все это, вместе взятое, свидетельствовало, что дилетантский дружеский кружок перерождается в Общество.
Проект этого перерождения был предложен Софьей Дмитриевной Пономаревой. И здесь есть повод для размышлений.
Кокетка, обольстительница, очаровательница, чуть что не дама полусвета, с высокомерной снисходительностью описанная Свербеевым и Панаевым, и на этот раз оказалась тоньше и проницательнее своих поклонников. Она знала цену мадригалам, на которые вызывала их сама, и сбросила мишуру салонных пустяков, как только они начали ее тяготить. Новые, не изведанные еще интеллектуальные наслаждения влекли ее к себе, и она готова была открыть для них двери; быть может, славная судьба ее предшественниц, хозяек французских салонов, уже ставших историческими, рисовалась ее мысленному взору. Здесь было самоутверждение, здесь было творчество.
И с тем же женским, капризным нетерпением, которое отличало все ее предприятия, — будь то проказы со Свербеевым, победа над Сомовым или арестование дружеских шляп, — она спешила воплотить свои планы в жизнь. Общество должно быть создано немедленно, — и даже крепнущее чувство к Панаеву не могло помешать его возникновению. Яковлев — «Узбек» рад этому содействовать — тем лучше. Она пережила короткий, но, видимо, острый интерес к личности этого человека, — интерес, за который потом заплатила дорого; но увлечение ее было, конечно, интеллектуально, хотя, может быть, слегка тронуто чувственным началом. Так произошло и с Сомовым, — что делать, она не знала иных средств. Нам неизвестно, был ли здесь «роман» или легкий флирт, — скорее последнее, — но его было достаточно, чтобы Панаев почувствовал соперника. Что же касается Яковлева, то никаких следов ответного его увлечения не осталось в его сочинениях и рисунках; он принял правила игры и начал с того, что сочинил проект приема новых членов, — проект, как справедливо заметил его первый исследователь, пародировавший масонские ритуалы и напоминавший арзамасские шуточные посвящения. Это было «Предложение 2-е», читанное на том же памятном третьем заседании 12 августа. Оно называлось «Церемониал принятия в члены Общества словесности, деятельности и премудрости». Это название в протоколах было исправлено рукой Софьи Дмитриевны: «Церемониал принятия в сословие друзей просвещения. Хранить в архиве общества и дать огласку». Ниже, карандашом: «Общество приняло название „Сословие друзей просвещения“. Внесть в прошедший журнал».
Мы приведем текст «Церемониала», уже однажды печатавшийся, но с некоторыми неточностями.
§ 1. По занятии мест господами членами, секретарь встает с своего места и говорит: София распространяется! и новый обожатель ее явился в преддверии ее храма.
§ 2. Попечитель: «Да подвергнется испытанию!»
§ 3. Секретарь: «Друг NN нашел его, скитающегося во мраке».
§ 4. Попечитель: «Да просветится!»
§ 5. Секретарь садится на свое место.
§ 6. Предложивший выходит из комнаты.
§ 7. Предложивший накрывает Кандидата черным покрывалом и подводит к дверям.
§ 8. Предложивший ударяет в дверь четыре раза.
§ 9. Секретарь: «Кто нарушает спокойствие наше?»
§ 10. Кандидат: «Слепотствующий искатель мудрости».
§ 11. Секретарь: Имя твое?
§ 12. Кандидат: Такой-то.
§ 13. Секретарь: Любишь ли ты мудрость?
§ 14. Кандидат: Люблю ее, ищу ее, поклоняюсь ей!
§ 15. Секретарь: Любишь ли ты дружбу?
§ 16. Кандидат: Ей посвящаю дни мои.
§ 17. Секр<етарь>: Отрицаешься ли славянизма?
§ 18. Канд<идат>: Отрицаюся.
§ 19. Секре<тарь>: Отрицаешься ли алмазных, бисерных, кристальных, жемчужных слез?
§ 20. Канд<идат>: Отрицаюся, отрицаюся, отрицаюся!
§ 21. С<екретарь>: Отрицаешься ли Шишкова и братии его?
§ 22. К<андидат>: Отрицаюся!
§ 23. С<екретарь>: Отрицаешься ли злоязычия Воейкова? § 24. К<андидат>: Отрицаюся!
§ 25. С<екретарь>: Отрицаешься ли гр<афа> Хвостова, подражателей и почитателей его?
§ 26. Кандидат: Отрицаюся!
§ 27. Попечитель ударяет по столу четыре раза.
§ 28. Предложивший вводит Кандидата.
§ 29. С Кандидата снимают черное покрывало и надевают белое.
§ 30. Кандидата ставят на возвышение, составленное из Тилемахиды, Рассуждения о старом и новом слоге русского языка, Садов Воейкова, Петриады Грузинцева, Эсфири Катенина.
§ 31. Предложивший говорит: «Я люблю Словесность, деятельность и премудрость!»
§ 32. Сии слова повторяет громко кандидат.
§ 32 (sic). Предложивший: Клянусь любить словес<ность>, де-ят<ельность> и премудрость.
§ 33. Кандидат повторяет клятву.
§ 34. Предлож<ивший>: Дружба к членам!
§ 35. Канд<идат>: повторяет.
§ 36. Члены встают с места, снимают с к<андидата> покрывало, окружают его, и каждый подает ему руку.
§ 36. (sic). Попечитель прикасается указательным пальцем до глаз, ушей и губ кандидата!..
§ 37. Кандидат кладет указательный палец на губы.
§ 38. Члены: София! София! София!
§ 39. Попеч<итель> и члены садятся.
§ 40. Новый член садится на назначенное ему место, на котором написана данная ему фамилия.
§ 41. Новый член говорит благодарственную речь.
* * *
Следующее «предложение» поступило от Н. Ф. Остолопова.
В Сословие Друзей просвещения
От члена Словарева.
Ум хорошо, а два лучше.
Общество наше, уже при самом начале своем оказавшее столь блистательные успехи, не обратило еще внимания своего не только на сочинение полного устава, которым бы могло оно руководствоваться, но даже упускает из вида порядок, какой надлежит иметь в принятии новых членов, ибо некоторые известные талантами и произведениями своими писатели оказывают желание разделять с нами труды свои. Конечно, делается сие не по иному чему, как следуя русской пословице тише едешь, дальше будешь, и однако ж не худо вспомнить и другую пословицу — не откладывай до завтра, что можно се-годни, — не худо вспомнить и приняться за сочинение устава.
Но как Улита едет, когда-то будет, то в ожидании сего столь нужного, полезного и без всякого сомнения многотрудного предприятия осмеливаюсь представить Почтеннейшему Обществу мнение мое касательно одного только порядка (чем богат, тем и рад), какой непременно должен сохранять желающий быть членом нашего сословия, и наконец, каким образом долженствует происходить самое принятие. Общество благоволит рассмотреть сие мнение: больше голов, больше умов.
Главнейшим же правилом в принятии членов я полагаю не отыскивать желающих, а предоставить им нас отыскивать; ибо не вода по кувшин ходит, а кувшин за водой.
Теперь приступаю к показанию статей:
О принятии в члены
[Общества любителей Премудрости и Словесности]
Сословия Друзей Просвещения.
1. Желающий обязан написать письмо к Попечителю или кому-либо из членов, либо к секретарю с просьбою о причислении его в наше Общество.
2. Письмо сие предлагается к слушанию в первое заседание. Для заседания на таковый предмет достаточно трех членов, полагая в то число попечителя и секретаря.
3. Каждый член может подавать при сем случае свое мнение; но решительное удостоение или неудостоение к принятию зависит от непременного нашего Попечителя, несмотря ни на какое большинство голосов.
4. От решительного удостоения Попечителем желающий называется уже кандидатом.
5. Получивший от него письмо уведомляет его сам или посредством Секретаря о намерении Общества принять его в члены и назначает, по общему предварительному соглашению, время, в которое должен он явиться, с объяснением при том нижеследующей принадлежащей к тому статьи:
6. Кандидат обязан при начале заседания сказать речь приветственную.
7. После сего Попечитель объявляет ему, что он принят в Общество и есть уже член оного.
8. Потом члены приветствуют нового своего сотоварища.
За сим начинается заседание обыкновенным порядком.
Член Словарев. 12 Августа 1821.Предложить <к> рассмотрению общему собранию членов.
Попечитель Мотыльков.Итак, «некоторые известные талантами и произведениями писатели» готовы принять участие в обществе, — и им-то нужно было предложить добиваться избрания. Эта мысль начинает становиться лейтмотивом всех проектов устава, — и едва ли не подлинной причиной их появления. Внимательно читая «предложения», мы, кажется, можем почувствовать, что авторы их пишут с оглядкой на «попечителя» и, повинуясь ее высказанному или угаданному желанию, готовы открыть двери для приема пришельцев, достоинств которых они не отрицают. Они озабочены лишь тем, чтобы их не было слишком много и чтобы они явились как просители, а не победители.
Сомов был, кажется, единственным, кого беспокоили вовсе другие вопросы. Его предложение касалось деятельности общества в целом. Единственный из всех он был не дилетант, а профессиональный литератор, — и был затронут уже либеральными веяниями. Он решился на маленький бунт против правил салонной игры и почтительнейше провозгласил свободу профессионального литературного творчества. Он намерен был читать на заседаниях не мадригалы, а вещи более серьезные и печатать их без всякого контроля там, где ему «заблагорассудится», например в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». И в его «предложении» уже ясно ощущались следы либеральной политической фразеологии, проникавшей и в его стихи и статьи.
В свыше утвержденное Сословие Друзей Просвещения
От члена оного Артия Арфина
Предложение
Свобода, милостивые государи! есть то божество, к которому я обращаю повседневные мольбы мои, которое есть предмет моего служения с тех пор, как чувствую цель и благо бытия моего. Я чтил ее в существе высочайшем, потому что оно свободно правит подлунным миром и зажгло священную искру свободы в душе человека, при самом его рождении; я чтил ее в любви возвышенной, в любви нравственной, потому что выбор сердца зависит от свободного идеала, душою порожденного[622]. Свобода, драгоценная свобода сделалась для меня необходимостию существенною, как воздух, которым мы дышим, как пища, которою мы питаемся. По моим чувствам, по сим понятиям вы легко убедитесь, что всякое иго — есть для меня смерть в нравственном отношении. Я прошу вас, почтеннейшие мои сочлены, обратить внимание на следующие статьи, мною излагаемые.
1-е. Выбор предметов для сочинения и занятия членов должен быть предоставлен на собственную их волю; ибо сочинение, написанное не по своему изобретению, слабо одушевляется воображением и от того бывает холодно и как бы связано.
2-е. Каждый член должен заниматься: но не обязан поставлять на срок сочинений; Общество ограничивает свои требования только тем, что спрашивает у него отчета в его занятиях, кои по важности и обширности предмета могут быть весьма продолжительны.
3-е. Обстоятельства могут попрепятствовать кому-нибудь из членов присутствовать в одном или нескольких заседаниях общества. В таком случае Общество не вправе требовать от него объяснения; ибо оно основалось и собирается по собственной воле, следовательно каждый член есть полный властелин своих действий.
4-е. Каждый член вправе печатать труды свои, читанные в Обществе, где он за благо рассудит, или даже вовсе их не печатать.
Надеюсь, милостивые государи, что сие мое предложение будет вами принято в уважение и удостоится лестного одобрения несравненного нашего Попечителя, который сам, как благое божество, мысля и действуя в духе законной свободы, конечно же, не пожелает возложить скучный ярем обязанностей на обожающих его членов Общества.
Член Артий Арфин Августа 12 дня 1821.На обороте:
Предложить на рассмотрение полному собранию членов Общества.
Попечитель Мотыльков.«Члену Общества г-ну Баснину» — Измайлову — было поручено составить правила Общества по четырем предложениям. Он выполнил свою почетную обязанность — и 16 августа в чрезвычайном собрании членов составлен протокол, гласивший:
«По предложению Г. Попечителя и прочих членов постановлено, до сочинения впредь полного Устава для сего Сословия, руководствоваться нижеследующими правилами:
I. СОСТАВ ОБЩЕСТВА.
1. Прежнее название: „Общество любителей Словесности и Премудрости“ переменяется на „Сословие Друзей Просвещения“.
2. Число членов не ограничивается.
3. В члены предлагает один только Попечитель.
4. Выбор кандидата в члены происходит посредством баллотирования, и если хотя один шар будет не в пользу кандидата, то он не может быть принят членом.
II. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
1. При вступлении в Сословие нового Члена обязывается он следовать сделанным до него постановлениям и дает в том подписку.
2. Каждый Член обязан в течение месяца представить в Сословие по крайней мере одно свое сочинение или перевод.
3. Предоставляется каждому Члену избирать предмет для своих трудов по его собственному произволению.
4. Если Член три раза сряду не исполнит своей очереди и не представит в извинение уважительных причин, — то, по предложению Попечителя и по большинству голосов, исключается навсегда из Сословия.
III. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ.
1. Сословие собирается однажды в месяц по назначению Попечителя.
2. Заседания начинаются обыкновенно в семь часов вечера и продолжаются не долее двух часов.
3. Постановляется непременным правилом не только не читать в Сословии того, что может быть противно Религии, Правительству или относиться до каких-либо личностей, но даже и говорить о таких предметах.
4. Читанные в Сословии сочинения и переводы могут быть печатаемы в периодических изданиях, но только с согласия целого Сословия и под теми именами, которые приняты членами в сем Обществе.
5. Не принадлежащие к Сословию особы допускаются в собрания оного по взаимному согласию Попечителя и членов.
6. Торжественное собрание „Сословия Друзей Просвещения“ бывает обыкновенно в день учреждения оного, 22 июня».
Протокол был писан рукою Измайлова; под ним стоят подписи его самого, Пономаревой, трех Княжевичей, Остолопова, Яковлева и Сомова. «Скрепил», как всегда, Аким Иванович Пономарев.
Измайлов постарался учесть все пожелания членов. Он несколько ограничил, правда, требования Сомова, — оставив пункт о контроле общества над печатаемыми сочинениями. Вопрос о приеме новых членов был решен с дипломатической двусмысленностью. Предлагать их могла только Софья Дмитриевна — в конце концов это был ее дом, и самое общество собиралось под ее эгидой. Но каждый член имел право вето, которое действовало при тайном голосовании. Окончательное решение тем самым зависело от них.
* * *
На этом заседании не присутствовал один член — но самый влиятельный и, быть может, самый заинтересованный в точном определении своих прав — «Аркадин»: Панаев.
Именно его воспоминания раскрывают нам подоплеку тайных споров и подспудной дипломатической работы, шедшей в недрах общества.
Панаев был бы готов еще примириться с появлением Яковлева, — но его ждало другое, более серьезное испытание.
«Подружившись с Дельвигом, Кюхельбекером, Баратынским (тогда еще унтер-офицером, — после разжалования из пажей в солдаты за воровство), он вздумал ввести их в гостеприимный дом Пономаревых, где могли бы они, хоть каждый день, хорошо с ним пообедать, выпить лишнюю рюмку хорошего вина, и стал просить о том Софью Дмитриевну. Она потребовала моего мнения. Я отвечал, что не советую, что эти господа не поймут ее, не оценят; что они могут употребить во зло, не без вреда для ее имени, ее излишнюю откровенность, ее неудержимую шаловливость. Пока дружеский этот совет, которого она, по-видимому, послушалась, оставался между нами, он ни для кого не был оскорбителен, но коль скоро, по легкомыслию своему, она не могла скрыть того от Яковлева — естественно, что приятели его сильно на меня вознегодовали».
В этом рассказе Панаева, вероятно, довольно точном фактически, есть несколько неточностей в акцентах, — весьма любопытных и частью преднамеренных.
Несколькими строками ранее он рассказывал, что лицеисты насаждали «литературное партизанство». Они, как вспоминал Панаев, «оставляя в стороне гениального Пушкина», были «по большей части люди с дарованиями, но и с непомерным самолюбием». «Ухватясь за Пушкина», они «окружили <…> некоторых литературных корифеев, льстили им, а те, с своей стороны, за это ласкали их, баловали. Напрасно некоторые из них: Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский, продолжал он, старались войти со мной в короткие отношения; мне не нравилась их самонадеянность, решительный тон в суждениях, пристрастие и не очень похвальное поведение: моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатил им визитов. Они на меня прогневались и очень ко мне не благоволили. Впоследствии они прогневались на меня еще более, вместе с Пушкиным, за то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине с ними знакомиться…» И далее шел уже известный нам рассказ о его предостережении Пономаревой.
Одну деталь в этом рассказе мы должны сразу же поставить под сомнение. Пушкин не мог «гневаться» на Панаева за его совет, потому что с мая 1820 года его не было в Петербурге. Но дело даже не в этом.
Панаев писал свои мемуары, сохраняя эмоциональную память о жесточайших литературных полемиках, развернувшихся в 1821–1823 годах, о памфлетах и эпиграммах «лицеистов» против «измайловцев», жертвой которых пришлось стать и ему самому. Его литературная репутация получила тогда чувствительные удары; самолюбие его было задето на много лет. В конце 1850-х годов он отвечал своим литературным и личным противникам и не мог удержаться от соблазна выиграть посмертно эту литературную битву. Он смещал акценты и хронологию, — то вольно, то невольно. Ординарный академик по отделению русского языка и словесности, кавалер нескольких орденов, почетный член Академии художеств и весьма видный деятель высшей бюрократии говорил о своих антагонистах с той высокомерной снисходительностью, с какой он привык — с высоты своего положения — поучать новых «самонадеянных» литераторов — хотя бы своего племянника И. И. Панаева.
В пятидесятые годы он уже не мог мыслить категориями начала двадцатых годов, когда он был начальником исполнительного стола в Комиссии духовных училищ, титулярным советником, лишь в 1823 году получившим чин коллежского асессора, и недосягаемой начальственной величиной для него был А. И. Тургенев, приятельствовавший с молодыми «лицеистами». Он уже не мог — да и не должен был — помнить, что Карамзин, Дмитриев и Жуковский, сдержанно-поощрительно отнесшиеся к его первым опытам, и были теми «корифеями», которые баловали молодых людей не очень похвального поведения. И они вряд ли тогда нуждались в его особой приязни и тем более покровительстве.
Здесь была какая-то психологическая аберрация, очень понятная в его положении. Но и это еще не все.
Знал ли Панаев, что Софья Дмитриевна Пономарева, урожденная Позняк, была знакома с лицеистами через своего брата ранее, чем познакомилась с ним? И помнил ли он, когда писал свои воспоминания, что П. Л. Яковлев, брат лицеиста первого, пушкинского выпуска, вовсе не «подружился» с Кюхельбекером и Дельвигом, а был дружен с ними еще до своего отъезда в Бухару, что он в 1818 году жил вместе с Дельвигом на одной квартире и тогда же узнал Пушкина, а немного позднее — Баратынского? И что «унтер-офицер, разжалованный в солдаты за воровство», привлек к себе внимание хозяйки салона ранее, чем он сам, «русский Геснер», Владимир Панаев?
Осмысляя события через тридцать лет, он не мог сознаться себе, что летом 1821 года он уже не контролировал положения. Новые литературные силы уже стояли у порога, и хозяйка, при всей своей любви к Панаеву, собиралась открыть для них дверь. Удержать ее не мог даже его авторитет. Панаев предпочел считать все происшедшее случайностью.
«Случилось, что в это самое время, пользуясь летнею порою, отлучился я на месяц в одно из загородных дворцовых мест. Приезжаю назад — и что ж узнаю? Приятели Яковлева введены им в дом…»[623]
Что значит «в это самое время»?
12 августа он присутствует на заседании общества. Накануне, 11 августа, было заседание Общества любителей словесности, наук и художеств, которое он также посетил и слушал там «лицеистов»: Кюхельбекер читал «Отрывок из путешествия во Францию», Илличевский — «Хлою и мотылька» и «Домового (подражание Лессингу)», Дельвиг — «К ресторатору Талону» Баратынского, — стихи, нам неизвестные[624]. Следующее заседание — чрезвычайное собрание 16 августа, как мы знаем, проходит уже без него. Он пропускает еще два заседания — 25 августа (его стихи «К Кальпурнию» читает Измайлов) и 1 сентября — и появляется только 22 сентября. Между 16 августа и 26 сентября имя его ни разу не упоминается и в дневнике Княжевича, — зато 26-го он является к Княжевичу с Остолоповым, Измайловым и другими, а 27-го с Княжевичем же проводит вечер у Деларю[625].
Нет сомнения, что его не было в городе в течение месяца — со второй половины августа до второй половины сентября 1821 года.
Глава VI Делия
Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного: посредственность все видела, все слышала.
Летом 1821 года Нейшлотский полк, в котором служил унтер-офицер Евгений Баратынский, был назначен нести караульную службу в столице.
Баратынский радовался, как ребенок. Служба в Петербурге создавала иллюзию освобождения.
16 мая в обществе «соревнователей» читались его стихи «Водопад» и «Элегия», — и он спешит записать «Водопад» в альбом Пономаревой.
В августе месяце вернулся из-за границы Кюхельбекер. Он видел Германию, Италию, охваченную революционными настроениями; из Парижа он следил, как разворачивались события в Пьемонте, где была свергнута королевская власть и провозглашена конституция. Он сочувствовал восставшим и писал стихи о «ненавистных тудееках» — австрийских войсках, подавивших затем пьемонтскую революцию. В Германии он разговаривал с Гете и Тиком, в Париже — с Бенжаменом Констаном. Констан был автором знаменитого «Адольфа» и вождем либеральной партии; он устроил выступления Кюхельбекера в парижском «Атенее», и тот читал о свободе и деспотизме так, что старые якобинцы покачивали головой, опасаясь за судьбу молодого человека. Эти лекции действительно испортили отношения Кюхельбекера с патроном его, Нарышкиным, а русский посланник потребовал его выезда. Кюхельбекер вернулся с репутацией отчаянного либерала.
Осторожность была не в его характере. Он читал в обществе «михайловцев» свои отрывки из путевого дневника и адресовал друзьям эллинофильские стихи.
Разрозненное «святое братство» вновь собирается вместе. Кюхельбекер, Яковлев, Баратынский являются к Дельвигу. Он пишет в честь этой встречи «Дифирамб (на приезд трех друзей)»:
О радость, радость, я жизнью бывалою Снова дышу! <…> Пришли три гостя в обитель поэтову С дальних сторон: От финнов бледных, Ледяноволосых, От Реина-старца От моря сыпучего Азийских песков. Три гостя, с детства товарищи, спутники, Братья мои!Баратынскому Дельвиг тогда же посвящает особое послание:
Ты в Петербурге, ты со мной, В объятьях друга и поэта!В этом послании он упоминает и о литературных недругах «союза поэтов»: о Цертелеве — «жителе Острова», «невеже злом и своевольном», и об Оресте Сомове:
Пускай Орестов уверяет, Наш антикварий, наш мудрец, Почерпнувший свои познанья В мадам Жанлис, что твой певец И спит и пьет из подражанья…[626]В 1819–1820 годах Сомов печатал в «Благонамеренном» свой перевод сочинения Жанлис «О надписях»[627].
В августе 1821 года «союз поэтов» чувствует себя в кружке «Благонамеренного» чуть что не во враждебном окружении. И именно в это время он почти в полном своем составе входит в дом Пономаревой.
У Панаева были все основания рассматривать его появление здесь как маленькую революцию, чреватую большими опасностями. Его не было в Петербурге, — и он не мог ничему помешать, а Измайлов, кажется, был слишком послушным рыцарем дамы и слишком родственно относился к своему племяннику.
Мог ли Панаев предотвратить вторжение, если бы вовремя узнал о нем? Трудно гадать об этом, — но слишком велик был соблазн общения с этой богемой, талантливой, образованной и артистичной. Она умела то, что не умел никто более. Сомов, вернувшись из Парижа, не мог бы рассказать и десятой доли того, что знал Кюхельбекер.
В августе 1821 года листы альбомов начинают заполняться записями не вполне обычного содержания. Они сохраняют следы бесед — непринужденных, иногда шуточных, чаще серьезных; вспышек неподдельного остроумия или мгновенных характерологических наблюдений. В этих застольных беседах слышится голос и Софьи Дмитриевны.
Августом помечена запись ее в яковлевском альбоме об уме и посредственности, и с ней словно перекликается рассуждение Кюхельбекера о собственном его характере, также записанное для Яковлева.
«Кюхельбекер странная задача для самого себя — глуп и умен, легковерен и подозрителен: во многих отношениях слишком молод, в других — слишком стар, ленив и прилежен. Главный порок его — самолюбие: он чрезвычайно любит говорить, думать и писать о самом себе, вот почему его пьесы довольно однообразны. Он искренно любит друзей своих, но огорчает их на каждом шагу. Он во многом переменился и переменится: но в некоторых вещах всегда останется одним и тем же. Его желание, чтобы друзья о нем сказали: он чудак, но мы охотно бываем с ним; мы осуждаем его за многое, но не перестаем быть к нему привязанными. 1821 года августа 21. СПб.»[628].
В день именин Софьи Дмитриевны он записывает в ее альбом:
Да протечет твой новый год Спокоен, как зерцало вод, Как утра час, и тих и ясен, Как чистый свод небес, прекрасен[629].Ниже этих строк выписаны стихи из послания Баратынского Дельвигу, — недавно сочиненного и в январе только читанного в «ученой республике»:
Наш жребий — положенный срок питаться болезненной жизнью, Любить и лелеять недуг бытия И смерти отрадной страшиться![630]Дух анализа, философского размышления, скептического неприятия вторгался в привычную игру. Это было необычно, неожиданно и привлекательно. Быть может, впервые хозяйка салона переставала быть простым предметом обожания. Для этих людей творчество было их органической жизнью, а не занятием в свободные от службы часы, и поле интеллектуального напряжения, созданное ими, было неизмеримо выше прежнего. И как знать? быть может, Панаев не до конца представлял себе возможности и стремления своей возлюбленной? Быть может, не Яковлев и его друзья, — а сама Пономарева была инициатором сближения, о чем она по понятным причинам остерегалась сказать Панаеву? И, быть может, оплошность ее вовсе не была оплошностью, а маленькой хитростью, приведшей к желанному результату?
Баратынский собственной рукой записывал в альбом Яковлева «Bon mots de M-e de P.» — «остроты г-жи П.»:
«M-r Baratinsky s’étant avisé de dire à table que lorsqu’il aurait des cheveaux blancs il viendrait faire sa cour à Madame, elle répondit:
— Monsieur, vous serez plutôt gris que blanc».
(Г-н Баратынский однажды сказал за столом, что, когда у него побелеют волосы, он явится ухаживать за г-жой П.; на что она отвечала:
— Милостивый государь, прежде чем быть белым, вы будете серы.) Каламбуру мог бы позавидовать присяжный бонмотист. «Etre gris»
означает также «быть пьяным».
«Elle disait aussi que l’écume du champagne ressemblait à une illusion». (Она также говорила, что пена шампанского напоминает иллюзию.)
«Шампанское похоже на хвастуна, в нем часто более пены, чем вина».
Да, она действительно была остроумна в самом точном смысле слова. Как-то она заметила о Крылове: «…писал как Лафонтень, а превзойти его ему мешала лень».
«Яковлев, — сказала Софья Дмитриевна, — расположился жить в свете, как будто у себя дома, и позабыл, что жизнь есть одно мечтание пустое».
Она знала Державина и иронически перефразировала строку из «Водопада».
«Бог так милосерд, что всякому дает по куску говядины. 10 октября».
«Говоря об Аркадине, на слова, что он молод, С. Д. возразила тем, что зато он идиллиями своими равняется Геснеру — по времени»[631].
Геснер выпустил первую книгу идиллий в возрасте 26 лет. Софья Дмитриевна помнила и это.
Удивительны эти записи, — читая их, словно слышишь обрывки разговоров стосемидесятилетней давности, видишь возбужденные слегка лица собеседников, — но до слуха доносятся лишь отдельные фразы, а память запечатлевает мгновенные снимки:
«Quelqu’un ayant dit un bon mot, Ma-me se mit à rire pour le faire sentir, on sent que la rire était fort éloquent».
«Некто сострил, и г-жа П. принялась смеяться, чтобы это стало понятным; понятно было, что смех очень красноречив…»
На ваших ужинах веселых, Где любят смех и даже шум, Где не кладут оков тяжелых Ни на уменье, ни на ум.— так будет писать Баратынский, — вероятно, по свежим следам этих вечеров.
Где для холопа иль невежды Не притворяясь, часто мы Браним указы и псалмы.Среди записей яковлевского альбома — «Bon mot de М. Baratinsky»: «Quelqu’un parlant du despotisme du gouvernement Russe. Monsieur dit qu’il planait au dessus de toutes les lois».
«Остроумное замечание г-на Баратынского. Некто говорил о деспотизме русского правительства. Г. Баратынский заметил, что оно парит превыше всех законов»[632].
Дух времени, заставлявший умы клокотать, властно врывался в дружеский кружок Пономаревой. Вспомним Ореста Сомова, писавшего стихи на свободу, которые ему советовали не давать списывать.
Старшее поколение не напрасно пыталось поставить границы разговорам против правительства и не доверяло «баловням-поэтам», в которых видело рассадников «либерального духа».
Ни в чем не следуя пристрастью, Даете цену вы всему: Рассудку, живости, уму, И удовольствию, и счастью; Свет пренебрегши в добрый час И утеснительную моду, Всему и всем забавить вас Вы дали полную свободу; И потому далеко прочь От вас бежит причудниц мука, Жеманства пасмурная дочь, Всегда зевающая Скука…[633]Салон перерастал в литературный кружок. Таких стихов не писали, вероятно, никому из многочисленных хозяек петербургских и московских салонов.
Эпоха неуклюжих полушуточных, полуканцелярских протоколов, надуманных прозвищ, архаических мадригалов оканчивалась для дома Пономаревой.
Наступала эпоха дружеских посланий.
Послания, однако, были обращены к «Калипсо», «Хлое», «Дориде». Два года назад Баратынский обронил в одном из мадригалов галантное замечание, что дружба с прекрасной девушкой «всегда похожа на любовь». Теперь он мог поверить свое юношеское глубокомыслие собственным зрелым опытом. Дружеские послания были как нельзя более похожи на любовные циклы.
Если бы Баратынский имел обыкновение выставлять даты под своими стихами, мы могли бы по ним восстановить некий абрис его внутренних взаимоотношений с Пономаревой и выстроить своего рода естественно сложившийся любовный «цикл». Но мы не знаем точно даже последовательности обращенных к Пономаревой посланий Баратынского и должны датировать их по шатким и косвенным признакам.
Мы знаем, однако, что два первых послания — «В альбом» («Вы слишком многими любимы…») и, что особенно важно, — «К…о» — существовали уже к марту 1821 года, — в первый приезд Баратынского в Петербург.
Когда написаны два следующих стихотворения, о которых пойдет речь ниже, — мы не знаем. Они были записаны в альбоме Пономаревой и были опубликованы впервые через пятьдесят лет после смерти поэта[634]. Их датируют условно, как и большинство записей альбома, — 1821 годом, иногда 1822-м. Это стихи «В альбом» («Когда б вы менее прекрасной…») и «Слепой поклонник красоты…».
Лирическая тема этих стихов уже несколько иная.
Полгода назад Баратынский в изящных мадригальных строчках выражал недоверие искренности чувства красавицы, привыкшей к легким победам. Сейчас он не доверяет себе. Его лирический герой разочарован; отвергнутый «молодыми волшебницами» в дни юности, он заменил любовь поэзией:
Огонь утих в моей крови; Покинув знамя Купидона, Я променял альков любви На верх бесплодный Геликона: Но светлый мир уныл и пуст, Когда душе ничто не мило. Руки пожатье заменило Мне поцелуй волшебных уст![635]Эта тема любовного успокоения, купленного прошлыми страданиями, проходит по нескольким стихотворениям Баратынского начала 1820-х годов, и, конечно, ее нельзя понимать как буквальное автопризнание. Но нечто подобное Баратынский полушутя говорил и самой Пономаревой: когда волосы его побелеют, он станет в ряды ее поклонников. Любовный поединок продолжался, и в нем поэт надевал на себя маску элегического героя.
Второе стихотворение еще более интересно, и нам следует прочесть его целиком.
В АЛЬБОМ
Когда б вы менее прекрасной Случайно слыли у молвы; Когда бы прелестью опасной Не столь опасны были вы… Тогда б еще сей голос нежный И томный пламень сих очей Любовью менее мятежной Могли грозить душе моей; Когда бы больше мне на долю Даров послал Цитерский бог, — Тогда я дал бы сердцу волю, Тогда любить я вас бы мог. Предаться нежному участью Мне тайный голос не велит… И удивление, по счастью, От стрел любви меня хранит[636].Баратынский привык анализировать чувство. Он делал в стихах то, что Сомов — в своих письмах. Он открывал для литературы психологическую элегию, и наблюдения над самим собой давали ему неоценимый материал. Это делало его стихи несколько холодными, — недаром он был выученик французских моралистов, расчленявших и рационализировавших душевную жизнь и как бы отчуждавших ее от ее носителя. Как и в первом стихотворении, «верить» ему здесь было бы наивно, — но поворота темы нельзя не заметить. Лирический герой колеблется; он потерял прежнюю психологическую устойчивость и определенность. Он увлечен.
И сам поэт увлечен тоже.
Было бы соблазнительно угадать в этих строках следы устных бесед. «Предаться нежному участью…» Вспомним строчки послания к Коншину: «Счастливцы мнимые! способны ль вы понять Участья нежного сердечную услугу?» Что это? Элегическая формула, поэтическое клише, нередкое в стихах пушкинской поры, — или отсылка к своему прежнему стихотворению, и как раз к тому его месту, которое должно было особенно затронуть тонкую и глубоко чувствующую женщину? Мы не знаем и никогда не узнаем этого, — но не случайно эта формула повторится еще раз, уже не у Баратынского, а у Дельвига в стихах, обращенных к Пономаревой.
Но, быть может, еще любопытнее, что на эти стихи существует лукавый и своеобразный современный отклик.
В собрании Пушкинского дома сохранился альбом, состоящий полностью из шаржированных изображений. Он вышел из недр измайловского кружка; подписями под рисунками в нем служат стихи Баратынского и Измайлова, причем последние — иногда в допечатных редакциях. Сюжеты, избранные анонимным рисовальщиком, — те же самые, что были в пародиях и сатирических баснях Измайлова.
Среди этих шаржей есть один, который должен остановить наше внимание. На нем изображен молодой франт, галантно изогнувшийся перед темноволосой красавицей. Справа от его фигуры, дышащей какой-то комической важностью, записаны стихи: «Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет» — и далее, до конца.
Это были те самые стихи из антологии, которые, как мы помним, записал Панаев в альбом Пономаревой 28 марта 1821 года и которые теперь (по-видимому, в 1824 году) были прочитаны как прямое любовное послание.
Красавица не смотрит на франта; она сложила руки на животе и всем своим видом демонстрирует равнодушие. Над ней надпись: «Предаться нежному участью Мне тайный голос не велит И удивление по щастью От стрел любви меня хранит».
Это слегка искаженные стихи Баратынского, только что прочитанные нами. Они попали сюда из альбома Пономаревой, ибо в печати не были известны.
Автором карикатур был Яковлев.
Мы можем утверждать это, почти не рискуя ошибиться, потому что на одном из соседних листов есть шаржированные акварельные портреты Кюхельбекера и Дельвига и тот же рисунок с легкими изменениями повторен на дошедшем до нас листе из утраченного альбома Пономаревой. Этот последний рисунок принадлежал Яковлеву, как и несколько других, например изображение корзины, наполненной пылающими сердцами. Подпись гласила: «Игрушки Софьи Дмитриевны»[637].
Яковлеву было отлично известно, чьими сердцами играла Софья Дмитриевна, ибо в их числе было, кажется, и его собственное. Но рисуя свою злую карикатуру, он, быть может, с умыслом, лишил действующих лиц прямого портретного сходства. Красавица на ней крупна и мужеподобна и не слишком похожа на известный нам миниатюрный портрет Пономаревой, а в ее поклоннике при желании можно узнать черты и Панаева, и Баратынского, и, возможно, еще третьих и четвертых лиц, нам неизвестных.
И подписи под шаржами сделаны не Яковлевым, а кем-то другим, чей почерк не совпадает полностью ни с одним известным нам почерком посетителей кружка.
Этот кто-то, однако, близко знал его внутреннюю жизнь и прояснил адрес яковлевской карикатуры или дал ей свое истолкование. Нет сомнения, что он намеренно выбрал стихи двух соперников — Панаева и Баратынского, — обращенные к Софье Дмитриевне, и сконструировал из них диалог, представя отношения Панаева и Пономаревой как историю отвергнутых домогательств.
Звездный час Владимира Панаева шел на убыль.
Он вернулся, как нам уже известно, в конце сентября и, по-видимому, уже не застал Баратынского: Нейшлотский полк возвращался на зимние квартиры в Финляндию. Баратынский уезжал, вспоминал Коншин, «с сердцем, разбитым и тоской, и чувствами»[638].
* * *
Тем временем новые рыцари являлись на ристалище, чтобы принять участие в поэтическом турнире за благосклонность дамы.
Осенью 1821 года в альбоме Пономаревой появляются записи Дельвига.
Нам неизвестно точно, когда он впервые вошел в пономаревский салон, и датировки его стихов почти столь же неопределенны, как и стихов Баратынского. Нужно думать, однако, что Пономарева слышала о нем еще до знакомства с ближайшим его другом; вспомним, что брат ее учился в Царскосельском лицее, — да и в измайловское, «михайловское», общество Дельвиг вступил давно, еще в январе 1818 года, а затем жил на одной квартире с П. Л. Яковлевым. Может быть, даже вполне вероятно, что он был знаком с Пономаревыми, как был знаком между собою почти весь узкий петербургский литературный круг.
Тем не менее у нас есть только одна твердая дата: 22 ноября 1821 года в обществе «соревнователей» читается стихотворение Дельвига «На смерть собаки Мальвины» и, вероятно, несколько ранее вписывается в альбом Пономаревой.
Когда были написаны эти стихи?
В «сказке» «Вор и собака» Измайлов упоминал «Гектора и Мальвину», «имена собак г-жи П-ой», которые, «конечно, с радостью умрут за госпожу» (в первой редакции было: «едва ль умрут за госпожу», но, видимо, сомнение было сочтено неуместным). В автографе означено время написания: «нач. <ато> 6 авг. 1820, оконч.<ено> 14 и 17 апр. 1821»[639]. Стало быть, еще в середине апреля эпитафия Мальвине не могла появиться.
Не была ли Мальвина той самой раненой собакой, которой Орест Сомов вечером 7 июня уступил свое ложе? Если это было так и бедное животное погибло в середине июня, то сомнительно, что поэтическое воспоминание о нем писалось в конце ноября. Скорее всего, оно относится к концу лета, когда горесть хозяйки уже притупилась, а память о преданном спутнике еще не исчезла. Как раз в это время, как мы помним, молодые поэты входят в дом Пономаревой.
Много позже, печатая эти стихи в «Северных цветах» с заменой «Мальвины» на «Амику», а Софии — на Лидию, — Дельвиг снабдил их примечанием: «Эта шутка была написана в угодность одной даме, которая желала, чтобы я сочинил на смерть ее собачки подражание известной оде Катулла „На смерть воробья Лесбии“, прекрасно переведенной Востоковым».
Итак, стихи были заказаны, — совершенно так же, как заказывались они Сомову, Панаеву или Измайлову, — они должны были включиться в длинную цепь литературных шуток, мадригалов на дни рождения, куплетов на заданные слова. Разница была в одном: Дельвигу предлагалось создать стилизацию, «подражание древним». Хозяйка салона явно следила за его творчеством и знала его поэтические вкусы. Она не ошиблась.
По прошествии ста шестидесяти лет мы не можем уже оценить в полной мере грациозность дельвиговской «шутки». Но мы в состоянии оценить то обстоятельство, что она дожила до нашего времени как литературное произведение, а не как факт массовой салонной поэзии. И вместе с тем она была порождением именно этой последней.
Смысл шутки заключался в том, что «подражание», стилизация была преднамеренной, подчеркнутой — и вместе с тем слегка тронутой иронией. Комнатная собачка, с лаем кидавшаяся на гостей, была памятна всем посетителям дома, но ее нехитрая жизнь вдруг неожиданно облеклась в одежды поэтические и мифологические; она заняла место подле псов Дианы и заливалась лаем на Марса и Зевса. То, что для похвал ее шелковистой шерсти и привязанности к хозяйке был мобилизован весь реквизит поэзии века Августа, — было забавно, как забавны были и античные эвфемизмы. «А она и пол-люстра, невинная! Не была утешением Софии». Неизбежное жеманство салонной поэзии здесь даже не преодолевалось; оно стало органическим элементом художественной шутки; оно превратилось в слегка пародийную стилизацию. Но поэту было этого мало: он приуготовлял своим читателям новый эффект. В конце своей «унылой песни» он вдруг вернулся к подлинному тексту Катулла:
Уж Мальвина ушла за Меркурием За Коцит и за Лету печальную, Невозвратно в обитель Аидову.Так птенчик Лесбии, некогда живой и резвый, бредет мрачной стезей — «per iter tenebricosum» — туда, откуда никто не возвращается. Это почти цитата, где сквозь общий шутливый тон пробивается грустная интонация древнего поэта.
…В те сады, где воробушек Лесбии На руках у Катулла чирикает[640].Вот где заключалось подлинное искусство! В двух завершающих строках полупародийного стихотворения вдруг с полной неожиданностью развертывался образ, излюбленный Батюшковым и его молодыми учениками: образ вечно продолжающейся жизни в античном Элизее, где живой Катулл держит на руках живого же, воспетого им некогда воробышка. «Подражание Катуллу» было окончено, — и оно далеко оставило за собой свой образец — востоковский перевод.
Салонная поэзия становилась поэзией в точном и высоком смысле этого слова.
Рядом с элегией на смерть Мальвины в рабочей тетради Дельвига поместилось еще одно стихотворение — «О сила чудной красоты!», оканчивающееся словами:
…Ты Явилась, душу мне для муки пробудила, И лира про любовь опять заговорила[641].Эти стихи были написаны приблизительно тогда же, когда и элегия, и также вписаны в альбом Пономаревой.
Итак, в конце 1821 года Дельвиг также оказывается в числе поклонников «Калипсо». Но будем осторожны; не станем искать в первом же мадригальном посвящении следов реального и глубокого чувства. Стихи Дельвига искусны и слегка холодны; в них — след не индивидуального, но общего эмоционального опыта, какой уже накопила элегическая поэзия. Разочарованный герой, пробуждающийся к новой жизни «мощной властью красоты», как скажет потом Пушкин, — для стихов 1820-х годов — уже общее место; большой поэт может силой таланта придать ему индивидуальное обличие, но при сравнении с другими подобными же героями иллюзия рассеется или, во всяком случае, поколеблется. Современный читатель, знающий биографию Пушкина, вычитывает в его стихах к Керн («Я помню чудное мгновенье…») историю пылкой и трогательной любви, — но в них этой истории нет; они — лишь мадригал, написанный рукой гениального мастера, и, если сравнить их с другими, выстраданными пушкинскими стихами, такими, как «Храни меня, мой талисман…» например, — сразу видно, что в них меньше лирического напряжения, что они — мастерская аранжировка общего лирического сюжета, — кстати, того же самого, что в интересующих нас сейчас стихах Дельвига.
Дельвигу предстоит еще пережить увлечение и написать о нем совсем иные стихи, — но это произойдет несколько позже.
Между тем Нейшлотский полк, в котором служит унтер-офицер Баратынский, вновь прибывает в Петербург.
Дельвиг приветствовал товарища стихотворением «Музам»:
Придите, девы, воскресить В нем прежний пламень вдохновений И лиру к звукам пробудить: Друг ваш и друг его Евгений Да будет глас ее хвалить[642].Это стихи зимы 1821/22 года: в них есть упоминание о «вьюгах и морозах».
16 января 1822 года Баратынский явился на заседание Вольного общества любителей российской словесности и читал там стихотворение «К другу». Это было, конечно, то стихотворение, которое мы знаем сейчас как послание «К Дельвигу»:
Ты помнишь ли, в какой печальный срок На дружбу мне ты руку дал впервые — И думая: по сердцу мы родные — Стал навещать мой скромный уголок? Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой Боролся я, почти лишенный сил? Не ты ль тогда мне бодрость возвратил? Не ты ль душе повеял жизнью новой? Ты ввел меня в семейство добрых Муз… [643]Да, это было правдой. Многие годы спустя Баратынский не мог говорить спокойно о том волнении, с каким он увидел свои первые напечатанные стихи, — стихи, отданные в «Благонамеренный» Дельвигом без его ведома.
«Союз поэтов» собирался вместе.
Может быть, в этот свой приезд Баратынский пишет уже знакомые нам стихи «О своенравная София…» — о веселых ужинах, где смеются над указами и псалмами. На них-то поэт «основал свои надежды И счастье нынешней зимы». Это могла быть, конечно, и зима 1822/23 года, когда Баратынский задержался в Петербурге на четыре месяца, — но, как мы увидим, за год произошли события, несколько изменившие и характер отношений, и самую тональность посвящений Баратынского. Сейчас же все сложности еще впереди, а в настоящем — радость встречи, легкое кокетство, amitié amoureuse — полудружба-полулюбовь — и те же темы, те же сюжеты, которые начинались в стихах, написанных до пятимесячной разлуки:
О своенравная София! От всей души я вас люблю, Хотя и реже, чем другие, И неискусней вас хвалю… Иной порою, знаю сам, Я вас браню по пустякам. Простите мне мои укоры: Не ум один дивится вам, Опасны сердцу ваши взоры: Они лукавы, я слыхал, И, все предвидя осторожно, От власти их, когда возможно, Спасти рассудок я желал. Я в нем теперь едва ли волен, И часто, пасмурный душой, За то я вами недоволен, Что недоволен сам собой[644].Шестнадцатого января, как сказано, он присутствует на заседании «соревнователей». Далее имя его из протоколов исчезает. Он не появляется ни на одном заседании, вплоть до середины апреля.
Он болен.
Сохранилась его записка, без даты, обращенная к Гнедичу: «Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно еще здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то электрическим воскресением обновляя его от времени до времени.
Благодарю за рыбаков, благодарю за прокаженного, Вы сделали, что все письмо состоит из одних благодарностей.
Еще более буду вам благодарным, ежели сдержите слово и навестите преданного вам Боратынского.
Назначьте день, а мы во всякое время будем рады и готовы»[645].
В этой записке идет речь о двух произведениях: «Рыбаках» Гнедича и «Прокаженном города Аосты», переведенном Баратынским из Ксавье де Местра.
«Рыбаки» были напечатаны в восьмой книжке «Сына отечества» за 1822 год; при следующей, девятой книжке подписчикам раздавался пятый номер литературных приложений — «Библиотеки для чтения», где был перевод Баратынского. Вероятно, Гнедич прислал больному книжки со своим и его сочинением, что могло произойти после 13 марта, когда «прибавления» с «Прокаженным…» вышли из типографии.
Письмо, стало быть, относится к середине марта 1822 года. Оно объясняет, почему Баратынский исчез на время из литературных кружков[646].
И оно говорит нам о крепнущих дружеских отношениях с Гнедичем, о чем в свое время еще будет речь.
* * *
В начале марта болезнь Баратынского, впрочем, уже идет на убыль. Он уже может выходить и даже обедает у Пушкиных, где приехавший И. П. Липранди рассказывает об Александре. Пьют шампанское за здоровье изгнанника[647]. А девятого марта в «михайловском» обществе Измайлов читает три его стихотворения: «Догадка», «Возвращение» и «Поцелуй»[648].
Сей поцелуй, дарованный тобой, Преследует мое воображженье; И в шуме дня, и в тишине ночной Я чувствую его напечатленье. Случайным сном забудусь ли порой, — Мне снишься ты, мне снится наслажденье; Блаженствую, обманутый мечтой, Но в тот же миг встречаю пробужденье, — Обман исчез, один я, и со мной Одна любовь, одно изнеможенье.Все стихи были напечатаны в одиннадцатом номере «Благонамеренного», получившем билет на выпуск 16 марта. «Поцелуй» носил подзаголовок: «К Дориде».
Никому из биографов Баратынского не приходило в голову комментировать это стихотворение, — и нельзя не признать, что само по себе оно не предмет для толкований. Стоит ли за ним какой-то реальный эпизод или нет, — для понимания его, в сущности, безразлично. Мы вправе предположить здесь мотив чисто литературный, тем более, что концовка «Поцелуя» явно перефразирует строчки очень известной элегии Парни — одиннадцатой в четвертой книге его «Любовных стихотворений»; той самой, которую когда-то перевел Батюшков:
На свете все я потерял, Цвет юности моей увял: Любовь, что счастьем мне мечталась, Любовь одна во мне осталась! (Элегия, 1804 или 1805).Все это так, — и вместе с тем в «Поцелуе» есть некая любовная тайнопись, которую сам Баратынский слегка приоткрыл. Она заключается в подзаголовке «К Дориде». «Дорида» — имя литературное, условное, означающее «прелестницу», «возлюбленную», реальную или вымышленную. Им можно было обозначить и Пономареву, наряду с другими именами, столь же условными: «Климена», «Хлоя», «Лидия», — но на короткий срок в посланиях 1822–1823 годов Баратынский и Дельвиг, как мы увидим далее, закрепят за Пономаревой два условных имени — «Дорида» и «Делия».
«К Дориде» — так будет называться стихотворение Баратынского, вышедшее в свет в том же 1822 году и обращенное к Софье Дмитриевне. Перепечатывая его в своем сборнике в 1827 году, он назовет его «К Делии».
Делией назовет Пономареву Дельвиг в послании к Баратынскому.
Но этого мало.
Если мы пробежим мысленно дневники Сомова, мы убедимся, что однажды уже встречались с такой психологической ситуацией.
Вспомним запись от первого июня. «Конечно же, мстя за мое равнодушие, она удержала меня у изголовья своей постели. Я потерял власть над собой… она даровала мне поцелуи, которые проникали все мое существо, с того момента я посвятил себя ей…» Этого момента совершенной победы добивалась петербургская Армида. Чем сильнее, талантливее, привлекательнее был противник, чем дольше он сопротивлялся обольщению, тем более напряженным и страстным становился поединок ума и чувства. «…Все это было лишь притворством; она видела, что оно — единственное средство приковать меня к своей победной колеснице…» Два месяца надежд, разочарований, мучений и ревности понадобилось Сомову, чтобы понять это, — и, даже лишившись иллюзий, он уже не смог справиться с наваждением.
Если бы Орест Сомов сублимировал свои чувства в аналитических элегиях, как Баратынский, он бы написал нечто подобное:
Сей поцелуй, дарованный тобой, Преследует мое воображенье.Если бы Баратынский вел дневник, подобно Сомову, мы, вероятно, нашли бы в нем запись, свидетельствующую, что в его взаимоотношениях с Пономаревой настал некоторый поворотный момент.
Но Баратынский не вел дневника, а писал стихи, которые сами собой складывались в не предусмотренный заранее любовный цикл, где канвой служила подлинная история его увлечения, очищенная от случайностей и обобщенная искусством. Этот-то цикл и интересует нас сейчас, и «Поцелуй» важен нам как поворотный момент поэтического романа.
Ибо все то, что записал потом Сомов в дневнике, не исключая побочных наблюдений и размышлений, стало предметом поэтической рефлексии в одном из превосходных любовных стихотворений Баратынского, в первой редакции названном «Дориде», во второй — «Делии», а современному читателю известном без названия, по первой строке: «Зачем, о Делия, сердца младые ты…»
Жена Баратынского, Анастасия Львовна, знала или предполагала, что эти стихи обращены к Пономаревой. В копии, сделанной ее рукой, проставлены инициалы: «С. Д. П.».
Послание «Дориде», в отличие от «Поцелуя», было напечатано не в «Благонамеренном». В узком литературном кружке, где каждый участник был вхож за кулисы, оно могло читаться как чуть что не памфлет. В воейковских «Новостях литературы», где оно появилось впервые, таких ассоциаций возникнуть не могло. «Дорида» было, как уже сказано, условное имя, а самая тема обычна — хотя бы для французской поэзии. Первые комментаторы послания указывали — и не без оснований, — что оно напоминает несколько стихотворение Пушкина «Прелестнице» (1818).
И вместе с тем Дорида Баратынского — это не прелестница, предлагающая любителям наслаждений «златом купленный восторг», — это опасная очаровательница, неотразимая и недоступная. Вероятно, впервые такой образ являлся в русской поэзии.
Зачем, о Делия, сердца младые ты Игрой любви и сладострастья Исполнить силишься мучительной мечты Недосягаемого счастья?Так начинается поздняя редакция стихотворения, освобожденная от всего конкретного и случайного, созданная через два с лишним года после того, как сама Дорида-Делия отошла в царство теней.
В 1822 году Баратынский писал иначе, и в начальных строках его послания-инвективы легко улавливаются те самые сцены, которые уже знакомы нам по поздним воспоминаниям Свербеева. Через несколько десятилетий его мысленному взору представала Софья Дмитриевна, бабочкой порхавшая в толпе вздыхателей, «возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого». Он запомнил и Баратынского в этой толпе, и тогда же, как мы знаем, его поразили мягкая элегантность и благородство его движений и разговора. Внимательный наблюдатель литературной жизни, он, без сомнения, знал и стихи «Дориде», — не приходили ли они ему на память, когда он писал свои мемуары?
Зачем нескромностью двусмысленных речей, Руки всечасным пожиманьем, Притворным пламенем коварных сих очей, Для всех увлаженных желаньем, Знакомить юношей с волнением любви, Их обольщать надеждой счастья И разжигать, шутя, в смятенной их крови Бесплодный пламень сладострастья? Он не знаком тебе, мятежный пламень сей; Тебе неведомое чувство Вливает в душу их, невольницу страстей, Твое коварное искусство.Судьба Свербеева, «несчастного Поджио младшего», Ореста Сомова и других, неизвестных нам по имени, вставала перед Баратынским.
Я видел вкруг тебя поклонников твоих, Полуиссохших в страсти жадной; Достигнув их любви, любовным клятвам их Внимаешь ты с улыбкой хладной. Не верь слепой судьбе, не верь самой себе: — Теперь душа твоя в покое; Придется некогда изведать и тебе Любви безумье роковое![649]Остановимся перед этим, быть может неосознанным, пророчеством, — о нем еще будет речь. Испокон веку отвергнутые поклонники призывали кары бога любви на головы своих неблагодарных кумиров. Но здесь пророчеству суждено будет сбыться: «любви безумье роковое» не минует и Софью Дмитриевну. Однако сейчас оно явно угрожает самому поэту.
Сей поцелуй, дарованный тобой, Преследует мое воображенье…В «Дориде» есть след пережитого и перечувствованного; строки, которые мы прочли сейчас, почерпнуты и из наблюдений над самим собой. Годом позже он напишет в послании Гнедичу:
То, занят свойствами и нравами людей, В их своевольные вникаю побужденья, Слежу я сердца их сокрытые движенья И разуму отчет стараюсь в сердце дать![650]Он не остался нечувствительным к «коварному искусству» своей «Дориды» и «Делии». Послание, написанное к ней, появилось в печати в августе; одиннадцатого числа было подписано цензурное разрешение восьмого номера «Новостей литературы». Впечатления полугодовой давности не выветрились еще из памяти поэта, — а может быть, самые стихи были написаны ранее. Еще в середине апреля он был в Петербурге; 17 числа он читал в обществе «соревнователей» свое стихотворение «Весна», где упомянул об увядающей красавице, для которой прошла пора любви. Эту же тему он развил в заключительной части своего обращения к «Дориде», где предсказывал жестокой обольстительнице такое или почти такое будущее. В конце лета он вернулся с полком в Финляндию, где его посетили Дельвиг, Эртель и Павлищев, будущий муж Ольги Сергеевны Пушкиной. Дельвиг был, вероятно, единственным, кто мог по достоинству оценить положение вещей, — и у нас есть все основания думать, что именно в это время Софья Дмитриевна занимает особое место в их откровенных беседах.
Мы можем говорить об этом с некоторой уверенностью, потому что существует послание Баратынского «Д<ельвиг>у», сохранившее следы этих бесед:
Я безрассуден — и не диво! Но рассудителен ли ты, Всегда преследуя ревниво Мои любимые мечты! «Не для нее прямое чувство; Одно коварное искусство Я вижу в Делии твоей; Не верь прелестнице лукавой: Самолюбивою забавой Твои восторги служат ей». Не обнаружу я досады, И проницательность твоя Хвалы достойна, верю я, Но не находит в ней отрады Душа смятенная моя.Эти стихи появились в печати только в 1825 году в «Полярной звезде»; написаны же они были никак не позднее 1823 года, — и, по некоторым косвенным признакам, именно в 1822 году. Нам придется убедиться вскоре, что Дельвигу также выпало на долю пережить увлечение Софьей Дмитриевной, — и не шуточное; оно падает как раз на 1823 год, и в это время ему было, нужно думать, не до рассудительных остережений; да и разговоры подобного рода в условиях любовного соперничества были бы лукавством непростительным, и даже более того. Но этого мало: в 1823 году самые отношения Баратынского с Пономаревой рисуются совершенно иначе, нежели в стихах, которые занимают теперь наше внимание:
Я вспоминаю голос нежный Шалуньи ласковой моей, Речей открытых склад небрежный, Огонь ланит, огонь очей.Так писал Баратынский в «Догадке» 1822 года, описывая «любви приметы»:
…и жар ланит И вздох случайный… Ты вся в огне..[651].Медовый месяц взаимного увлечения — и переливающиеся из стихотворения в стихотворение поэтические формулы и темы. Одну из них мы уже отметили в «Весне», также 1822 года. Вторая — в «Догадке». Третья — и самая важная — в стихах «Дориде»: «коварное искусство», — не просто формула, но поэтический лейтмотив.
Я вспоминаю день разлуки, Последний долгий разговор, И полный неги, полный муки, На мне покоившийся взор.Разлука — перед отъездом Баратынского в Финляндию.
Я перечитываю строки, Где, увлечения полна, В любви счастливые уроки Мне самому дает она. И говорю в тоске глубокой: «Ужель обманут я жестокой? Иль все досель в безумном сне Безумно чудилося мне? О, страшно мне разуверенье И об одном мольба моя: Да вечным будет заблужденье, Да век безумцем буду я…»[652]Здесь — не просто поэтическая вольность. Переписка продолжалась, — в этом трудно сомневаться: Софья Дмитриевна писала Сомову, Измайлову, возможно, Яковлеву, почти наверное — Панаеву. Но переписка была закономерной фазой литературного романа; увлечение Софьи Дмитриевны проходило, и ей хотелось больше анализировать чувство, чем взращивать его в себе. Для анализов же нельзя было найти лучшего партнера; психологическую проницательность и литературные дарования Баратынского она не раз имела случай оценить. Мы можем еще и еще раз пожалеть, что не сохранилось ни одного из ее писем; быть может, с ними утрачена для нас русская Аиссе двадцатых годов девятнадцатого века.
* * *
Баратынский оставался в Петербурге еще в июле 1822 года. Полк должен был вернуться в Финляндию к концу августа[653], но если Баратынский и уехал, то лишь на короткий срок. 21 сентября он получил отпуск, длившийся до 1 февраля 1823 года[654]. Таким образом, у него было время посетить Пономаревых, и, нужно думать, неоднократно. Ничего об этих посещениях мы не знаем и можем лишь предполагать, что он бывал там вместе с Дельвигом и что Дельвиг был тем предметом, на который теперь обратилось заинтересованное внимание Софьи Дмитриевны. Капризы «своенравной Софии» подчинялись строгому закону, который мы уже не раз имели случай наблюдать и который с художнической проницательностью схватил Баратынский в послании «к Делии»:
Зачем, о Делия, сердца младые ты…«Игра любви и сладострастья», затем поклонники, «полуиссохшие в страсти жадной», затем — охлаждение:
Достигнув их любви, моленьям жалким их Внимаешь ты с улыбкой хладной…Так было с Сомовым. Так было с самим Баратынским, — и он оставил в превосходных стихах опасный, коварный и манящий портрет Дон Жуана в женском обличье.
Он не принял во внимание лишь одного обстоятельства, которое будет важно для его, Баратынского, «читателя в потомстве». Его собственные стихи были порождением некоей духовной связи с петербургской цирцеей.
И не только эти стихи. Нечувствительно для себя он создавал целый цикл, посвященный Пономаревой. В нем было все — и острый первоначальный интерес, и влюбленность, и любовь, и постепенное угасание чувства, перерождающегося в дружескую связь. И цикл был еще не окончен.
Баратынский мог не думать об этом, — Пономарева, без сомнения, думала. Меньше всего в ней было от неистовой вакханки. И меньше всего ее привлекали блестящие кавалергарды, первые красавцы Петербурга. Ее коварное искусство обращалось на поэтов и художников, которые летели к ее дому, как мотыльки на огонь.
И в их числе был флегматичный, бледный, одутловатый и болезненный юноша, слишком полный и мешковатый для своих лет, с тонкими золотыми очками на близоруких глазах, — обладавший мягким британским юмором и абсолютным поэтическим чутьем.
Барон Дельвиг, которого Измайлов с грубоватым добродушием называл «Бар… Дель…» и преследовал шуточками в своем «Благонамеренном».
Среди стихов Дельвига есть любовный сонет с пейзажной картиной, где упоминается о созревшей жатве. Он начинается словами:
Я плыл один с прекрасною в гондоле.Эта экспозиция, вероятнее всего, не вымышлена. Вспомним поездки на дачу водой, о которых писали и Измайлов, и Сомов. Тогда это конец лета или осень 1822 года.
Я не сводил с нее моих очей, Я говорил в раздумье сладком с ней Лишь о любви, лишь о моей неволе. Брега цвели, пестрело жатвой поле, С лугов бежал лепечущий ручей, Все нежилось. Почто ж в душе моей Не радости, унынья было боле? Что мне шептал ревнивый сердца глас? Чего еще душе моей страшиться? Иль всем моим надеждам не свершиться? Иль и любовь польстила мне на час? И мой удел, не осушая глаз, Как сей поток, с роптанием сокрыться?Если этот сонет действительно посвящен Пономаревой, то он говорит об уже начавшихся отношениях. В том же, что адресат его — Софья Дмитриевна, сомневаться почти не приходится.
Он был вписан в альбом Пономаревой вместе с тремя другими сонетами Дельвига и с шутливым посвящением хозяйке. Все остальные сонеты Дельвиг читал 11 декабря 1822 года у «соревнователей» и отдал в их журнал и в «Полярную звезду», — и только этот сонет он не читал публично и напечатал отдельно в «Новостях литературы», где уже не раз печатались стихи, посвященные Пономаревой.
Автографы всех этих сонетов идут в рабочей тетради Дельвига один за другим, и рядом с ними поместились автографы «Розы», которую Дельвиг сразу же вписал в альбом Пономаревой, и «Жалобы»:
Воспламенить вас — труд напрасный, Узнал по опыту я сам; Вас боги создали прекрасной — Хвала и честь за то богам. Но вместе с прелестью опасной Они холодность дали вам…Мадригальное посвящение — десятистишие на одну пару рифм, явно рассчитанное на преподнесение и, вероятно, на узнавание. «Опасная прелесть» — выражение Баратынского — из стихов «В альбом», о которых у нас уже шла речь. Это была своеобразная лирическая тайнопись, язык кружка посвященных, быть может, след каких-то разговоров.
Я таю в грусти сладострастной, А вы, назло моим мечтам, Улыбкой платите неясной Любви моей простым мольбам[655].Возникал новый любовный «цикл». По нему можно проследить, как крепло увлечение поэта, — пока только увлечение, более или менее серьезное, производящее на свет изящные полулюбовные полумадригальные стихи.
Они создаются и записываются в альбом в то самое время, когда страницы «Благонамеренного» буквально пестрят пародиями и памфлетами, в которых упоминается имя автора и его ближайших друзей.
* * *
Самые основы литературного единения и в большом — «михайловском» и в малом — «пономаревском» обществах были потрясены, и причины тому лежали не в истории личных взаимоотношений, а гораздо глубже.
Новое, молодое поколение поэтов вступило в конфликт с «классиками». Измайлов ценил молодежь; он даже испытывал к ней нечто вроде симпатии, но с литературой их никак не мог примириться. Она была вызовом всему его литературному воспитанию. Его раздражал и язык новой поэзии, и ее темы — воспевание, как ему казалось, сладострастия и вина, — и вольнодумство поэтов — политическое и религиозное, и самая независимость их поведения, и даже дружеские послания, в которых они именовали друг друга Горацием и Тибуллом, — как всем представлялось, всерьез. Против всего этого он повел войну в своем журнале. Он ратовал сам и собирал сторонников. Не далее как полтора года назад он посмеивался над Орестом Сомовым, готовым поднять руку на Жуковского; сейчас Сомов был в числе желанных критиков и полемистов, атаковавших «новую школу». Князь Цертелев, к которому Измайлов относился неизменно иронически, был тоже допущен им в журнал и печатал в нем педантические критики и «отрывки», в которых нападал то на Жуковского, то на Дельвига, то на Баратынского, тщательно выискивая неточности словоупотребления, подлинные или мнимые. В октябре в «Благонамеренном» и почти одновременно в «Вестнике Европы» появился памфлет «Союз поэтов», подписанный «Д. Врсвъ»:
Сурков Тевтонова возносит; Тевтонов для него венцов бессмертья просит; Барабинский, прославленный от них, Их прославляет обоих. Один напишет: мой Гораций! Другой в ответ: любимец граций! И третий друг, Возвыся дух, Кричит: вы, вы, любимцы граций! А те ему: о наш Гораций![656]Имена были зашифрованы настолько прозрачно, что в раскрытии не нуждались. Сурковым называли Дельвига за сонливость. Тевтонов — был немец Кюхельбекер, Барабинский — Баратынский, и самая формула «наш Гораций» была прямо взята из его послания к Дельвигу 1819 года.
Под той же подписью: «Д. В.р. ст-въ» — позднее появится в «Благонамеренном» статья «Разговор о романтиках и о Черной речке», — памфлетный разбор элегии Василия Туманского[657].
Критики, пародисты меняли имена и обличия, скрывались за мудреными псевдонимами и анаграммами, иногда выступали анонимно. В собраниях «михайловского общества» эти пьесы не читались и не вносились в протоколы поступивших сочинении. Подпись — или отсутствие подписи — становились полемическим приемом. Почти одновременно с «Союзом поэтов» в «Благонамеренном» появляются две эпиграммы. Одна называлась «Эпитафия баловню-поэту»:
Его будили — нынче нет. Теперь-то счастлив наш Поэт!Под стихами стояла подпись: «Б. А. А. Д.» — «барон А. А. Дельвиг». Другая эпиграмма — «К портрету N. N.» — гласила:
Он, говорят, охотник спать — Однако в сто одном посланье Он доказать имел желанье, Что он охотник усыплять[658].Подписано было «Д.» — Дельвиг. Расчет был на комический эффект — читатель должен был счесть Дельвига и автором, и адресатом. Когда через тридцать лет историки литературы стали приводить в порядок поэтическое наследие Дельвига, подпись ввела их в заблуждение. В. П. Гаевский был первым, кто попытался установить подлинного автора. «…Можем утвердительно сказать, — писал он, — что надпись к портрету сочинена не Дельвигом, что нам известно из самого достоверного источника, т. е. от самого автора; эпитафия же принадлежит или Измайлову, или, что гораздо вероятнее, тому же автору».
Имя этого автора Гаевский назвал в последних частях своего труда: им был Борис Михайлович Федоров[659]. И он же был «Д. Врсвъ» или «Д. В.р. ст-въ».
Борис Федоров, «Борька», один из активнейших участников общества и журнала в 1822–1823 годах, автор нескольких десятков представленных и напечатанных сочинений в стихах и прозе. «Хвост» партии «положительного безвкусия», как писал Бестужев Вяземскому, — партии, у которой «тела нет», а голова — князь Цертелев.
Борис Федоров, сочетавший журнальный задор с благонамеренностью и богобоязненностью так, что его била дрожь, когда он читал «Негодование» Вяземского.
В 1814–1817 годах он служил в департаменте министерства юстиции, вместе с Панаевым; он стал вначале знакомым, потом приятелем, а затем, когда Панаев стал двигаться на социальные высоты, — его биографом и почтительным ценителем. Панаев не остался в долгу, посвятив Федорову несколько строк в своих мемуарах. «Наделенный от природы поэтическим талантом, страстный к занятиям литературою, исписавший бездну бумаги, бездну перечитавший, одушевленный любовью к отечеству, стремлением к добру, человек безукоризненной нравственности, нежного сердца, он пользовался покровительством Державина, Дмитриева, Карамзина, Тургенева, Шишкова и постоянно был преследуем журналистами»[660]. Как мы видим, он не только «был преследуем», но и преследовал сам.
Дельвиг не отвечал печатно, но по рукам ходили его стихи, обращенные к Измайлову:
Мой по Каменам старший брат, Твоим я басням цену знаю, Люблю тебя, но виноват — В тебе не все я одобряю. Зачем за несколько стихов — За плод невинного веселья — Ты стаю воружил певцов, Бранящих все в чаду похмелья. Твои кулачные бойцы Меня не выманят на драку…[661]Он сдержал обещание и ни разу не вступил в печатную полемику. Но он не мог отказать себе в удовольствии вывести своих противников в рукописной сатире.
Это были куплеты «Певцы 15-го класса», написанные им совместно с Баратынским.
Пятнадцатого класса не было в табели о рангах. «Певцы» опускались ниже предельной черты.
Каждый из них получал слово, чтобы представить себя и свои творения, дающие ему право на «пятнадцатый класс». Полемический прием был, таким образом, подхвачен, — а может быть, напротив, изобретен, — и подхватили его уже критики «Благонамеренного». Дело в том, что мы не знаем точно, когда написаны «Певцы», — это произошло, по-видимому, во второй половине 1822 года — после 10 июля, когда впервые был поставлен «пролог» Шаховского «Новости на Парнасе», упомянутый в первой строфе.
Первым «говорил» Измайлов — «председатель и отец певцов пятнадцатого класса». «Председатель» — не просто метафора: Измайлов был именно председателем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Помощником председателя был Н. Ф. Остолопов.
Второй куплет был посвящен как раз Остолопову. «Пятнадцатый класс» тоже знал субординацию, — и она была такой же, как в «михайловском обществе», которое обрисовывалось за строчками памфлета.
«Я перевел по-русски Тасса, Хотя его не понимал». Это был намек на переведенные Остолоповым еще в начале века «Тассовы ночи» Дж. Компаньони; произведение это считалось принадлежащим самому Тассо и не далее как в 1819 году вышло вторым изданием. Тогда же, во второй половине 1819 года, он читал свой «буквальный перевод» «Части дня и ночи, описанные Т. Тассом в поэме его „Освобожденный Иерусалим“». Он и позже не оставил своих занятий Тассо, — и в заседании 12 января 1822 года прочел «Сравнение Франции с Италией (перечень письма Тасса к гр. Контрари в 1572 г.)»[662]. Но, конечно, не эти переводы обеспечили ему звание «певца пятнадцатого класса».
Многолетний приятель Измайлова, сатирик, баснописец и критик, он был явным, а более тайным участником его войны против «новой школы поэтов». О роли его в полемических схватках мы знаем немного, — и отчасти потому, что он скрывался за многочисленными анаграммами и инициалами: «Никост», «Н. О.», «−но−» и другими, частью, вероятно, нам неизвестными. Изредка он выступал, впрочем, и с открытым забралом; еще в 1821 году он читал в обществе басню «Нерешимость» — об осле, «баловне природы», умершем от голода перед ворохами ячменя[663]. Ему же, скорее всего, принадлежала пародия «К баловню-поэту», напечатанная в начале октября 1822 года и подписанная «О. Н.», — в ней повторялись ставшие уже обычными словечки из стихов Дельвига и Кюхельбекера — из «Видения» и «Поэтов»[664].
Он собирал и рукописные сатиры, — в том числе и на Измайлова, и на себя самого, — и, как мы увидим далее, пускал по рукам свои отклики.
Это был второй по значению и влиятельности противник. Третьим был Панаев — цензор Вольного общества.
Во сне я не видал Парнаса, Но я идиллии писал И через них уже попал В певцы 15-го класса.Если бы мы не знали закулисной истории взаимоотношений, выпад против Панаева был бы непонятен. В печатной полемике он ни разу не принял участия, и ни одна рукописная сатира или эпиграмма на «баловней-поэтов» не вышла под его именем. Но позиция его известна. Это противник — ожесточенный и непримиримый. За ним следуют Сомов, Княжевич и еще некто, «конюх Пегаса», подбиравший «навоз Расинов» и попавший в когорту заштатных певцов «по Федоре».
Обычно этим «певцом» считают М. Е. Лобанова, автора перевода «Федры» Расина, имевшего некоторый успех и встреченного восторженной рецензией Сомова. Но речь все же идет, по-видимому, о другом лице.
Лобанов был приятелем Гнедича и Крылова, сослуживцем их и Дельвига по Публичной библиотеке, и Дельвиг и Баратынский сохранили с ним отношения вполне лояльные. Да и перевод его вышел только в 1823 году.
В окружении Измайлова был человек, принятый в его общество исключительно «по Федоре».
Это был Иван Богданович Чеславский, в 1822 году инспектор театрального училища, затем служивший под начальством Измайлова в департаменте государственного казначейства. Он начал печатать свои переводы сцен «Федры» в «Благонамеренном» в 1820 году, продолжал в 1821 году[665], и второе же январское заседание общества (26 января) за 1822 год вновь огласилось стихами той же «Федры». У измайловцев Чеславский ничего, кроме «Федры», не читал, и этого оказалось достаточно, чтобы стать действительным членом — со второй половины 1820 или с начала 1821 года. В декабре 1822 года его приняли и в «ученую республику», — также «по Федоре»; все, что он печатал помимо нее, было совершенно случайным. Через год с лишним Измайлов будет рекомендовать его И. И. Дмитриеву как молодого литератора, которого «чуть не прокляли здесь за то, что осмелился после Лобанова переводить „Федру“»[666]. Не имел ли он в виду «Певцов 15-го класса»?
Граф Хвостов и цензор Бируков завершали перечень[667].
Куплеты стали известны довольно быстро, и «певцы пятнадцатого класса» отреагировали на них по-своему.
* * *
Известно лишь два списка этой сатиры, идентичных по тексту. Один из них сделан рукою Измайлова.
Старый журнальный боец, переписав сатиру, еще раз воспользовался ее полемическим приемом. Он дописал к ней им же и сочиненные «Куплеты, прибавленные посторонними», — уже от имени авторов.
Барон я, баловень Парнаса. В Лицее не учился, спал И с Кюхельбекером попал В певцы 15-го класса.Это было то, что Пушкин называл «сам съешь». «Остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: „съешь“, а догадливый противник отвечает: „сам съешь“. „Сам съешь“ есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики. Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею за дурной тон и заносчивость, нетерпимую в хорошем обществе, — и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже, с подписью: „сам съешь“»[668].
Пушкин писал о полемических схватках тридцатых годов, — но за десять лет немногое изменилось, разве что был утрачен патриархальный, домашний тон перебранок. В двадцатые годы литературная жизнь была плотнее и теснее; не всегда было понятно, где сталкиваются люди, а где — идеи, и рукописные сатиры поминутно соскальзывали на «личности». То, что Дельвиг «не учился» в лицейские годы, было выпадом принципиальным: поэзия требовала «учености», — а то, что он «спал», — было вместе с тем и «личностью»: осмеивались и мотивы его лирики, и сам автор как частное лицо. Но здесь насмешка была еще довольно добродушной; зловещие, оскорбительные нотки социального пренебрежения проскальзывали там, где речь заходила о Баратынском:
Я унтер, но я сын Пегаса; В стихах моих: былое, даль, Вино, иконы… очень жаль, Что я 15 класса.Это был смягченный вариант. «Вино, иконы, б…» — записал Измайлов в своем рукописном авторском сборнике и сразу же заменил: «вино, иконы, девы». Для куплетов, пускаемых по рукам, даже это сочетание оказывалось слишком кощунственным. Но этот вариант высветляет общее направление критического удара. «Вакхические и либеральные стихи». Либертинаж, вольномыслие во всем — в этике, в мышлении, в поведении, вызов общественному мнению, религии и нравственности — вот что видело в «новой школе» старшее поколение.
«Унтер»… «Разжалованный в солдаты за воровство», — напишет Панаев о Баратынском в своих мемуарах.
Измайлов мягче. Он просто не умеет шутить иначе как грубовато, — и в литературе, и в жизни. Его ролевая маска — добродушного и «мужиковатого», как скажет потом Кюхельбекер, ругателя, режущего правду-матку, но без камня за пазухой. Он даже готов признать за противником известные достоинства:
Остер, как унтерский тесак; Хоть мыслями и не обилен, Но в эпитетах звучен, силен — И Дельвиг сам не пишет так.Этот куплет Измайлову, видимо, казался удачным: он вписал его в свое рукописное собрание стихотворений как отдельную эпиграмму. Под ней он поставил дату: «1822»[669].
Дата очень важна: она показывает, что вся эта полемика развертывается во второй половине 1822 года. Более точной хронологии мы установить не можем, а стало быть, не совсем ясно, что было выпадом, а что — ответом; может быть, памфлеты и эпиграммы Бориса Федорова, напечатанные в «Благонамеренном» в конце года, были вызваны к жизни «Певцами 15-го класса» и ответными куплетами Измайлова. Впрочем, не исключено, что вся эта полемика шла синхронно: и объекты, и самый предмет споров были известны заранее.
В этой словесной войне, без сомнения, принимали участие и другие лица, кроме названных; до нас дошло не все.
Еще в начале нашего века в руках В. Брюсова была тетрадь с полемическими сочинениями, в которой была записана эпиграмма «Завещание Баратынского» с подписью: «N. N.».
Стихотворенья — доброй Лете, Мундир мой унтерский — царю, Заимодавцам я дарю Долги на память о поэте.Эти стихи, под названием «Завещание», сохранились и в другом рукописном источнике.
Павел Лукьянович Яковлев, в конце 1824 года уехавший по служебным делам в Вятку, поместил ее в своем рукописном журнале «Хлыновский наблюдатель», который он посылал Измайлову, — в девятнадцатом номере за 1826 год[670].
Конечно, четверостишие не было плодом вятских вдохновений Яковлева — оно возникло в разгар полемик, где на все лады варьировалась тема «унтерства» Баратынского. При всем том оно было довольно остроумным и не слишком враждебным поэту. Автор его неизвестен, — может быть, это был и сам Яковлев.
Он не был участником войны, — во всяком случае, мы не знаем ни одного его прямого выпада против прежних своих друзей. Но связи его с Измайловым и его журналом за эти годы стали достаточно прочными. Он помещал у него свои нравоописательные сатирические очерки, и в переписке Измайлов подробно рассказывал ему, как близкому человеку, о своих друзьях и недругах. И Яковлев, быть может, не чувствительно для себя, проникался духом кружка.
В 1825 году он предлагает Измайлову «собрать модные слова или слова модных поэтов» и сделать из них сатирическую статью для альманаха «Календарь муз», который он затеял вместе с Измайловым. Измайлов одобрил замысел — и альманах открылся анонимной статьей, без сомнения, написанной Яковлевым, — «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 году»; здесь были задеты слегка и «романтики»[671].
Что же касается Измайлова, то он не жалел усилий, чтобы сблизить племянника со своими литературными соратниками, — и в первую очередь с Панаевым. По-видимому, это было нелегкой задачей. По лаконичным, но очень выразительным, как бы попутно брошенным обинякам в поздних письмах Измайлова мы, кажется, можем почувствовать и глубину личного конфликта, разыгравшегося осенью 1821 года, и то, насколько медленно и трудно прежние противники делали шаги навстречу друг другу, уступая усилиям примирителя. Но Измайлов не оставлял попыток, аккуратно пересказывая Яковлеву даже незначащие благожелательные отзывы о нем Панаева. Он цитировал его письма: «Павел Яковлев весьма забавен и остроумен по обыкновению»[672]. Он не упускал случая рассказать о нем с похвалой: «Недавно приехал сюда Панаев и Ястребцов. Видел женку первого — Филлиду. Мила! Но он лучше, даже красивее ее; впрочем, и она очень недурна»[673]. Он с готовностью поддерживал ответные движения: «Панаеву поклонюсь. Помнится, я писал уже тебе, что он живет в Фурштадтской, а служит у Шишкова при особых поручениях»[674]. Взаимная неприязнь постепенно сглаживалась, но не исчезала окончательно. «Что бы ни случилось с нами в известное время, — цитировал Измайлов слова Панаева в письме племяннику от 21 января 1825 года, — а я, право, люблю его за талант, беспристрастие в суждениях и постоянную к вам приверженность»[675]. Итак, лед был как будто сломан, — но мы знаем сейчас то, чего не мог знать Измайлов, — что рефлексы старого недоброжелательства упали на портрет Яковлева уже через сорок лет в воспоминаниях Панаева.
Яковлев покинул Петербург в 1822 году: он был отправлен по службе в Нижний Новгород. Итак, он не застал апогея борьбы «измайловцев» с «баловнями-поэтами», — но ко времени его отъезда уже, видимо, были написаны и «Певцы 15-го класса», и куплеты Измайлова, — и, конечно, «Завещание Баратынского», которое он увез с собой в Вятку.
И, может быть, он знал еще одну эпиграмму об «унтерстве» — грубую, оскорбительную и раздраженную, которая была записана Измайловым вслед за «Куплетами, прибавленными посторонними»:
Надпись к портрету Баратынского
Он щедро награжден судьбой, Рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен! Он унтер-офицер, но от побой Дворянской грамотой избавлен.Под этим четверостишием Измайлов сделал удостоверяющую запись: «Сочинил писатель 15 кл. Ост.» — Остолопов, которого, видимо, не на шутку задел посвященный ему куплет[676].
А. Н. Креницын, некогда товарищ Баратынского по Пажескому корпусу, вспоминал, что Баратынский однажды парировал такие уколы экспромтом:
Я унтер, други! — Точно так, Но не люблю я бить баклуши, Всегда исправен мой тесак, Так берегите — уши![677]Все эти баталии, делившие на партии оба петербургских литературных общества, прямо затрагивали домашний салон Пономаревой, где соединялись обе враждующие стороны.
Софья Дмитриевна не могла быть здесь бесстрастным наблюдателем. Десятки нитей — бытовых, дружеских, семейных, эстетических — привязывали ее к измайловскому кружку, — но и новыми своими знакомыми она дорожила. Сейчас внимание ее занимал Дельвиг.
* * *
Дельвиг не знал одного обстоятельства, которое известно нам сейчас по воспоминаниям Панаева и которое должно было весьма осложнить его взаимоотношения с Софьей Дмитриевной.
Панаев пережил свой звездный час и не примирился с поражением. Вероятно, сам того не подозревая, он сделал тот единственный шаг, который должен был сломить в конце концов волю его своенравной возлюбленной.
Он ушел.
Он вспоминал потом, что, вернувшись из загородной поездки — это было, как мы знаем, в сентябре 1821 года, — он обнаружил, что, вопреки его настоятельным остережениям, «приятели Яковлева» посещают дом, а «насчет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ней ездить». «Глубоко всем этим огорченный, — продолжал он, — я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения. Чего не употребляла она, чтобы возвратить меня? и ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова — все было напрасно: я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины? На другой же день я насчитал у себя несколько первых седых волос»[678].
Исследователь «Сословия друзей просвещения», уже упомянутый нами неоднократно А. А. Веселовский обращал внимание на то, что в конце протоколов порывистым почерком Пономаревой сделана запись: «12 кончилось незабвенное общество». Он предполагал, что «что-то произошло интимное» и что само Общество «было лишь главою ее романа»[679]. Но Веселовский неверно прочел запись.
Она гласит: «С кончиной незабвенной общество рушилось. И. П.», — и сделана, конечно, не Софьей Дмитриевной, но Акимом (Иоакимом) Ивановичем Пономаревым.
Что же касается роли общества в личной биографии Софьи Дмитриевны, то в суждении Веселовского заключалась большая доля истины, хотя и далеко не вся истина, как мы имели случай убедиться. Общество «кончилось», когда произошел разрыв. Из мемуаров Панаева следует как будто, что это случилось вскоре после его возвращения в Петербург, но его воспоминания, как это часто бывает, сжимают, спрессовывают реальное время. Протокол последнего, шестого заседания датирован 21 декабря, — и в этом собрании Аркадин-Панаев читал свой «Сон Филлиды» и «Нечто о железной маске»[680]. Итак, прошло не менее трех месяцев, прежде чем Панаев решился порвать с домом Пономаревых. Затем начались «увлекательные записки» и «убеждения Измайлова»; под знаком мучительной разлуки проходит для Пономаревой начало, а быть может, и первая половина 1822 года.
«Спустя год, — рассказывал Панаев, — встретившись со мною на улице, она со слезами просила у меня прощения, умоляла возобновить знакомство. Я оставался тверд в моей решимости…»[681]
Панаев вспоминает осень и зиму 1822 года.
В это время, по нашим расчетам, зарождается увлечение Дельвига, отразившееся в стихах еще не оформившегося «пономаревского цикла». И в это же время тяжелая болезнь укладывает его в постель.
* * *
Идет кампания против молодых поэтов на страницах «Благонамеренного».
Измайлов, всласть отругавшись в журнале, садится за галантные письма Софье Дмитриевне Пономаревой.
Эти письма не дошли до нас. От них остались только небольшие стихи, вероятно, стихотворные вставки, которые сам автор сохранил в рукописном сборнике своих произведений.
А. Е. ИЗМАЙЛОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ
6 декабря 1822 г.
ИЗ ПИСЬМА К С. Д. П.
Представьте вы себе досаду всю мою: В Фурштадской улице теперь я на краю; Но не к Таврическому саду! — К Литейной! — Сели все играть в вист и бостон. Я не умею и не сяду, Сижу один в углу и, несмотря на сон, Который у меня смыкает ясны очи (Я не спал три или четыре ночи), Пишу стихами к вам. О если бы я мог Писать иль говорить теперь у ваших ног! 6 Дек. 1822.Он все же был рыцарь — старомодного образца, любезник в духе XVIII столетия. Но он в самом деле был привязан к своей жестокой красавице, «belle dame sans merci» — и притом совершенно бескорыстно.
8 февраля 1823 г.
ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ
Мученье Тантала терплю, Хоть я и не в стране подземной, мрачной, адской Теперь я в улице Фурштадтской; Но не у той, кого люблю. Чтоб уменьшить свою досаду, Смотрю, смотрю в окно к Таврическому саду. Но тщетно мой блуждает взор В туманну даль глаза напрасно устремляю, Очки напрасно протираю. Не вижу ничего — вдали один обзор. Не слышу даже я, как лает ваш Гектор. Какой вздор! — скажете вы, — но я не увижу этой улыбки. 8 февр. 1823[682].В промежутке между письмами, 12 февраля, он пишет басню против «баловней-пиитов» — «Макарьевнина уха»:
Иной остряк иль баловень-пиит Уж так стихи свои пересолит, Или, как говорят поэты-обезьяны, Положит густо так румяны, Что смысла не видать. Охота же кому бессмыслицу читать![683]«Баловни» — как нам уже известно, принадлежат к «союзу поэтов»; «обезьяна» — конечно, А. Бестужев, обзором которого в «Полярной звезде на 1823 год» Измайлов был раздражен до крайности. В этом обзоре говорилось о музе князя П. И. Шаликова — «игрива, но нарумянена», о Дельвиге — «в его безделках видна ненарумяненная природа».
Дельвиг тем временем понемногу оправляется от болезни. 16 февраля Измайлов сообщает Яковлеву:
«Барон Дельвиг был при смерти болен и во время болезни своей написал стихи, в которых, между прочим, есть „пляшущий покой“»[684].
В «Благонамеренном» он упоминал о «Пляшущем покое», элегии г. Вралева пятистопными ямбическими стихами, состоящей только из восьми строк[685].
Какие стихи он имел в виду, — мы не знаем. Напечатаны они не были, — и ни в одной из известных нам редакций дельвиговских стихов «пляшущего покоя» нет.
Но Дельвиг действительно писал стихи, когда уже начал поправляться, — и адресовал их Софье Дмитриевне.
Вчера я был в дверях могилы; Я таял в медленном огне; Я видел: жизнь, поднявши крылы, Прощальный взор бросала мне…В этих же стихах — «К Софии» — он упоминает о ее «нежном участье» к «больному певцу»:
И весть об вас, как весть спасенья, Надежду в сердце пролила; В душе проснулися волненья…Он уже может забавно шутить — и над самим собой, и над минувшей опасностью, и над врачами, как это принято с мольеровских времен. В его черновой книге появляется набросок, тоже обращенный к Пономаревой:
Анахорет по принужденью И злой болезни, и врачей, Привык бы я к уединенью, Привык бы к супу из костей, Не дав испортить сожаленью Физиономии своей, Когда бы непонятной силой Очаровательниц иль фей На миг из комнаты моей, И молчаливой, и унылой, Я уносим был каждый день, В ваш кабинет, каменам милый…Сразу после этих стихов записаны обрывающиеся строки:
Нет, я не ваш, веселые друзья, Мне беззаботность изменила — Любовь, любовь к молчанию меня И к тяжким думам приучила. От ранних лет мы веруем в нее…Последняя строчка зачеркнута.
Мечтатели, мы верим с юных лет…Дельвиг не стал продолжать стихотворение. На обороте листа он начал новое: «В судьбу я верю с ранних лет…»[686]
Но нам важен сейчас не этот новый замысел, а тот набросок, который был записан в феврале 1823 года. Его элегические формулы уже можно было в это время почерпнуть из литературы, — но за ними стояло пробуждающееся подлинное чувство. Что-то произошло за время болезни Дельвига: обеспокоенная не на шутку Софья Дмитриевна сделала движение ему навстречу, — движение, быть может, импульсивное и непроизвольное, — и на какое-то время реальная угроза вечной утраты хотя и не близкого человека, но доброго знакомого, вероятно, отодвинула на задний план непрекращающуюся горечь разлуки, раскаяние, уязвленное самолюбие. Теперь Дельвиг, благодаря своей болезни, оказался в фокусе ее внимания, и помехи были досадны. По этим или иным, случайным и неизвестным нам поводам, но в конце февраля и Измайлов подвергся временной опале; во всяком случае, след ее остался в его «письме» от 23 февраля.
ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ.
Не говорите мне: не нужно, Не говорите никогда: Не нужно для меня беда. Ах! лучше жить нам с вами дружно. Я к вам почтителен всегда И осторожен и послушен; Но не могу быть равнодушен, Когда вы, отвратя свои взор, С досадой скажете в укор: Не нужно! — Лучше б ваш Гектор Мне руку укусил иль ногу — Иль гром убил меня — ей-богу! 28 февр. 1823.В рабочей же тетради Дельвига один за другим следуют стихи, которые мы безошибочно можем отнести к «пономаревскому циклу»: «К Софии», под № 29, «К ошейнику собачки Доминго» (№ 30) — незначащий альбомный мадригал, совершенно в духе Сомова и Панаева, тщательно зачеркнутый; «К птичке, выпущенной на волю».
У последних стихов есть своя история; о ней ниже.
И Измайлов пишет свой «цикл», включая его в письма, — как и ранее, это эпистолярная «болтовня», полумадригальная, полубытовая.
ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ.
Взглянув на вас В последний раз, Как мимо дома вы проехали в карете, Вздохнул, взял свой картуз, И от прелестнейшей из Граций и из Муз Пошел с досадой я… сказать куда?… к Анете.(Сказав, что встретил накануне С. И. Ок., которая была разрумянена и разбелена.)
И поклонилась мне она. Взглянул я на нее, ей Богу не нарошно — Взглянул — и сделалось мне тошно. 6 марта 1823.С. Д. П.
Не знаю, отчего при вас я глуп бываю! Хочу заговорить и слов не нахожу — О чем хотел сказать и то я забываю! И можно ль помнить что, когда на вас гляжу.(Я читал гостям старинные свои стихотворения. Один из них сказал):
Тут нету толка никакова! Возможно ли, чтоб это тот писал, Кто после сделался соперником Крылова И сочинил такой прелестный мадригал. 10 марта 1823.Стихотворение «Несравненной» датировано 28 марта:
Красавицей нельзя тебе назваться: Не все черты лица отменно хороши: Но прелести ума и качества души В физиономии твоей с чем, с чем сравнятся? Ничто перед тобой богиня красоты, Лишь поведешь глазком и улыбнешься ты.Снова — «Из писем к Незабвенной»:
Вы любите собак, и вот собачка вам Предобрая — ни на кого не лает, Всех, всех она в покое оставляет И воли не дает зубам. Собой красива, невеличка. На место красного яичка Прошу принять ее. Писатель не для дам.Он, конечно, принес не живую собачку, а какой-то сувенир, а в самый день пасхи, приходившийся в 1823 году на 22 апреля, пришел христосоваться:
ВЧЕРА ОТ НЕСРАВНЕННОЙ
Я получил чего совсем не ожидал: Сладчайший поцелуй. О дар неоцененный! Ах! так бы я ее теперь расцеловал!Он зачеркнул эту стихотворную дневниковую запись без даты и записал ниже:
СРАВНЕНИЕ С АМУРОМ
С Амуром красотой и нравом схожи вы: Такое же и в вас прелестное лукавство И, может быть, увы! Такое же непостоянство[687].В то время, когда пишутся все эти стихи, в доме Пономаревой происходит, по-видимому, маленькое событие, о котором никаких сведений у нас нет, и мы можем лишь предполагать его по аналогиям и разным косвенным признакам. Впрочем, оно было очень обычным, и мы задерживаемся на нем лишь потому, что с ним связан один гипотетически восстанавливаемый литературный эпизод.
В день Благовещения, 25 марта, по старинному обычаю, из клетки выпускали на волю птичку.
Пушкин в Кишиневе отметил этот день стихами:
Я стал доступен утешенью; За что на бога мне роптать, Когда хоть одному творенью Я мог свободу даровать![688]И о том же написал Дельвиг. Но его миниатюра была не общественным выступлением, а любовным мадригалом.
Во имя Делии прекрасной, Во имя пламенной любви, Тебе, летунье сладкогласной, Дарю свободу я. — Лети! И я равно счастливой долей От милой наделен моей: Как ей обязана ты волей, Так я неволею своей.В. В. Майков, перепечатывая эти стихи в своем издании сочинений Дельвига, отметил в примечаниях: «Стихотворение <…> относится к С. Д. Пономаревой»[689]. Он не привел никаких дальнейших пояснений, и указание это прошло без внимания.
Существует еще одно стихотворение на эту тему, написанное Федором Антоновичем Туманским, приятелем Дельвига и Льва Пушкина. «Птичка» Федора Туманского пользовалась в свое время популярностью не меньшей, чем пушкинская, если не большей. По сие время в памяти любителей поэзии сохраняются строчки:
Она мелькнула, утопая В сиянье голубого дня.Все эти три стихотворения были в 1849 году вписаны Львом Пушкиным в альбом гр. Е. П. Ростопчиной с примечанием владелицы альбома: «Стихи в роде конкурса или пари или стипль-чеза, написанные на заданную тему, в собрании молодых поэтов наших, в Петербурге».
Эту запись обнаружил известный исследователь Дельвига Ю. Н. Верховский и полностью положился на «авторитетное свидетельство» Л. Пушкина, датировав все три стихотворения 1822 годом[690].
Это была ошибка, и ее сразу же отметил Б. В. Томашевский в своем издании Дельвига. Стихи Пушкина не могли быть написаны в Петербурге, до ссылки на юг, а в 1822 году Пушкин отсутствовал уже почти два года. Туманского, как считал Томашевский, в это время также не было в Петербурге.
Скажем сразу же, что это тоже неверно: Туманский с 21 июня 1821 года служил в департаменте духовных дел вместе с Панаевым, Б. Федоровым, а позднее и со Львом Пушкиным[691] и по времени мог бы принять участие в «конкурсе». Но дело даже не в этом.
Конечно, по прошествии двадцати семи лет Л. Пушкин мог не только запамятовать детали, но и непроизвольно придумать всю эту историю с «конкурсом». И Ростопчина могла основывать свою запись на собственных соображениях, а не на воспоминаниях Пушкина. Все это так.
И все же некоторые косвенные данные указывают на то, что запись Ростопчиной не может быть признана «ни на чем не основанной»[692].
Вряд ли случайно, скажем, что стихи Пушкина, озаглавленные в журнальной публикации «На выпуск птички», появились во втором (июльском) номере «Литературных листков», вышедшем в начале августа 1823 года, а в четвертом (августовском) номере тех же «Листков» было напечатано стихотворение Дельвига — и под тем же названием. Две публикации были явно связаны, — заметим, что ни до, ни после нее Дельвиг ничего в «Литературных листках» не печатал.
Стихотворение написано «в собрании молодых поэтов в Петербурге». Эта деталь не могла идти от Ростопчиной. Ей, московской жительнице, в пору, описываемую нами, двенадцатилетней девочке, не могло быть известно ничего о «собраниях молодых поэтов в Петербурге» за два с половиной десятилетия до ее альбомной записи. Что же касается Льва Пушкина, то он, без сомнения, о них знал.
Если же мы вспомним, что Софья Дмитриевна до крайности любила поэтические конкурсы и стихи на случаи, обращенные к ее питомцам, четвероногим и пернатым, мы легко представим себе, как могло возникнуть стихотворение Дельвига.
Вероятно, в доме Пономаревых также блюли старинный трогательный обычай, и двадцать пятого марта птенчик Делии получил свободу. К этому времени пушкинские стихи еще не существовали и ни о каком конкурсе речи не могло быть. Когда же они стали известны в Петербурге — а это произошло в начале июня или еще позже, когда их напечатал у себя Булгарин, — тогда, по-видимому, у Пономаревой возникла мысль о петербургском варианте этого лирического сюжета, и Дельвиг — ближайший друг Пушкина — был вызван на ристалище. Он воспользовался случаем и обратил свои стихи к виновнице торжества, включив в них любовное признание.
Лирический роман развивался крещендо, сопутствуя реальному.
Перелом в этом последнем наступил с выздоровлением Дельвига. Его весенние стихи — своего рода «песнь торжествующей любви». Такие лирические дневники чаще всего удерживают подлинные бытовые детали.
В «Романсе», приведшем в восхищение Пушкина в южной ссылке, — ранняя весна:
Прекрасный день, счастливый день: И солнце, и любовь! С нагих полей сбежала тень — Светлеет сердце вновь! Проснитесь, рощи и поля; Пусть жизнью все кипит: Она моя, она моя! Мне сердце говорит.Три «Романса», созданных, по-видимому, почти одновременно, — апофеоз счастливой любви:
Не говори: любовь пройдет, О том забыть твой друг желает; В ее он вечность уповает, Ей в жертву счастье отдает. Зачем гасить душе моей Едва блеснувшие желанья? Хоть миг позволь мне без роптанья Предаться нежности твоей.И следующий:
Только узнал я тебя — И трепетом сладким впервые Сердце забилось во мне. Сжала ты руку мою — И жизнь, и все радости жизни В жертву тебе я принес. Ты мне сказала «люблю» — И чистая радость слетела В мрачную душу мою. Молча гляжу на тебя, — Нет слова все муки, все счастье Выразить страсти моей. Каждую светлую мысль, Высокое каждое чувство Ты зарождаешь в душе[693].В этом апофеозе меньше всего говорит чувственная страсть, — и недаром в сознании поэта словно всплывает мелодия почти молитвенного гимна Жуковского:
Имя где для тебя? Не сильно смертных искусство Выразить прелесть твою!Эти стихи не были еще напечатаны, но, может быть, Дельвиг знал их от Жуковского, — а может быть, читал их немецкий оригинал. Кажется, стихи эти Жуковский посвятил Машеньке Протасовой-Мойер: когда она умерла в марте 1823 года, рукопись нашли в ее портфеле[694].
* * *
Весной 1823 года в светских гостиных, кофейнях, ученых обществах Петербурга читают самую популярную книгу после «Истории» Карамзина — «Полярную звезду» Бестужева и Рылеева, объединившую лучшее в словесности обеих столиц.
Дельвиг и Баратынский — в числе «вкладчиков». Баратынский помещает здесь послание «К Дельвигу». Участвуют и прежние члены «Сословия друзей просвещения»: сам Измайлов, Панаев, Остолопов, Сомов. Но этого мало: на страницах альманаха появляется стихотворение, адресованное самой Софье Дмитриевне.
Оно принадлежало приятелю Дельвига и Баратынского — Петру Александровичу Плетневу и называлось «В альбом (С. Д. П-ой)»:
По слуху мне знакома стала ты, Но я не чужд в красавиц милой веры — И набожно кладу свои цветы На жертвенник соперницы Венеры. Так юноша спешит в Пафосский храм И на огне усердною рукою Сжигает он душистый фимиам, Хотя не зрит богини пред собою[695].Стихи и в самом деле были написаны заочно. Во всяком случае, автограф их в альбоме Пономаревой имеет дату: «20-го ноября 1823»[696]. Это время записи, ибо книжка «Полярной звезды» с печатным текстом мадригала вышла в декабре двадцать второго года. Стало быть, он существовал уже осенью.
Но если так, то от него тянутся незримые нити к другому стихотворению, приблизительно того же времени, — стихотворению Рылеева, не законченному или даже не написанному, известному лишь в черновом наброске:
Меня с тобою познакомил Неоценимый твой альбом.Стихи давались трудно; Рылеев писал и зачеркивал:
[Дивлюся вкусу твоему] Люблю любовь твою к искусствам [Давно] завидую уму И [благородным сердца] чувствам И пылкости прекрасных дум.Так пишут о человеке по рассказам, по-видимому, неоднократным и восторженным, стирающим черты живого облика. Рылеев был вообще не мастер на мадригалы, тем более людям едва знакомым или вовсе незнаемым. Он отбрасывает начатое и оставляет две строки:
Дивлюсь души прекрасным чувствам. Хвалю твой просвещенный ум.Более от этого замысла до нас не дошло ничего.
Ю. Г. Оксман, впервые опубликовавший эти наброски, полагал, что они относятся к Пономаревой. Он основывался на том, что в пономаревском альбоме остался другой — очень важный — автограф Рылеева, о котором позже. Это предположение подкрепляется первыми строками наброска, явно перекликающимися с известным уже нам мадригалом Плетнева. «По слуху мне знакома стала ты…» Два человека, связанные тесными литературными отношениями по Обществу любителей российской словесности, пишут почти одновременно два альбомных стихотворения по дружескому заказу незнакомому лицу. Случайное совпадение здесь почти невероятно. Как и мадригал Плетнева, черновик Рылеева датируется 1822 годом: рядом с ним на листке находится набросок стихотворения о Державине и песня «С самопалом и булатом» для какого-то более обширного замысла о Мазепе. Стихи о Державине, надо полагать, предшествовали думе «Державин», законченной в ноябре 1822 года; что же касается стихов о Мазепе, то они были переложением «Думы гетмана Мазепы», помещенной в третьей части «Истории Малой России» Д Н. Бантыша-Каменского, вышедшей в свет в начале того же 1822 года[697]. Итак, в этом году расширяется круг очных и заочных связей Пономаревой. Он охватывает теперь и поэтов «ученой республики», распространяясь и на самые «либералистские», радикальные кружки внутри общества, первым из которых был кружок издателей «Полярной звезды». Правда, до выхода альманаха эта группа еще не выделилась явно, — и весь измайловский круг принял участие в готовящейся книжке. Неудовольствия начались, когда она вышла в свет со статьей Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», где в числе других авторов был упомянут и Александр Измайлов, рисующий природу, как русский Теньер. «Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа». Александра Ефимовича такая похвала не удовлетворяла: он ворчал на «неосновательность» мыслей и «шутовской» язык обозрения, а через год придумал для Бестужева прозвище в своем духе — «Завирашка», назвал так дворняжку в басне «Слон и собаки» и очень этим развлекался[698].
Тем временем в обществе «соревнователей» шли приготовления к особенному публичному собранию, для которого вдова Державина, Дарья Алексеевна, предоставляла великолепную залу в державинском доме, — ту самую, где некогда собиралась Беседа любителей русского слова. Задолго до собрания, назначенного на 22 мая, начали составлять программу. Литературные партии столкнулись друг с другом; «новая школа» словесности воздвиглась против «старой». Измайлов уверял, что он не принадлежит ни той, ни другой, — и все же симпатии его были скорее на стороне последней. Сразу же после чтения он описывал его в письмах литературным друзьям. То, что читали «романтики», кажется, его не очень занимало: на беду свою, он поел накануне ботвиньи с ледком, выпил водки, тоже с ледком, — охрип: потому приведение себя в нужное для чтения состояние поглотило его душевные силы. Он был очень доволен своим выступлением и реакцией публики; Бестужев же был убежден, что смеялись не стихам, а «туше» сочинителя, а общее внимание привлекли вовсе другие «пьесы».
«Рылеева „Ссыльный“ полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей — принят с душевным одобрением»[699].
«Ссыльный» — так называлась новая поэма Рылеева, получившая потом название «Войнаровский». К концу мая было готово только начало, — его-то и читал Рылеев.
В первом июньском номере булгаринского «Северного архива» молодому поэту предрекали блестящее будущее. «Если вся сия поэма будет написана с таким чувством и силою, как читанные отрывки, то имя г. Рылеева станет наряду с именами отличных российских писателей». Журнал сообщал, что «Войнаровский» доставил «необыкновенное удовольствие публике, и все знатоки полагают сию пьесу первою из стихотворных статей, читанных в сем заседании, исключая отрывок из Расина и Шиллера»[700].
Из «Федры» Расина переводил М. Е. Лобанов, — перевод считался очень хорошим. «Шиллер» — «Орлеанская дева» в переводе Жуковского.
В альбоме Пономаревой мы находим отрывок «Беседа Войнаровского с Мазепой» — шестьдесят восемь стихов, вписанных рукою Рылеева[701]. Это единственное прямое свидетельство связей Рылеева с домом Пономаревых.
Ничего более определенного об этих связях мы не знаем. Кажется, нет сомнения, что Рылеев побывал в доме — хотя бы однажды, скорее всего, тогда, когда стала восходить звезда его поэтической славы. Лето 1823 года — время наибольшей близости Рылеева с Дельвигом и Баратынским, и, может быть, кто-то из них привел его в литературный кружок, в котором сами они чувствовали себя столь свободно и непринужденно, — а может быть, это сделал Орест Сомов или сам Измайлов, двумя месяцами ранее подписавший диплом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, выданный подпоручику Кондратию Федоровичу Рылееву на звание действительного члена по части наук и словесности[702]. Наконец, это мог быть и Гнедич. Но здесь мы можем только строить предположения.
Что же касается стихов из «Войнаровского», записанных в альбом, то о них мы, кажется, можем сказать несколько больше.
Это не был автограф входящего в моду автора в альбоме светской любительницы изящной словесности.
Поэт, в чьем творчестве уже определилось устойчивое тяготение к сюжетам украинской истории, связанный с Украиной биографическими нитями, посетивший ее в 1822 году, — выбирает из не оконченной еще поэмы целостный фрагмент об исторических судьбах Украины, чтобы вписать в альбом дочери бывшего киевского студента и жене чиновника «из малороссийских дворян», «тетушке» почитаемого им Гнедича и предмету страстных воздыханий приятеля его, Ореста Сомова.
Это был, конечно, не случайный выбор.
Все, что мы знаем о Рылееве, заставляет думать, что он не мог стать своим человеком в кружке литературной богемы. С женщинами он был неловок и застенчив; его разговор, пылкий и иногда несвязный, менее всего был похож на светскую беседу и в большом обществе мог показаться неуместным: ему нужен был узкий дружеский кружок единомышленников, — здесь он не знал себе равных.
Но, не став завсегдатаем салона, он оставил на память о себе стихи неосторожные и едва ли не опасные, если читать их вне связи со всей поэмой.
Я зрю в тебе Украйны сына; Давно прямого гражданина Я в Войнаровском угадал. Я не люблю сердец холодных: Они враги родной стране, Враги священной старине, — Ничто им бремя бед народных…Мазепа, изменник, преданный анафеме, обнаружит в поэме свою двойственную природу. Но в отрывке альбома Пономаревой он — революционер, патриот, говорящий словами самого Рылеева.
Чтобы вписывать такие стихи в альбом не слишком знакомому человеку, нужно было обладать той почти детской доверчивостью и открытостью, за которую упрекали Рылеева его ближайшие друзья. «Он во всяком человеке видел благонамеренность, — вспоминал много лет спустя Николай Бестужев, — не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. <…> Если человек недоволен был правительством или злословил власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага отечества»[703].
В 1823 году эти иллюзии могли дорого стоить идеалисту.
Но Рылеев досказал все до конца. Мазепа объявляет войну Петру:
Успех не верен, — и меня Иль слава ждет, иль поношенье! Но я решился: пусть судьба Грозит стране родной злосчастьем, — Уж близок час, близка борьба, Борьба свободы с самовластьем![704]Последний стих в печати не появился. Рылеев знал, что он не будет пропущен. В пономаревский же альбом он вписал его собственной рукой.
Он был доверчив, но не наивен, когда полагался на «прекрасные чувства души» и «просвещенный ум» хозяйки салона. Нет сомнения, что он не раз слышал — хотя бы от Баратынского — о вольных беседах,
Где не кладут оков тяжелых Ни на уменье, ни на ум, Где для холопа иль невежды Не притворяясь, часто мы Браним указы и псалмы…Это ведь Баратынский написал в альбоме Пономаревой, а в печати — в «Полярной звезде» — изменил:
Слов не размериваем мы…И он же, Баратынский, участвовал в общем разговоре о деспотизме русского правительства, которое парит превыше всех законов. И дабы не смущать благонамеренное старшее поколение, в уставе был оговорен строжайший запрет на либеральные речи о политике.
Но молодежь не входила в «Сословие друзей просвещения» и не подчинялась его уставу. Она составляла ему род оппозиции — литературной и политической.
* * *
Летом 1823 года роман Дельвига достиг апогея. Софии был посвящен едва ли не лучший из его сонетов. Он был прислан ей вместе с книгой Фаддея Булгарина «Воспоминание об Испании», которую Пономарева хотела прочесть: книга была в моде. Посылка ее была для стихов чистым поводом; Испания, классическая страна пылких любовников и страстных любовниц, становилась пышной декорацией, на фоне которой рисовался портрет прекрасной северянки, питомицы Амура:
Не он ли дал очам твоим блистанье, Устам коралл, жемчужный ряд зубов, И в кудри свил сей мягкий шелк власов, И всю тебя одел в очарованье![705]Возник слух, что дама не осталась нечувствительной к песням своего трубадура.
Через тридцать лет биограф Дельвига В. П. Гаевский пометил на полях своей рукописи: «Н. Геннади, знавший лично Пономареву, говорит, что она была в связи с Дельвигом»[706].
Н. Геннади не мог этого знать. Он так думал, — и думал, быть может, на основании дельвиговских стихов и петербургских разговоров. Много позднее, уже после смерти Дельвига, Сомов напечатал под его именем стихи «К Морфею», где содержалось признание в любви некоей красавице, посетившей поэта во сне. В примечании он сообщал, что элегия «сочинена была еще до 1824 года». Это могло означать только одно: Сомов относил стихи к Пономаревой, умершей в 1824 году. Более прозрачно он изъясниться не мог.
Стихи были не Дельвига, а Гнедича, — но Сомов даже не предполагал возможности ошибки: настолько он был уверен в принадлежности их к «пономаревскому циклу»[707].
Блестящие кавалергарды вновь были вынуждены отойти в тень — на этот раз перед Дельвигом.
В октябре 1822 года в «Новостях литературы» послышался жалобный стон одного из отвергнутых:
К ПОРТРЕТУ *****
Опасного ее бегите взгляда Иль бойтесь к ней любовь несчастную познать! Как можно столько чувств глазами выражать! И столько сохранять в душе жестокой хлада! Б-ч[708].Стихи написал Н. П. Богданович, племянник поэта. Он вступил в соперничество с Дельвигом, и его поражение было предрешено.
Среди бумаг Измайлова сохранилось забавное стихотворение, датированное 24 июня 1823 года.
ПОСЛАНИЕ Н. П. Б. к С. Д. П.
(написано у Н. А. Шленева)
О вы, что лучше всех на улице Фурштадской, Вы, Софья Дмитриевна, вы… вы… кровь с молоком; Я, офицер кавалергардский, От вас дурак стал дураком. Ах! часто думаю, на вас в молчанье глядя, Зачем я не поэт? Зачем не так умен, как дядя?[709] Имею лошадей, ума же вовсе нет. Я не был в корпусе, в гимназии, в лицее; Не знаю, как сказать, что страстно вас люблю — Особенно при Дельвиге злодее… Умнее он меня; его я не терплю И застрелю! Да, застрелю из пистолета. И что за грех убить поэта?.. Нет, не убью — меня посадят под арест. Какая прибыль мне, что будет он покойник, Когда не буду я полковник И не дадут мне крест. Не знаю, делать что! О ревность! О мученье! Простите: время мне явиться на ученье[710].Итак, летом 1823 года Дельвиг еще может торжествовать над будущим полковником, и Измайлов готов смириться с его первенством. Но и его ждет судьба всех прочих: он уже завоеван, и интерес к нему ослабевает. «Испанский» сонет был последним стихотворением, в котором звучала радостная нота разделенной любви. Неизвестно точно, когда он написан: книга Булгарина вышла из печати в мае, но продаваться стала позднее, не ранее начала августа[711], — и, вероятно, тогда же Дельвиг и послал ее Пономаревой со своим посвящением. Если бы мы знали точную хронологию стихов Дельвига, мы могли бы проследить по ним, когда мажорные интонации начинают уступать место элегическим, — но мы знаем лишь, что это происходит на протяжении того же 1823 года:
Уж не вырваться из клеточки Певчей птичке конопляночке, Знать, и вам не видеть более Прежней воли с прежней радостью. (Русская песня, 1823)[712].Но и над Софьей Дмитриевной сбывалось предсказание Баратынского.
Было ли это «роковое безумие» любви или что-либо иное, — кто сейчас может сказать? — но последние увлечения не вытеснили из ее памяти Владимира Панаева, и, когда он вновь появился перед ней, уже просто как старый знакомый, она перестала владеть собой.
Глава VII Классики и романтики
Проснулся я, — и мне легко, поверь,
Тебя забыть, как ты меня забыла.
«Я оставался тверд в моей решимости, — продолжал Панаев свой рассказ, — наконец, уступил желанию ее видаться со мною в Летнем саду, в пять часов, когда почти никого там не бывало. Она приезжала туда четыре раза. Мы ходили, говорили о первом времени нашего знакомства, — и я постепенно смягчался, даже — это было пред отъездом моим в Казань — согласился заехать к ней проститься, но только в одиннадцать часов утра, когда она могла быть одна. Прощание это было трогательно: она горько плакала, целовала мои руки, вышла провожать меня…»
Ледяным холодом веет от этих правильных, протокольных строк, написанных рукою идиллика, воспевавшего нежные чувства. В них говорит не ревность, не оскорбленная страсть, но мертвенное равнодушие, еще усиленное старостью и давностью лет. Во всей русской мемуарной литературе мы вряд ли найдем что-либо подобное. «Я постепенно смягчался… согласился заехать к ней проститься… целовала мои руки…» Так могла бы писать женщина о своем поклоннике, — это написал поклонник о своей прежней возлюбленной.
Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет…«…Вышла провожать меня в переднюю, на двор, на улицу. (Они жили близ Таврического сада, в Фурштадской улице, тогда мало проезжей, особливо в такое раннее время.) Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви»[713].
Он уехал, по-видимому, в сентябре; во всяком случае, 13 сентября, за отбытием его из Петербурга, как значится в протоколах «измайловского» общества, Булгарин был избран замещать его в должности цензора[714].
В Казани его ожидало новое знакомство. Казанской губернией управлял тогда вице-губернатор Александр Яковлевич Жмакин. В его-то круг и вошел коллежский асессор Панаев и, как он вспоминал впоследствии, «очень полюбил его за его необыкновенный ум, отличные по службе способности и очаровательную любезность».
Пушкин, как рассказывал Вяземский, хохотал над строчкой чьих-то стихов «Все неприятности по службе С тобой, мой друг, я забывал», — называя их чисто русской элегией. Панаев, вероятно, не увидел бы в ней ничего смешного. «Отличные по службе способности» Жмакина в ряду прочих его достоинств настолько очаровали приезжего из столицы чиновника и поэта, что он осуществил на практике чисто русскую идиллию.
«А как старшая дочь его была девица замечательной красоты, первая невеста в городе, то и не мудрено, что к концу пребывания моего в Казани я на ней помолвил»[715].
Пророчество Баратынского оборачивалось сбывшимся проклятием. Если бы он был суеверен, он не написал бы своих стихов к Делии-Дориде.
Все складывалось само собой, по установленному порядку, и винить было некого. Ни Панаев, ни Пономарева не помышляли о возможности соединения, и силою вещей жестокая красавица должна была однажды попасть в свои собственные сети и пасть жертвой своей опасной игры. Но расплачивалась она жестоко: поздней неразделенной любовью, отвергнутыми мольбами, унижением — и наконец разлукой. Ей предстояло еще узнать, что разлука эта будет вечной.
В 1816 году двадцатичетырехлетний Панаев писал своему приятелю, будущему известному прозаику Сергею Тимофеевичу Аксакову: «Кто женится более по рассудку, нежели по любви, тот сберегает для переду много лишних удовольствий. Что нового откроет в супруге своей любовник, прострадавший два или три года? И пламенное желание чего-либо достигнуть не оставляет ли по достижении некоторой в сердце пустоты? Такова натура человеческая»[716].
Но мы не можем и не должны судить о том, было ли это письмо теоретическим рассуждением или жизненной программой, которая осуществилась наконец весной 1824 года.
* * *
«Михайловское общество» разваливалось.
Лучшие силы из него давно уже перенесли основную свою деятельность в «ученую республику» — к «соревнователям»: там издавалась «Полярная звезда», «Труды» общества, там готовились торжественные собрания, кипела жизнь и создавались партии.
Гнедич, Федор Глинка, Дельвиг, Плетнев составляют особенно тесную группу в «ученой республике», — и к ней, конечно, примыкает Баратынский. Они печатаются теперь почти исключительно в трудах этого общества, в «Полярной звезде» и в «Новостях литературы» у Воейкова. В «михайловское» же общество они не ходят и не дают своих сочинений в «Благонамеренный». И общество хиреет день ото дня.
Оно не распадается буквально: в 1823 году оно проводит двадцать пять обычных и одно чрезвычайное собрание, — но совершенно оскудевает литературными именами. Баратынский не посещает его ни разу; Дельвиг, Плетнев, Василий Туманский — по одному разу, Булгарин — дважды,
Сомов — трижды. Постоянный вкладчик измайловского журнала, он в 1823 году отдает в него лишь один незначащий анекдот, — а в «Соревнователе» печатает обширный трактат «О романтической поэзии», — той самой поэзии, с которой так упорно боролся Измайлов. Это было почти ренегатство.
Рылеев, принятый в 1823 году в общество, посещает четыре заседания.
Измайлов мужественно руководит оставшимися: он присутствует на двадцати четырех собраниях из двадцати шести. Теперь ближайшие его помощники — старики, заставшие еще прежнее, первое общество: Остолопов, Востоков. Они присутствуют на тринадцати заседаниях. Но Востоков участвует одним своим присутствием, как казначей общества: он не подает ни одной статьи и ни разу не появляется на страницах журнала. Остолопов изредка печатает басни.
Цензор общества Панаев успевает до своего отъезда побывать на пяти заседаниях, но также не представляет ни одной пьесы.
Едва ли не самыми активными сотрудниками оказываются Борис Федоров и князь Цертелев. Первый из них в 1822 году побывал на семи заседаниях из пятнадцати, в 1823-м — на пятнадцати из двадцати шести. Он читал и печатал исторические документы, критические статьи, переводы басен Эзопа, отрывки из комедии «Ротмистр Громилов», альбомные мадригалы, сатирические и лирические стихи. Он предлагал предпринять издание трудов общества, входил с проектами правил для них, составлял тексты извещений, и общество благодарило его за неусыпную деятельность. Цертелев, «житель Васильевского острова», соревнует ему, но с меньшим успехом: он посещает шесть заседаний и дает для чтения также шесть критических и филологических статей; правда, сверх того он продолжает ратовать в журнале против «новой школы словесности». «Соревнователи» отказали ему в трибуне, и он жаждет реванша.
На этих людей теперь вынужден опираться Измайлов, да еще на Павла Лукьяновича Яковлева, который снабжает его корреспонденциями из Прибалтики и нравоописательными очерками «Записки москвича».
В 1823 году «Певцы 15-го класса» уже были бы анахронизмом; нужно было бы изобретать шестнадцатый и семнадцатый.
Эта «задняя шеренга» оказывалась, однако же, весьма активной.
* * *
В третьем (февральском) номере «Благонамеренного» «житель Васильевского острова», князь Цертелев, поместил очерк «Немногое для многих (Отрывок из моего журнала)», где вывел романтического поэта, расхваленного приятелями. Хвалили его цитатами из бестужевского обзора в «Полярной звезде». Почти все цитаты были выбраны из тех характеристик, которые Бестужев давал поэтам «романтической школы», — и в этом был умысел. В пародийном поэте приятели находили «талант вымысла», как Бестужев в Дельвиге; подобно Батюшкову и Жуковскому, он разгадал «тайну» романтической поэзии; в его стихах видна «душа воспламеняемая и доступная всему высокому» — так Бестужев писал о Гнедиче; «по меткому употреблению языка» он мог стать «в ряду» с первыми нашими поэтами, — характеристика Баратынского в отношении к Пушкину; «сквозь полупрозрачный покров» его поэзии мелькают живые впечатления жизни — из описания поэзии Ф. Глинки. В текст были вкраплены стихотворные пародии — с парафразами из Жуковского, Ф. Глинки, Баратынского[717].
Цитаты и пародии очерчивали совершенно определенный круг имен. В 1823 году он повторился еще раз — в сатирических куплетах Ореста Сомова. Здесь также были строфы о Гнедиче, который «глазом лишь одним Отличен от Амура», о Федоре Глинке — покровителях молодых поэтов и о «союзе поэтов» — Дельвиге, Баратынском, Кюхельбекере:
Хвала вам, тройственный союз! Душите нас стихами! Вильгельм и Дельвиг, чада муз, Бард Баратынский с вами! Собрат ваш каждый — Зевса сын И баловень природы, И Пинда ранний гражданин, И гений на все роды! Хвала вам всем: хвала, барон, Тебе, певец видений! Тебе, Вильгельм, за лирный звон, И честь тебе, Евгений![718]В «Сатирической газете» третьего номера «Благонамеренного» объявлялось об отдаче напрокат в «Галиматическом магазине» «первого сорта отобранных пиитических выражений, как-то: баловень, сладострастие, упоенье, чаши, былое…». Речь шла более всего о Дельвиге и Баратынском. Тут же сообщалось, что «некто из литературных баловней, недавно вышедший из училища» просит известных поэтов написать ему послание «в эротическом или элегическом роде, с чашами бытия, или с отцветшею душою, или по крайней мере борьбою с роком и т. п., обязуясь ответить двумя посланиями на каждое»[719]. «Чаша бытия» была взята из «Элегии» Дельвига.
В пятом номере Измайлов напечатал «Макарьевнину уху», а некто «П…ъ» из Порхова напал — уже в который раз! — на обзор Бестужева и элегию Кюхельбекера.
В шестом появился очередной «отрывок из журнала» «жителя Васильевского острова» Цертелева; «Новая школа словесности». В нем говорилось, что «пиитическая нагота (по старой школе неблагопристойное), дивное (по ст. шк. вздорное) и таинственное (по ст. шк. бестолковое) составляют главнейшие красоты поэтов новой школы». Примеры приводились из Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Баратынского, Дельвига, — и Пушкина. Пушкина «Благонамеренный» до сих пор избегал задевать, — но Цертелев, раз начавши, уже договаривал до конца. В пример поэтической «наивности» или «пиитической наготы» он приводил «Руслана и Людмилу»:
‹‹О страшный вид! волшебник хилый и проч.Это отрывок из поэмы, посвященной девицам! Желал бы знать, что скажут об нем пииты старой школы и все поклонники патриархальной нравственности?››[720]
Цертелев говорил, по крайней мере, искренно; так же думали и другие патриархальные моралисты, начиная с критиков вроде Воейкова, напавших на «безнравственность» молодого поэта, и кончая теми, кто возмущался устно, а не печатно. Нужно думать, в числе последних было немало и «измайловцев», а может быть, и сам «председатель и отец», — все они забрасывали критическими стрелами «вакхические, сладострастные» стихи Баратынского и Дельвига.
В седьмом номере обнаружился новый «житель» — на этот раз «Петербургской стороны», — выражавший свое недовольство посланием Кюхельбекера «А. С. Грибоедову при отсылке моих „Аргивян“»[721]. Там же граф Дмитрий Иванович Хвостов, не подписавший своей статьи, хвалил издателя за басенку «Макарьевнина уха» и поощрял «унимать» молодых шалунов[722]. Измайлов досадливо отмахивался от похвал «старшего из наших баснописцев», — но на следующих страницах предупреждал «пылких наших молодых писателей», что цензуре «строжайше запрещено пропускать сочинения, не имеющие нравственной и полезной цели; особенно содержащие в себе сладострастные картины или так называемые либеральные, т. е. возмутительные мысли…»[723].
Измайлов объяснял, почему он не печатает присылаемых к нему дилетантских сочинений, — но он не кривил душой, ссылаясь на цензуру. Пушкин вспоминал, что в последние годы александровского царствования благодаря ей вся литература сделалась рукописной. Отыскивались не только политические аллюзии, — запрещались и любовные стихи, если цензор Бируков или Красовский подозревали, что любовь недостаточно нравственна. 15 марта — почти в то время, когда Измайлов печатал свое извещение, — он рассказывал в письме Яковлеву: «Цензурный комитет в чистый понедельник имел рассуждение и положил, дабы в журналах помещаемо было чтение, приличное времени. Вследствие того цензор мой А. С. Бируков просил меня, чтобы я не оскоромил его (он говел на первой неделе) и не давал ему ничего о любви. А Красовский не схотел на первой неделе пропустить у Княжевичей окончание повести „Заблуждение любви“, не запрещая, однако, вовсе сего окончания. Итак, теперь выдет 8 № „Лит. приб<авле-ний>“, а 7-й после 8-го. Вот что делают наши гг. цензоры! Впрочем, я своим доволен.
Из „Сатирической газеты“ все ваши статьи, кроме одной (которая уже напечатана), вымарали, сочтя за личности»[724].
Хотел этого или не хотел Измайлов, но в таких условиях нападки на «сладострастные» и «вакхические» стихи становились почти что указанием на неблагонамеренность авторов. Отсюда приобретала права гражданства формула: «вакхические и либеральные». Между тем нападки не прекращались.
В восьмом номере еще один «житель» — на этот раз уже «Выборгской стороны» — помещает окончание растянувшейся статьи «О переводах», — в том числе о переводах «романтических», в которых надобно как можно чаще употреблять слова «таинственный, сладострастный, былое, туманная даль, молодая жизнь — глаза, не зря смотрящие»…[725]
Набор становился дежурным блюдом «Благонамеренного», как и маски авторов — обитателей разных частей Петербурга.
Вслед за статьей «выборгского жителя» опять появился «житель Васильевского острова» с «отрывком из журнала» «Хорошие стихи». Одобрение Цертелева вызвало, в частности, «Послание к Людмилу» Загоскина, — последнее потому, что в нем содержались привычные для его критического слуха банальности:
…описывай всегда Души растерзанной все бури и ненастья, Цвет жизни молодой, грядущего обет, Бывалые мечты, а пуще сладострастье: Без этого словца в стихах спасенья нет[726].До конца лета 1823 года голос «жителя Васильевского острова» назойливо слышался со страниц измайловского журнала, бесконечно повторяя одни и те же мысли и слова. «…Романтическою поэзиею, которую противополагают обыкновенно классической, называются стихотворения, писанные без всяких правил, утвержденных веками и основанных на истинном вкусе»[727]. Наконец он умолк. «Князь Цертелев уехал в Тамбов, — сообщал Измайлов Яковлеву 24 августа, — он определен смотрителем училищ тамошней губернии. Как романтики на него сердиты! И мне за них достается»[728].
Цертелев вел основную партию; другие лишь аранжировали. Сам Измайлов ограничивался мелкими уколами, вроде объявления о подписке на книгу Аполлона Галиматьина, малолетнего члена общества литературных баловней[729]. Остолопов напечатал сказку «Мелководие Леты»: в ней рассказывалось, что вздор Бавия не мог утонуть в реке забвения, потому что она была засорена сочинениями «новошкольников романтиков-поэтов»[730]. Один Федоров взял на себя функции Цертелева в стихах: он написал сатирическое послание «К некоторым поэтам», напечатанное, впрочем, позже[731], — и ему же принадлежало анонимное «Сознание», где он скромно выводил себя из числа шумных поэтов, прославляющих друг друга:
Не постигал, невежда, я, Как можно, дав уму свободу, Любви порхать по огороду, Лить слезы в чаше бытия! Как конь взвивался над могилой, Как веет матери крыло Знакомое, как бури силой Толпу святую унесло!Здесь были задеты те же поэты и почти те же произведения, что и в «союзе поэтов», — Дельвиг с «Моим домиком», «Элегией» и «Романсом»; Баратынский, — но к ним добавился и Василий Туманский, чье «Видение» и «Черная речка» на некоторое время приняли на себя критический удар «Благонамеренного».
Одна цитата была взята из послания Баратынского Пономаревой:
Очей, увлажненных желаньем — Певца Гетер — у люльки Рок — Уста, кипящие лобзаньем — Я — как шарад — понять не мог[732].Федоров приоткрыл свое авторство, когда поместил в августовском номере «Разговор о романтиках и о Черной речке», где разбирал стихи Туманского и перефразировал те же стихи, что и в «Сознании». «Шиллер, Байрон, Мур, Жуковский и Пушкин, почитаемые образцовыми писателями в романтическом роде, — замечал он, — скорее отказались бы от славы своей, чем согласились считаться однородными певцами любви кипящей, Гетер и проч., окружающим свои „он, она, ее“ сплетением бессмыслиц и противоречием понятий: беспокойством тихих дум, говорящим молчаньем, веющим сном, знакомыми незнакомцами»[733].
Этот «разговор» был подписан почти так же, как «Союз поэтов»: «Д. В.р. ст-въ».
Нет, все же Федоров был не Цертелев. Ему не хватало примитивной откровенности «жителя Васильевского острова». Тот поднимал руку и на Пушкина, и на Жуковского, и на Батюшкова; этот уже отделяет «истинных» романтиков от «самозванцев» и готов отдавать должное первым. Здесь была и дипломатия, — но не только она: Федоров сам испытал влияние романтической поэзии. С другой стороны, в нем говорил и чиновник: все же он был секретарем при директоре департамента духовных дел иностранных исповеданий, — а директором этим был А. И. Тургенев, ближайший друг Жуковского и покровитель Пушкина, — и вряд ли он был доволен цертелевскими художествами. Как бы то ни было, Федоров соблюл некоторую осторожность в суждениях, — и это должно было удовлетворить и самого Измайлова, который отдавал должное поэзии молодого Пушкина еще при начале его деятельности. Судьба сыграла, впрочем, с Федоровым забавную шутку: через три года он будет собирать альманах, и Жуковский даст ему свой отрывок «Невыразимое», написанный еще в 1819 году; весь этот отрывок будет построен на той самой идее «говорящего молчанья», которую Федоров объявлял ложно-романтической и противоречащей поэтическим принципам Жуковского; именно в издании Федорова впервые появится строчка:
И лишь молчание понятно говорит.Но это случится уже в другую эпоху: время идет быстро. Сейчас мы находимся в середине лета 1823 года, когда «новая школа поэтов», доселе молчавшая или отшучивавшаяся, готова принять бой.
* * *
Баратынский приехал в Петербург летом и сразу же попал в самый кипяток чернильной войны. Литературные его связи к этому времени очень укрепились. Рылеев и Бестужев предложили ему стать издателями книжки его стихов. Из других литераторов за пределами «союза поэтов» он особенно тяготел к Гнедичу, которому написал большое послание:
С тобой желал бы я беседовать опять, Муж дарованьями, душою превосходный, В стихах возвышенный и в сердце благородный!Эти стихи — «Н. И. Гнедичу» — появляются в шестой книжке «Новостей литературы» за 1823 год.
Гнедич втянул его в совместный перевод трагедии Александра Гиро «Маккавеи». Переводить собирались впятером — каждый по акту — Дельвиг, М. Е. Лобанов, Рылеев, Баратынский, Плетнев. Гнедич хотел поставить эту новинку с Семеновой в главной роли. Из замысла, впрочем, ничего не вышло: Дельвиг перевел небольшой фрагмент и оставил работу. Баратынский взялся было, но так, кажется, ничего и не перевел и потом извинился перед Лобановым, ссылаясь на перемену места пребывания, недосуг и неспособность. Один Плетнев выполнил обещание и аккуратно представил второе действие в конце ноября 1823 года[734].
Зато все трое написали по посланию к Гнедичу; Плетнев — еще в 1822 году, Дельвиг — почти одновременно с Баратынским, в августе 1823 года[735].
«Союз поэтов», Гнедич, Глинка — это была именно та группа, которую иронически чествовал Сомов своими куплетами на манер «Певца во стане русских воинов».
По стихам Баратынского, обращенным к Гнедичу, — посланию «Н. И. Гнедичу» и другому, о котором далее пойдет речь, — мы можем предположительно представить себе, как проходило их литературное общение. При всей своей близости к «союзу поэтов» Гнедич оставался «классиком», и собственно лирическая поэзия «новой школы» казалась ему недостаточно значительной. «Возвышенную цель поэт избрать обязан» — так определял Баратынский содержание советов, полученных от Гнедича, — и это вполне соответствовало тому, что провозглашал Гнедич еще в 1821 году. Баратынский готов был согласиться с этим, — но «цель» Гнедич понимал как социальную дидактику, для Баратынского же она заключалась в философской идее. Поэтому, когда Гнедич стал побуждать его обратиться к сатирическому жанру, он ответил философским рассуждением, — и оно было тронуто тем общественным скептицизмом, который как раз в 1823 году стал охватывать самые передовые круги русского общества. Сатира не исправляет нравы, как иной раз думали в прошлом веке. Она способна вызвать лишь раздражение, не говоря уже о том, что сам сатирик должен ощущать в себе право поучать общество. Талант — не порука за беспристрастие.
Да и сами предметы сатирического осмеяния далеко не всегда заслуживают общественного обличения. Так, дурные поэты пусть останутся при своих слабостях — как частные лица они могут быть даже привлекательны.
Баратынский написал сатиру о невозможности писать сатиры.
Эту мысль высказывал когда-то еще Буало, учитель русских сатириков нескольких поколений, и она сохранялась в старинных образцах жанра со времени Сумарокова. Но время наполняло ее обновленным содержанием. Вместе с тем — и это также был излюбленный и проверенный прием — Баратынский включил в свое рассуждение полемический пассаж, в котором набросал портреты литературных врагов. Он все же ответил «Благонамеренному» и в этом смысле последовал полученному совету. И Гнедич знал, что говорил и кому говорил: после высылки Пушкина Баратынский был единственным настоящим сатириком-полемистом в «союзе поэтов»; Дельвиг, охотно писавший шутливые эпиграммы, печатной полемики не любил. Он прохладно относился и к сатирам Баратынского «в несчастном роде дидактическом», как он определял годом позднее его послание «К Богдановичу». Он находил в них «холод и суеверие французское», свидетельствовавшие, что Баратынский не изжил в себе классическое воспитание[736]. Тем не менее он отправил Пушкину новое сочинение общего их приятеля — «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры».
Мы знаем об этом по письму Пушкина к Дельвигу от 16 ноября 1823 года. Стало быть, сатира была послана ему самое позднее в октябре месяце.
Именно о ней идет речь в письме Рылеева Баратынскому, написанном 6 сентября:
«Милый Парни! Сатиры твоей не пропускает Бируков. На днях пришлю ее к тебе с замечаниями, которые, впрочем, легко выправить. Жаль только, что мы не успеем поместить ее в „Звезде“, в которую взяли мы „Рим“, „К Хлое“ и „Признание“»[737].
В это время Баратынского уже нет в Петербурге: он уехал опять в Финляндию. Неделей позже к нему отправился Дельвиг[738].
Итак, новое послание к Гнедичу становится известно в Петербурге в августе 1823 года, — в то время, когда достигает предельной точки критическое напряжение в «Благонамеренном». При этом Баратынский не пускает его по рукам, как ранее, а намерен его обнародовать в «Полярной звезде», сделав полемической декларацией целой группы молодых поэтов.
Признаться, в день сто раз бываю я готов Немного постращать Парнасских чудаков, Сказать, хоть на ухо, фанатикам журнальным: Срамите вы себя ругательством нахальным; Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд И травлей авторской смешить гостиный ряд? Россия в тишине, а с шумом непристойным Воюет «Инвалид» с «Архивом» беспокойным…Журнальные свары Воейкова и Булгарина. Первые шаги «коммерческой», «торговой» словесности.
…Сказать Панаеву: не музами тебе Позволено свирель напачкать на гербе[739].Этот выпад вызвал в кругу «Благонамеренного» особое раздражение.
Почему кипели страсти вокруг имени Панаева? Он устранялся от полемик в печати; ни одного его выступления против «новой школы» мы не знаем. Неужели только из-за той роли, какую он играл в пономаревском кружке?
Чисто личные счеты? Любовное соперничество?
Вряд ли это так. Соперничество могло подогреть страсти, но не возбудить их. Оно придавало литературным разногласиям оттенок личной вражды.
Вспомним, что кружок Измайлова выдвигал Панаева как образцового поэта, которого можно противопоставить «романтикам».
«Русский Геснер», безукоризненный по благонамеренности и нравственности…
Кто не любит Геснера? — риторически спрашивал переводчик декларативного «Опыта об идиллии», — и Измайлов делал примечание под строкой: «Романтические поэты так называемой Новой школы. Изд.»[740].
В марте некто, скрывшийся под числовой анаграммой «4», что соответствовало букве «Д» или «Г», напечатал сонет «К Панаеву», где говорил о «недругах», клевещущих на «любимца муз», которого ждет венец в потомстве; о «зависти и гоненье», испокон веку преследующих истинное дарование[741].
А в № 16 «Благонамеренного», вышедшем в свет как раз в то время, когда стала распространяться сатира, — билет на него был получен 6 сентября[742] — был помещен целый поэтический венок Панаеву. Поводом для стихотворных посвящений служило обстоятельство вполне ординарное и непоэтическое. Панаев получил очередной чин.
Поэт-сослуживец, укрывшийся за инициалами «И. Т.», — вероятно, Иван Талбаев, член «михайловского общества», время от времени помещавший у Измайлова мелкие стихотворения, приветствовал начальника дружески почтительным посланием «Новожалованному коллежскому асессору».
Давно ли, сидя в кабинете, Вдвоем мы строили мечты И, забывая все на свете, Друг другу говорили: ты? Теперь прощай, уединенье! И ты, о дружество, прощай! Увы! О рангах уложенье Гласит: чин чина почитай. <…> И как советник титулярный Дерзнет с асессором иметь Знакомства образ фамильярный Или как с другом с ним сидеть?.[743].«Благонамеренный» открывал новую страницу в истории русской лирики. Существовали шуточные послания, написанные языком профессиональных военных, признания в любви моряков и даже портных. Но там была стилизация, гротеск. Послание «И. Т.» было, конечно, тоже шуточным, но самая идея его была плодом департаментского вдохновения. Это была лирика титулярных советников.
Пушкин писал о «шутках коллежского советника Измайлова» и об «идиллическом коллежском асессоре Панаеве»[744]. «Благонамеренный» был для него журналом чиновников.
В том же шестнадцатом номере было напечатано два альбомных стихотворения, адресованных Панаеву. «Вл.» — видимо, Владислав Княжевич — аттестовал его как любимого певца муз. Поэт «И. Ч.» желал ему всех возможных благ фортуны, даров дружбы и любви, здоровья, радости и, наконец, «еще венка в лучах» от муз и от Славы, — по-видимому, один Панаев уже имел[745].
«И. Ч.» был Иван Богданович Чеславский, тот, который, как мы думаем, был выведен в «Певцах 15-го класса». В «михайловском» обществе он быстро двигался вверх и в январе 1824 года был избран помощником председателя[746].
Наконец, присоединились и родственники. Через несколько месяцев Ф. Рындовский, муж сестры Панаева, выступит с печатным посланием свояку и уверит его, а заодно и читателей журнала, что он в своих идиллиях изобразил подлинного человека, близкого к природе, и, в частности, хорошо описал его, Рындовского, жену, а свою сестру[747].
Человеку с умом и дарованием вряд ли могли льстить эти домашние похвалы, — а Панаев не был лишен ни того, ни другого. Но это был тот круг, в котором он находил признание. У него хватило выдержки, дипломатии и такта, чтобы при создавшемся положении не выступать явно против молодых поэтов, не признававших за ним всех этих достоинств, и принимать молчаливо почести от своих приятелей и родных. Но он препятствовал проникновению молодежи в домашний пономаревский кружок. И не только из личных видов. Здесь была враждебность органическая.
Плетнев в 1845 году рассказывал в письме к Гроту, что Панаев не уважал никогда «лучшей нашей литературной школы»[748]. Теперь эта школа высказала свое уничтожающее мнение о его стихах.
В одном из списков сатиры Баратынского к стихам о Панаеве есть любопытное примечание:
‹‹В гербе Панаева, данном еще предкам его, находится свирель. Г. Ческий, прочитав стихи сии, сказал:
Сказать сатирику: за этот суд тебе Достойно вырезать пук палок на гербе››[749].Мы теперь знаем, кто был этот защитник: конечно же, И. Б. Чеславский, поэтически клявшийся Панаеву в преданности. Он пошел в своей защите по уже проторенному пути насмешек над «унтерством»: «пук палок» — это телесное наказание, от которого унтер Баратынский избавлен дворянской грамотой.
В печати же он высказался еще раз, опубликовав «аполог» «Алмаз и гнилушки», где, как можно думать, осторожно и обобщенно коснулся именно описанных нами событий:
Прямой талант (пусть Гении заметят!) Сияет только там, где Истины лучи; Во тьме ж пристрастья, как в ночи, Алмаза не видать, гнилушки светят![750]С Панаева начинался перечень «дурных поэтов», он был вынесен на первые места в этой иерархии. Далее сатирик переходил к Измайлову и «измайловцам»:
Сказать Измайлову: болтун еженедельный, Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной И в ней ты каждого убогого умом С любовью жалуешь услужливым листком. И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный, И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный, С тобою заключа торжественный союз, Несут к тебе плоды своих лакейских муз.Нам теперь понятно, что означает «Сомов безмундирный». Это ответ на эпиграммы об унтерском мундире, которые Баратынский, по-видимому, приписывал Сомову, — и одновременно намек на неслужащего литератора.
Этот двойной смысл строки был не вполне понятен тем, кто не был знаком с деталями полемики: они читали строку только в прямом ее значении и были шокированы бестактностью нападок.
Граф Хвостов, собиравший рукописную литературу, сделал на своем списке примечание: «Послание Баратынского хорошо, но жаль, что подленько: многие личности на безмундирного и других препятствуют оное напечатать…»[751]
Почти так же высказывался Пушкин, прочитав присланный Дельвигом список: «Сатира к Гнед<ичу> мне не нравится, даром, что стихи прекрасные; в них мало перца; Сомов безмундирный непростительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная кол<лежского> сов<етника> Измайлова»[752].
Отзыв Пушкина, без сомнения, стал известен Баратынскому, и он изменил строку о Сомове. Мы можем утверждать это с большой степенью вероятности, потому что существует несколько современных списков сатиры, содержащих варианты как раз этой и ближайших строк:
И Фертелев блажной, и Яковлев мудреный, И наглый Пасквинель, и Арфин заклейменый…«Безмундирный» убран, но характеристика стала жестче, и то же произошло с «Пасквинелем» — Федоровым. О Яковлеве, напротив, сказано мягче. Но при всех различиях их музы оставались сходны по «лакейской» своей сущности. Баратынский писал памфлет, эпиграмму. Только Измайлов удостоился сатирического портрета:
Тобой предупрежден листов твоих читатель, Что любит подгулять почтенный их издатель. А я тебе скажу: по мне, пожалуй, пей, Но ум не пропивай и дело разумей.Парафраза крыловской басни была ответом на старое стихотворное объявление в «Благонамеренном». Еще в 1820 году Измайлов винился перед своими подписчиками за опоздание шестой книжки:
Как русский человек, на праздниках гулял; Забыл жену, детей, не только что журнал[753].Объявление сделалось крылатым словцом; оно пристало к имени Измайлова, как к имени Хвостова его простодушное признание: «… люблю писать стихи и отдавать в печать». Оно переходило от поколения к поколению. Через десятилетия читатели, забывшие о «Благонамеренном», помнили, однако, что Измайлов «гулял на праздниках» когда-то в незапамятные времена.
Баратынский закреплял в сатире облик «русского Теньера», «писателя не для дам», которому дал литературную жизнь еще Воейков в «Доме сумасшедших»:
Измайлов, например, знакомец давний мой, В журнале плоский враль, ругатель площадной, Совсем печатному домашний не подобен, Он милый хлебосол, он к дружеству способен: В день пасхи, рождества, вином разгорячен, Целует с нежностью глупца другого он…Портрет был похож, и нравился. А. Ф. Рихтер, член «ученой республики», послал список графу Хвостову с сопроводительным письмом от 11 января 1824 года, где писал: «Из Петербурга один добрый приятель нашего доброго г. Измайлова прислал мне сатиру Баратынского <…> сия сатира не вся мне понравилась, исключая конец оной, где г. Измайлов со своим причетом изображен со всей желчью сатирика. Надобно признаться, что портрет г. Измайлова лучше всех нарисован и здесь сатирик показал свое искусство и умение чувствовать смешное»[754].
Этот фрагмент оканчивался, как и начинался: именем Панаева:
Панаев в обществе любезен без усилий И, верно, во сто раз милей своих идиллий.Отвергая литератора, Баратынский признавал достоинства в личности. Но даже и этот отзыв холодно-церемонен, и в нем прорывается скрытая неприязнь. Портрет Измайлова живее и теплее.
Сатира Баратынского шла по рукам. Вероятно, имена были зашифрованы, — впрочем, достаточно прозрачно. Арфин (Сомов), Аркадии (Панаев) — псевдонимы «Сословия друзей просвещения».
Ближайшие сотрудники Измайлова делают для себя списки. «Приятель», о котором писал Рихтер, — может быть, Остолопов; до нас дошел список, сделанный его рукой. Остолопов, подобно Хвостову, собирал материалы для закулисной истории словесности; остались листы из его тетради, в которой хранились стихи, не увидевшие печати.
Рихтер отправил сатиру Хвостову 11 января 1824 года. Стало быть, в кругу Измайлова ее читали уже осенью или зимой 1823 года, — вскоре после того, как ее не пропустил цензор Бируков. Рылеев еще надеялся, что ее можно будет «выправить» по замечаниям, — но он ошибался: выправить ничего было уже нельзя.
* * *
Шла цепная реакция разрывов и охлаждений.
Большая война шла в «михайловском обществе»; малая — но, быть может, еще более драматическая — разрывала пономаревский кружок. И здесь Панаеву принадлежала уже безусловно первая роль.
Для Софьи Дмитриевны тянулись мучительные дни прощания — ранние утра в Летнем саду, слезы, жалобы, воспоминания. Под знаком этих встреч проходила теперь ее жизнь, — но, возвращаясь домой, она должна была казаться спокойной, если не веселой. Испытание тяжкое; для натуры капризной, импульсивной и властной едва ли не непосильное, — и мы без труда представим себе, чего ей стоило подавлять в себе поднимающееся раздражение против прежних своих поклонников.
Все это — и душевное смятение, и душевная подавленность — принадлежит к области психологических гипотез и действительно, как замечал А. Веселовский, является скорее достоянием романиста, нежели историка культуры. Но есть сферы, где документы отсутствуют или они бессильны. Нет ни писем, ни дневников Пономаревой; нет вообще ни одного современного письма или дневника, который бы объяснял нам, что происходило во второй половине 1823 года в маленьком кружке, объединявшем больших русских поэтов и в центре которого продолжала оставаться женщина, которой ничто человеческое не было чуждо. То же, что происходило в нем, было фактом истории культуры, потому что порождало поэтические ценности, образовавшие эстетическое сознание поколений. Мы располагаем только воспоминаниями Панаева, развернутыми во времени, да несколькими стихотворениями неизменного Измайлова за сентябрь — октябрь 1823 года. Стихи эти, впрочем, весьма любопытны и отчасти могут заменить дневниковые записи. В них прямо сказано то, что лишь намечалось в его посвящениях, датированных мартом — июнем. Кажется, в первый раз он задет и обижен не на шутку — уже не просто непостоянством, но явной холодностью предмета своих воздыхании.
НОВОЙ ЭЛОИЗЕ
Как платье черное к лицу вам! Как пристало! Ах! если б к трауру из крепа покрывало И на цепочке золотой Крест с бриллиантами — подобны были б той Игуменье и умной, и прекрасной, Которую любил так Абелард несчастный. В одной науке вы должны ей уступить: Вы не умеете… любить. (5 сентября 1823)Через неделю он возвращается к той же теме в поздравительных стихах:
С. Д. П.
В ДЕНЬ ЕЕ ИМЕНИН
Премудрости вам имя дали, И правду молвить, вы отменно мудрены! Кого собой вы не пленяли?..Он написал сначала «прельщали», но потом счел за благо поправить.
…А не были еще ни разу влюблены![755] (13 сент. 1823)До чего непроницательны мужчины! Панаев уезжал в эти дни, или уже уехал, — и едва ли не потому появилось и черное платье. Понятно, что Измайлов ничего не мог знать о тайных прощаниях в Летнем саду, — но он вообще ни о чем не догадывался и сыпал соль на свежую рану. Может быть, он, впрочем, связывал как-то поведение Софьи Дмитриевны с влиянием Дельвига; во всяком случае, между двумя посвящениями он написал резкую и раздраженную басню «Роза и репейник»:
Репейник возгордился! Да чем же? — с Розою в одном саду он рос.* * *
Иной молокосос, Который целый курс проспал и проленился, А после и в писцы на деле не годился, Твердит, поднявши нос: «С таким-то вместе я учился». Хорош тот, слова нет — ему хвала и честь, Да что, скажи, в тебе-то есть.В рукописи вместо «такого-то» стояла фамилия Пушкина.
Измайлов отдал басню печатать в «Благонамеренный», конечно, без имени Пушкина, чтобы памфлет не был уже вовсе пасквилем. Искушенный читатель, однако, легко подставлял имена. Выпад против Дельвига не был новостью; новым был только явно враждебнй тон. Конечно, Измайлов был сердит и сводил счеты со всеми «баловнями-поэтами», но вместе с тем похоже, что Дельвиг чем-то особенно его раздражил в сентябре 1823 года. Менялись отношения в маленьком кружке; хозяйка отдалялась от прежних поклонников, и можно было уже печатно выругать одного из ее избранников, не слишком опасаясь ее гнева. Измайлов записал басню в ее альбом, — впрочем, в печатном варианте. Под этим автографом — пояснение Акима Ивановича Пономарева:
«Писано на счет А. С. Пушкина и барона Дельвига по случаю одного разговора»[756].
Басня была написана 11 сентября, а номер «Благонамеренного» с ней вышел 24 числа[757], как раз накануне дня рождения Софьи Дмитриевны. На следующий день Измайлов принес ей обязательные поздравительные стихи:
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С. Д. П.
Чего вам пожелать для вашего рожденья? Вы не обижены Природой и Судьбой: Умны, любезны вы и хороши собой, Прелестны!.. Нужно ль что еще для наслажденья? Хотел бы речи дать здесь оборот другой, Но сердце не всегда находит выраженья. (25 сент. 1823)[758]За «репейника» Софья Дмитриевна не вступилась, но, видимо, и мадригалы ее придворного поэта сделались ей пресны. Во всяком случае, это было последнее известное нам поэтическое обращение к ней Измайлова осенью 1823 года. Произошел ли какой-то разговор или просто она избегала общения, — мы не знаем. 11 октября Измайлов был на дне рождения у А. Княжевича, по соседству с Пономаревыми, на той же Фурштадтской улице, — и принес стихотворение, которое Остолопов снабдил тут же своим, также стихотворным, комментарием. В нем в шутливой, конечно, форме говорилось о разрыве:
А. М. КНЯЖЕВИЧУ
В день твоего рожденья, О тезка милый мой! дай бог, Чтобы вкусить ты мог Все радости, все наслажденья И чтоб по слуху знал слепой любви мученья. Уж так и быть, И я за ум примуся И с нынешнего дня, клянуся, Не буду жен чужих любить; А если не уймуся, При всех себя позволю бить. 11 октября 1823.ПРИПИСКА Н. Ф. ОСТОЛОПОВА
Не будет более он в улице Фурштадтской[759]. Ручаюсь в том. Советник статской О…[760]Все эти экспромты стоило прочитать хотя бы потому, что за ними стояла психологическая ситуация, намеченная в общих чертах мемуарами Панаева. А она, в свою очередь, поясняет нам отчасти телеологию двух любовных «циклов», один из которых принадлежал Баратынскому, а другой Дельвигу.
* * *
В середине 1823 года в лирике Баратынского и Дельвига зарождается и крепнет устойчивая тема разлуки, измены, угасания любовного чувства.
Стихи Баратынского, обращенные к Пономаревой, полны теперь упреков и полувысказанных жалоб.
Неизвинительной ошибкой, Скажите, долго ль будет вам Внимать с холодною улыбкой Любви укорам и мольбам? Одни победы вам известны; Любовь нечаянно узнав, Каких лишитеся вы прав И меньше ль будете прелестны?[761] (К жестокой)Баратынский словно повторял — на ином уровне — то, что писал Пономаревой Измайлов в своих мадригалах. Он полушутя предлагал красавице попеременно быть то другом, то поклонником, уверяя, что любовь его ничуть ее не стеснит. Но в изящных шутках его ощущается какая-то отчужденность. По-видимому, в это время пишется его «Размолвка»: она печатается в «Новостях литературы» в октябре, когда уже Баратынский вернулся в полк, и, вероятно, пишется по следам летних впечатлений — и передается Воейкову тогда же, в этот приезд.
Прости сказать ты поспешаешь мне, — И пылкое любви твоей начало Предательски безумца обласкало. Все видел я — и видел все во сне! Ты, наконец, мне взоры прояснила; В душе твоей читаю я теперь. Проснулся я, — и мне легко, поверь, Тебя забыть, как ты меня забыла. Кого жалеть? Печальней доля чья? Кто отягчен утратою прямою? — Легко решить: любимым не был я; Ты, может быть, была любима мною[762].Никто из комментаторов этого маленького стихотворения не называл Пономареву адресатом, — но и по времени, и по теме, и по тональности оно очень точно вписывается в «пономаревский цикл». В 1826 году или даже ранее, перерабатывая его для собрания стихотворений, Баратынский совершенно изменил начало, сделав его лаконичнее, строже и жестче:
Мне о любви твердила ты шутя И холодно сознаться можешь в этом.Баратынский писал не о размолвке, а о разрыве — и, конечно, поэтому заменил и первоначальное заглавие: теперь стихи назывались «Элегия». Их психологическая ситуация удивительно напоминает ту, которая постоянно возникала между Пономаревой и ее побежденными и сломленными поклонниками; ту, которую видел и описал сам Баратынский:
Достигнув их любви, моленьям жалким их Внимаешь ты с улыбкой хладной…Но для Баратынского эта ситуация все же складывалась иначе; он не был испепелен «страстью жадной» и потому мог анализировать происходящее и играть интеллектуальными парадоксами. Движение лирического сюжета в «Размолвке» изящно и слегка рационально, — и почти то же мы видим в другом стихотворении этого же времени с еще более утонченным анализом диалектики полулюбовного-полудружеского чувства:
Зачем живые выраженья Моей приязни каждый раз В Вас возбуждают опасенья И возмущают даже Вас? Страшитесь вы (страшитесь, право) — Не взволновали ль Вы мне кровь, И голос дружества любовь Не принимает ли лукаво?[763]Мы цитируем первую редакцию послания «К…» («Мне с упоением заметным…»). Первые издатели озаглавили его «Г. З.», полагая, что оно относится к графине А. Ф. Закревской, — но это ошибка. Стихи были напечатаны в июльской книжке «Новостей литературы» за 1824 год, — за несколько месяцев до знакомства с Закревской. Новейшие исследователи предполагают, что стихи обращены к С. Д. Пономаревой[764].
Это очень вероятно. Именно так складывались теперь отношения с Софьей Дмитриевной: сначала легкое кокетство, дружеская короткость, amitiй amoureuse, — затем влюбленность и охлаждение, — без сомнения, взаимное.
Но в жар краса меня не вводит: Тяжелый опыт взял свое. Я захожу в приют ее, Как вольнодумец в храм заходит.В поздней редакции Баратынский поставил: «я захожу в ваш милый дом».
Душою праздный с давних пор, Вам лепечу я нежный вздор: Увы! беру прельщенья меры, Как он порою в храме том Благоуханья жжет без веры Пред сердцу чуждым божеством.* * *
А что же Дельвиг, по прихоти судьбы ставший счастливым соперником ближайшего своего друга?
Мы оставили его в середине 1823 года, когда во взаимоотношениях его с Софьей Дмитриевной обозначился перелом, отразившийся в его стихах:
Наяву и в сладком сне Все мечтаетесь вы мне, Кудри, кудри шелковые, Юных персей красота, Прелесть — очи и уста, И лобзания живые.Это — «Песня», написанная, вероятно, в начале 1824 года.
Ночью сплю ли я, не сплю — Все устами вас ловлю, Сердцу сладкие лобзанья! Сердце бьется, сердце ждет — Но уж милая нейдет В час условленный свиданья.И на соседних страницах — в той же тетради:
Протекших дней очарованья, Мне вас душе не возвратить! В любви узнав одни страданья, Она утратила желанья И вновь не просится любить[765].Все это — «общие места» элегической поэзии: они многократно повторяются у разных поэтов с разными вариациями. Но за общими местами просматриваются иной раз индивидуальные биографии, обретающие в них свой язык. У нас есть достаточно оснований думать, что перед нами именно такой случай. Роман Дельвига оканчивался, едва начавшись, — такова была судьба всех, кого Пономарева приближала к себе, руководимая мгновенно вспыхнувшим чувством, острым интересом к творческой личности, жаждой самоутверждения, капризом или тщеславием. Исключением, как мы уже знаем, был Владимир Панаев.
Вместе с романом Дельвига оканчивался и любовный цикл, завершаясь стихами о разлуке, тоске неудовлетворенного чувства, страданиях одиночества. По-видимому, это происходит в начале 1824 года.
В 1826 году Дельвиг будет рассказывать своей молодой жене «о некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла и которую он перестал любить задолго до ее смерти»[766]. Это была полуправда, — во всяком случае, не вся правда. Всего три года отделяли этот рассказ от первых любовных стихов «пономаревского цикла».
Вероятно, не случайно до нас не дошло никаких свидетельств о внутренней жизни кружка в начале 1824 года. Отшумели журнальные бури, улеглись любовные страсти, жизнь развела прежних соперников. Не было ни Яковлева, ни Панаева, ни Баратынского; отдалились Сомов и Дельвиг; один Измайлов, друг всего семейства, разделял его радости и горести. Кружок оканчивал свое существование; за 1824 год нет и записей в альбоме Пономаревой.
Существует, впрочем, один рассказ, на котором нам следует остановиться, ибо мемуаристы, сохранившие его, связывают его именно с домом Пономаревой, — и относится он к началу 1824 года.
Его обнародовал впервые В. П. Гаевский, биограф Дельвига, со слов Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата поэта, и лицеиста второго выпуска князя Д. А. Эристова, в начале 1820-х годов близкого всему дель-виговскому кружку.
Гаевский передавал, что на одном из пономаревских вечеров разговор обратился к пародиям, которые в то время входили в моду <…>. Измайлов, любивший пародию, придавал этому роду особенную важность; Дельвиг, напротив того, утверждал, что не может быть ничего легче, как сочинить пародию на любое стихотворение. Измайлов потребовал, чтобы Дельвиг, в доказательство этой легкости, немедленно написал пародию на переведенную Жуковским сказку Вальтер-Скотта «Замок Смальгольм» (впоследствии названную «Смальгольмский барон»), в то время известную еще немногим. Все общество выразило то же самое желание, и Дельвиг через несколько минут прочитал следующее:
До рассвета поднявшись, извозчика взял Александр Ефимыч с Песков И без отдыха гнал через Лигов канал В желтый дом, где живет Б…ов. · · · · · · · · · · · · · · · В черном фраке был он, был тот фрак запылен, Какой цветом — нельзя распознать, Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан, Двадцатифунтовая тетрадь.«Эти два стиха привел и сам Измайлов в своей шуточной поэме „Рыжий конь“ (Сочинения Измайлова, т. II, стр. 541), — делал примечание Гаевский. — Они перепечатаны и в третьей статье А. Д. Галахова об Измайлове (Современник, 1850 г. № XI, Критика, стр. 55), с указанием, что принадлежат Дельвигу».
«Вот к полудню домой возвращается он В трехэтажный Моденова дом».К этим строчкам опять примечание трудолюбивого библиографа: «Измайлов жил, как сказано и в объявлении о подписке на „Благонамеренный“ на Песках, против Бассейна, в каменном трехэтажном доме Моденова, под № 283.
…Его конь опенен, его ванька хмелен И согласно хмелен с седоком. Б…ова он дома в тот день не застал. и т. д.Добродушный Измайлов, разумеется, не обиделся этой невинной шутке, первый смеялся над ней от души и потом часто читал ее своим приятелям. Впоследствии, года через три, Дельвиг на одном из своих литературных вечеров читал эту пародию Жуковскому, который слушал ее с большим удовольствием, потом часто говорил о ней и даже вспоминал об этой шутке еще за несколько лет до своей смерти, встретившись с двоюродным братом поэта».
Последние сведения были Гаевскому сообщены самим А. И. Дельвигом, а текст пародии — Дельвигом и Эристовым.
В. П. Гаевский, как мы сказали, был очень добросовестным исследователем, но в его рассказе есть неточностичастью непреднамеренные, частью вынужденные.
Непреднамеренные появлялись там, где Гаевскому были неизвестны факты и взаимоотношения, о которых мы знаем сейчас. Его рассказ слишком идилличен: он не знал многого о той внутренней борьбе, которая совершалась подспудно в пономаревском обществе.
Вынужденные неточности и умолчания происходили от невозможности опубликовать все, что он знал. Так, он знал продолжение пародии, осмеивающее Федорова, — но Борис Михайлович был еще жив и даже снабжал Гаевского материалами. И имя цензора Бирукова, умершего всего за десять лет до его статьи, он вынужден был заменить инициалами, потому что «желтый дом» в пародии — не только цвет стен, но и общепонятное обозначение дома сумасшедших.
В начале семидесятых годов сам А. И. Дельвиг начал писать свои мемуары, необыкновенно точные и объективные. Он ничего уже не должен был скрывать, ибо, передавая их в Румянцевский музей в 1886 году, разрешил публикацию только в 1910 году, когда все, рассказанное им, станет глубокой историей. И он заново описал сцену, украсив ее некоторыми важными деталями[767].
«Когда Жуковский написал „Замок Смальгольм“, — читаем мы у Дельвига, — все прельщались этим стихотворением и, между прочим, Пономарева, которая сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче, и, ходя по комнате с книгою, в которой был напечатан „Замок Смальгольм“, он его пародировал очень удачно»[768].
Итак, двоюродный брат поэта настаивал на том, что пародия возникла в доме Пономаревой, — но инициатором ее была сама хозяйка, а не Измайлов. Это косвенно подтверждается тем обстоятельством, что сам Измайлов впервые услышал о ней только в начале 1825 года.
«…Ходя по комнате с книгой…» Дельвиг любил импровизации и сам владел этим искусством еще в ранние годы. Если эта деталь верна, а не является плодом воображения мемуариста, она очень важна: она указывает время, когда сочинялась пародия. Дело в том, что «книга», где был напечатан перевод Жуковского, — вторая книжка «Соревнователя» за 1824 год — вышла в свет в первых числах февраля.
Измайлов же впервые упоминает о пародии Дельвига в письме Яковлеву от 6 января 1825 года — почти через год, — притом же говорит о ней как о новинке. И — здесь мемуаристы совершенно точны — он не обижен, а скорее доволен. «Дельвиг сделал очень удачную пародию из „Дунканова вечера“ (так звучало в одном из вариантов название „Смальгольмского барона“), — пишет он. — „На рассвете поднявшись, извозчика взял Александр Ефимыч с Песков…“ Как досадно! не припомню далее и Княжевичи тоже, содержание баллады (впрочем, еще не конченной): я еду во фраке, который запылен, и никто не знает, какого цвета он, а в боковом кармане у меня 20-фунтовая тетрадь — еду в желтый дом, где живет Бируков… потом вижу Борьку…»
Не с Цертелевым он совокупно спешил На журнальную битву вдвоем, Не с романтиками переведаться мнил За баллады, сонеты путем.Уже знакомые нам лица, сюжеты, полемики. И в них дело не обходится без «наглого Пасквинеля». Но Дельвиг не негодует, а шутит, хотя и не без сарказма. Измайлов не сообщает Яковлеву о том, в каком виде он предстает перед «Борькой», а «Борька» перед ним, — ибо строчки далее шли не слишком лестные:
Но изорван был фрак, на манишке табак, Ерофеичем весь он облит. Не в парнасском бою, знать, в питейном дому Был квартальными больно побит. Соскочивши на Конной с саней у столба, Притаяся у будки, стоял; И три раза он кликнул Бориса-раба, Из харчевни Борис прибежал[769].Позднее Дельвиг с самым серьезным видом показывал своей молодой жене и Анне Петровне Керн эту будку. «Вот на этом самом месте соскочил с саней Александр Ефимович с Песков и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова», — и обе его спутницы «очень смеялись этому точному указанию исторической местности»[770].
«…Потом вижу Борьку, — пересказывал Измайлов содержание пародии, — и кличу его:
Ты поди ко мне, Борька, мой трагик плохой!Сажаю его к себе на брюхо. Борька доносит на Панаева, что тот мне изменяет, начинает предаваться романтизму. — Далее не знаю»[771].
Последние фразы загадочны. В известном нам тексте пародии никаких упоминаний о Панаеве нет. Быть может, Дельвиг собирался продолжать стихотворение?
Любопытно и другое. Измайлов упоминал о пародии Дельвига сразу вслед за рассказом о собрании «соревнователей», состоявшемся в конце декабря 1824 года, и о вечере у Княжевичей тогда же; в этих собраниях, видимо, и стали известны стихи Дельвига.
Не ошибся ли Андрей Иванович Дельвиг, объединив разные и разновременные литературные собрания? Или Измайлов узнал стихи Дельвига поздно?
И то, и другое возможно, — но, пока у нас нет иных документов, мы вынуждены остановиться на свидетельстве Дельвига. Правда, в 1824 году ему было всего одиннадцать лет, и своего кузена он узнал только в 1827 году, — но три года не столь уже большой срок, чтобы за это время события стерлись из памяти. Может быть, действительно, Пономарева не стала сообщать Измайлову о сатирических стихах против него. Что же касается отношения ее к литературным шуткам подобного рода, то на этот счет у нас есть еще один факт, также относящийся к началу 1824 года и в своем роде не менее загадочный.
* * *
Во втором, февральском, номере журнала Измайлова за 1824 год появилась статья: «Страждущий поэт к издателю „Благонамеренного“». Статья представляла собою письмо пародийного свойства от имени некоего молодого поэта, испытавшего нелепые и невероятные превратности судьбы. С первых дней юности он чувствовал призвание к поэзии; по прибытии же в столицу «новые трогательные элегии и баллады» наполнили его слух и душу. «Баловни-поэты, воспевающие в тиши времена года, говоры пернатых, родные края и приветы юных красот», «послания их друг к другу и к юным знакомым подругам первых незабвенных лет» стали для него образцом. Полностью предавшись поэзии в этом роде, юный адепт потерял имение, а гоняясь летом за резвым мотыльком, выколол себе глаз. Привыкши «смотреть на туманную даль» в поисках таинственного будущего, он получил ревматизмы, а «взирая на бунтующие ветры, срывающие зеленую одежду с шумящих <…> деревьев», был вымочен насквозь дождем и, лежа на одре болезни, пропустил время издания «Полярной звезды», куда хотел послать свои сочинения. Ныне он обращался к издателю, прилагая образцы своих элегий:
«Юности беспечной младость, Счастье прежних бывших дней, Сердца девственная радость, Призрак памятный для ней! Миновалось, миновалось, Цвет увял души моей…»Письмо было подписано: «Мотыльков»[772].
Л. Г. Фризман, впервые обративший внимание на эту пародию, не сомневался в том, что ее автор — Пономарева[773].
В самом деле, мог ли самозванец принять псевдоним попечительницы «Сословия друзей просвещения» в журнале, издаваемом прежними его участниками?
И при всем том доля сомнения в авторстве Пономаревой остается. С тех пор, как «незабвенное общество» пришло к своему концу, его псевдонимами перестали пользоваться, — и в «Благонамеренном» никто из прежних членов давно уже ими не подписывался. Более того: Мотыльков — псевдоним значащий и без индивидуального отпечатка, как Баснин, Арфин или Аркадин; здесь возможен омоним. И упоминание «мотылька», сыгравшего роковую роль в судьбе злосчастного поэта, и самая эфемерность его поэзии, и легкомыслие творца — все это могло побудить к вольному или невольному похищению. К тому же мы не знаем ни одного выступления Пономаревой в печати, она словно намеренно удерживала при себе даже перевод из Гольдсмита, как будто скрывая его от посторонних глаз. Между тем «письмо» написано профессиональной рукой, — не только в прозаической, но и в стихотворной своей части. Писать жанровые и стилевые пародии вообще трудно — а пародии Мотылькова удачны и даже не вполне обычны.
Да и могла ли Пономарева включиться в полемику против «молодого поколения», которому сама открыла двери в свой дом, которое влюблялось в нее и писало ей настоящие, превосходные стихи, хранимые ею как особая ценность? И что могло заставить ее именно теперь нарушить обет литературного молчания, соблюдаемый все эти годы?
Все эти вопросы возникают неизбежно, если мы допустим авторство Пономаревой.
И все же нам придется это сделать, хотя, быть может, и не с полной уверенностью.
В реестрах пьес, поступивших в 1824 году в Общество любителей словесности, наук и художеств, против занимающей нас статьи значится: Мотыльков.
Это естественно в оглавлении журнала, а в реестре необычно: за все время деятельности общества ни одного псевдонима в них не было. Если хотели сохранить анонимность, сочинение либо вообще не вносили в реестр (и не читали публично), либо писали: «Представлено от неизвестного». Памфлеты Федорова, например, как мы уже говорили, в реестрах не значились.
Очевидно, тот, кто скрывался под псевдонимом Мотыльков, находился в каком-то особом положении, и об этом было известно, по крайней мере, нескольким членам общества: председателю Измайлову и ближайшим его сотрудникам. Например, был дамой, в силу этикета сохранявшей свое инкогнито.
Но допустим, что Пономарева написала удачную литературную шутку. Способность ее к этому жанру доказывается хотя бы ее маленькой «речью» при открытии «Сословия друзей просвещения». Могла ли она написать стихи, выдающие руку профессионального стихотворца?
Вспомним письмо Измайлова к Дмитриеву еще 1821 года: «…переводит на русский прозой лучше многих записных литераторов; пишет весьма недурно стихи…».
Измайлов читал эти стихи, до нас не дошедшие.
Если же мы присмотримся внимательнее к тексту «письма» и стихов, включенных в него, мы, может быть, получим предположительный ответ и на третий вопрос.
Л. Г. Фризман обратил внимание на особенность «письма», отличающую его от всех без исключения полемических выступлений «Благонамеренного». Оно лишено памфлетности. В нем упоминаются «Полярная звезда» и «баловни-поэты» и широко использованы шаблоны элегической поэзии, — но нет излюбленных Измайловскими «кулачными бойцами» цитат из Дельвига или Баратынского, которые указывали бы конкретный адрес полемики. Это не столько пародия, сколько иронический, пародийно окрашенный пастиш, стилизация, смысл которой в том, что она неотличима от массовой журнальной лирики.
Именно так должна была писать Пономарева, ученица Измайлова, связанная дружескими узами с Дельвигом и Баратынским. Еще будучи председательницей «Сословия друзей просвещения», она возражала против «личностей», личных выпадов в полемике, и это требование было внесено в устав. Как бы ни нарушали его иные прочие, сама она должна была его хранить.
Но для чего нужна такая пародия-стилизация?
Для того, чтобы показать, что стихи «баловней-поэтов» превращаются в шаблон, в общее место. — и что любой подражатель может их написать и напечатать в журнале или в «Полярной звезде», если успеет к сроку. Они не требуют ни труда, ни таланта. Их писать легко.
Непосвященной публике предлагалась маска «страждущего поэта». Посвященным — маска Мотылькова. Софья Дмитриевна писала «недурные стихи», но не печатала их, ибо не считала себя поэтом. Она выступала в качестве именно непоэта, версификатора, с лукавой дерзостью требуя себе места на русском Парнасе, коль скоро там подвизались стихотворцы не лучше ее.
Это был вызов очень в духе тех каламбурных перепалок, какими обменивалась она с Баратынским.
А может быть, это и была перепалка?
Вспомним рассказ Андрея Дельвига и пересказ Гаевского. Пародиями интересовались в дружеском кружке. Когда вышел в феврале 1824 года «Замок Смальгольм», Пономарева сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать таких стихов.
Не в состоянии, потому что нельзя имитировать настоящую поэзию. Стихи же «баловней» может написать всякий.
И Дельвиг принимает вызов: «Ничего нет легче». И он имитирует настоящую поэзию и включает в стихи сатирическое описание Измайлова и Федорова.
Позже, уже в 1825 году, эта пародия будет «дописана» Николаем Остолоповым, как было и с «Певцами 15-го класса», — так, чтобы осмеять Дельвига и Булгарина. Измайловский кружок опять прибегает к привычному «сам съешь».
Что же касается реконструируемого нами спора в феврале — марте 1824 года, — то существование его можно только предполагать, а не утверждать положительно. Кажется очень вероятным, что две пародии связаны между собой, — но прямыми ли отношениями диалога или косвенно, опосредованно, сказать с уверенностью нельзя. Появляются они, если мы примем рассказ А. И. Дельвига, почти одновременно: в феврале — марте 1824 года, но что было написано раньше, что позже — неизвестно.
Год начинался мистификациями, и Измайлов тоже захвачен общим поветрием. Он печатает письмо Мотылькова, а в одном из соседних номеров — стихи «Незабвенной» следующего содержания:
Как ты была вчера мила, Когда нечаянно украдкой Мне жаркий поцелуй дала. Один… как быть! за то пресладкий!.. А перед тем, нахмуря взор, Как бы нарочно мне в укор, Так сухо молвила: не нужно! Коль хочешь жить со мною дружно, Не говори мне никогда И в шутках этого: не нужно: Не нужно — для меня беда. Сказать ли тайну Незабвенной? Люблю в тебе не красоту (Поверь мне в этом, друг бесценный), Но ум, таланты, доброту.Под стихами подпись: «Сонъ». К названию же — «Незабвенной» — сделано примечание: «Так называю я милую мою невесту. Е. В. Ф. Соч.»[774]
Но ведь мы знаем уже эти стихи! Они составлены из строк посланий Измайлова к «незабвенной», которая вовсе не была его невестой и не имела инициалов «Е. В. Ф.».
Измайлов нашел-таки способ перенести на страницы журнала свои стихотворные письма и высказаться вслух. Он не мог подписаться «Софиин», «Софьин», ибо это был псевдоним Княжевича, и сократил его до анаграммы, — может быть, не без задней мысли, ибо в ней тоже заключались каламбур и мистификация.
«Со-н» — так в «Благонамеренном» и «Соревнователе» подписывал свои мелкие стихи и шарады Михаил Михайлович Сонин, член ученой республики «соревнователей».
Издатель «Благонамеренного» проказничал, но довольно забавно. Увидев подпись «Сонъ», всякий сведущий должен был бы прочесть ее как «Сонин». Отпереться было можно: почему именно Сонин, а, скажем, не Соковнин или Сорокин? Но в Сонине-то и заключалось все дело: «Сонин» — поклонник, поэт, принадлежащий «Соне». Каламбурный шифр, знак, тайнопись полушуточная, полудружеская, полулюбовная.
«Благонамеренный» был неисправим. В нем то и дело прорывалась «домашняя переписка» издателя, привыкшего являться своим читателям в халате.
Кто мог знать, что эти шутки оборвутся на полуслове через месяц — другой!
* * *
31 марта, за неделю до пасхи[775], приходившейся в 1824 году на 6 апреля, в Петербург вернулся Панаев. Мы знаем уже, что он ехал в столицу уже помолвленным с Прасковьей Александровной Жмакиной, дочерью казанского губернатора и первой невестой в городе. На следующий же день («во вторник на Страстной неделе») Пономарева прислала его поздравить. «В первый день светлого праздника», рассказывал он в мемуарах, он приехал «похристосоваться», — и здесь узнал тревожную новость. «Муж печально объявляет, что она нездорова, лежит в сильном жару. Пошел, однако, спросить, не примет ли меня в постеле, но возвратился с ответом, что не может, а очень просит заехать в следующее воскресенье. Приезжаю — какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в самый этот день от воспаления в мозгу!»
* * *
Мемуары спрессовывают время. Мы знаем точный день смерти Пономаревой — 4 мая; по воспоминаниям Панаева, он приходится на 13 апреля. События в них развиваются стремительно; память выхватывает драматические эпизоды, располагая их в непосредственной близости друг от друга.
Через тридцать лет Панаев уже не помнил, что со времени его приезда до смерти Пономаревой прошло не две недели, а более месяца. Он помнил лишь, что так и не увиделся с прежней своей возлюбленной, — пытался, но не смог, не сумел.
«В апреле 1824 года Софья Дмитриевна заболела горячкою и скончалась в величайших мучениях», — рассказывал Гаевскому П. А. Плетнев[776]. Через год, 17 апреля 1825 г., Измайлов будет вспоминать в письме к Яковлеву: «…теперь уже она была больна»[777].
«Она скончалась после продолжительной и мучительной болезни», — напишет он в некрологическом известии в журнале[778].
Панаев ошибся потому, что он сохранил ощущение, которое владело всеми, — ощущение неожиданно свалившегося несчастья. Один Измайлов знал, что беда не свалилась, а подкралась. Он оставался в Петербурге, он был другом семьи и вместе с родными переходил от тревоги к надежде, от надежды к отчаянию. В его рукописном сборнике сохранились два стихотворения, написанные в эти дни. Они стоят рядом — и самое соседство их выразительнее любых описаний. Одно, забавное и нежное, называется «Молитва об исцелении Софьи Дмитриевны»:
Боже! ее храни! Софии долги дни Дай на земли. Милой проказнице, Страстной собачнице, Музе и Грации, Чести всей нации Все консолации Ты ниспошли. Здравье, спокойствие И удовольствие, Крошку терпения, Все утешения И наслаждения Ты ниспошли. Боже! ее храни! Софии долги дни Дай на земли. Апр. 1824.Может быть, он успел прочитать ей эту шутливую пародию официального гимна «Боже! царя храни», чтобы ободрить и развлечь больную.
Второе стихотворение — «Молитву об исцелении друга» — он, скорее всего, не показал никому. Это была действительно молитва, с какой обращается к богу верующий русский человек в минуту душевной тоски и смертельной тревоги:
Услыши, милосердый боже, Моленье сердца моего; Прошу я только одного: Спаси мне друга моего, Который для меня всего, Всего, что в свете есть, дороже! Да будет исцелен мой друг, Пошли ему ты облегченье, Скорее отведи недуг; Услышь, услышь мое моленье[779].Он уповал на чудо. Видимо, искусство врачей и силы самой природы были истощены.
Это были последние стихи о Пономаревой, написанные при ее жизни.
* * *
«Ты ли это, София? Где живой румянец, игравший на прелестных щеках твоих? Где пронзительные взоры, блиставшие веселием и остроумием? Где восхитительная улыбка? Лицо твое покрыто смертною бледностью; глаза сомкнулись, сомкнулись навеки! Видна еще улыбка; но это не улыбка радости, а горести, страдания, смерти!»
Измайлов писал «Мысли при гробе С. Д. П.» в духе надгробных речей Боссюэ, полные ораторского пафоса, с риторическими вопросами, периодами и единоначатиями, сквозь которые пробивалось подлинное, живое чувство.
Он вспоминал о добром сердце покойной, о ее любезности и добродушии и упоминал о зависти и злобе, которые умолкают только перед лицом смерти.
«Забуду ли когда-нибудь счастливые часы, проведенные вместе с тобою? Вижу как теперь волшебные твои взгляды, очаровательную улыбку; слышу, кажется, как ты говоришь, читаешь. Ты была украшением, душою дружеских наших ученых бесед; ты оживляла их своею любезностью и остроумием. Ты родилась для славы, для счастия. Судьба, казалось, улыбалась тебе… обманчивая, вероломная улыбка!..»
Он переложил эту речь в стихи — в «Кантату на кончину С. Д. П.»:
Окончились твои несносные мученья! Умолк болезненный твой стон! Грудь не колеблется. Ни вздоха, ни движенья! Как крепок твой, София, сон! Нет, не дождаться нам Софии пробужденья! Дни и недели, Месяцы, годы, Веки пройдут; Но не прервется Сон твой, София! И не погибнет Память твоя![780]Хоронили на Волковом кладбище. Изма й лов описывал сцену прощания.
«Несчастный супруг твой в отчаянии; малютка-сын не в силах удержать слез своих и рыданий; на всех лицах вижу непритворную печаль и соболезнование. С трепетом прикладываю уста мои к холодному челу твоему. И вот уже тонкое покрывало задернуло бледное лицо твое, зазвучала гробовая крышка. Прости, София! прости навеки!»[781]
«Не здесь — там, там, тебе цвести! Не много ты жила, но много ты страдала! Прости!.. прости!.. Навек прости!»[782]Среди провожавших был и Панаев. «Когда я, рядом с отцом ее, шел за ее гробом, — вспоминал он, — он сказал мне: „Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу — мы не провожали бы ее на кладбище“. Не могу сказать положительно, каким образом узнал он о моих дружеских советах. Может быть, по своей откровенности, в минуты сожаления о прошлом, она высказалась сестре, а та передала отцу»[783].
Трудно придумать что-либо более выразительное.
Вспомним рассказ Панаева: «Приятели Яковлева введены им в дом; насчет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ним ездить… я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения…»
Она была сама виновата в своей судьбе. Она и Яковлев с «приятелями», давшие пищу петербургской сплетне.
Две старые, как мир, формулы: «сам виноват» и «я же говорил» — составляют символ веры ходячей морали.
Нет ничего удивительного, что подавленный горем старик Позняк прибегнул к их помощи. Удивительно скорей другое: тайное, быть может, неосознанное удовлетворение, с которым вспомнил о них Панаев спустя тридцать с лишним лет. И непроизвольное движение: откуда отец узнал о его советах? Ведь ни разговоры наедине, ни отношения с Пономаревой, перешедшие границы про сто дружеских, ни тайные встречи в Летнем саду, со слезами раскаяния, — не были рассчитаны на посторонние глаза и уши.
Все это благоразумно облекалось теперь в одежды дружбы почти отеческой. И этой дружбе приписывалась почти магическая способность уберечь от искушений неосторожную и легкомысленную женщину-ребенка и чуть что не сохранить ей жизнь. «Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу, — мы не провожали бы ее на кладбище».
Нет, Позняк, конечно, ни о чем не догадывался, — и потому естественно принял правила игры. И то же, и по тем же причинам сделал совершенно убитый своей потерей Аким Иванович Пономарев.
И только простодушный Измайлов, не умевший кривить душой, знал все. Но он не искал виновников, которых не было. Он был привязан к покойной сам, не держал зла на своих счастливых соперников и был дружески расположен к мужу. Скрывать ему было нечего. Безвременная смерть любимого им существа была для него насмешкой судьбы, а то, что отравило ей жизнь, — «завистью» и «злобой».
Так он третировал «невыгодные толки», с которыми и Панаев, и Позняк считались как с общественным мнением, — и изливал свои чувства в письмах к Павлу Яковлеву, которого друзья его считали косвенным виновником совершившейся драмы.
* * *
Печальная колесница достигла жилища мертвых, описывал Измайлов день похорон. «Руки родственников и друзей несут тебя сквозь надгробные памятники к могиле. Медленно опустился в могилу блестящий гроб. Сухая земля и песок сыплются на бархат и золото».
Он написал эпитафию: «Все скрыто здесь: и ум, и красота, Любезность, дарованья, Вкус тонкий, острота, Приятные и редкие познанья И непритворная прямая доброта»[784]. Это было то, что он больше всего ценил в людях, — но похвала его стирала живые черты.
Они мелькнули — в последний раз — в двух других эпитафиях — Гнедича и Дельвига.
Стихи Гнедича назывались «На смерть N. N.». Дельвиг, собиравший в 1824 году альманах «Северные цветы», поместил их в первой книжке своего альманаха:
Цвела и блистала, И радостью взоров была; Младенчески жизнью играла И смерть, улыбаясь, на битву звала; И вызвав, без боя, в добычу нещадной С презрением бросив покров свой земной, От плачущей Дружбы, Любви безотрадной В эфир унеслася крылатой душой![785]Стихи были хороши и искусны, — но чересчур искусны, и потому на них лежала печать некоторой манерности. Брошенный с улыбкой вызов
смерти — это скорее годилось бы для средневекового паладина, а не для молодой женщины, которая вовсе не хотела умирать. К земной своей оболочке Пономарева вовсе не испытывала «презрения». Все это шло от мадригальной поэзии, соединенной с неоплатоническими идеями о «небесной отчизне», которые скоро станут штампом романтической лирики.
Но в стихах была одна счастливая находка: «Младенчески жизнью играла…» И Гнедичу, и Дельвигу, и Панаеву, и, вероятно, многим другим Пономарева предстала в виде ребенка, шаловливого и непосредственного, беззащитного и бесстрашного, потому что он не знает, что такое опасность. И Дельвиг воспользовался этим образом. Его «Эпитафия» появилась в печати позже, в следующей книжке «Северных цветов», когда она была написана, мы не знаем. Но связь ее с эпитафией Гнедича несомненна, и можно думать, что он перефразировал старшего поэта:
Жизнью земною играла она, как младенец игрушкой. Скоро разбила ее: верно, утешилась там.Друзья, поклонники, завсегдатаи кружка ставили нерукотворные памятники Софье Дмитриевне.
Измайлов был озабочен и памятником «рукотворным».
Глава VIII In memoriam
Все пройдет!
А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л. ЯКОВЛЕВУ[786]
12 октября 1824 года.
Сию минуту получил письмо за черною печатью — от Акима Ивановича. Он тебе кланяется. Надгробие мое незабвенной С. Д.: «Кто знал ее, слезу на прах ее уронит» — очень ему понравилось. Я знаю людей, — пишет он, — которые ненавидели ее при жизни, а теперь отдают полную справедливость ее душевным качествам. Вот так-то! всегда справедливее мы бываем к мертвым, а не к живым.
Сегодня хотел было я обедать у Пукалова, но звали в другое место. Середняя из Граций празднует ныне день своего рождения — и приглашает меня. Как отказать Грации? Приеду к ней откушать и старшую Грацию послушать. После кофею тотчас на извозчика и марш-марш на Волково кладбище — сперва на могилу к незабвенной, а потом к мастеру Тюшину для переговоров о памятнике любви и дружбы. Это выражение не мое, а Акима Ивановича, в последнем его письме ко мне. О себе он ничего не пишет.
14 октября.
Сию минуту с Волковского кладбища. Рука едва ходит, потому что еще не согрелась. — Был на могиле незабвенной С. Д. Надгробный камень покрыт на ладонь снегом, а на снегу следы человеческие, птичьи и honny soit qui mal у pense[787] — собачьи. К счастию, Тюшина застал дома. Обо всем с ним переговорил и дал ему как свой адрес, так и П. П. Татар<инова>. Памятник через неделю будет готов, и по окончании оного Тюшин обещался явиться ко мне. Я оставил ему две надписи:
1) Кто знал ее, слезу на прах ее уронит; 2. С. Д. П. род. 25 Сент. 1794 сконч. 4 Маия 1824. — Последнюю велел оставить, потому что он такую же, или почти такую же, получил от тебя. Хотел я взглянуть на нее; но он не отыскал, потому что приказчика не было дома и он унес все надписи и рисунки. Я велел вырезать точно так, как назначено тобою.
22 октября.
Третьего дня был я у Татаринова и отдал ему эстампы, которые он в тот же день хотел отослать к Ак<иму> Ив.<ановичу>. Сей последний, как заключает Татаринов по последнему письму его, довольно теперь весел и спокоен. Ожидаю со дня на день к себе надгробного мастера и на днях хочу сам у него побывать. Авось удастся в субботу.
27 октября.
В субботу хотел быть у меня и Варламов, но не был. Я послал ему с Козловским кантату на кончину незабвенной и просил его положить на музыку. О том же попрошу и Мих.<аила> Лукьян<овича>. <…>
Квартира Ак.<има> Ив.<ановича> все еще стоит пустая. Не могу пройти мимо окон этого дома, чтобы не перевернулось у меня сердце. Самая могила С. Д. не производит надо мною такого действия, как окно, у которого она сидела обыкновенно в своем кабинете.
5 ноября.
Неужли Позняк и теперь еще не приехал? Неужели он все гостит у Акима Ивановича? <…>
Мастер Тюшин все еще не является ко мне, а я истинно не имел времени быть у него. Надобно непременно съездить к нему утром. Во что бы то ни стало, поеду в нынешнюю субботу. Что бы вместе?
6 ноября.
Вчера обедал я у Шленевых. Шленева рассказывает мне сон свой. «Я видела, говорит, сегодня во сне С. Д. Такая она была хорошая, белая, румяная и повыше, нежели была живая. Я не могла налюбоваться ею». — Прихожу домой, и Катенька подает мне надгробную надпись, данную мною мастеру Тюшину с адресом моим и Татаринова. Тюшин был утром без меня и сказывал, что памятник С. Д. Поставлен уже на могилу. В субботу утром непременно туда поеду и отслужу панихиду.
И я сегодня видел во сне С. Д., — а месяца 4 уже не видал ее, хотя беспрестанно об ней думаю. Видел, будто она едет к нашему дому с Волковского кладбища на санках и держит маленький розовый гроб.
9 ноября.
Посидел дома до половины 10 часа — нет нашего именинника. Пошел, повеся голову, по Лиговскому каналу, шел, шел, дошел до Знаменья, взял извозчика и поехал на Волковское кладбище. Иду к памятнику С. Д. Не ожидал я, чтобы он был так хорош. Хвала мастеру Тюшину! Славно выполировал гранит. И как хорошо идут белые мраморные фризы к темно-красному граниту. Бронзовые украшения, слова, все, все очень хорошо. <…> Посаженные у могилы 4 березки сломило бурею. Я хотел было отслужить панихиду, но в церкве сам дьячок сказал мне, что в царские дни панихид не служат. И так воротился я на могилу, помолился и за себя и за тебя и поехал в Де-парт<амент>.
20 ноября.
Удивила меня Соф<ья> Ив<ановна> Окунева. Я заходил к ней в воскресенье. <…> Услышав от меня, что поставили уже над С. Д. Памятник, она заплакала и ушла в другую комнату. Минут через пять воротилась; слезы блистали на глазах ее… а какие бишь у нее глаза?
26 ноября.
Недавно встретился с П. П. Татариновым. Он писал к А. И. о памятнике. А. И. еще живет в деревне и кажется не думает сюда приехать.
6 января 1825 года.
И я в новый год перед обедом, когда Евсеевы с братцем и Ивановым запели прежалобно: не белы-то снежки, при словах: сама горько плачет, вспомнил кой-что и заплакал — а жена и увидела. Скучно, грустно, любезнейший племянничек — с нового года почти не улыбаюсь — изредка при получении с почты billets doux[788] — но и тех еще в нынешнем году не получал.
На праздниках встретился я с Д. П. Позняком у Княж<евичей>. А. И. все еще живет в деревне.
9 января 1825 года.
Правду твердишь ты, любезнейший мои племянничек: все пройдет! И грусть моя проходит — я начинаю уже улыбаться.
13 января.
Ах, как глуп Борька в честной компании. Смел он, сукин сын, упрекнуть меня при Кат<еньке> стихами к покойной С. Д., напечатанными в Северн. Цветах. < …>
Два раза на сих днях видел во сне незабвенную. Побываю на могилке, помолюсь и за нее и за себя и за тебя.
17 апреля.
…Бог добр, как говаривала покойная Софья Дмитриевна. Накажет, да и помилует.
17 апреля.
Не осталось ли у тебя сколько-нибудь портретов незабвенной Софьи Дмитриевны. Слезно просят по экземплярчику для альбомов Дмитрий и Влад. Княжевичи, также и Панаев. Пришли, если есть у тебя, а буде нет, то дай мне знать, не осталось ли у Ак. Ив. Вот скоро будет год, как не стало С. Д. Теперь уже она была больна.
4 мая.
Был на Волковом кладбище и отслужил панихиду по незабвенной С. Д. Свящ<енник> сказал мне; вы часто служите: не родня ли вам?
5 мая.
Одна жеманная дама, услышав, что я накануне служил по С. Д. Панихиду, спросила меня с улыбкою: разве она вам родня? — Я отвечал, что искренних друзей предпочитаю многим родным. — Черт просит этих благочестивых дам мешаться в мои сердечные дела.
25 мая.
Спасибо за портреты незабвенной С. Д. Ах, зачем нет тебя здесь — пошли бы вместе с тобою на кладбище. Портреты отдал я старшему Княжевичу и Панаеву. Оба велели благодарить тебя.
* * *
На Волковом кладбище стоял памятник темно-красного гранита с белыми мраморными фризами. На нем была высечена надпись: имя, даты, стих: «Кто знал ее, слезу нa прах ее уронит».
Нередко в тишине ночной Сей скромный памятник камены окружают И с Грациями здесь рыдают О милой их сестре родной.Это была еще одна эпитафия, написанная Измайловым. Вместе с двумя другими они составили венок — «Надгробия Софье Дмитриевне Пономаревой»; Измайлов напечатал их в апрельской книжке журнала, вышедшей в свет в конце мая[789]. В примечании он напомнил о дружеском литературном обществе, где она была председателем.
В следующей книжке он поместил «Мысли при гробе С. Д. П.»[790].
Вместе с Яковлевым он издал альманах «Календарь муз на 1826 год» и там рассыпал свои старые экспромты, альбомные мадригалы и посвящения Софье Дмитриевне, — те, которые мы уже знаем; «В альбом N. N.» («Счастливец, Гектор, ты счастливец…»), «Экспромт С. Д. П.», впрочем, здесь же нашла себе место и скорбная кантата его «На кончину С. Д. П.». Панаев отдал ему стихотворение, которое когда-то записал ей в альбом: «Пускай другие в том согласны, Что вы и милы и прекрасны…» Для него все это уже было в прошлом: почти рядом с этими старыми увлечениями нашли себе место стихи, обращенные к жене: при посылке портрета и при посылке идиллий. Измайлов словно спешил теперь напечатать все, что писал когда-то Пономаревой, все, что было можно: стихи на болезнь ее — в «Невском альманахе на 1825 год», стихи на день ангела и экспромт («Могу сказать я про себя…») — в следующей книжке того же «Невского альманаха». И после смерти дамы он оставался верным ее вассалом; его ли вина, что при жизни ее он был домашним ее поэтом и теперь у него в руках были только стихотворные мелочи, интересные разве тем, кто, как и он, близко знал адресата? Он сделал для ее памяти все, что было в его силах, но из мадригалов и стихов на случай не мог получиться нерукотворный памятник.
Его поставили не друзья — скорее противники.
* * *
В конце марта 1824 года в булгаринских «Литературных листках» появилось извещение, что «К. Ф. Рылеев, с позволения автора, вознамерился издать <…> сочинения Баратынского, известного публике своими прекрасными элегиями, посланиями, воспоминаниями о Финляндии и поэмой „Пиры“»[791]. Софья Дмитриевна, вероятно, успела прочитать это объявление в самый канун своей смертельной болезни.
Весной того же года Баратынский писал Бестужеву и Рылееву из Финляндии, что в тетрадях, которые он у них оставил, стихи переписаны без всякого порядка, и «особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре», — а он хотел бы, чтобы пьесы «по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны». Он просил, чтобы издатели сами «классифицировали» его стихи[792].
Он собирался составить из элегий три книги с развивающимся сюжетом, как делали это французские элегики, в частности Парни. Сразу же скажем, что свое намерение он выполнил.
Что было в его «тетрадях», оставленных у Рылеева, мы не знаем: они до нас не дошли.
В Финляндии застает его известие о смерти Пономаревой. Как он воспринял его — мы не знаем. За это время не сохранилось ни одного письма его к общим знакомым, и ничего нельзя вычитать из его стихов, не имеющих к тому же точных дат. В середине июня он приехал в столицу, встречался с Львом Пушкиным, Гречем, Дельвигом, А. Тургеневым, Жуковским; был у Рылеева и Бестужева. Он провел в столице почти два месяца; в начале августа уехал и увез с собой тетради. Бестужев считал, что это неспроста и что его подучил Воейков[793]. Но, может быть, подозрительность его была неоправданной и Баратынский собирался сам заняться составлением своего сборника.
Стоит пожалеть, что мы не знаем тогдашнего содержания замышляемой книжки. Все-таки с пономаревским кружком был связан целый этап его биографии, — и смерть Пономаревой могла как-то отразиться в сборнике, который готовился под свежим ее впечатлением. Впрочем, это далеко не обязательно: даже события, глубоко отпечатывавшиеся в сознании поэта, не всегда оставляли в творчестве его явный след: так, смерть Пушкина, поразившая его, сказалась в его стихах лишь в безнадежном пессимизме последних строф «Осени». Смерть Пономаревой не была для него, конечно, таким потрясением; увлечение прошло, да и в разгар свой не захватывало его целиком. Новые события, новые друзья, женщины и мужчины, вытесняли из памяти недавнее прошлое. В Фридрихсгаме он кокетничал слегка с Аннет Лутковской, племянницей командира Нейшлотского полка, его начальника и старинного знакомого семьи. У Лутковской был альбом, куда писали подруги и посетители дома, — типичный альбом провинциальной барышни. Несколько стихотворений посвятил ей и Баратынский.
Среди этих стихов мы находим и такие, которые первоначально адресовались Пономаревой.
Так, стихотворение «Когда неопытен я был…», находившееся когда-то в утраченном ныне альбоме Софьи Дмитриевны[794], Баратынский напечатал в «Полярной звезде на 1825 год» под названием «Л-ой». Конечно, он отдал его Рылееву и Бестужеву еще в свой июньский приезд.
В альбом же Лутковской он вписал «Вы слишком многими любимы…» — этот мадригал был еще в марте 1821 года написан им для Софьи Дмитриевны, а потом и напечатан. И там же мы находим стихи «Мила, как Грация, скромна, как Сандрильона…», которые в 1827 году обнародовал Воейков в «Славянине» под названием «В альбом Софии». Есть предположение, что стихи эти тоже были обращены к Пономаревой, а после переадресованы[795].
Что означало все это, — забвение, равнодушие к памяти?
Измайлов сохранял посвящения при альбомных мадригалах, — Баратынский спокойно и легко адресует их другой женщине.
В отличие от Измайлова, он не видит в них памятного знака, потому что в них самих нет ничего от их адресата. Альбомные стихи — плод искусства и остроумия, они принадлежат всем — и никому; они годятся для любого альбома. В альбом Пономаревой он свободно мог бы вписать стихи, не ей посвященные. Иное дело — элегия или послание…
События, исторические и личные, надвигаются неудержимо; самые основания биографий колеблются…
В конце 1824 года его захватывает чувство, не сравнимое с тем, какое он уже испытал. Не интеллектуальный роман — темная стихия, неудержимо притягивающая и отталкивающая: Аграфена Закревская, вакханка, Магдалина, «беззаконная комета»…
Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем жизни нет; Но как на нем былых страстей Еще заметен след!В письме к новому своему другу — Путяте — он перефразировал надгробную речь Боссюэ Генриэтте-Анне Английской, герцогине Орлеанской: «Вот она, принцесса, любимая и лелеемая! вот во что превратила ее смерть; сейчас исчезнет эта тень славы, и с нее упадут даже эти печальные украшения!»
«Вот во что превратили ее страсти!» — вторил Боссюэ Баратынский, вспоминая о «Магдалине».
Стихи, вероятно, тоже были адресованы Закревской[796], — как и некоторые другие, написанные в конце 1824 — начале 1825 года.
Но они появились в «Северных цветах на 1826 год» рядом с эпитафией, которую Дельвиг посвятил памяти женщины-ребенка, разбившей жизнь, как игрушку.
Быть может, соседство это было случайным. А может быть, Дельвиг, располагавший стихи в альманахе, решил, что это эпитафия тому же лицу? Название «Надпись» могло поддержать такое предположение.
Еще в прошлом альманахе он напечатал посвященные ей стихи Измайлова и эпитафию Гнедича, с которой, как мы знаем, была связана и его собственная эпитафия в книжке на двадцать шестой год. Это была дань памяти, приносимая осторожно, без шума, — только для тех, кому имя Пономаревой что-то говорило. В конце 1825 года он должен был соблюдать особый такт: он женился 30 октября, после полугодового знакомства и сильного увлечения, на Софье Михайловне Салтыковой. Это было глубокое чувство, и, как и у Баратынского, оно должно было сильно сгладить, если не стереть, прежние любовные привязанности. При всем том он рассказывал, как мы знаем, молодой жене о «некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла», и о своей прежней, давно угаснувшей, любви к ней, — и жена ревновала. Она была, кажется, в чем-то похожа на Софью Дмитриевну, — и именем, и живостью нрава, и даже сменяющимися увлечениями, — случайно ли это сходство?
Он все же помещает в «Северных цветах» свою эпитафию ей, сохраняя воспоминание только для себя. И рядом с ней — «Надпись» Баратынского.
В это время исторический шквал переворачивает все личные биографии и всю общественную жизнь.
* * *
Нельзя писать о восстании декабристов попутно, прослеживая историко-культурную судьбу имени вовсе не исторического, — и мы опустим здесь все, что известно любому читателю. Биографии людей, которые занимают нас сейчас, изменились резко; творчество их приобрело новые черты, — и менее всего их занимало теперь то салонное, игрушечное, бездумное, чем время от времени развлекались в годы их молодости. Людям тридцатых годов альбомный мадригал десятилетней давности казался литературным ископаемым — его просто не принимали всерьез и удивлялись, как серьезный поэт мог баловаться пустяками и, что хуже всего, печатать их. Элегии были не в чести — и уже не у эпигонов «Благонамеренного», — но сами элегики, и во главе их Пушкин и Баратынский, атакуют «жеманное вытье».
Не вышедший вовремя сборник стихов Баратынского вступил в новую эпоху.
После гибели Рылеева и осуждения Бестужева право издания купил Дельвиг и начал готовить книгу к печати вместе с Плетневым, в руки которого она постепенно перешла. Но Баратынский, выйдя наконец в отставку, поселился в Москве, — и Николай Полевой, с которым он сблизился в это время, стал третьим и подлинным издателем его сочинений.
В сборник включались произведения, написанные в последние годы; что-то из прежних выбрасывалось. Любовные элегии не должны были пострадать от политических катаклизмов, — но они пострадали от причин совершенно личных, не касавшихся до публики.
Баратынский женился — чуть позже Дельвига, в июне 1826 года.
«Для поэзии он умер, — писал с негодованием Соболевскому Левушка Пушкин, — его род, т. е. эротический, не к лицу мужу, и теперь из издаваемого собрания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине»[797].
Это была последняя автоцензура. В 1827 году «Стихотворения Евгения Баратынского» вышли наконец в свет.
В сборнике, как и предполагалось, было три книги «Элегий», кроме того, «Смесь» и «Послания».
Во всех трех разделах Собрания находились стихи, посвященные Пономаревой.
Включенные во вторую и третью книги «Элегий», они оказались подчиненными общему лирическому сюжету. Баратынский, конечно, намеренно создавал его по примеру Парни. Естественно сложившийся некогда «цикл», отражавший перипетии его личных отношений с Софьей Дмитриевной, разрушился; создался цикл новый, и теперь уже тайные нити протягивались между стихами, не имевшими друг к другу никакого отношения. Их связывало одно: душевная биография героя. Из «пономаревских» стихов он выбрал «Размолвку», «Поцелуй» и «Делии». Первые два, как мы говорили, не принято было относить к Пономаревой, — и мы устанавливаем адресата гипотетически; третье посвящено ей несомненно.
Это стихи о призраке любовного счастья, исчезнувшем и обманувшем, о тайных причинах охлаждения героя к жизни и любовным утехам. Слабый абрис жестокой возлюбленной рисуется за строками «Размолвки»; в стихах «Делии» он получает плоть и кровь. Мы помним эти стихи; очищенные от случайного, длиннот, поэтических неточностей, они предстали в сборнике в прежнем и в то же время новом качестве. Обобщенный образ сохранил индивидуальные черты, — и, вероятно, впервые в русской элегии явился подобный.
Зачем, о Делия! сердца младые ты Игрой любви и сладострастья Исполнить силишься мучительной мечты Недосягаемого счастья? Я видел вкруг тебя поклонников твоих, Полуиссохших в страсти жадной…Понимал ли он теперь, что это — сбывшееся пророчество?
Даже если эта мысль и приходила ему в голову, то она не могла помешать включить стихи в сборник. «Делия» больше не была реальной Софьей Дмитриевной Пономаревой; это было не живое тело, а скульптурный портрет, изваянный рукой художника.
Для «Смеси» он отобрал «К …о» («Приманкой ласковых речей…»), «К жестокой», «В альбом» («Вы слишком многими любимы…») — те самые стихи, которые он записывал Лутковской: другое переадресованное стихотворение: «Л-ой» («Когда неопытен я был…») и послание «Д<ельви>гу» («Я безрассуден, и не диво») — об обманщице, ласковой шалунье, данной ему судьбой. В «Смеси» менялся образ. Поэт очень точно отобрал стихи, которые подарил Лутковской, — ни одно из оставшихся переадресовать было нельзя. В них жило существо неудержимо привлекательное, проказливое и жестокое, коварное и нежное, несущее счастье и страдание. И два стихотворения он включил в «Послания»: «О своенравная София», — конечно, как и ранее, заменив «Софию» на «Аглаю», — и «К …» («Мне с упоением заметным»). По этим стихам также прошлась рука художника; они словно созрели до абсолютной точности слова:
Я захожу в ваш милый дом, Как вольнодумец в храм заходит. Душою праздный с давних пор, Еще твержу любовный вздор, Еще беру прельщенья меры, Как по привычке прежних дней Он ароматы жжет без веры Богам, чужим душе своей.«Милый дом». Эта тема есть в обоих посланиях. Владычица сердец, не кокетка, не обольстительница, но хозяйка веселых вечеров, где говорят свободно и свободно себя чувствуют; предмет дружбы-любви, amitiй amoureuse. Это был третий облик единой женщины.
И он был самым живым из всех в силу самой природы послания, удерживающего быт, мелочи, отношения.
«Смех и шум» пономаревских собраний врывался в литературу, как сквозь внезапно открытую дверь.
* * *
И шум журнальных полемик, лишь недавно затихших, тоже доносился со страниц «Стихотворений Евгения Баратынского».
Раздел «Послания» начинался той самой сатирой «К Гнедичу…», которую цензор Бируков не пропустил в «Полярную звезду»; сатирой, где были выведены Измайлов, Панаев, Сомов, Цертелев, Яковлев и Борис Федоров. Из всех них осталось в сатире только двое:
Когда в отечестве все тихо и спокойно, Одни писатели воюют непристойно! Сказать Аркадину: не Музами тебе Позволено свирель напачкать на гербе; Сказать Паясину: болтун еженедельный! Ты сделал свой журнал Парнасской богодельной И в нем ты каждого убогого умом С любовию даришь услужливым листком. Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый. Хоть жалкий рифмоплет, душой предобрый малый. Шутилов, например, знакомец давный мой. В журнале пошлый шут, ругатель площадной, Совсем печатному домашний не подобен. Он милый хлебосол, он к дружеству способен, В свой именинный день, вином разгорячен, Целует с нежностью глупца другого он; Аркадин в обществе любезен без усилий И верно, во сто раз милей своих идиллий[798].«Паясин», «Шутилов». В них мог бы узнать Измайлова разве тот, кто знал о ранней редакции сатиры. «Благонамеренный» прекратил свое существование; сам издатель вице-губернаторствовал в Твери. На письменном его столе, рядом с портретом жены, стоял портрет С. Д. Пономаревой[799].
«Аркадин» — Панаев узнавался безошибочно. И о нем же — об «идиллике новом» — говорила «Эпиграмма» в разделе «Смесь»:
Никак негодный он поэт? — Нельзя сказать. — С талантом? — Нет; Ошибок важных, правда, мало; Да пишет он довольно вяло.Более ни слова о нем, — прерывает Аполлон:
Из списков выключить — и только.Это было новое стихотворение, — во всяком случае, оно впервые появилось в сборнике 1827 года[800].
Все споры, неудовольствия, полемики отошли в прошлое. Вражда к Панаеву осталась, — если не усилилась.
Здесь нам понадобится экскурс в сторону.
* * *
В то время, когда Баратынский готовил свой сборник к изданию, в Москве явился освобожденный из ссылки Пушкин. С осени 1826 года возобновляется их знакомство и становится «короче прежнего», как будет вспоминать Баратынский два года спустя. Их видят вместе в публичных собраниях; Баратынский вводит его в круг своих друзей; они бывают в одних и тех же литературных кружках и, случается, вместе выступают в литературных полемиках.
Еще на юге Пушкин пристрастно и любовно следил за творчеством Баратынского и знал и его друзей, и его врагов. Это было и немудрено: и тех и других он делил с Дельвигом, любимейшим из лицейских товарищей Пушкина. Бессарабский и одесский изгнанник получал письма и читал журналы; он знал поименно всех «кулачных бойцов» Измайлова и сохранил к ним на многие годы литературную неприязнь. Она распространялась на Цертелева, Федорова, Ореста Сомова; к последнему Пушкин не мог преодолеть своего предубеждения даже тогда, когда тот вошел в дом Дельвига на правах друга и сотрудника. Иногда он прибегал к оружию молодых поэтов, — осудив сатиру Баратынского, он все же воспользовался для эпиграммы на Измайлова ее словечком: «площадной шут», «журнальный шут»[801]. Но все это имело какие-то более или менее явные поводы.
В 1827 году без всякого видимого повода начинает распространяться его эпиграмма на Панаева.
III отделение, тщательно следившее за его новыми и прежними произведениями, ходящими по рукам, в ноябре добирается до этих стихов:
РУССКОМУ ГЕСНЕРУ
Куда ты холоден и сух! Как слог твой чопорен и бледен! Как в изобре́теньях ты беден! Как утомляешь ты мой слух! Твоя пастушка, твой пастух Должны ходить в овчинной шубе: Ты их морозишь налегке! Где ты нашел их: в шустер-клубе Или на Красном кабачке?[802]Фон-Фок, начальник канцелярии Бенкендорфа, переписал стихи на особом листке; Бенкендорф сверху карандашом пометил: «На Федорова»[803].
Пометка Бенкендорфа — единственное указание на адресата, — и на ее основании эпиграмму считают иногда направленной против Федорова[804]. Нам предстоит поэтому остановиться на ней подробнее.
С тех пор, как прекратился «Благонамеренный» и с отъездом Измайлова окончил существование его кружок, Борис Федоров лишился форпоста, с которого посылал критические стрелы в «поэтов новой школы». В начале 1826 года он по инерции продолжал еще ратовать, напечатав в «Календаре муз» Измайлова и Яковлева свои старые стихи «к некоторым поэтам», затем полемика затихла и Федоров переключился на издание «Новой детской библиотеки», альманаха «Памятник отечественных муз» и исторические занятия. Своих пристрастий и антипатий он не изменил, но теперь они стали достоянием его дневника.
По-видимому, А. Тургенев, давний его покровитель, снабжает его первоклассными материалами для альманаха — письмами Карамзина, Батюшкова; он просит за него друзей, и те дают ему стихи — без всякой охоты, только для Тургенева. Пушкин разрешает ему напечатать несколько ранних своих стихов, требуя непременно означить годы написания. Все это происходит еще в конце 1826 года: 13 декабря К. С. Сербинович, его цензор и приятель, читает стихи Пушкина, оставленные у него Федоровым[805]. В Петербурге Пушкин в 1826 году не был, — стало быть, разрешение Федоров получил через общих знакомых; только в мае 1827 года, увидевшись с Пушкиным у Карамзиных, он мог выразить ему свою благодарность[806]. К этому времени альманах его уже вышел в свет.
Перед Пушкиным Федоров преклонялся. Не приемля стихов Вяземского, Баратынского, Языкова, лишь избирательно приемля Дельвига, он был убежден, что «Пушкин гений»[807]. Таково же было мнение и Измайлова, и даже Панаева. Пиетет заставлял Федорова искать сближения и бесед, но не мешал ему обращать Пушкина на путь нравственности устно и печатно. Пушкин парировал эти разговоры рискованными шутками, и Федоров смущался. Другим кумиром его, лишенным пушкинских недостатков, продолжал оставаться Панаев. В своем альманахе, — там же, где он поместил пушкинские стихи, он обнародовал и свое стихотворение «В альбом П. А. Панаевой» с уже привычной характеристикой ее мужа: «новый наш Геснер».
«Геснер» принимал поклонение благосклонно, но глухая стена разделяла Федорова и Пушкина. Он не шел ни на какие сближения. Он мог не без интереса побеседовать с ним об истории Петра, мог держать на коленях его сына, слушая из его уст свои стихи, мог, наконец, выслушивать замечания Федорова о новой главе «Онегина» и даже соглашаться с некоторыми из них, — но за редчайшим исключением он не принимал даже тех, с которыми соглашался устно. Суждения Федорова вызывали в нем насмешку. Вежливый и лояльный при личном общении, он был злопамятен, когда дело касалось литературы. Об этой его черте вспоминал Вяземский: Пушкин не успокаивался, пока не расплачивался за обиду — полемической статьей или, еще лучше, эпиграммой, — иногда через несколько лет. После этого обида проходила. Так было с И. И. Дмитриевым. Здесь же был случай особый: обиды от Федорова терпели его друзья, ближайшие соратники, — а этого он не прощал.
Он собирался печатно отречься от некоторых своих стихов, напечатанных Федоровым. «…Г-н Фед<оров> напечатал под моим именем однажды какую-то <?> идиллическую нелепость, сочиненную вероятно камердинером г-на П-<ан>аева». В «Опровержениях на критики», где замечаниям Федорова на «Онегина» посвящены убийственные строки, он еще раз повторил эту фразу: «В альм<анахе>, изданном г-ном Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на П-<анае>ва»[808].
Имя Панаева всплывает в связи с «Памятником отечественных муз», где, кстати, была напечатана одна из его «русских идиллий», и, как мы помним, о нем упоминалось как о «новом Геснере». Но, конечно, это было не самым важным обстоятельством, заслуживающим эпиграммы. Важнее было, что в сборнике Баратынского дважды был дан сатирический портрет человека, к имени которого этот титул прирос как постоянный эпитет. Панаев, знамя «измайловцев», прославленный стихами Федорова и комплиментарным посланием к нему Измайлова в «Календаре муз» в том же 1827 году, дутая литературная репутация, поддерживаемая недавними противниками «союза поэтов…»
Нет, определенно, жандармское ведомство ошибалось, поверив петербургским слухам. «Русскому Геснеру» — стихи не о Федорове, которого никогда не считали идилликом по преимуществу. Но ошибка была понятна: Панаев и Федоров связаны лично и литературно. Федоров — ревностный сторонник идиллии как жанра. III отделение в это время очень интересовалось Федоровым, просившим о разрешении на издание газеты; оно собирало сведения, и записка Фон-Фока о нем, содержащая почти гротескный портрет мелкотравчатого литератора, подверженного любым влияниям извне, включала и эпиграмму Дельвига «Федорова Борьки Мадригалы горьки», приписанную Пушкину[809]. Информированность Фон-Фока была широкой, но не всегда точной.
В апреле-августе 1827 года Пушкин включает эпиграмму (под названием «Идиллику») в список стихотворений, дополняющих собрание стихов, вышедшее в 1826 году[810]; в ноябре о ней узнает Фон-Фок, и тогда же, в ноябре, выходят «Стихотворения Евгения Баратынского», конечно, известные Пушкину еще до печати. В сущности, «Русскому Геснеру» и по содержанию, да отчасти и по форме соотносится с «Эпиграммой» Баратынского: в ней также идет речь о бесцветной правильности поэзии Панаева, ее «бледности», «вялости». И сразу же вслед за Баратынским Пушкин печатает ее в «Опыте русской анфологии» М. А. Яковлева, некогда соиздателя «Невского зрителя», — причем отдает ее туда сам: в предисловии Яковлев благодарил Пушкина и барона Дельвига за предоставление «новых, нигде не напечатанных пиес». Из пушкинских стихов в «Анфологии» под это определение подходила только эпиграмма «Русскому Геснеру».
Это было одно из совместных полемических выступлений Пушкина и Баратынского, демонстрация единства «союза поэтов» перед лицом враждебных литературных сил. «Одно из» — потому что оно не было единственным: при подобных же обстоятельствах и в то же время возникла эпиграмма Пушкина на Андрея Муравьева, поднятого на щит в салоне Волконской[811].
И теперь мы можем, кажется, объяснить загадочную фразу из воспоминаний Панаева, приведенную в начале этого очерка: «впоследствии» лицеисты еще более «прогневались» на него «вместе с Пушкиным» за то, что он не советовал Софье Дмитриевне Пономаревой знакомиться с ними. Мы говорили о хронологических неточностях в этом замечании, — теперь нам важно другое: словно ненароком оброненное словечко «впоследствии». Если отнести его не к 1820-му, а к 1827–1828 годам, все становится на свое место. Панаев отлично знал, какого «идиллика» имел в виду Баратынский и какого «Геснера» — Пушкин; конечно же, эти выступления не прошли для него незамеченными. Он объяснил их мотивами чисто личными, — едва ли не намеренно: о литературных разногласиях, даже несовместимости, в его воспоминаниях нет ни слова. С другой стороны, он был отчасти и прав: предыстория эпиграмм уходила в литературный кружок, ставший ареной борьбы, и здесь переплелось общее и частное, литературное и личное.
Когда через несколько лет Баратынский станет готовить двухтомное собрание своих сочинений, он сделает еще один шаг, чтобы частное и личное растворилось во всеобщем. Он включит в первый том все стихотворения, о которых шла только что речь, — но в сатире «Г-чу» (так она озаглавлена, в отличие от другого послания с полным названием: «Н. И. Гнедичу») он уберет все следы прежних полемик, заменив этот фрагмент двумя строками точек. Он стал историей. На свете не было ни Измайлова, ни Сомова; Яковлев умер в 1835 году — в самый год издания сборника Баратынского: Панаев, Цертелев отошли от литературы. Один Борис Федоров продолжал свою неугомонную деятельность на ниве словесности, — но в тридцатые годы он уже казался странным пережитком, да и о кружках двадцатых годов мало кто вспоминал. Со смертью Дельвига рвались петербургские литературные связи, и эпилогом первого тома стало то стихотворение, которое Баратынский посылал в альманах памяти Дельвига, — о прощании с поэтической молодостью:
Как звуки звукам отвечая, Бывало, нежили меня! Но все проходит. Остываю Я и к гармонии стихов…Тень прежней петербургской обольстительницы потерялась теперь среди других, населивших его поэтический Элизиум. Но в семейном предании она продолжала существовать; Настасья Львовна, рациональная и «неэлегическая», как говорили друзья Баратынского, переписывая стихи мужа уже после его смерти, над многими выставила ее инициалы; к своим мертвым соперницам она была снисходительнее, чем Софья Михайловна Дельвиг.
А что же Дельвиг?
Он издал свой единственный сборник стихотворений через два года после Баратынского, в 1829 году, и посвятил его жене. Посвящение заключалось в «Эпилоге», изящном и дипломатичном. Собрание стихов было «живыми впечатлениями юности»; напевы любви ранних лет были поисками той единственной, которая, наконец, явилась. Как и Баратынский, Дельвиг очерчивал свою духовную биографию, и те страницы ее, которые говорили о радостях и разочарованиях любви, воскрешали образ Пономаревой. Стихи, ей посвященные, включались в маленькие циклы, нечувствительно рождавшиеся внутри сборника: три надписи — на смерть Веневитинова, на окончание первой песни «Илиады» («Н. И. Гнедичу») и «Эпитафия» ей; четыре сонета, следующие один за другим, — «Вдохновение», «Златых кудрей приятная небрежность…», «Н. М. Языкову», «С. Д. П-ой (при посылке книги „Воспоминания об Испании“, соч. Булгарина)». Он включил сюда и «На смерть собачки „Амики“», и те стихи, которые он писал в месяцы расставания: «Песня» («Наяву и в сладком сне…»), «Разочарование», соединив их с другими, говорящими о любовной разлуке: «Романсом» («Вчера вакхических друзей…»), вторым «Романсом» («Одинок месяц плыл…»). В этом подобии цикла проходит и тема безвременной смерти девушки — случайно ли? А далее — три стихотворения о возрождении в любви, следующие одно за другим: «В альбом» («О сила чудной красоты!»), «Романс» («Прекрасный день, счастливый день…») и еще один «Романс» («Не говори: любовь пройдет…») — все, связанные с воспоминанием о Пономаревой.
Здесь было меньше живых черт, нежели в стихах Баратынского. Облик прежней Делии-Дориды терял реальные очертания, он рисовался отраженно, он включал в себя нечто от лирических героинь прошлых эпох. В сонетах он становился похож на идеальную возлюбленную Петрарки. «В устах коралл, жемчужный ряд зубов…» Пожалуй, только в этом сонете было прозрачно обозначено имя Софьи Дмитриевны: «С. Д. П-ой. При посылке книги „Воспоминание об Испании“, соч. Булгарина». Но образ не умер, он лишь затаился в любовных романсах, песнях, сонетах, элегиях и жил вместе с ними.
Прекрасный день, счастливый день: И солнце, и любовь.Эпилог
Рукописи — увы! — горят, — но культура обладает способностью к самовоскрешению. Если бы героиня нашего повествования была только одной из «дам былых времен», о которых сожалел еще Франсуа Вийон, она бы ушла вместе с ними в небытие, подобно прошлогоднему снегу. Если бы даже она была «одной из воспетых» Дельвигом и Баратынским, — но не более того, — ее бессмертие обеспечивалось бы несколькими строками комментария.
Но она была участником — и активным участником — движения культуры, даже и не всегда это сознавая. И само это движение, силою своих непреодолимых законов, донесло до нас ее скромное имя и ее частную жизнь. Когда в конце сороковых — начале пятидесятых годов прошлого века А. Д. Галахов[812], а затем В. П. Гаевский стали изучать биографии Измайлова и Дельвига, они вспомнили о Пономаревой и ее литературных вечерах. Они собрали стихи, посвященные ей, и Гаевский упомянул о ее альбоме. «Не знаем, — писал он, — сохранился ли этот альбом и у кого, но не сомневаемся, что он принадлежит к числу замечательнейших русских альбомов. В нем встречались имена и произведения большей части литературных деятелей того времени и многих художников и любителей. Автору предлагаемой статьи не случалось видеть этого альбома; но, судя по стихотворениям, переходившим из него в альманахи и периодические издания, нетрудно составить себе некоторое понятие о его содержании»[813]. И он тщательно собрал по журналам и альманахам более трех десятков стихов и альбомных посвящений — Измайлова, Панаева, Сомова, Кованько, Илличевского, Плетнева, — и, конечно, Дельвига.
Призыв же искать самый альбом остался без ответа, — и не только потому, что неизвестно было, где он находится и уцелел ли вообще, — но и потому, что к нему не пробудился еще общественный интерес. Наступали шестидесятые годы — время новых людей и новых проблем, которые отодвинули на задний план самую поэзию Пушкина, не говоря уже о младших светилах пушкинской эпохи.
Впрочем, по случайному стечению обстоятельств, именно в конце шестидесятых годов дом Пономаревой на мгновение предстал глазам русского читателя. В 1867 году в «Русском вестнике» появились уже известные нам воспоминания за девять лет до того скончавшегося В. Панаева — и еще остававшиеся в живых друзья Баратынского выступили в печати с протестами. Со времени смерти Баратынского прошло не так уж много времени — всего двадцать три года, — но полемика вокруг его имени уже казалась частным и личным делом: за четверть столетия ушла целая эпоха.
Должно было пройти еще двадцать пять лет, чтобы на волне подымающегося интереса ко времени Пушкина появилась маленькая работа М. Н. Мазаева под названием «Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой» (1892)[814]. Мазаев шел по следам Гаевского: он собрал печатные упоминания, — но даже и из них вырисовывался общий контур культурного явления. Речь шла именно об обществе — дружеском, домашнем, приватном, — но тем не менее литературном обществе.
И, словно по историческому вызову, через два года отыскивается альбом, о котором спрашивал Гаевский. Он не успел узнать, что давний его интерес наконец может быть удовлетворен: его не было на свете вот уже шесть лет.
Все это время альбом Пономаревой — да не один, а несколько (из них до нашего времени дошло два) — мирно покоился в недрах помещичьего архива: он остался у потомков Софьи Дмитриевны. Сын ее, как мы знаем, покончил с собой, — но у нее был племянник, хранивший собрание семейных бумаг, — Н. Н. Пономарев, гвардии полковник. Внучатым же племянником этого Пономарева был уже известный нам Н. В. Дризен; он-то и обратил внимание на «тетушкин альбом» и напечатал о нем статью, которой мы не раз пользовались на протяжении этого рассказа. А еще через двадцать лет историк литературы А. А. Веселовский, разбирая семейную библиотеку, обнаружил пачку бумаг, доставшуюся его отцу от того же Н. Н. Пономарева, проведшего конец жизни в своем имении в Боровичском уезде Новгородской губернии. Это был «Журнал всех входящих и исходящих бумаг» Сословия Друзей Просвещения.
Шаг за шагом, не торопясь, с перерывами в четверть века русская культура и наука воскресила то, что, казалось бы, навсегда забыто. Из глубин исторической памяти, — хотя и не столь уже давней, — поднимались имена людей, сопутствовавших большим культурным деятелям. И это было необходимостью, потому что культура во все времена существует в качестве некоей среды или горной цепи с вершинами и вершина без горной цени непонятна и непредставима.
Веселовский напечатал обнаруженные документы и оценил их в общем правильно. Но он считал описанное им общество только литературной игрой, и в лучшем случае романтической любовной историей, — и потому опустил в публикации то, что, как ему казалось, не представляло исторического интереса. Это было ошибкой, но очень характерной для времени. Игрой считали почти все литературные общества начала века: и «Арзамас», и «Зеленую лампу»; «Сословие Друзей Просвещения» тем более заслуживало этого названия. Лишь немногие, наиболее проницательные исследователи могли оценить общекультурное значение литературной игры.
Игра была видимостью, а не сущностью. Она обозначала только вход в исторический лабиринт, где, незаметные с поверхности, переплетались, соседствовали, гармонировали и противоборствовали отношения социальные, эстетические и личные. И каждый новый обнаруженный документ, каждое внимательное прочтение заставляли исследователей делать новый шаг внутрь лабиринта.
Сатиры и эпиграммы Баратынского касались тех самых людей, которые «играли» в дружеское общество. Предание, сопутствовавшее его лирическим посвящениям, называло имя Пономаревой.
Протоколы и печатные объявления Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, — которое также представало поначалу как любительское, — перечисляло тех же людей, и они же входили в «ученую республику». А оттуда некоторые из них вышли на Сенатскую площадь.
И все это было единым целым: и их мышление, и их действия, и их чувствования — то, что мы в обиходе называем духом эпохи.
О духе эпохи и написана эта книга.
Приложение
Письма и дневники О. М. Сомова[815]
Перед нами интереснейший документ: письма и дневниковые записи на французском языке незаурядного русского литератора 20-х годов XIX века Ореста Сомова. «Истинный жрец Муз, посвятивший всю жизнь свою единственно литературе» — так отзывались о Сомове современники[816]. Фактом литературы, памятником литературного быта стали не только его многочисленные критические статьи, повести, новеллы, но также частная любовная переписка и дневник (заметим, что, ведя дневник, Сомов имел в виду возможность его прочтения после своей смерти; так же и в отношении писем он сознавал, что С. Пономарева не останется их единственным читателем).
Современному читателю многое может показаться странным и необычным в этих записях, не всегда отвечающим представлению о писательских письмах и дневниках. С одной стороны, чрезмерное бытописание, сосредоточенность, казалось бы, на безделицах: подробнейшим образом описываются не только и не столько литературные занятия, сколько светские встречи, визиты, развлечения, прогулки, карусели и т. д. И если не знать или на минуту забыть, кто автор этих описаний, то вместе с братом г-жи Пономаревой можно было бы предположить, что перед нами «самый беззаботный малый, какого только видел свет».
С другой же стороны — и это в части дневника и в письмах, адресованных С. Д. Пономаревой, — перед нами тексты, которые легко можно было бы принять за разрозненные фрагменты романа. Здесь и высокий поэтический слог любовных признаний (вовсе не случайно Софья Дмитриевна ценит сами письма несколько выше личности их автора), и тонкий анализ собственных переживаний, и попытка разобраться в механизме пробуждения любовного чувства.
Можем ли мы говорить, что перед нами зачатки русской психологической прозы, начало которой в русской литературе относится все же к 40-м годам XIX века? В определенной степени — да, хотя и с известными оговорками. Ведь и письма, и дневник пишутся на французском языке, что накладывает отпечаток не только на их стиль, но и на специфику их содержания. Причем если в выборе языка для ведения дневниковых записей Сомов еще достаточно свободен, то, адресуя послания даме, согласно этикету и установившейся традиции, он вынужден пользоваться исключительно французским языком.
Подобные «французские» письма в русском обиходе, возникая в пограничной области литературы и быта, испытывали на себе мощное воздействие традиций французской эпистолярной культуры с ее тягой к куртуазности, изысканной манере изложения, часто экзальтации и пристрастием к «пустякам» (des jolis riens). Риторические вопросы, восклицания, гиперболы — порождение одной из основных установок французских салонов: лучше преувеличить, чем преуменьшить — все это мы находим в письмах Сомова. Отличает их и обилие метафор, перифраз, метонимий, сообщающих поэтичность повествованию, в целом не характерную для русской переписки того времени.
Сказывались здесь и собственно литературные традиции. В дневнике и письмах Сомова легко можно обнаружить отголоски романов Кребилль-она-сына, поставившего себе девизом «обнажать сердце» человеческое, отголоски недавно вышедшего романа Б. Констана «Адольф» (1816). Однако не конкретные параллели и совпадения важны здесь, а принципиальная возможность, которую русскому автору открывал французский способ выражения. Это была возможность исповеди, обнажения и анализа чувства, наконец, проявления чувствительности, что русским бытовым и литературным сознанием 20-х годов XIX века воспринимается пока еще как смешной и нелепый анахронизм («но мадригал и чувство сделались одинаково смешны», — заметит почти в это же время А. С. Пушкин, а в 1830 году пародийно заставит героев «Повестей Белкина» писать друг другу чувствительные письма «четким почерком и самым бешеным слогом»). Поэтому при всей искренности признаний и размышлений Сомова многое в них было и «от литературы». И даже ламентации о бедности, полубездомном существовании, отверженности, имея биографическую основу, все же слишком хорошо проецировались на известный уже в литературе мотив раннего сиротства и бездомности героя.
Таким образом, французские письма и дневниковые записи О. Сомова оказываются отраженными двойным светом. Предвещая новые открытия в русской литературе — и, прежде всего, открытия «души человеческой», — предвосхищая рефлектирующий тип письма в переписке литераторов 30-х годов (участников кружка Станкевича), они в то же время легко укладываются во французскую эпистолярную и литературную традицию.
Насколько хорошо владел Сомов французским языком? Вспомним, что к началу переписки Сомов только что вернулся из Парижа. Помимо критической и беллетристической деятельности, в это время он выступает и как «один из лучших» (по свидетельству Н. И. Греча) русских переводчиков с французского языка. С французского он переводит Вольтера, Буффлера, Жанлис, Лемонте и других. На французский язык им переведен IX том «Истории государства Российского» H. M. Карамзина.
Публикуемые письма и дневник также свидетельствуют о высоком мастерстве Сомова как литератора-билингва. Особенно интересны его искания в области стиля. Иногда для выражения одной и той же мысли в рукописи подбирается до четырех стилистических вариантов. «Hélas, ce droit est le seul dont je peux jouir», — пишет Сомов, заменяя далее вторую часть фразы на: «qui me soit rèservè», и т. д.
Первоначально употребленные руссицизмы заменяются впоследствии более адекватным французским идиоматическим выражением. «J’ai été comme sur des aiguilles» Сомов зачеркивает (ср. русское: быть как на иголках) и вписывает новый вариант: «J’ai été à la torture».
Вообще, чем спокойнее Сомов, тем безупречнее его французский язык. И наоборот, всякий раз внутреннее волнение сказывается в появлении руссицизмов (vous vous rirez вместо vous rirez и др.), грамматических и орфографических ошибок.
Основная масса ошибок приходится на случаи употребления значков accent aigu, accent grave, отрицательных частиц (je ne veux pas non plus вместо je ne veux non plus), порядок расположения местоимений, управление глаголов, согласование времен, а также употребление вспомогательных глаголов «avoir» и «être» (напр., «je ne suis nullement vous trahi»). Встречаются также ошибки, связанные с фонетическим письмом (toute suite вместо tout de suite).
При публикации текстов в настоящем издании их орфография приведена в соответствие с современными нормами правописания: проставлены надстрочные знаки, унифицировано употребление заглавных букв в именах существительных. Исправлены оговоренные выше грамматические ошибки в том случае, если это не вносило сколь-либо заметных изменений в общий характер построения фразы.
Переводами снабжены те части переписки и дневниковых записей Сомова, которые не были использованы в основной части книги (см. главы IV и V).
Се 30 avril 1821.
Vous m ’avez permis de vous écrire, Madame: cette faveur me comble de joie: je pourrai donc confier au papier les sentiments que ma bouche, trop ti-mide près de vous, n’a jamais osé avouer. Il fut un moment où j’aurais pu ha-zarder cet aveu, mais dans ce moment je n’ai su que vous adorer: j’a vu le ciel se dévoiler devant moi et tout mon être est devenu le sanctuaire où brûlait l’encens le plus pur à la divinité que j’adore. Femme divine! vous m’avez vu plus humble et plus circonspect que jamais; à peine osai-je articuler quelques mots entrecoupés, à peine osai-je vous prodiguer des caresses les plus chastes, lors même que je ne pouvais plus maîtriser mes sentiments… Vous rirez en li-sant ces lignes, Madame! Vous rirez d’une pauvre créature qui s’est enhardie jusqu ’à vous adorer et même à vous le dire; et bien! mon état est déjà à plaindre, il ne pourra pas le devenir davantage; je me suis résigné à tout. Mais, du moins, imitez en indulgence ces habitants du ciel dont vous êtes ici la plus belle image; laissez-moi mon erreur, laissez-moi au moins un simulacre de félicité.
Chose étrange: j’affectais l’indifférence et même la froideur et en même temps mon cœur s’embrâsais. J’aurais peut-être dû vous cacher ma défaite pour m’épargner la honte de paraître ridicule à vos yeux; mais c’est un si grand bonheur pour moi de pouvoir vous dire que je m’étourdis sur les suites, que cet aveu pourra amener. Pardon, Madame, mille fois pardon si j’ai pu vous déplaire: plaignez-moi plutôt: l’espérance est cachée pour moi sous une crêpe funèbre.
Tout à vous pour la vie O. Somoff.Ce 1 Mai 1821.
Ah, Madame, quelle soir ée que celle d’hier! Mon coeur se brise jusqu’en ce moment-si, malgré la contenance affectée que je tâchais de prendre… Soyez sincère et convenez que vous avez voulu m’humilier, et de quelle manière… Ce vin que vous me feriez à boire; non, plutôt un poison prompt et efficace qu’une goutte de ce vin, et le fatal je ne veux pas est parti de ma bouche. Oh! de quoi ne l’aurais-je racheté un moment après — j’ai été à la torture tout le reste du souper; je me suis cru perdu sans ressource dans votre esprit: un seul mot m’a rendu à la vie. C’est vous qui 1’avez prononcé, ce mot de grâce et de salut: j’ai vu que vous ne vous fâchiez plus et mes remords n’en étaient que plus puissants.
J ’ai été souvent victime de mes premiers mouvements: un emportement momentané avait coûté bien de larmes à ma mère, à la seule flemme qui aurait partagé avec vous, si elle vivait encore, les sentiments de tendresse et d’adora-tion que je vous voue maintenant sans partage. Et hier… ô que je voudrais perdre même le souvenir de cette soirée! à côté de moi 1’on m’insultait par un sourire infernal qui voulait dire: tu es perdu et j’en suis très aise! L’on ne se donnait pas même la peine de me cacher sa joie… Oh! si l’on voyait mes yeux enflammés, mon sang qui se portait à la tête; si l’on entendait le mot d’insulte et de menace qui volait déjà sur ma bouche.
Cependant j ’ai su me dompter. Dieu veuille lui pardonner comme je lui ai pardonné cette fois-ci.
Comment arrive-t-il, madame, que loin de vous je ne pense qu ’à vous? que lorsque je veux adresser un mot de compliment à une dame, votre nom est toujours sur mes lèvres? Que tout ce qui n’est pas vous, m’ennuie mortelle-ment? Hier j’ai été chez Izmaïloff; triste et rêveur, je ne disais que des mots sans suite. Arrive votre époux… et comme si quelque chose m’avait éléctrisé, je suis devenu gai et causeur; j’ai conçu l’espoir de vous revoir dans la soirée même.
Monsieur votre époux a eu la bonté de m’inviter à passer chez vous et je ne me le suis pas fait répéter une seconde fois; j’ai volé vers votre maison de sorte que j ’y suis arrivé, à pied, presqu’en même temps que la drochki de monsieur Ponomareff. Vainement je vous cherchais des yeux, vainement je rappe-lais ma gaîté; elle s’est envolée pour le reste de la soirée, et mon âme l’était aussi pour découvrir vos traces.
Adieu, madame! mon coeur n ’est pas encore à sa place: une inquiétude mortelle l’oppresse encore, Il se peut bien que vous n’avez pas tout-à-fait oub-lié ma faute; d ites-moi comment dois-je l’expier?
Votre esclave, soumis et repentant O. Somoff.Ce 2 Mai 1921.
J’ai passé une nuit blanche, Madame: mais cette nuit était délicieuse; le plaisir ranime les forces: la preuve en est que je ne suis pas du tout abattu. Je n’ai été séparé de vous que par l’espace d’une chambre, j’ai été bercé par le souvenir de vous avoir vue endormie devant mes yeux; je respirais le même air que vous, l’air qui recevait des vibrations de voire haleine: que de délices! que de bonheur! Et ce bras nu glissant dessus la couverture, et cette figure enchanteresse plongée dans le sommeil, ce repos, cette tranquillité de l’âme qui se peignait sur vos traits… j’y serais resté jusqu’à votre réveil, si votre époux ne m’avait entraîné hors de la chambre. Aussi je n’ai pas pensé à dor-mir: une seule fois je me sentis la paupiere appesantie, mais cette espèce d’as-souvissement avait ses douceurs: votre image s’y reproduisait sous mille formes immortelles.
De gr âce, apprenez-moi. Madame! pourquoi j’ai été traité d’abord si froidement dans la soirée d’hier? Par quelle faute me suis-je attiré cette espèce de dédain avec lequel vous m’avez alors entendu et répondu? Est-ce ma lettre? Qu’y avez vous trouvé qui pût vous blesser? Non! vous n’avez pas dû donner une fausse interprétation aux expressions des sentiments les plus vrais et les plus purs.
Enseignez-moi à vous peindre les sentimens! pourquoi suis-je à demi muet en votre présence? C’est par le respect que m’impose la vue de l’objet que j’adore
pour la vie O. Somoff.Ce 3 Mai 1821.
Une assez belle matin ée et la perspective d’une très belle journée — telles étaient mes espérances d’hier. Madame! oh! qu’elles étaient loin de se réaliser. Pourquoi suis-je allé sur cette fatale barque? Pourquoi ne suis-je pas retourné sur mes pas tout en arrivant chez vous? Pourquoi le malin m’a t-il poussé dans la barque où vous étiez avec votre époux? — Je l’ai attrappé ce regard de dédain que vous m’avez lancé, il m’a glacé le sang. D’autres regards que vous promeniez loin du bateau, annonçaient plus d’intérêt… J’ai eu l’hon-neur de vous dire, Madame, qu’un rien est capable de m’indisposer et d’ôter ma ga îeté pour le reste de la journée. Convenez que le triste rôle que J’ai dû jouer hier, n’était pas faîte pour m’égayer. Et pourquoi ne pas me laisser partir après avoir vu que tous mes efforts pour me rendre restant soient peu suppor-tables, restaient sans effet.
Je me perds dans le labyrinthe de mes conjectures à l’égard de l’impor-tant personnage d’hier au soir; Madame assure qu’elle ne peut pas le souffrir, que c’est bien l’être le plus vain et le plus insolent etc. etc. et cependant les procédés de Madame envers ce même personnage prouvent le contraire. J’ai voulu vous conjurer à me mettre sur la voie de me conduire envers un autre jeune homme et j’ai remarqué que vous avez cherché à éluder cet entretien, qu’à travers le peu de mots que vous avez daigné me dire perçait une espèce de crainte — très outrageante pour moi. Quoi, Madame, Vous, douce, d’un esprit supérieur, et d’un admirable aplomb dans vos démarches, vous craind-riez un oiseau comme celui-là: il suffirait d’une attitude assurée pour lui en imposer. Et suis-je à votre sentiment un être aussi méprisable pour que l’on craigne de s’abaisser en me parlant?.. De grâce, Madame! dites-le moi, pour que je puisse agir en conséquence. Je ne le sens que trop et je le répète encore: j’aurais dû me confiner dans mon réduit et ne jamais me rapprocher de vous: il eût suffi de vous en avoir vue une seule fois pour m’éclairer sur les dangers que je courais. Mon pauvre cœur est incorrigible et les malheurs qu’il a déjà essayés n’avaient pas réussi à le mettre à même de se tenir sur ses gardes. Mais ces mêmes malheurs ont contribué à débrouiller un peu ma cerveille, de sorte qu’avec cet air bênet que vous me connaissez, j’ai à présent un certain tact pour voir les choses comme elles sont. J’ai ri intérieurement, puis en en-tendant le maître Celiboron disserter sur l’amour platonique, j’ai parlé exprès d’amour sensuel pour lui faire comprendre l’inconvenance de la conversation où il s’embarque. Est-ce à lui d’en parler? L’aveugle ne pourra-t-il jamais ju-ger de la peinture, et le sourd de la musique?
Pardon, Madame, si ce griffonage vous ennuie. Le sort est jet é, il n’est plus à rétracter, arrive soit qui arrive: mais je ne suis pas morveux <нрзб.>
Votre esclave, qui meurt <нрзб.>Ce 5 Mai, 1821
Je l’ai vu couler, ce sang si beau, si vermeil, j’ai vu se marier son doux vermillon à la blancheur éblouissante du plus joli pied du monde, de la jambe la mieux arrondie que j’aie eu le bonheur de voir de ma vie. Oui, Madame, j’étais ravi, extasié; et un moment après je vous en voulais mortellement. Peut-on ménager si peu une santé précieuse comme vous le faîtes? Et pourquoi? pour le vain plaisir de braver les dangers, ou plutôt, si j’ose le deviner, pour le plaisir de narguer tout le monde. J’ai poussé jusqu’à l’imprudence le tendre intérêt que je vous porte. Grondez-moi, Madame! j’ai perdu le tête, j’ai été bête, je ne comprenais plus ce que je disais. Et quel en fut le prix? Madame m’a refusé une manche qu’elle-même m’avait promis un instant d’avance. Ah! si vous voulez me faire perdre le souvenir p énible de ce refus, consentez á me faire une grâce que je vous demande au nom de cet amour qui me consume: c’est de me remettre l’appareil ensanglanté qui a été mis sur votre pied après la saignée.
Je le porterai souvent sur mon c œur et peut-être parviendra-t-il à soula-ger les peines que ce pauvre cœur endure. Le sang frais et pur a toujours eu la vertu de neutraliser les effets dévorants d’un poison lent et infaillible.
Je crus remarquer quelque chose de sinistre dans les regards de M. le Bel-vison: se pourrait-il? Non, loin de moi cette id ée, elle me serre le coeur.
Une mis érable petite conquête comme celle de mon pauvre individu, ne peut flatter personne: aussi je ne mérite pas qu’on me ménage: on peut me per-mettre d’attraper l’ombre du bonheur quand on n’a rien de mieux à faire. Mais je me rappelle bien que vous m’avez autorisé à vous suivre partout. Oui, Madame, je vous suivrai comme votre ombre, je vous suivrai partout, au risque d’être souffleté ou chassé par vous. Foi d’homme d’honneur, je le ferai (sauf de blesser les convenances) et je vous répéterai sans cesse
Tout à vous, de cœur et d’âme O. Somoff.Ce 8 Mai, 1821.
Une journ ée entière sans vous voir, Madame! jugez de ma peine cruelle! Depuis quelque temps je suis si accoutumé, si heureux d’être près de vous, que tous les instants que je passe loin de vous me semblent perdues pour mon existence. Hélas! je me crée un bonheur basé sur m a perte! je m’enivre dans une coupe dont le fond contient ma mort.
Ce 9 Mai 1821.
Encore vingt-quatre heures mortelles! mon âme se déchire. Si vous m’avez vu pleurer, comme un enfant, pleurer à chaudes larmes dans mon lit, et manger mes ennuis en présence des personnes qui me connaissent, peut-être que vous n’auriez pas ri de mes tourments; peut-être que vous auriez même été attendrie en me voyant souffrir. Je ne peux ni rien penser, ni rien faire; la pre-mière idée, la première image qui se présente à mon esprit, c’est toujours vous. Je veux tracer quelques lignes, et c’est votre portrait que je vois sur le papier, je veux articuler quelque phrase, et c’est votre nom que je prononce in-volontairement: je me tais, je rêve et je ne rêve que vous.
J’ai fait, dans la nuit d’hier, un rêve qui semble pronostiquer ma future destinée. D’abord c’est toujours votre image qui m’avait apparu: elle planait au-dessus de ma tête, elle avait quelque chose d’incorporel, elle était entourée d’une clarté céleste. Ensuite j’ai vu qu’on me mariait à feue ma mère. Un froid mortel a coulé dans mes veines, je me suis éveillé en sursaut et j’essuyai la sueur mortelle qui inondait mon visage. J’ai cru lire dans le livre du destin: c’est vous. Madame, oui, c’est vous qui ne tarderez pas de me marier à la mort. Ne croyez pas que je vous en accuse, c’est mon sort, c’était écrit là-haut où peut-être même avant que j aie commencé d’exister. C’est là qu’il était prescrit que je devrais être un jour entraîné par un charme irrésistible, entraîné sous les lois d’une femme incomparable, que dis-je? d’une divinité à qui je sacrifie tous les pulsations de mon cœur, tout le souffle de ma vie, et qui devrait me payer d’une indifférence, d’une froideur, qui opprime le cœur malheureux et qui abreuve mes jours d’une amertume de la mort.
Ma pauvre t ête s’égare, c’est un état d’exaltation, c’est une fièvre lente que j’éprouve. Je ne peux plus écrire, je peux pleurer.
Pardon, Madame, si j ’ose Vous déceler une partie de ce trouble de mon âme, de ce dérangement de mes idées… Oh! qu’il m’est doux de pouvoir dire encore
Tout à vous, jusqu’à ma derni ère respiration O. Somoff.<Ce 11 Mai 1821>
…Madame m’a dit au souper d’avant hier, que je la compromettrai. En quoi, donc, Madame, je me rappelle bien de n’avoir dit tout ce temps-là, que des choses très indifférentes, et j’espère que je n’ai nullement vous trahi. Au-cun mot, aucun geste ne m’ont échappé qui aient pu prêter à faire allusion à quelque chose.
Oh, ma cousine, ma ch ère Nanine! pardonne si j’ose ici faire une com-paraison qui ne sera peut-être pas tout à l’avantage de tes charmes qui jadis naissaient sous la pression de ma main amoureuse. Je dois le confesser, quoi-que tu fusses plus belle et moi plus jeune: je n’ai jamais ressenti un plus grand bonheur auprès de toi. Je connais toutes les sinuosités, tous les contours de ton beau corps, je nageais dans le plaisir, sans oser jamais franchir les bornes que tu me préscrivais. Couchés l’un à côté de l’autre, nous passions des nuits en-tières; mille et mille fois je touchais déjà au faîte du bonheur: mais un mot suppliant, une larme de tes yeux me désarmaient: tu craignais l’inceste.
Любовница, сестрица! Подруга, милый друг!Pardonne, je le r épète, si, dans ce moment-ci, quand j’ai douze ans de plus qu’alors, je n’ai pas pu tenir contre le charme qui seduisait, et si j’ai trouvé ce sein dans toute la plénitude d’une beauté faite, cette bouche vermeil-le, ces baisers de feu, préférable à tout ce que j’ai vu chez toi, à tout ce que j’ai reçu de toi. Jamais je n’ai été aussi amoureux, que dans cet embrassement subit,
Oh maravigli à! Amor, ch’appena é nato Già grande vola e già trionfa armato.
Et vous, pauvre Catiche! vos quinze ans et les faveurs dont vous m ’avez comblé ne sont à présent que glissés sur la surface de mon souvenir. Cet esprit supérieur, les grâces d’une éducation soignée, ces talents séduisants, joints à des yeux qui n ’ont que très peu de pareils, à une humeur au-dessus de tout ce que l’on s’imagine, à une gorge dont l’élasticité semble repousser une main téméraire, une gorge qu’est un problème chez une femme mariée depuis 9 ans, tant pour la forme que pour la fermeté — enfin ce jeu d’une physionomie animée, — tout cela ferait oublier les félicités du séjour des dieux.
О, моя кузина, моя дорогая Нанина! прости, если я осмелюсь сейчас сделать сравнение, которое, возможно, не вполне польстит твоим прелестям, расцветавшим когда-то под моей влюбленной рукой. Я должен в этом признаться: хотя ты была прекраснее, а я моложе, но никогда я не ощущал большего счастья рядом с тобой. Я знал все изгибы, все очертания твоего прекрасного тела, я купался в наслаждении, не смея преступить границы, которые ты мне поставила. Лежа друг с другом рядом, мы проводили целые ночи; тысячи и тысячи раз я достигал уже вершины блаженства, но одно слово мольбы, слеза на твоих глазах меня обезоруживали; ты боялась инцеста.
Любовница, сестрица! Подруга, милый друг!Еще раз прости, если теперь, когда я старше на двенадцать лет, я не смог устоять против очарования, соблазнившего меня, если я предпочел эту грудь во всей полноте созревшей красоты, этот алый рот, эти страстные поцелуи всему, что я когда-то видел в тебе, всему, что я получал от тебя. Никогда я не был так влюблен, как во время этих внезапных объятий.
Oh maravigli à! Amor, ch’appena é nato Già grande vola e già trionfa armato[817].A вы, бедная Катишь! ваши пятнадцать лет и милости, которыми вы меня осыпали, ныне оставили лишь едва заметный след в моей памяти. Выдающийся ум, прелести хорошего воспитания, обольстительные дарования в соединении с глазками, равным которым найдется очень немного, нравом, превосходящим всяческое воображение; грудью, чья эластичность должна была бы оттолкнуть всякую бестрепетную руку, — грудью, которая обычно составляет проблему для женщины, находящейся замужем более 9 лет, как в отношении формы, так и упругости — наконец, эта игра оживленного лица — все это заставило бы забыть блаженство рая.
Се 19 Mai 1821.
Et c ’est moi qui eu osé renouveller la même dispute! Que me sont donc les Grands de la terre, auxquels je n’envie rien, pas même le sort d’être vanté dans tout l’ univers. Pardon, Madame, je suis prêt à expier ma faute par toutes sortes de sacrifices que vous aurez la bonté de m’imposer. Combien de fois, après m’être séparé de Mr. Kouschinnikoff et me trouvant seul sur un frêle bateau me suis-je répété:
Вперед люби, да будь умнее, И знай, пустая голова, Что всякой логики сильнее Прелестной женщины слова.Ces vers, je me les suis grav é dans la mémoire, comme le précepte de ma conduite à l’avenir. Tandis que je faisais ces reflexions, la brise s’élevait, les vagues venaient en écumant se briser aux bords de ma nacelle, un pauvre rameur maussade comme on nous représente Caron, travaillait de toute la force de ses bras nerveux. Faut-il vous dire la vérité, Madame? Il m’est arrivé mainte et mainte fois de désirer que le vent par son souffle violent ou bien les vagues par leurs chocs m’eussent arraché de mon embarcation et plongé dans fin fond de la Neva: tant j’étais mécontent de moi-même. Ce n’est pas que je ne fusse puni, en expiation de mon crime, ayant gagné un gros rhume et quel-ques petites attaques de rhumatisme par-ci par-là, mais je l’ai bien mérité.
Pour Dieu, Madame, ne revenons plus sur le chapitre des Grands de la terre: c ’est une bien triste matière pour moi: je les estime quand ils sont bons, je les plaigne quand ils sont méchants. Voilà ma profession de foi sui leur compte.
J ’ai une toute autre sur le Vôtre, Madame! Vous êtes ma divinité! Je n’ose plus vous dire que je vous aime d’amour, mais il m’est permis, il m’est doux de répéter que je vous adore, que je vous déifie: je tiens beaucoup à cela.
J ’ai encore un aveu à vous faire. Madame: j’ai fait des tentatives pour pacifier mon pauvre cœur, pour apaiser le feu qui le dévore; mais, hélas! ne le fait pas qui veut. Encore une fois: je m’étourdie sur ma future destinée, je cours droit au précipice la tête la première, je n’ose plus vous le dire et je m’en ressens davantage.
Combien l ’homme est faible et versatile dans ses projets: je vous ai promis d’être gai dans mes lettres et je suis tout au plus neutre: quan d est-ce que je me corrigerai?
Souffrez, du moins, Madame, que je continue toujours de me nommer
Tout à vous pour la vie Orest Somoff.Ce 23 Mai 1821.
Vous l ’avez prononcé, Madame! vous m’avez rendu le droit de vous con-ter mes peines, de vous parler de mon amour? Hélas, ce droit est le seul qui me soit réservé: je n’ai, pour toute réalité que mes tourments et la liberté de gémir. D’autres, plus heureux que moi, respirent la douce haleine de la rose; je n’en recueille que les épines. Oh! pourquoi ne puis-je répandre mon âme sur ce papier? pourquoi ne puis-je pas écrire avec le sang de mon cœur: ces caract ères seraient brûlants, ils vous auraient embrasés des mêmes feux dont ce pauvre cœur est consumé!
Croiriez-vous, Madame, qu ’il m’arrive souvent d’être plus heureux, seul et loin de vous, qu’en votre présence? Je vais vous expliquer cette énigme: vot-re image est toujours avec moi: tout mon être intellectuel en est rempli:
… Je t’aime en cent façons, Pour toi seule je tiens ma plume: Je te chante dans mes chançons, Je te lis dans chaque volume. Qu’une beauté m’offre ses traits, Je te cherche sur son visage: Dans les tableaux, dans les portraits, Je veux démêler ton image.Voil à la peinture la plus vraie de ce qui passe dans mon cœur, dans mon imagination, enfin dans tout mon individu. Que je suis fâché que ce ne soit pas moi-même qui ait fait ces vers! ils expriment si bien ce que j’éprouve et que je sens… Hé bien, Madame, ajoutez à cela le doux souvenir de ce que j’ai entendu, de ce que j’ai vu, et ces mots de bonté, ces mots de consolation qui flattaient de temps en temps mon oreille. «Вот милая попинька! Où est mon Oreste? Jouez, mon ange!» — Croyez-vous que je les oublierai? Ja sais bien comme je viens de le dire, que c’étaient seulement des mots de bonté, des mots de consolation, des expressions presque banales, mais je vous le répète, et je le répéterai toujours: mon cœur aime à se tromper, il est tout à ces illusions… Aussi la réalité est trop dure pour lui… je vois bien que j’ai cessé même d’être l’objet de votre indulgence: quelquefois je suis là, près de vous, et vous avez l’air de ne pas vous en apercevoir[818]. Oh! c’est l’unique occasion où je fais des reproches amères à la nature, à la providence de ne m’avoir pas comblé de leurs dons.
Pourquoi en effet ne m ’ont-elles pas donné une figure attrayante, une taille avantageuse, des talents agréables surtout celle de plaire, un esprit aigre et cultivé, enfin tout ce peut attirer et attacher. De tous leurs dons, elles ne m’ont laissé en partage qu’un cœur tendre et aimant et une âme élevée au-des-sus de mon état, deux choses qui au lieu de faire le bonheur de celui qui les possède, ne contribuent qu’à le rendre encore plus malheureux. Ayez pitié de moi, Madame; rendez-moi du moins mon bonheur illusoire, ce bonheur qui m’a été accordé naguères: je vous jure, je fais le serment le plus solennel d’être aussi circonspect que vous l’exigez, de vous épargner la peine de me faire encore les mêmes reproches que votre jolie bouche m’avait prononcé autre jour.
Et en quoi suis-je fautif? J ’a toujours été si respectueux, si soumis devant vous, Madame (en même temps que j’ai vu un jeune homme se permettre de vous faire les réprimandes un peu dures en présence de tout le monde: voilà à qui peut vous compromettre et prêter au scandale…)
Veuillez bien, Madame, me pardonner ma franchise excessive: c ’est dans l’interêt de tout ce qui vous concerne, et par conséquent de tout ce qui m’est plus cher que ma vie, que je me suis permis de vous exprimer mon sentiment à ce sujet. Si vous saviez toute la force de mon amour, vous ne vous fâcheriez point de ma sincérité. Je tombe à vos pieds, je m’anéantis en disant toujou rs
Tout à vous pour la vie O. Somoff.Ce 25 Mai, 1821.
Ce n ’est donc que mon talent d’écrire que vous voyez dans mes lettres, Madame. L’éloge que vous en avez fait hier n’était qu’une satire contre mon coeur: aussi vous avez pu remarquer mon embarras et mes sottes réponses à vos aimables compliments: j’étais pétrifié, anéanti. Ah, Madame! si par pitié seulement vous m’eussiez dit: tu as un coeur, tu sais aimer, je le vois; ces expressions ne peuvent partir que d’un cœur aimant, elles ne sont point enve-loppées dans une froide recherche des mots et dans le fade jargon d’un amant trouvé dans mille romans. C’aurait été plus flatteur pour moi que toutes les lo-uanges pompeuses des toutes les académies du monde. Mais ici je vois que Madame a voulu seulement plaisanter sur mon amour et tourner en ridicule mon pauvre cœur: quelle récompense!.. Vous avez beau faire. Madame! je vous aimerai toujours: ni vos rigueurs, ni vos plaisanteries n’étoufferont jamais une passion qui va chaque jour croissant, qui fait mes peines, qui f’ait mes délices, et qui enfin n’expirera qu’avec le dernier souffle de ma vie.
Qu ’il est pénible, le moment fatal où l’on voit tomber le bandeau rose qui couvrait nos yeux, laissant apercevoir, dans le lointain, un demi-bonheur et des demi-jouissances! Qu’il est pénible, dis-je, cet état où le cœur se voit détrompé! Voici précisément l’état où je me trouve, Madame! Les espérances se sont toutes envolées: un vide affreux que rien ne remplit, règne à présent dans mon cœur… Autrefois il s’ouvrait à la douce amitié, depuis quelque temps il a osé palpiter pour l’amour…
Eh bien, Madame! l ’amour l’ayant trompé et le désir même de l’amitié. Vous, Madame, vous ne le croyez pas, j’ai vu par tout ce que vous m’avez dit que vous n’en croyez rien; ou du moins, si vous condescendez à le croire, ce sentiment ne fait qu’effleurer votre cœur sans y laisser aucune trace, tandis qu’il se grave dans le mien à de traits de feu, à de traits ineffaçables.
Hier j ’ai osé encore me disputer avec vous, et vous, ange de bonté, vous excusez cet excès de folie? Je vous prie, Madame, de me faire la grâce d’impo-ser à l’avenir silence à cette langue hardie qui devient alors comme antipode de mon cœur. Quelques fortes que puissent être mes raisons, il suffit que vous me disiez: C’est mon opinion! et vous verrez que je rentrerai aussitôt dans mon caract ère, dans celui d’un amant humble et soumis, comme je le suis toujours et comme je veux toujours l’être pour
Tout à vous pour la vie O. Somoff.Ce 26 Mai 1821.
Oui, Madame! Vous le voulez; vous voulez mortifier, atterrer un c œur qui vous aime tant! Hier encore j’en ai eu une preuve indubitable: vous avez fait appeler un de ces Messieurs, vous lui avez parlé, vous avez eu l’air de vous intéresser beaucoup à sa conversation… il sort, je m’approche de vous, j’ose vous adresser la parole et vous prétendez que vous voulez vous exercer. Il est beau, le compliment que vous m’avez dit: «que vous ne voulez pas avoir deux plaisirs à la fois: me voir et lire mes lettres». Je l’ai traduit mot par mot en lan-gage du cœur, en langage de vérité: voilà ce qu’il signifie: «aurais-je le temps de penser à toi et à tes lettres». La mine qui accompagnait le compliment l’ex-primait ainsi. — Vous me méprisez, Madame; vous craignez de faire voir aux autres que vous avez même la patience de m’écouter; je ne l’ai que trop compris; vous cherchez toujours des moyens pour éviter un moment d’entretien que je m’empresse de saisir: c’est clair, vous m’avez dit vous-même, ce que je dois faire…
Eh bien, Madame! quelque p énible que soit pour moi le sacrifice, je le consommerais: j’ôterai de vos yeux l’objet de vos dégoûts et de vos mépris, je vous épargnerai la peine de me voir.
Les égards que je vous dois, Mme, à vous et à Mr votre époux m’oblige-ront de paraître de temps en temps chez vous jusqu’à une certaine époque afin d’éviter une interprétatation; mais ces visites seront courtes et ne vous comprometteront point, comme vous avez eu la bonté de me le si gnifier.
La fiert é naturelle à des gens qui n’ont pas le front d’airain, me le com-mande; je ne peux pas supporter qu’on me méprise, je ne veux pas non plus être à charge à personne.
Je me rappelle bien ce que vous avez dit une fois des gens pauvres qui ont du caract ère, au sujet d’une de nos connaissances: «Il est fier, parce qu’il est pauvre». Eh bien, Madame, je suis plus pauvre encore, et je suis fier, bien que la pauvreté ne soit pas un mérite à étaler, comme ce n’est non plus une honte à cacher!
Une de mes lettres pr écédentes vous aura instruite de la justice que je sais me rendre à moi-même, de la vraie opinion que j’ai de mon individu. Il reste encore un grand défaut que je n’ai point nommé, mais que j’ai fait voir dans plusieurs occasions: c’est l’excès de franchise.
Que vous ai-je fait, Madame? je vous aimais!..
Si vous m ’eussiez vu hier dans l’état angoissé où je me trouvais, mon visage enflammé, mes yeux égarés, si vous eussiez pu sentir les palpitations in-termittentes de mon coeur… etc. Non! je n’ai pas voulu vous offrir ce spectacle (qui vous aurait peut-être attrister: je me suis enfui à toute force). Arrivé près de corps-de-garde, en face de la petite église, je me suis trouvé mal; un bon soldat, qui était en faction, eut pitié de mon état, il a sonné des camarades, qui m ’ont introduit ou plutôt porté dans l’intérieur et m’ont prodigué tous les se-cours qu’ils pouvaient imaginer; grâce aux soins de ces excellents militaires, je me suis un peu remis au bout de quelques moments et je suis parti. Etant rentré chez moi, j’ai eu un accès de fièvre; le sommeil fuyait de mes yeux; mon coeur était serré et ma poitrine oppressée comme si un poids énorme m’écra-sait et me cessait la respiration. Vers dix heures du matin, deux ruisseaux de larmes, de ces larmes brûlantes de désespoir, m’ont un peu soulagé; mais je n’ai pas pu fermer la paupière.
Quand je me souviens que voil à un mois, que j’ai été traité bien autre-ment! Oh! ç’était le jour de mon bonheur, trop <нрзб.>, il est seul dont le s ouvenir me soit doux, dont l’agréable image effleure encore mes lèvres d’un sou-rire des bienheureux, il m’ouvrait les cieux pour me replonger dans l’abyme du néant. Je me dit alors: Oh, de qui dependait mon bonheur? et qui s’est joué du crédule? Confiant, je me livrai entièrement… <незак.>
Simple et confiant, je me sens si faste; malheureux par ma condition, d étrompé du bonheur et des plaisirs de la vie, presque mort dans l’âme… Oh! Si j’étais mort en effet, ce serait pour moi une félicité…[819]
Jouissez, Madame, du bonheur qui doit toujours être votre partage. Oub-liez un malheureux qui n’est pas digne de votre souvenir, arrachez son nom partout où il se trouve, ainsi que tout ce qui peut le rappeler à votre mémoire. Adieu, Madame!
J’ai l’honneur d’être avec une estime sans bornes (je veux cacher au fond de mon âme l’expression des sentiments plus tendres).
Madame!
Votre tr ès humble, très dévoué serviteur Oreste Somoff.Ce 27 mai, à 1 heure après minuit.
Que l ’opinion de l’objet adoré a de puissance sur nous! Elle nous élève l’âme, nous communique une dignité ou nous abaisse et nous atterrie. Peu de jours avant, lorsque j’étais honoré d’un gracieux accueil, lorsque j’avais la permission de vous suivre sans m’attirer votre indignation j’étais aux cieux, je me supposais même plus de mérite que je n’en aie, je prenais un maintien plus sûr et si j’ose le dire, plus noble, afin de pouvoir vous contempler avec plus de dignité… Aujourd’hui méprisé, proscrit, je m’humilie à mes propres yeux, je n’ose presque <оторван край листа> mes regards sur votre personne. Dans ce même instant rentré sous mon humble toit, j’hésitais si je devais allumer la lumi ère; <оторв.> craignais de remarquer quelque chose d’odieux <оторв.> et dans mes propres traits j’avais peur de moi-même.
Ce 28 Mai, à 11 heures du matin.
Le sort en est jet é; cette lettre doit parvenir à sa destination; c’est mon droit de mort… Quel supplice! mon âme est déchirée, mon cœur en proie aux mille tourments qui le torturent, ma tête s’égare!.. Soutiens-moi, juste Ciel! prête-moi assez de forces po ur pouvoir remettre cette lettre fatale.
à midi.
Ah! un mot de salut, Madame! et vous m ’arrêtez sur le bout du précipice.
Ce 31 mai 1821.
Je sais que je ne devais plus vous écrire, Madame! peut-être suis-je fau-tif envers vous: mais vous, Madame, vous qui êtes une divinité par la figure, par l’esprit, par le cœur, vous devrez aussi avoir une bonté divine, vous devrez pardonner à un homme dont la tête s’égare, dont la raison se trouble, dont le cœur est malade, et malade sans espoir de guérison. Je vous ai conjuré, com-me un signe de grâce, comme un signe de vie de m’écrire petit billet de votre main pour lundi; un billet qui m’aît dit que je ne suis pas encore tout à fait perdu dans votre opinion, que je ne suis pas méprisé, proscrit. — La journée passe, le billet n’arrive point, et je suis dans des transes mortelles qui ne s’apaisent pas même jusqu’en ce moment-ci.
Eh bien, Madame, tout vient à l’appui de mes soupçons; par excès d’hu-manité, seulement, vous n’avez pas voulu me le confirmer en face, pour ne pas réduire au désespoir un homme dont les sentiments ne vous sont que trop con-nus. Vous dirai-je, Madame? c’est exprès que dans ma dernière visite, resté seul auprès de vous, j’ai hasardé ce mot de caresse: c’était une pierre de touche, une espèce de sonde: vous n’avez pas manqué à me demander d’un air grave et d’un ton de voix sévère: Quelle caresse. C’est alors que j’ai balbutié pour vous répondre. Soyez sincère une seule fois avec moi, Madame! Dites que je vous déplais, que je vous ennuie: un aveu de cette nature sera dorénavant la boussole de ma conduite.
C ’est une chose inexplicable que le cœur: torture que j’acquiers, la tris-te certitude de n’être plus agréé, il ne bat que pour vous: mon imagination est rempli de votre image, je me promène, je vois une dame de votre taille, et c’est vous que je crois reconnaître en elle: j’écris sur ma table, je détourne la tête, et c’est vous encore que je vois à côté de moi. C’est une fièvre blanche; je bats la campagne, Madame: n’en soyez point fâchée, plaignez-moi. Hélas! que j’en-vie… je n’ose pas achever: mon père là-haut s’en fâcherait… je me prosterne devant lui.
Malheureux! et j ’ose aussi me traîner à vos pieds
Madame! Votre tr ès-humble et très dévoué serviteur O. Somoff.ДНЕВНИК О. СОМОВА
J’ aurais payé de mon existence si j’avais pu être heureux avec elle une seule fois dans ma vie: oui, je le jure même à prèsent, quand je veux l’oublier, que si on me disait: tu seras comblé de ses faveurs, mais tu seras mort une heure après par le plus cruel des supplices, — je n’aurais point hésité. Elle a beau prêcher contre l’amour sensuel et pour l’amour platonique: elle n’est point faite pour ce dernier. Ces regards provoquants, cette haleine qui respire le plaisir, ces attitudes, ces gestes involontaires si voluptueux, si propres à inspirer et à exciter un amant passionné, ces demi-mots qui entre’ouvrent le paradis; tout cela n’est pas en harmonie avec cette chaleur douce et monotone qu’exige un amour platonique.
Depuis ce temps-l à elle a changé totalement sa conduite à mon égard. Elle me boudait, elle me reprochait même le désir d’être heureux pendant ce fatal tête-à-tête. J’ai vu alors son triomphe et ma défaite; j’at vu que je perdais dans son opinion et qu’elle voulait se prévaloir de l’ombre de faveur qu’elle m’avait une fois accordée. Enfin, donnant la préférence à mes yeux tantôt à celui-là, tantôt à cet autre, elle avait cru me blesser, m’outrager par ses démar-ches. Parlant sans cesse à l’ècart aux autres, elle n’a pas voulu me laisser dire deux mots de suite; si je me trouvais seul avec elle, elle affectait une hauteur et une espèce de mépris, dont elle voulait sans doute m’accabler. Elle s’y trompe: je suis le premier à reconnaître mon peu de mérite; et surtout j’étu-diais bien mon extérieur simple et bénin, que je n’ai jamais pris la peine de composer. Et dernièrement, sachant que je suis venu, elle envoyait sa fille de chambre, tantôt pour prendre un livre, tantôt pour lui apporter un coussin ce qui voulait dire d’une maniére très visible: je sais que tu est là, mais je veux te mortifier, te outrager… Et pourquoi? pour un vain caprice… Oh! cela n’a pas de nom… Mes resolutions sont prises: adieu, Madame! j’ai vingt huit ans et je suis déjà las d’être le jouet de vos fantaisies; il est temps d e se reposer un peu.
Ce 31 Mai 1821, à 3 heures après midi.
Elle ne veut plus me voir! Oui, c ’est une preuve qu’elle me méprise; mais pourquoi y mêler encore ce persiflage amer qu’elle me fait essayer. Elle m’envoie dire par sa femme de chambre que c’est une honte de m’en aller, et si j’ai un billet pour elle, que je la remette par cette fille. C’est donc de mes lettres qu’on a besoin, et non pas de celui qui les a écrites; on en fera une lecture agréable à quelqu’un plus heureux que moi! Néanmoins je me suis soumis à cette nouvelle humiliation, j’ai remis le billet et le dicton que j’ai préparé pour elle, et n’ai rien dit à la fille et je suis parti. Mon cœur était navré, ma tête prête à se fendre; je n’ai jamais éprouvé un si grand tintement dans les tempes; j’étais prêt à tomber en défaillance. J’ai marché toujours: j’ai oublié qu’il existe des bateaux sur la Neva, de sorte qu’au sortir de ma rêverie je me suis trouvé au pont de la Trinité. Je me suis glissé le long du jardin sans me laisser apercevoir, ma lheureusement Pletneff et sa femme m’ont reconnu: j’ai d û faire un tour avec eux. En passant près d’un banc j’ai remarqué son père, et quelqu’indisposé que j’eus été à rencontrer tout ce qui la rappelle, j’ai pour-tant salué bien respectueusement ce bon viellard.
Arriv é chez moi, par mouvement involontaire dont je ne peux pas me rendre compte à moi-même, j’ai cherché mes pistolets, que je n’ai pas pris depuis l’affaire de S… Je n’ai pas voulu certainement me brûler la cervelle: mais pourquoi ces pistolets, cette poudre et balles? Encore un moment, avec mon caractère propre à s’enflammer, et peut-être s’en était fait. Le bon viellard Schubnikoff m’apporta les mouchoirs que la blanchisseuse lui a laissé en mon abscence; il a vu les pistolets, il a vu mon air sombre et il a paru frémir. Je l’ai rassuré; je lui ai dit que comme nous étions sur le point d’aller à la campagne, j’en aurais peut-être besoin pour être en sûreté dans mes promenades solitaires au fond des b ois: il en a paru satisfait. Je me suis remis au bout d’une demi-heure.
A 5 heures.
Au d îner le Prince m’a demandé, comme c’était mardi, pourquoi je ne dînais pas chez mes connaissances. Madame Gol… m’a jeté un regard scruta-teur, j’étais interdit et mal à mon aise: j’ai balbutié quelque chose au Prince et ce quelque chose n’avait pas le sens commun.
Pauvre Archippe! mourir à 26 ans! un si bon sujet, un excellent sujet, comme il nous a servi tous, en route, à Paris: il m’était très attaché. Le prince a beaucoup pleuré: moi-même j’ai versé des larmes à la mémoire d’un ami plutôt que d’un serviteur zélé; car l’intérêt qu’il me témoignait était plus tendre, plus cordial que celui d’un domestique. Le prince n’a pas pu dormir de toute la nuit; il a fait des gratifications au garde-malade du pauvre Archippe. Comme il était assidu à apprendre le vocabulaire allemand et français pendant le voyage, ce pauvre garçon! comme il se répandait en civilités à sa manière devant la petite génévoise de Paris. Et mourir à 26 ans, dans toute la force de la santé! Mais je te porte envie, bon Archippe, on ne te tracassera plus. Repo-se-toi en paix!
Ce 1 Juin, 1821 à 6 heures du matin.
Hier à 7 heures je suis allé à Société des Zélateurs. J’arrive et je ne trouve personne, pas une âme humaine; la porte est encore fermée. J’entre chez Menschenine, il est sorti avant midi. Je vais frapper à la porte de Boulga-rine, de Jakowleff, de Senkowsky — personne à la maison. Yakowleff, m’a-t-on dit, dîne chez elle; peut-être lui parlera-t-elle de ma prétendu impolitesse: elle taxe ainsi ses connaissances lorsqu’elle leur fait des injustices. Cependant, que devenir? M’en retourner sur mes pas, le trajet est assez long et puis à 8 heures demi il faut encore revenir. Allons rôder sans but et sans raison. Me voilà devant le Grand Théâtre. On donne les Deux Figaros. Entrons-y en attendant. J’occupe la place du Prince; j’applaudis à tous les propos lancés contre les femmes, je me fais quelquefois allusion à ma propre situation. Oh! que
j ’étais fâché! que j’en voulais à tout le sexe. Ça m’a plongé dans une longue rêverie: j’ai passé en revue les avances de ma charmante cousine, l’inconstante Nanine: puis la volage Annette L….vicz, puis Antoinette T…rgersky: je ne me suis reposé que sur le souvenir de la douce Joséphine: celle-là ne voulait pas me tromper, elle ne me donnait point d’espérances, mais elle m’aimait d’ami-tié. Bonne, aimable Joséphine, tu pleurais en quittant W… ting, tu me disais: si vous passez un jour en France, venez me voir. Et j’ai été en Yasselonne à six lieues de Saint-Diez sans pouvoir venir te voir. Reçois un soupir, bonne D…
Je r êvais, je me transportais tantôt dans la terre de mon oncle, tantôt à Charkoff, chez aimable Catiche Str…, tantôt à W… no, tantôt en Pologne, et les heures s’éculaient. Me voilà reveillé de mes pensées par une voix qui me souhaite le bonjour, je me retourne, je vois Mr. Fleury: je lui demande l’heure qu’il est. — II est neuf heures passées, dit-il. Je me lève et je m’enfuis pour arriver à temps à la société. Glinka, Boulgarine, Baratynski, Delvig etc. me font force amitiés. Je me contrains à rire avec eux et je ne joue pas mal mon rôle. J’ai proposé le Colonel Noroff pour être admis comme membre de la so-ciété: lundi en huit il sera reçu, je l’en préviendrai jeudi.
A minuit j ’ai passé de nouveau chez Jakowleff, j’y ai trouvé Baktine. Nous avons passé en revue les personnes du haut partage, les gens en places et nous avons ri de très bon cœur. Le cernement de ces deux jeunes gens m’est infiniment agréable, surtout quand nous faisons le trio. De l’esprit sans préten-tions, des observations vraies, un tact juste — voilà leur caractéristique; c’est à la fois amusant et instructif.
Elle n ’a pourtant rien dit à Jakowleff sur mon compte. Elle le boud e.
Je suis rentr é à dix heures et je me suis couché, je n’ai pu rien lire selon mon habitude: je n’ai pas eu le cœur à la lecture.
Aujourd ’hui je me suis réveillé à six heures. Ma tête est pesante et mon cœur vide.
Je r éfléchissais sur ce que j’ai à entreprendre. Ne plus y revenir serait le plus salutaire à mon repos: mais ça aurait blessé les convenances; ça aurait donné des soupçons au mari de la dame. Pourquoi la compromettrais-je? Le plus convenable est d’engager le Prince à déménager le plutôt possible à la campagne — ceci m’aurait servi d’excuse et m’aurait épargné la mortification de m’exposer encore aux caprices de Madame.
Mr Schydlowsky doit arriver dans quelques jours. La Princesse Barbe m’a dit bien des choses de sa part. C’est sur le sein de cet ami que je me repo-serai de la tourmente que j’ai essuyée en son absence. En vérité s’il était ici dans ce temps-là, j’aurais toujours été avec lui et son aimable épouse, je n’au-rais pas alors écouté Yakowleff qui voulait absolument me faire faire connais-sance avec la maison de Mme P…. reff. Il me persuadait qu’on désirait m’avoir dans cette maison: je me proposais le plaisir de connaître une femme accom-plie, qui possède une infinité de connaissances et de talents, qui est aimable, folâtre, etc. etc. Son époux vient deux fois aux soirées d’Ismaïloff, nous faisons connaissance ensemble, il m’invite à venir chez lui et je lui ai dit que j’y viendrais, bien sûr de ne jamais faire usage de ses avances. Je viens un soir
chez Jakowleff, j ’y trouve un jeune Portugais et M. Baktine; nous causons ensemble et voilà une voix de femme qui se fait entendre dans l’antichambre. J’avais déjà sur la bouche le compliment à faire à Yakowleff, lorsqu’il dit: C’est S… D… Je vois entrer une jeune dame, je reconnais M-r P…reff dans celui qui la suivait; je crois encore voir un visage que j’ai vu quelque part et que je me remets dans la mémoire pour celui de M. T…hoff que j’ai vu autre-fois à Charkoff.
Cette premi ére entrevue ne fit pas une grande impression sur moi: j’ai vu en elle une dame très-aimable, d’un babil charmant: j’ai tâché, autant que je l’ai pu, d’être gai et poli auprès d’elle; il me paraissait d’abord que je ne courais aucun danger, ce qui m’a rendu peut-être un peu trop franc et jaseur cette soirée. Je n’aime pas la contrainte, mais cette fois-ci je me suis mis à une table de wiste que je déteste, ce qui m’est aussi arrivé mainte et mainte fois par la suite. Je parlais moi-même, j’ai remarqué que c’était trop, mais j’allais toujours mon train pour faire voir que je n’aime pas à me contraindre ni à en-velopper mon peu de mérite dans un dehors de la fausse réserve: je ne sais si j’ai plu ou deplu par là. Le hazard m’a procuré l’honneur de jouer deux roberts de suite avec la Dame; Mr. Baktine, frère ainé de Nicolas, a voulu faire briller son talent de bel-esprit, en disant que nous étions inséparables; la politesse exigeait que je dise un mot de compliment; aussi je n’ai pas manqué de dire que ce serait un bonheur pour moi. La Dame a bientôt interrompu la partie; el-le m’a paru un peu piquée. Un moment après je l’ai entendu dire à Mr. Jean Baktine: qu’est-ce que ce compliment? J’ai cru entendre qu’il s’agissait du mien, mais j’ai eu bien l’air de n’y faire aucune attention, je n’ai pas changé d’humeur tout le reste de la soirée. En passant la Dame m’a dit force compliments, qu’elle serait, par exemple, enchantée de me voir chez elle, etc. etc. J’y ai repondu tant bien que mal et nous nous séparâmes.
La premi ère fois que j’ai été chez elle, j’étais enchanté; elle a été d’une gaieté charmante: beaucoup d’esprit, une saillie naturelle, quelquefois du sentiment. Je ne l’ai jamais vu depuis de cette humeur-ci. Je peux me vanter d’avoir été d’abord traité avec plus d’égard que Panaïeff et quelques autres de mes connaissances: avec eux elle ne s’y prenait que par des enfantillages; la comparaison que j’ai fait depuis a dû flatter ma petite gloriole. Cependant j’ai toujours tenu ferme; j’ai été d’une politesse et d’une réserve désespérante; et même par la suite faisant pour elle des poésies bien tendres, j’ai toujours été circonspect et même froid dans ma conduite personnelle; de sorte qu’ayant une fois pris congé d’elle lorsqu’elle me demandait quand je reviendrais et que je lui ai repondu que mon unique bonheur est de la voir aussi souvent que possible, elle m’a dit qu’on ne me prendrait jamais, et que je suis ardent dans les paroles et froid dans le cœur. C’était déjà un avis au lecteur: quelqu’un plus prudent et plus défiant que moi aurait compris qu’on ne tarderait pas à se ven-ger de cette prétendue froideur; moi je n’ai pas voulu être sur mes gardes et j’ai donné dans le panneau.
C ’est pour se venger sans doute de mon indifférence qu’elle m’ a retenu au chevet de son lit le 24 avril. Elle a su renvoyer tout le monde, mais elle a pris la pr écaution de laisser la porte de sa chambre à coucher ouverte. Elle me parlait de la confiance qu’elle avait en moi, de la préférence qu’elle me faisait à tous les autres: le tout était accompagné d’un regard si tendre, d’un air si ca-ressant, que J’a oublié mes belles résolutions d’être impassible. Son épaule se découvre, puis son sein se dévoile devant mes yeux. Je n’y tiens plus: je le couvre, je le mange de mes baisers, ce beau sein qui semble ne se soulever que pour l’amour et le plaisir, ma main indiscrète s’égare en caressant cette gorge d’albâtre: je tremblais, j’étais au supplice d’un homme torturé: dès ce moment-ci je me suis voué à elle, et, sot! je lui en ai fait le serment. Elle me disait que je voulais la perdre, et dieu sait où j’en serais, si Jakowleff n’était survenu sous le prétexte de lui porter des excuses. Dans ce moment même ma bouche était collée sur la sienne, elle même me donnait des baisers qui embrasaient tout mon être, ses yeux étaient presque éteints; encore une minute… et je m’abreuvais peut-être dans la coupe de félicités… Mais non! ce n’étaient que des grimaces: elle a vu qu’il n’y a que ce seul moyen de m’attacher à son char de triomphe et elle a voulu sauter par-dessus quelques considéra-tions pour atteinde son but… L’impitoyable Jakowleff m’entraine de sa chambre; confus et hors de moi, je le laisse faire, j’entre dans le cabinet de Mr. P… reff, et j’ai été bien longtemps avant de me remettre: je tremblais de tous mes membres, je tréssaillais du plaisir en me souvenant de cette scène qui me fait encore la plus douce souvenance et un trésaillement universel, comme si une étincelle d’électricité eut passé par tout mo n individu.
Ce 2 Juin 1821, à 11 du matin.
On enterre le pauvre Archippe dans ce moment-ci; je l ’ai vu en passant; ce visage pâle, défiguré, et le repos de la mort qui veille au chevet de son cer-cueil. Вечная память, добрый, любезный Архип!
Mr. A. Toumansky m ’envoie dire que mon cher Basile va bientôt revenir de son voyage, qu’il est déjà en route, quelles nouvelles m’apportera-t-il de Paris?
Fleury m ’a dit dernièrement qu’il a aussi reçu une lettre de Mr. Rousseau. Comme j’en ai reçu une de Madame par le jeune Bourgeois, et que ces lettres ne contiennent rien d’intéressant, si ce n’est des nouvelles de famille, je n’ai pas voulu demander à Mr. Fleury la lecture de celle qu’il vient de rece-voir. NB[820].
Il faut aussi passer à la maison de la Princesse Golitzin pour m’informer si l’on a reçu des nouvelles du Prince Alexis, et s’il n’y a point un petit bout de billet pour moi. Je crains beaucoup des suites du duel qu’il projettait avec le comte Meller. Voilà mes connaissances chez la Princesse Pauline dispercés sur la surface du globe! Mar<ieu> est à Langbach, celui-là va se battre, les autres sont allés faire la campagne contre Dieu sait qui!
Ce 1 heure et demi.
J’ai lu ce matin La Gerusalemme di Tasso. Je ne sais trop pourquoi, lorsque je trouve quelque chose d e beau, d’agréable, d’enchanteur, je cherche toujours une comparaison ou une allusion à faire à elle. Toujours elle! Elle ab-sorbe toutes mes idées et cependant je suis résolu de l’oublier ou du moins de ne penser plus à elle. Le portrait d’Armide arrivée au camps de Godefroi, me parut être le sien: j’y cherchai le sourire, le regard de mon enchanteresse; mais voilà surtout un passage qui m’arrêta:
E in tal modo comparte i detti suoi, E il guardo lusinghiero e in dolce riso, Ch ’alcun non è che non invidii altrui, Nè il timor dalla speme è in lor diviso. La folle turba degli amanti, a cui Stimolo è l’arte d’un fallace viso, Senza fren corre, e non li tien vergogna, — etc.Hier, en revenant de chez Mr. Ostolopoff, j ’ai passé exprès dans la rue de Sellerie pour me donner le plaisir de battre encore de mes pieds le même pavé par lequel j’allais et revenais chez elle. Il me semblait que je venais de sa maison au beau milieu du mois d’avril, lorsque j’ai eu encore la tête remplie des rêves d’un bonheur imaginaire, je ne sais quel contentement se répandit subitement dans mon âme à cette seule idée; mais bientôt je suis descendu des nues et j’ai soupiré en pensant à la triste réalité qui m’est restée en partage.
Ce 3 Juin 1821 à 7 heures du matin.
Hier à 7 heures je suis allé à la séance de la société au Château S. Michel. J’y ai trouvé Gretsch. Nous avons parlé (lui et moi, s’entend) des affaires ac-tuelles de la France et de notre patrie. Il m’a raconté plusieurs faits qui se trouvaient dans les journaux libéraux. Entr’autres le vote d’un ultra pour éle-ver les enfants des Protestants dans la religion Romaine. Ont-ils le sens com-mun, ces gens-là? prennent-ils les français pour des votéistes?
Dans la s éance on a élu Bulgarine que j’ai proposé, à l’unanimité; cela a fourni à Gretsch une observation sur les effets de la civilisation et des lumières du siècle; vu qu’un ennemi littéraire propose son ennemi; que ces mêmes en-nemis se chérissent comme des amis véritables, etc.
Izmailoff m ’a demandé des nouvelles de Mme. Je n’ai pas pu lui répondre ne l’ayant pas vue depuis six jours. Gretsch m’a autorisé d’écrire à Mr. Katschénowsky pour lui annoncer l’article méchant et d’une bassesse extrême que Woïeikoff va lancer contre lui dans le Fils de la Patrie. Gretsch m’a prié même de le lui écrire; il a beaucoup bataillé avec Woïeikoff au sujet de cet article, mais comme il n ’a pas le droit de s’opposer à l’insertion de cet article, il laisse faire son cher camerade jusqu’au 1 Janvier 1822, où ils doivent se dé sunir.
Bulgarine va bient ôt lire une diatribe sanglante contre Woïeikoff sous le titre «Le Cachet de l’abjection» (Печать отвержения).
Nous sommes partis avec Gretsch vers 9 heures pour aller chez Bulgari-ne. Chemin faisant nous avons parl é de Madame. J’ai parlé avec beaucoup de feu de ses grâces, de son esprit et de ses talents. Gretsch m’a dit que c’est bien dommage qu’elle ne l’entende pas.
Nous n ’avons pas trouvé Bulgarine chez lui; j’ai passé ensuite chez Ja-kowleff et chez Baktine, également sans les avoir trouvé l’un et l’autre.
A dix heures et demi je suis rentr é. J’ai voulu me mettre à écrire et voilà qu’on frappe à ma porte. J’ouvre et je vois entrer Yakowleff; je lui demande des nouvelles de Madame, mais il ne l’a pas vue non plus depuis mardi. Nous nous sommes convenus d’y aller demain (c’est à dire aujourd’hui). Voyons ce qu’elle me dira. Je ne sais pas, mais depuis mardi ce n’est plus pour moi un plaisir d’y aller, c’est une peine. Il me semble que j’y porterai une bien triste mine, mais je tâcherai de me contraindre et de paraître gai, indifférent, autant qu’il me sera possible.
On vient me dire que le Prince m ’invite à venir prendre le thé chez lui. Puis cessons notre journal pour le reprendre demain ou ce soir.
Ce 4 Juin 1821 à 7 heures du mat in.
J ’ai été chez elle. J’y ai passé toute la journée d’hier. Yakowleff n’étant point venu, je n’y ai trouvé que Panaïeff et cet éternel Lopês qui est pourtant un très brave garçon: mainte et mainte fois il m’a invité chez lui et comme je veux à présent changer de conduite à l’égard d’elle, je veux bien aller chez lui un dimanche.
Quel salut froid de sa part! Elle avait un peu l ’air fâché en me demandant l’état de ma santé: je lui ai répondu que je me portais parfaitement. Un moment après Lopês prenait congé d’elle, prétextant d’aller à la chasse ou quelque chose de semblable. Elle a couru après lui, comme pour arrêter son chien qui voulait le suivre. J’ai vu ce manège, et je suis resté dans les apparte-ments. Après un quart d’heure je suis sorti pour prendre un peu d’air et je l’ai aperçue au bout de la fabrique à cordages. Comme il était impossible qu’elle ou Lopês ne m’eurent remarqué, je pris le parti de les aller joindre. Il s’est en allé et j’ai reconduit Mme dans les appartements. Voilà un court entretien qui s’engage entre nous deux où elle me fait des reproches de ne l’avoir pas atten-due mardi et d’être parti sans la voir: elle a répété, comme de raison, sa que-relle accoutumée sur les prétentions que j’ai etc. etc. Son époux et Panaïeff vinrent nous joindre et les pourparlers ont cessé. J’ai voulu partir tout de suite niais elle me forçait à rester. La curiosité m’a piqué et j’ai renvoyé mon cocher. Après le déjeuner elle s’est mise à piano, j’ai la priée de chanter Ragazze <нрзб.>, ce qu’elle fait d ’assez bonne grâce. Panaïeff lui a rappelé ma romance «Ты мне пылать» etc: elle l’a chanté de même. Cela m’a déplu et je voud-rais ne l’avoir jamais faite cette maudite romance, car c’est une pierre de touc-he de mes sentiments. Aussi je suis allé vite chercher ma canne et mon cha-peau et je sortis pour aller faire un tour de promenade jusqu’à la campagne de comtesse Besborodko.
En revenant je rencontre M-me avec Pana ïef qui sont aussi sorti pour la promenade. La politesse exigeait que je les suivisse, ce que je n’ai pas manqué de faire. La promenade s’est passé assez gaiement, dans la conversation on en est venu à Mr. Yakowleff: je lui dit qu’elle le maltraitait et c’était lui donner un champs libre pour faire une sortie contre les prétentions etc. etc. Il veut, dit-elle, qu’on s’occupe de lui exclusivement, il croit qu’on le méprise… (NB. Ce n’est pas lui, c’est moi qui l’ai dit dans mes lettres, aussi que j’ai très bien compris à qui cela s’adressait indirectement). En rentrant je l’ai fait beaucoup rire au dîner, de sorte qu’elle a eu une attaque des nerfs par la suite. Qu’il est dommage, qu’un si beau corps soit sujet aux affections vaporeuses! Elle, qui devrait être la santé même, elle qui devrait compter tous les instants de sa vie par autant de jouissances, a les nerfs trops faibles: tous les plaisirs un peu ex-cessifs, toutes les peines un peu sensibles la dérangent et lui coûtent plusieu-res heures de souffrances.
Dans tout le cours de cette visite, cependant, j ’ai remarqué chez elle une tendance de me peiner. Elle riait quelquefois d’un rire offensant, elle faisait ressortir l’esprit de Panaïeff aux dépens du mien, etc. etc. Une fois Pa-naïeff a dit à peu près une bêtise, une inconséquence sur mon compte; et bien involontairement, elle en a rit jusqu’aux pâmoisons. Elle a cru que j’en serais piqué, et elle s’y est trompée: je compris son intention et je ris avec elle. Il faut bien autre chose pour me décontenancer. Elle ne connaît pas mon caractère, elle ne sait pas que je supporte tout de la part d’une femme, surtout d’une fem-me aimable, mais je ne supporte point des propos d’un homme et que je sais parer les paroles en décochant traits pour traits, ainsi comme j’ai su dans plus d’une occasion, montrer de la fermeté et me battre avec des armes bien plus graves.
Je suis parti vers 11 heures et demi et à dire la vérité, pas trop content de ma journée.
Dimanche, ce 5 juin 1821.
La soir ée d’hier que j’ai passé chez Izmaïloff, n’a pas été trop bien remplie, je ne sais trop pourquoi. Il y a eu une quinzaine de personnes pres-que toutes mes connaissances. Madame Izmaïloff a un peu diminué de sa sécheresse et de son ton froid qu’elle affecta depuis quelque temps à mon égard, parce que j’ai fait une fois l’éloge de la charmante Mme P… ff en sa présence. C’était encore dans le commencement de ma connaissance avec cet-te aimable dame. Je ne sais pourquoi Mr. Kniagewitsch l’ainé m’a paru piqué d’une plaisanterie toute innocente. Je n’ai pas voulu l’offenser d’aucune ma-nière. Son frère est revenu de Laybach, il m’a fait le récit de son voyage à Venise. Noroff, Ostolopoff et moi nous avons parl é de la littérature italienne, française, et russe. J’ai promis à Noroff de passer chez lui lundi matin. Je l’aime beaucoup, ce brave militaire; la noble marque de sa valeur, une jambe de bois, est le meilleur certificat pour lui aux yeux de ses concitoyens. Je suis rentré à 11 heures et demi, et j’ai rencontré Jakowleff, tout près de la porte; il était venu me dire le bonsoir. Nous avons parlé une demi-heure; Madame a eu aussi sa part dans notre conversation: nous avons parlé de son amabilité et lui avons désiré un caractère un peu moins changeant, et de ne pas traiter avec rigueur les gens qui lui sont bien sincèrement dévoués.
Lundi, 6 Juin, à 7 heures du matin.
La journ ée d’hier m’a tout à f’ait reconcilié avec elle. Je l’ai cru passer bien autrement, cette journée, et je suis enchanté que le proverbe: Homo pro-ponit, Deus disponit avait servi cette fois à mon avantage. A midi j’allais chez Gretsch à la campagne; je l’ai rencontré au quai de Petersbourg, nous avons causé un peu ensemble et puis nous nous sommes séparés. Comme l’heure du dîner était encore très éloignée et que j’étais déjà dehors, par conséquent ne voulant pas rentrer avant d’avoir faire quelque chose, me voilà qui me décide d’aller voir Mme. Je trottais déjà sur le pont de Wibourg, clopin-clopant com-me je le pouvais à cause des bottes qui me torturaient les pieds, lorsque j’ap-perois Mr. Woïeikoff qui courait en droschki à deux places; je le salue, il s’arrête, m’invite à prendre place dans son droschki, et quoique je serais bien content de m’excuser là-dessus, je n’ai pas voulu faire des grimaces, j’accepte donc son offre obligeant d’aller bonne grâce et nous voilà à converser et sur le mauvais temps, et sur l’intempestibilité du climat de St. Petersbourg, et sur la fumée de Londres, et sur les 93 marches de l’escalier de Gretsch, et sur la ma-ladie de Madame Woïeikoff, et sur les talents et l’amabilité de Mr Noroff. Bref, nous avons fait le caquet bon-bec depuis le pont jusqu’à l’Académie de la medicine et chirurgie. Là je l’ai prié de faire arrêter la voiture, disant que j’avais une visite à faire à l’académie. Nous nous sommés dits force compliments et j’ai été très charmé d’avoir éluder une conversation plus longue.
Je viens chez Madame, j ’y trouve Yakowleff et Kouschinnikoff qui arrive un moment après. Madame me reçoit d’abord assez sèchement; elle veut re-tenir Yakoveff qui s’évade. On s’arrange à faire un tour de promenade avec Mme Goffard et les enfants, elle y va en effet. Je l’atteins et la plaisante sur ce qu’elle a l’air d’une maîtresse de pension, elle retourne à la maison. Nous déjeunons, nous parlons, et tout d’un coup elle me fait cadeau d’un mouchoir pour porter en chemise sous le gilet. Nous nous mettons de nouveau en marche pour aller à la campagne où demeurent les enfants de Mme Goffard; notre suite est composée de Mr Ponomareff, Madame, M. Kouschinnikoff, Mme Goffard, Alexandrine et moi. Madame me donne le bras, nous arrivons en face de la campagne de Mr Dournoff et prenons un bateau qui nous transporte jusqu’à la campagne Bezborodko; nous passons par le jardin. Madame me donnait tou-jours le bras pour la mener; au bout du jardin nous trouvons un pont couvert à demi écroulé et qui n’a pour tout plancher que deux poutres touchant le milieu du pont couvert. Je mène Madame avec toutes les précautions et sollicitude possibles; Hector reste au milieu du pont, n’osant point passer; elle l’appelle, il jappe et reste indécis. Je me précipite sur la poutre, je prends le chien sur mes bras, tout crotté qu’il était et je le porte sur l’autre bord, ce qui m’a valu des expressions très aimables, même tendres de la part de Madame. Какая милая попинька: qui aurait fait comme lui. Ces peu de mots m’ont tout à fait cap-tivé et m’ont de nouveau soumis sous ses lois; je ne me sentais pas de joie; je jurais intérieurement d’être toujours à elle. Dans ce moment-ci elle m’a paru plus belle que jamais, et si je l’avais pu je l’aurais étouffé de mes baisers: même j’aurais embrassé mille et mille fois son chien; mais j’ai craint de la compromettre devant les jeux de tant de témoins. Ce son de voix lorsqu’elle dit quelque chose d’aimable, d’obligeant, pénètre dans mon cœur et y attire une nouvelle flamme, je suis alors aux anges et si confus, si heureux, que je ne sais que répondre: les phrases me manquent avec la respiration, je me pâme d’aise. Non! jamais je n’ai été aussi amoureux, j’étais plus jeune et les sensations n’étaient pas encore aussi profondes, aussi décidées.
Le reste de la journ ée s’est passée assez agréablement pour moi. Après diner nous sommes allés en bateau à Krestowsky; là je me suis absenté pour quelques minutes; je les rejoins déjà sur le bateau et j’inventais des excuses et des incidents. Elle m’a pourtant grondé avec assez d’amertume: Toujours nous faites de ces farces; c’est joli! Le malheur est qu’elle s’est mouillée les pieds; moi qui les avais aussi mouillés jusqu’aux genoux, je me taisais. Elle se plaig-nait du froid sur le bateau, et je craignais pour elle. Arrivée à la maison, elle se fait frotter les pieds, à nos instances réitérées, avec du rhum et s’est couchée ensuite. Elle a voulu retenir de force Mme Goffard, Kouschinnikoff et moi, pour passer la nuit à la campagne; mais ensuite elle a consentie à nous laisser partir. Je me suis approché d’elle pour prendre congé… Délayé j’ai vu encore ce beau sein qui fait mon martyre, je fais des efforts pour ne pas me trahir, je ne me possède presque plus. J’imprime un baiser sur sa main et je m’arrache de cette île de Calypso.
J’ai oublié de noter qu’elle m’a grondé pour je ne sais quelles préten-tions lorsque je lui ai demandé le pardon pour je ne sais quelles fautes. Ensui-te elle s’est radoucie, elle m’a marqué du regret de ce que je ne lui écrivais plus, je lui ai renouvellé la prière de me permettre de lui écrire, ce que m’a été accordé.
Mardi, à 11 heures du matin, ce 7 juin.
J ’ai écrit presque toute la matinée du lundi, le cœur et la tête toujours remplis d’elle. Je suis sorti à midi et demi pour aller chez Noroff que je n’ai pas trouvé à la maison. Ensuite, je suis entré chez Slenine, par désœuvrement, et j’y ai trouvé mon colonel à la jambe de bois. Il parcourait quelques ouvrages italiens. Nous sommes allés déjeuner chez Talon; puis nous sommes montés chez Pluchard où nous avons encore parcouru quelques uns de nos chers italiens en attendant le droschki du colonel. Le droschki arriv é nous avons été rentrés à terre chez lui pour prendre la pièce de vers que je dois lire pour lui dans la société. Il me charme de plus en plus cet aimable colonel; pas ombre de la morgue militaire, beaucoup de prévenance et d’honnêtetés; une conversation variée et instructive, il ne paraît pas aussi savant qu’il l’est en effet. Voilà des gens que j’aime parceque j’aime à être toujours avec des gens qui valent mieux que moi: c’est une espèce d’égoïsme, j’en conviens, je gagne ici tandis que je perds mon temps et mes paroles avec ceux que sont plus bêtes que moi. Je suis sûr qu’on est aussi dans les mêmes rapports envers moi, parce que c’est le primo mihi universel.
A 7 heures je suis venu chez Yakowleff: nous avons encore parl é d’elle; c’est elle qui fait les délices de ma conversation. Mais je tâche bien de cacher à Yakowleff mes véritables sentiments, qui tout pénétrant qu’il est ne s’en dou-te guère. Je crois que nous trompons l’un l’autre.
A 8. Je suis all é à la Société; j’ai insisté qu’on élit Noroff comme membre effectif; lorsqu’on est venu en scrutin, il s’est trouvé qu’il y avait 15 votes pour et un seul contre sa réception; il a donc été élu presque à l’unani-mité. J’ai remis à Glynka l’épitre de Noroff à Panayeff où il lui dit que la nature humaine se détériore de plus en plus; beaux vers à quelques incorrections du style près. Glynka l’a lu dans la séance même, et tout le monde l’a approuvé.
Ce 7 Juin 1821.
Vous me pardonnez, Madame! vous me rendez vos bont és! Non! je ne me suis pas trompé, vous tenez de la divinité la plupart de ce que vous êtes, et ces grâces, et cette bonté, tout cela est d’une origine céleste. Eh! Suis-je digne d’un de vos regards, de ces regards qui font tant de bien à celui sur qui vous daignez les arrêter. Oh! si vous aviez vu, combien je souffrais en voulant com-battre, subjuguer une passion qui est devenu pour mon âme ce que les esprits vitaux sont pour le corps de l’homme, — inséparable de mon existence; j’ai cru perdre à jamais les douces illusions de ce bonheur, qui, sans être réel, n’en est pas moins cher pour moi puisqu’il me représente l’image d’un bonheur plus parfait, plus palpable, auquel je n’ose attenter que dans mes rêves.
Il me semble pourtant que vous paraissez quelquefois vous d éfier de la véridité de mon amour. Hélas! est-ce ma faute si cette figure sans expression, si ces yeux sans feu ne vous disent que faiblement ce que j’éprouve? Tout le feu, qui manque à mes yeux et qui n’anime point mes traits, est concentré dans mon cœur: c’est là que vous avez votre autel, où vous êtes sans cesse adorée, encensée. Non! une flamme si forte ne pourra pas mourir même avec mon être, elle me survivra, elle suivra au delà du tombeau et sera pour mon âme le plus bel apanage d’immortalité. Je vous y reverrai. Madame! vous serez l’ange de bonté qui me fera participer à la félicité éternelle: sans vous je n’y trouverais qu’un état de langueur infinissable.
Et vous n ’êtes plus fâchée, Madame? est-ce bien sincèrement que vous m’avez pardonné? et vous ne rebuterez plus un cœur qui ne palpite que pour vous? Oh! si je n’avais pas de témoins, j’aurais embrassé dernièrement cent mille fois votre Hector, qui m’a attiré de votre part ces paroles douces qui sont à jamais gravées dans ma mémoire; c’est lui qui a contribué à vous persuader de même en partie de tout l’amour dont je brûle pour vous. Jugez donc, Madame, si je dois le chérir, si je peux regarder d’un œil indifférent un être qui est en quelque sorte mon bienfaiteur? Et quel précieux fardeau que je trouvais en lui? je portais dans mes bras une créature que vous affectionnez, Madame! et tout ce qui vous est cher, l’est encore davantage pour moi, car toutes vos affections se communiquent à mon âme, s’y augmentent et s’y multiplient! Quel sympathie pour moi que celle de sympathiser avec votre cœur. Si j’avais pu as-pirer à un retour… mais je n’ose pas y prétendre: ce serait un bonheur qui ne m’est point destiné en partage. Je me contente donc de mes propres sentiments, je me contente aussi de la seule prérogative qui me soit accordée, celle de vous l’oser dire.
Que tous vos mots d ’amitié ou de bonté répandent une douce chaleur dans toute mon existence. Какая милая попинька! qui aurait pu faire comme lui? ces aimables paroles resonnent sans cesse dans mon oreille et coulent de veine en veine comme des flots de f élicité indicible. Ah! répétez-moi souvent des expressions pareils, il coûte si peu d’en dire et heureux celui qui peut procurer aux autres, à si peu de prix, un bonheur impayable! On se ressent du bonheur qu’on fait participer aux autres: on est heureux soi-même.
Je vais de nouveau, Madame, mettre à vos pieds l’hommage de mon cœur, qui est, ainsi que toute mon existence
Tout à vous, pour l’éternité.Mercredi. Ce 8 Juin, à midi.
Ma matin ée d’hier s’est passée assez tranquillement. J’ai écrit ma pre-mière lettre à Madame après la reprise où je lui peins ma flamme. Elle est trop longue, cette lettre, et j’ai peur qu’elle ne l’ennuye: ennuyer une jolie personne ce serait pécher contre la nature. J’ai dû diner chez le Prince, mais je me pro-jettais d’aller chez elle tout de suite après diner. Voilà que la Princesse me prie de lui trouver dans la bibliothèque les livres qu’elle même n’a pas pu trouver. Je cache le mécontentement, qu’a produit sur moi une commission aussi intempestible, je cherche les livres et les trouve presque aussitôt. La princesse a été très aimable avec moi, je lui ai apporté dans son cabinet les livres qu’elle m’a demandés et elle m’a parlé des plaisirs que nous allions goûter à la campagne; pour trancher court, je lui ai repondu que j’aimerais au-tant rester en ville, vu que l’été ne permettais point d’être beau. Sur les cinq heures je suis parti pour aller à la campagne de Md P-ff.
J’y ai trouvé Lopès qui partit presque aussitôt, et le colonel Slatwinsky. Madame a été indisposée, elle a gagné une attaque de rheumatisme sur la ba-lançoire. Elle s’est un peu trouvée mal et s’est couchée, et moi je suis allé faire un tour de promenade. J’ai rencontré les deux Kotschubey qui s’en retournaient en ville de chez la Princesse Lobanoff; je les ai salu é en passant. Près de la campagne de Mr Dournoff, j’ai rencontré ses deux fils et Mr Dougoulz, j’ai causé avec eux et l’aide de camp m’a comblé d’honnêtetés; tous les deux à l’envi ils m’invitaient de passer chez eux, mais je me suis excusé! En rentrant j’y ai trouvé Izmaïloff; Madame était encore couchée; un moment après Andréef étant venu, elle l’a fait inviter à passer dans sa chambre, puis elle a voulu se lever et elle a crié de douleur. Je suis accouru pour l’aider si je le pouvais; et à l’aide de Mr Slatwinsky nous l’avons relevée. Elle a été très aimable avec tout le monde. Les autres étant partis, nous ne sommes restés au souper que moi et Izmaïloff. Elle a été d’une gaieté charmante. Après souper je suis entré dans sa chambre à coucher et je l’ai vu caresser le chien de Lopès. Que je l’enviais, ce chien. Je le lui avais dit plusieurs fois, enfin je me suis rapproché d’elle, je lui ai baisé la main avec ardeur et à plusieurs reprises: et en sortant je lui ai imprimé un baiser sur les lèvres; elle m’a aussi embrassé. Elle a voulu me retenir pour coucher à la campagne, mais je m’excusais sur l’impossibilité, vu que le prince avait à faire avec moi. Malgré tout cela elle m’a fait préparer le lit dans le salon, et elle-même arrangeait les oreillers de ce lit. Je n’ai pas pu y tenir, j’y aurais resté toute l’éternité, je me soumis en lui baisant la main… Hélas! faut-il me borner à cela? Je n’ai dormi que deux heu-res, après quatre heures du matin son chien qu’on a blamé dans la journée, est venu près de mon lit; il m’a reveillé, il était souffrant, et je ne peux pas voir souffrir un être quelconque, je ne dis pas déjà son chien. Je me suis levé, je l’ai pris dans mes bras et l’ai fait coucher sur mon lit que je lui ai cédé: pour ne point le toucher et lui faire mal, je me suis habillé et je partis pour retour-ner à la maison. La journée d’hier est une de celles dont je conserverai le plus doux souvenir. Quel prix ont à mes yeux ses moindres caresses, ses mots de bonté, ses plus petits soins de ma personne! Oh! si j’étais aimé en effet, com-me j’aurais su sentir toute l’étendu e de mon bonheur.
Jeudi, ce 9 Juin, 1821.
Dans la matin ée d’hier j’ai reçu un billet d’invitation pour la soirée de la part de Mr Ostolopoff. Le billet étant écrit en italien, j’ai dû répondre, comme j’ai su, en cette langue. J’ai passé ensuite chez Boulgarine pour 1’inviter aussi au nom de Mr Ostolopoff; après cela je me suis rendu chez Nikitine. Je lui ai insinuée l’idée de la réunion des deux sociétés et j’ai pu voir que ce n’était nullement de son goût.
Bulgarine ne m ’a pas laissé entrer dans sa chambre à coucher: j’ai vu qu’on y a apporté à son ordre un portrait et j’ai cru remarquer la figure d’un peintre de portraits en miniature. Le domestique polonais a laissé tomber par maladresse la toile qui couvrait le portrait et j’ai reconnu les traits de Mme Woïeïkoff. Hé, Mr. Bulgarine! je vous félicite: mais je ne lui ai pas dit ce que j’ai vu.
Ce 10 Juin 1821.
Que je rends gr âces au mauvais temps qui me retient en ville. Madame! j’ai encore de vouloir <нрзб.> la douce perspective de vous voir deux ou trois fois avant mon d épart pour la campagne. Il me vient de temps en temps des idées qui n’ont pas le sens commun: je désire quelquefois qu’il fasse contin-uellement la mauvaise saison afin que vous déménagez plus promptement pour venir demeurer en ville et que j’aie le bonheur de vous voir tous les jours. Grondez-moi si vous voulez, Madame, mais sur ce point-là je suis égoïste, et très ègoïste, et ce n’est pas tout-à-fait sans raison. Il me semble que quand je suis près de vous, mon existence est alors plus complète, plus entière, tandis que loin de vous je me crus privé d’une grande partie de moi-même, et c’est la vérité: mon coeur, mon âme, mes pensées, mon imagination sont constamment attachés à vos pas et semblent voltiger autour de votre image adorée. Tout ce qui constitue la meilleure partie de moi-même est donc absorbé dans vos perfections et que me reste-t-il? de la glace au lieu du cœur, un vide continuel dans l’esprit et dans l’âme et une enveloppe grossière qui tient à mon origine terrestre.
Ah! Madame! ne me privez point de la seule consolation que j ’ai en vue en m’éloignant de votre personne! écrivez-moi aussi souvent que vous le pour-rez, écrivez-moi de longues lettres afin que je puisse boire à longs traits le plaisir de voir quelque chose qui émane de vous! Je sais que ma prière est trop hardie, mais c’est à un ange que je l’adresse et un ange ne se refuse jamais de consoler les pauvres humains. Que mon coeur battra avec force lorsque j’aurai à attendre de vos nouvelles! Oh! je les porterai sur mon cœur, vos lettres, elles y feront revivre cette douce chaleur qui s’amortira par votre absence ou qui ira plutôt se réfléchir dans vos yeux.
Chaque fois que j’ai le bonheur de vous voir, Madame, je reviens enc ore plus amoureux. La dernière fois surtout… oh! cette soirée se gravera dans ma mémoire parmi les instants les plus heureux de ma vie. Je vous ai vu arranger de vos propres mains les oreillers du lit qui a été destiné pour me recevoir; oh! avec quels transports j’imprimais des baisers sur ces mains incomparables! L’oserai-je dire… non! mon cœur est encore trop plein de ce bonheur et les plus belles expressions seraient froides et insuffisantes.
Puissiez-vous sentir, Madame, la moindre parcelle de ce que je sens pour vous! je serais encore le plus heureux des hommes comme j’en suis le plus amoureux.
Tout à vous pour l’éternité O. Somoff.Vendredi, ce 10 Juin, 1821.
Hier j ’ai attendu le colonel Noroff pour aller ensemble à midi lui faire faire connaissance avec Monsieur et Md Ponomareff, mais il n’est venu que vers deux heures, de sorte que toute ma matinée a été manquée. Nous avons parlé de Md Ponomareff, je lui ai inspiré le désir de la connaître, et comme il ne trouve pas convenable de venir diner à la premiére visite, il m’a promis d’y venir demain vers 6 heures. Ensuite nous avons parlé de la littérature russe et étrangère. Je lui ai prêté 4 volumes de Parny pour lire. Il ne faut pas oublier de lui communiquer la note du meilleur commentaire de Dante. Le v oici: La Divina Comm édia di Dante Alighieri, col comento di G. Bignioti; 2 toms. Pari-gi, 1818, in 8. Presto Dondey Dupré in via S. Luigi, 10 c. 44. Il m’a promis de m’en faire venir un exemplaire de Paris. Vers trois heures le colonel est parti.
Apr ès 7 heures j’ai été à l а Société des Amis de Lettres, des Sciences et des Arts, au Palais St. Michel. Bulgarine nous a lu ses souvenirs de la guerre d’Espagne, qui sont très intéressants. Il peint avec beaucoup de feu le beau sèxe de ce pays, le climat, la nature. Après lui Ostolopoff a lu le traité de la tragédie, qu’il veut intercaler dans le Dictionnaire de la Poésie ancienne et moderne. Bonne compilation, mais un peu trop détaillé pour un article d’un grand ouvrage. A dix heures j’ai proposé à Izmaïloff d’aller faire ensemble une visite à Panaïeff que nous avons trouvé plus souffrant que jamais. J’y suis resté jusqu’à minuit et je suis rentré chez moi vers minuit et demi.
Samedi, ce 11 Juin, 1821, à 7 heures du matin.
Non, c ’est trop! pour prix de mon amour, pour prix de mon dévouement ne recevoir que mépris, outrages, mortifications! Elle s’est peinte hier avec des couleurs bien noires: elle m’a poursuivi, déchiré… et pourquoi? pour un rien, pour une vétille qui ne mérite pas même que l’on en parle.
J ’ai été très affairé la matinée et j’ai pourtant trouvé le moyen de lui faire un billet bien tendre, où je lui peignis mes sentiments. Vers deux heures je suis parti; le temps était brumeux et triste; mon cœur éprouvait aussi une at-teinte de la tristesse: je ne sais quels préssentiments vagues s’en étaient em-parés. J’arrive chez elle et je trouve le mari dans le salon; l’on dit que Madame fait sa toilette. Le vent sifflait aves force, la pluie tombait de temps en temps; tout contribuait à m’indisposer. Enfin au bout d’une demi-heure il a cessé de pleuvoir et le temps parut un peu de remettre. J’ai dit à m-r P…ff que j’allais faire un tour de promenade et je suis allé en effet. En rentrant, j’ai vu arriver en balcon Izmaïloff, Ostolopoff et les deux Kniagewics. Un moment après j’al-lai frapper à la porte où Madame s’habillait et je lui ai remis mon billet. Elle m’a parlé par la porte, ne voulant pas me laisser entrer parceque elle était, di-sait elle, en chemise. Lorsqu’elle a paru, je pus remarquer en elle une espèce de froideur et d’affectation à mon égard et je me prédis tous les désagréments en butte desquels j’ai été exposé par la suite. Elle m’a envoyé chercher son journal, voulant faire voir un dessin à ces messieurs; puis elle a paru ne pas retrouver les billets de Panayeff qui se trouvaient, disait-elle, dans ce journal; elle accusait en ricanant tout le monde de les avoir pris; je n’en ai rien cru parceque je connaissais déjà ces stratagèmes de femmes.
Tout se passait pourtant assez bien jusqu ’à l’après diner, exepté qu’elle ne s’adressait plus a moi et qu’elle me répondit d’un ton affecté. Lopès étant survenu, elle est allée lui parler dans sa chambre à coucher et y restée près d’une demi-heure. Je me suis ennuyé et je vins prendre mon chapeau pour al-ler faire encore un tour de promenade, quoiqu’il ait plu à verse tout le temps du diner. Elle m’a demandé où j’allais et je lui repondis avec humeur: je vais, Md, ce que j’ai répété à plusieures reprises. Elle m’a grondé un peu, mais malgré cela je suis parti. Elle a regardé par la fenêtre et a rappelé Hector qui voulu me suivre. Je lui dit qu ’elle pouvait être tranquille et que je n’avais pas l’intention d’emmener son chien. Elle m’a fait là-dessus une grimace qui m’au-rait fait rire si je n’en avais saisi toute la méchanceté. J’ai rodé sans but dans la campagne de Bezborodko et de retour j’ai trouvé la dame sur la balançoire, je l’ai abordée et l’ai saluée. Elle me dit d’un ton d’humeur très prononcée: Que me voulez vous dire? Là-dessus je repondis que rien et je n’ai pas perdu la contenance. Un peu après, je l’ai suivi et lui ai demandé le sujet de son mécontentement, elle m’a dit que je ne suis pas digne qu’elle me parle et qu’elle me traite de même que Yakowleff. En ce cas, Madame, lui dis-je, vous voudrez bien souffrir que je ne revienne plus. Au souper elle cherchait tous les moyens de me déconcerter, elle s’accrochait à tout ce que je disais et souvent d’une manière ridicule. Je parlais toujours en riant, sans paraître faire attention à ses dispositions hostiles. Je ripostais à ses propos et les démontais sou-vent, ce qui semblait lui faire de la peine en présence de tant de personnes et dans le moment où elle voulait faire briller son esprit aux dépens du mien. Après souper je l’aborde et lui souhaite le bon soir, lui disant que je n’aurai peut-être pas sitôt le bonheur de la voir, parceque j’allais bientôt déménager pour aller à la campagne. Elle m’a tendu d’abord la main en détournant le visage, puis elle m’a rappelé, m’a fait un signe de la main, m’a demandé si je ne voulais plus rester et sur la réponse négative elle m’a dit: Baisez-donc ma main. Elle a paru sourire. Je suis parti assez content de moi-même, mais très mécontent de ma journée.
Dimanche, ce 12 Juin, 1821.
J ’ai travaillé toute la matinée; je n’ai eu le temps que pour faire un petit tour dans le jardin. Je pensais à ma disgrâce; j’ai été triste et cherchais la solitude. Mais dans l’après-diner je pris la résolution d’aller chez Izmaïloff afin qu’on ne croie pas que je conserve de l’humeur de la soirée d’hier. Comme je devais passer presque devant la porte de Panaïeff, je suis entré chez lui pour lui souhaiter le bon jour. Il me reçoit assez froidement et j’y vois Richter feuil-lettant quelques papiers. Panaïeff me dit qu’il a entendu de Mr Ostolopoff, Kniagewicz et Izmaïloff qui sont venus le voir dans la matinée que j’ai été maltraité par Md. Je lui conte tout et il me remet le billet de Madame, très of-fensant et très dur où elle me reproche d’avoir volé les billets de Panaïeff. Je ne me serais jamais attendu à cette sortie: Panaïeff me communique qu’elle lui a aussi écrit en faisant part de ce prétendu vol.
A 11 heures du matin.
Le domestique qui la servait, Wladimyr est venu me demander de lui procurer une place. J ’ai été charmé de pouvoir obliger quelqu’un qui la ser-vait, mon cœur est très gâté sur ce point; si j’aime quelqu’un, j’aime tout ce qui dépend de lui, tout ce qui lui est attaché, même tout ce qui l’était connu. Je me suis donc offert de très bonne grâce de rendre un service à son ancien domestique, et j’en parlerai au Prince.
A 4 heures et demi de l ’après-midi.
Le Prince m ’a recommandé de lui amener Wladimyr, et comme ce do-mestique m’a dit qu’on peut l’avoir en payant sa rançon, le Prince y consenti, d’autant plus qu’un de ses laquais est mort et l’autre malade. Le Prince m’a dit des choses très obligeantes que ma recommandation suffit et que je ne lui ai jamais présenté que ce qui était vraiment bon. Il est vrai que je lui ai procuré un homme excellent, M. Kolomytzoff pour être èconome de l’institut des Sourds et Muets; aussi le P.▫se reposa parfaitement sur ma recommandation. Je serais ravi s’il me réussit de même de délivrer ce pauvre Wladimyr des griffes de son maître actuel.
Ce 12 Juin 1821.
Madame!
La derniere fois que j ’ai eu l’honneur de passer la journée chez vous, j’ai pu remarquer que vous avez cherché toutes les occasions et tous les mo-yens pour m’aigrir, m’humilier et m’attirer du ridicule sans que je vous en aie prêté la moindre raison. Entièrement tranquille sur votre compte, fort de la lo-yauté de ma propre conduite et me reposant sur les bons accueils dont vous m’avez honoré antérieurement, j’ai pu, je l’en conviens, n’être pas autant sur mes gardes que je l’aurais été. Aussi lorsqu’il vous a plu de me demander ce que je voulais taire, j’ai eu l’honneur de vous répondre que j’allais faire un tour de promenade comme c’est mon habitude quand je n’ai rien de mieux à faire. J’ai vu la mine menaçante que vous m’avez faite alors mais j’étais per-suadé que vous me jugeriez mieux par la suite. En vérité, Madame, ne dois-je pas voir clairement que lorsqu’il y a du monde chez vous ou que vous me faîtes venir à vos dîners invités, je suis toujours là comme un de ces magots de la Chine qu’on met sur la cheminée uniquement pour occuper une place. Si je prends la liberté de vous adresser la parole, de vous offrir mes services, vous les recevez de si mauvaise grâce que cela ne peut pas manquer d’être aperçu de tout le monde, mais la plupart du temps vous avez l’air de ne pas vous aper-cevoir si j’y suis ou non. Et pourquoi donc faire venir un homme à qui on veut marquer du mépris ou qu’on veut laisser dans l’oubli? Autant vaudrait-il lais-ser en repos celui à qui l’on ne s’intéresse point. Vendredi, par exemple, vous avez taché mettre à son aise chacun de votre société, et moi j’étais le seul qui n’a reçu pour son co mpte que des grimaces ou des outrages.
De mon c ôté j’ai pris la hardiesse de vous faire remarquer, Madame, qu’on ne parvient pas si facilement à me décontenancer, j’ai été encore forcé d’adopter le rôle qui convient le moins à mon caractère — celui d’insolent, et ce rôle, comme vous l’avez vu ne m’a pas mal réussi; j’affectais une légèreté et même une gaîeté qui étaient diamétralement opposés à ce que je sentais alors intérieurement.
Vous m ’avez dit, Madame, que vous ne me parlerez plus comme vous le faîtes avec Mr Yakowleff. De grâce, Madame, ayez la bonté de me dire, est-ce bien sincèrement votre intention. Je dois le savoir afin de pouvoir modeler làdessus ma conduite. Je n ’ai pas oublié non plus le rang de bas officier qui vous a parût si bas: cette petite sortie pourra servir de pendant à une autre de la même espèce qui a eu lieu au sujet des gens qui sont pauvres. Je sais bien que je suis pauvre et sans rang; mais j’ai l’avantage de connaître bien de personnes qui sont éminemment riches et d’un rang infiniment au dessus du mien et qui cependant ne croient point s’abaisser en me traitant d’une manière amicale. Aussi je ne cherche jamais moi-même des nouvelles connaissances; je les trouve ou par hasard, ou par des avances qu’on me fait, ce qui n’a pas peu con-tribué à rendre mon âme assez fière pour savoir apprécier à leur juste valeur les injustices qu’on me fait.
Permettez-moi, Madame, de revenir sur le chapitre de pr étentions, mot qui se trouve toujours dans votre bouche et qui doit y avoir plus d’un sens. Quelles prétentions me supposez-vous à moi, Madame? Je n’ai jamais préten-du point qu’on s’occupât exclusivement de mon chétif individu, mais je ne présente non plus l’homme de servir de plastron aux outragers lorsque vous ju-gez à bon de bouder quelqu’un. Toutes mes prétentions se bornent dans le vouloir être traité comme tout le monde et comme moi-même je suis traité; et si non, non.
En prenant la libert é de vous exposer le sujet et les motifs de mes peines, j’ose encore vous prier, Madame, de ne pas m’ôter vos bontés et votre bienveillance qui sont pour moi le seul bonheur auquel j’aspire; ainsi que de vouloir bien croire aux sentiments de la plus parfaite estime avec lesquels j’ai l’honneur d’être,
Madame, Votre tr ès humble et très ob éissant serviteurEst ce bien digne de votre caract ère, Madame, que de me traîter de la sorte! Peut-on apostropher du nom de voleur les gens qu’on daigne admettre chez soi et qui n’ont jamais démenti par aucune action illicite la bonne opinion que vous avez paru en avoir? La propriété d’autres est pour moi une chose si sacré, qu’il m’est pénible d’être même soupçonné de fouiller dans les papiers qui ne m’appartiennent point, car j’ai toujours donné la preuve d’une confian-ce aveugle dans les personnes qui m’honorent de leurs connaissance. Et avez-vous jamais remarqué quelque chose de semblable? m’avez-vous trouvé lisant ou feuilletant les lettres qui sont sur votre table à écrire? Hé, Madame! vous avez mal étudié mon caractère si vous me jugez capable d’une telle indignité. Et si c’est une autre intention qui a pu motiver ce prétendu soupçon, je vous plains, Madame, de n’avoir pas choisi quelque autre expédient, car M-r Pa-naïeff, qui connait assez mes principes, est parfaitement rassuré sur mon compte.
Lundi, le 13 Juin 1821.
С ’est demain que nous allons à la campagne. J’en suis enchanté; cela pourra me servir d’excuse aux yeux de Mr. Ponomareff de ce que je ne serais pas venu si souvent.
Hier, à une heure de l’après-midi, j’ai porté moi-même ma réponse à Md. J’ai choisi exprès ce temps pour lui faire voir que je l’estime encore beau-coup pour venir me justifier moi-même, et que je suis trop sûr de mon innocence pour éviter de me rencontrer avec elle: mais en même temps je savais qu’ils devaient n’être pas à la maison, parceque Mr. m’en dit encore vendredi qu’ils ne dîneraient pas chez eux dimanche. De sorte que j’ai su concilier mes devoirs de courtoisie envers Madame avec l’intention d’éviter une rencontre fâcheuse où je pourrais bien m’emporter et lui dire des choses désagréables, et je ne veux pas manquer au respect que je lui conserve. Ma lettre dira tout: je l’ai remise, bien enveloppé et cachetée, au seul domestique que j’ai pu trou-ver. J’aimerais mieux la remettre à la femme de chambre, mais elle ne s’y trou-vait point.
Apr ès dîner je suis allé chez Izmaïloff qui m’a promis la veille de me mener chez le fameux Ganine, chez qui il y a tous les dimanches la musique etc. Izmaïloff m’a pourtant manqué de parole: il n’a pas dîné à la maison et n’était pas encore rentré. En revenant, j’ai passé encore chez Panaïeff qui va mieux: j’ai pris le thé chez lui. Il m’a reçu avec plus de franchise que la veille. Nous avons parlé de Madame, enfin de matière en matière je suis resté chez lui jusqu’à onze heures. Yakowleff est aussi venu le voir. Il a conté plusieurs traits du prêtre Mansuetoff qui m’ont confirmés dans la bonne opinion que j’en avais conçue.
En sortant de chez Pana ïeff j’ai passé une heure chez Amélie qui était venu depuis trois mois vainement frapper à ma porte. Je me ris quelquefois de moi-même. Je me venge toujours sur ma personne des injustices qu’on me fait. Dans l’Ukraïne, en Pologne, après la disgrâce d’une femme comme il faut, je me précipitais entre les bras d’une courtisane, comme pour tirer vengeance de mes propres sentiments. Amélie pourtant fait exeption: elle est joli, modeste, même sensible comme elle le s’expose et sa petite figure chiffonné d’alleman-de, et sa taille svelte et gracieuse, sa belle chevelure, son beau sein peuvent faire une illusion au défaut de mieux. Elle a été enchantée de me revoir, mais elle s’est aperçue que j’étais trop distrait.
J’ai été trop sage les trois mois derniers; je faisais le sacrifice de mes plaisirs, reprimant mon tempérament de feu à une personne qui s’en moquait. Parlons maintenant des folies, tâchons de nous étourdir en buvant dans la coupe des plaisirs faciles et d’oublier les rêves séduisants d’un bonheur imagi-naire. Ici, où je me peins tel que je suis et que personne ne lira, du moins avant ma mort, je n’ai pas besoins de me déguiser.
Mardi, le 14 Juin 1821.
La matin ée d’hier s’est passeé à écrire. Je suis pourtant sorti avant deux heures pour respirer l’air frais dans le jardin. J’y ai trouvé le compte Kwostoff qui me faisait subir mort et martyre avec la traduction de son épître: il me mé-nace de venir à la campagne du Prince et de m’apporter plusieurs exemplaires de la traduction de S. Maure.
A 7 heures j ’allais dans la société des Zélateurs pour passer avant l’ou-verture chez Bulgarine et chez Yakovleff ayant eu à parler à tous les deux. J’ai rencontré le colonel Noroff en droschki dans la Grande Meschtschansky: il al-lait me trouver ou, à défaut de moi, Mr. Izmaïloff pour faire ensemble son entrée chez les Zélateurs. Je lui ai dit qu’il était encore trop de bonne heure, la séance ne s’ouvrant qu’à 9 heures et je l’ai invité à passer chez Bulgarine que nous avons trouvé entouré de deux Polonais, gens de lettres. Peu de moments après, viennent chez lui Woïeikoff, Gretsch, Gnéditsch et Nicolas Bestougeff; nous passons ensemble à la Société et sur l’escalier le pauvre colonel tombe, sa jambe de bois ayant glissé sur une pierre trop aplanie. Pendant la séance, Gnéditsch nous lit un très beau discours, très pathétique, pour remercier la Société de l’avoir reçu son membre effectif. Il prononçait avec beaucoup de feu et avec cet art de déclamer que personne ne peut lui disputer. Tous les cœurs ont été électrisés; j’étais tout ouïe et tout attention. Le discours a été assez long et pourtant j’aurais voulu qu’il durât deux fois autant. Dans la suite de la séan-ce on l’a élu président en second de la Société.
La s éance étant levée et les membres fonctionnaires élus pour le se-mestre qui vient, on a fermé la Société pour un mois et demi. Gneditsch, Gretsch, Borotynsky, Glinka, Delwig, Lobanoff et moi, nous sommes allés prendre le thé chez Bulgarine. La réunion a été extrèmement animée, on cau-sait, on racontait des anecdotes etc. Gnéditsch m’a demandé si je n’ai pas dîné ce jour-ci chez Md. sa tante? Je lui ai dit que non. — II y a eu pourtant un dîner invité. — J’étais sûr d’avance que je n’y serais pas invité. — Pour-quoi? — Madame est fâchée contre moi. — Elle s’apaisera avec le temps; cela ne dure pas longtemps chez elle. J’en conviens; mais j’ai aussi mes raisons pour y aller le plus rarement possible.
Lobanoff a été à ce dîner. Il m’a dit qu’il n’y a eu que lui et sa femme et le gros Krylo ff.
Tout le monde étant parti, nous sommes restés à trois:
Bulgarine, Glinka et moi. Je leur ai lu mes stances à la Liberté, ils les ont trouvé bons, mais ils m’ont conseillé de ne les donner à personae.
Je suis rentr é après deux heures.
* * *
Non! je ne pourrai pas venir demeurer chez elle. Je dois partir au-jourd ’hui à la campagne. Il y a une lettre qui m’inquiète beaucoup et qu’on a reçu de Twer adressée à la Princesse Barbe; la main qui a mis l’adresse m’est inconnue. Je serai au désespoir si elle dit des nouvelles fâcheuses d’Alexis ou de son aimable épouse; ils sont au voyage et il y a si longtemps qu’on n’en a reçu aucune nouvelle, et elle surtout qui est enceinte! S’il arrive quelque mal-heur, adieu mon pauvre Alexis! je devrai pleurer une double perte de deux êtres qui m’étaient si chers dans la vie.
A 11 heures du soir. A la campagne.
J ’ai été dans des angoisses mortelles. Heureusement que ce n’est qu’une lettre de Mr Ossipoff, comme je l’ai su de la Princesse Barbe elle-même. Je ne sais qui aurait pu prendre plus d’intérêt à ses amis, à des personnes qu’il chéris, comme je le fais. Mon cœur était oppressé d’un poids énorme, et je n’ai repris ma gaîeté qu’après la connaissance de la chose. Je n’ai pas pourtant quitté la ville sans avoir vu le colonel Noroff: je l’ai trouvé écrivant en italien une lettre à sa sœur. J’ai causé avec lui plus de deux heures. Nous nous som-mes arrangés pour aller jeudi chez Md Panaïeff; je ne sais si cela aura lieu.
En arrivant ici, nous avons été tout de suite au carrousel. Le Prince me-nait sur la calèche tantôt la Psse Natalie, tantôt Md Golovine. Il n’y a eu d’abord d’étrangers que Fabre et un autre français nouvellement débarqué, et un Anglais de la société de Mylady Chagot auquel j’ai donné l e sobriquet de Nonchalent noir, car il en a bien l’air avec sa mine niaise et son habit noir de pied en chef. Un moment après, nous avons vu caracoler une cavalcade. C’était le Comte Chernyscheff avec les deux Konownitzin, Simoni, un <нрзб.> et deux palefr eniers. Le Prince les a invité d’entrer dans la lice. Le Comte lui seul a fait les prix de la bague, de la balle, de l’épée et de l’étendard, mais il n’a pas pu se résoudre au prix du pistolet à cause de son cheval ombrageux. Il a fait manœuvrer son cheval de toutes les manières. C’est un joli cavalier que ce petit comte; il n’est pas moins habile à monter que son écuyer même. Ce soir j’ai joué au billard avec Kürchner.
Нет! я не смогу остаться с ней. Я должен сегодня же уехать на дачу. Меня очень беспокоит письмо из Твери, адресованное княжне Варваре и надписанное незнакомой для меня рукой. Я был бы в отчаянии, если бы в нем сообщались дурные новости об Алексее и его милой супруге; они путешествуют, и уже так давно от них нет никаких известий, тем более, что она еще и в положении. Если случится несчастье, прощай, мой бедный Алексей. Я должен буду оплакать двойную потерю людей, которые так дороги мне были в жизни.
11 часов вечера. На даче.
Я был в смертельном страхе. По счастью, это всего лишь письмо от г-на Осипова, как мне сообщила об этом сама княжна Варвара. Я не знаю, кто мог бы более, чем я, интересоваться своими друзьями, теми, кто ему дорог. Мне было так тяжело на сердце, я смог вновь обрести веселость, лишь когда узнал, в чем дело. Тем не менее я не уехал из города, не повидав полковника Норова; я застал его за письмом, которое он писал на итальянском языке своей сестре. Мы проговорили с ним более двух часов и договорились в четверг пойти к г-же Панаевой: не знаю только, удастся ли это сделать.
Приехав сюда, мы тотчас же отправились на карусель[821]. Князь катался в экипаже то с княжной Натали, то с г-жой Головиной. Из иностранцев сперва были лишь Фабр и другой француз, недавно прибывший сюда, а также англичанин из общества миледи Шаго, которого я прозвал Черной беспечностью из-за его простоватого выражения лица и черного одеяния с головы до ног. Через некоторое время мы увидели гарцующую кавалькаду. Это были граф Чернышев с двумя Коновницынами, Симони и двумя конюхами. Князь пригласил их принять участие в состязании. Граф сам сорвал все призы: в колечной игре, в состязании с мячом, шпагой и штандартом. Но он не решился на состязание с пистолетом из-за своей пугливой лошади. Этот малютка граф — прекрасный наездник. Он ездит верхом не хуже своего берейтора. Вечером я играл на бильярде с Кюрхнером.
Се 15 Juin 1821.
La premi ère nuit que j’ai passée à la campagne a été fort agréable. Hier je suis arrivé ici vers 9 heures avec Princesses. En passant près de la porte d’Yakowleff, j’ai fait arrêter la voiture et je suis entré un instant chez lui pour m’excuser de ce que je n’ai pas pu l’attendre dans la journée. J’ai demandé de nouvelles de M-me P… ff. Pas un souffle de vie: il semble qu’on veut nous oub-lier tous les deux. Il est vrai que ma lettre a été un peu dure — mais j’étais outré par l’injustice qu’on m’avait faite. Pouvait-on penser que je me fusse ja-mais permis une action reprochable et m’en écrire sur le ton que si c’était la vérité déjà prononcée? Et qu’ai-je besoin de lire ces maudits chiffons de pa-piers? De quel intérêt sont-ils pour moi?
En arrivant nous avons de faire un tour dans la campagne. Madame Go-lowine m ’a reçu avec son amabilité accoutumée. Peu d’instants après les deux princesses sont venues. Nous avons été tous ensemble faire encore un tour jus-qu’à grand canal. J’ai fait à M-me Golowine des compliments de la part des jeunes Dournoff, et elle n’a pas manqué de me demander des nouvelles de M-me Ponomareff. Il y entrait un peu de malice. Je lui ai dit simplement qu’il y a plusieurs jours que je l’aie vue et que je ne comptais pas la revoir de sitôt. Elle m’a fait comprendre que ces disputes ne font que resserer les liens qui nous attachent à l’objet aimé, с ’est de quoi je douta fort, connaissant mieux mon ca-ractère.
Il semble que je respire ici plus à mon aise. Aujourd’hui nous nous sommes promenés à 9 heures avec le Prince, Madame Golowine et la jeune Princesse. Puis je suis entré un instant chez M-me Golowine pour lui apporter le roman d’Iwangoë que j’ai acheté exprès pour le lui faire lire, car elle m’a tourmenté depuis longtemps en me priant de lui procurer ce plaisir. Sa petite a été charmante: elle est endormie dans sa petite calèche, tandis que je causais avec la maman. M. Gol. m’a dit de paraître avec elle sur le balcon, afin d’éviter mauvaise interprétation qui pourrait bien avoir lieu avec les personnes dont on est ici entouré. J’aime beaucoup le caractère paisible de cette dame, elle rit, elle plaisante, elle ne donne aucune espérance ni permet d’en avoir, et pour-tant on passe son temps auprès d’elle avec beaucoup de plaisir, c’est une espèce d’amitié si ce mot peut être placé pour exprimer les rapports indiffé-rents de deux personnes d’un sexe différent. Je l’ai plaisanté sur son voisinage avec les beaux anglais de la suite de Mylady Chagot; elle m’a raconté qu’il y a deux jours que cette dame l’a comblée d’amitiés et qu’elles roulaient ensemble en calèche sur les Montagnes Russes de la campagne de M-er N<aryschkine>, qu’elle l’a invitée à passer chez elle, mais qu’aimant la solitude elle s’y est re-fusée.
A 8 heures du soir.
J’ai lu quelques pages de mon Tasso, j’ai eu quelq ues moments de tris-tesse; voilà le domestique qui vient de la part du Prince pour m’inviter au carrousel.
A 11 heures du soir.
Tout le monde s ’est retiré; je ne veux pas encore dormir; c’est surtout ce temps de réconcillement et de solitude qui me rend à mes tristes réflexions: j’ai été trop gai pendant toute la journée.
C ’est pourtant une jolie chose que ce carrousel avec des calèches at-telées de chevaux: la Princesse Natalie a fait tous les prix: M-me Golowine aussi. J’ai tant sautillé, jasé, ri, qu’on m’aurait pu prendre pour un échappé de la maison jaune. Nous nous sommes ensuite balancés la P. Natalie, Mme Gol…, Mr Sweschnikoff et moi, sur la flotte aérienne et sur la balançoire française que le Prince a imitée du jardin de Tivoli. Le soir j’ai joué deux parties au billard avec Mme Golovine que je lui ai fait gagner et une avec la Prin-cesse Barbe que j’ai gagnée: je donne 15 d’avance à chacune de ces dames. La Princesse Natalie s’est mise au piano, elle a joué et chanté la Ronde du Chaperon et la Romance du Compte Robert de la même pièce, puis La Placida Campagna. Jolie voix, très bonne manière, mais ce n’est pas celles de M-me P… ff: l’âme n’y est pas; j’en ai fait la remarque à Mr Sweschnikoff: il ne re-vient pas du tout ce que je lui dis du bien de M-me P… ff, lui qui aime tant les jeunes femmes. J’aime assez le chantre de M-me Golovine, elle ne surcharge pas sa voix de ce style maniéré et pourtant est agreable.
Ce 16 Juin à 11 heures du matin.
A neuf heures la Princesse Natalie m ’a envoyé dire à M-me Golovine de venir la joindre pour aller ensemble au canal de Ligoff: je suis entré chez M-me et je l’ai trouvé toute en pleurs: son enfant se trouve mal depuis cinq heures du matin. Enfin l’enfant s’est un peu pacifié et nous sommes partis, en partie carré, comme je le dis en plaisantant à la Princesse: elle, M-me G., Sw. et moi; Kürchner est parti pour la ville avec le Prince. A moitié chemin du canal de Ligoff nous avons rencontré une dame anglaise à cheval avec un chevalier à côté, qui courraient à tout bride par la grande allée. C’est une des nouvelles connaissances de M-me Golowine. Après une promenade de 4 verstes nous sommes rentrés vers 11 heures. La jeune Princesse a été très aimable et très gaie: elle vient de recevoir une lettre du cmte Zuboff.
A 11 heures du soir.
La soir ée s’est passée fort agréablement. A 7 heures le Prince est reve-nu de la ville. Mr. Golovine après avoir fui la partie de boston avec la Princes-se, Sweschnikoff et moi est parti. La Princesse et sa fille sont allées en voitur e, le Prince, K ürchner et Sweschnikoff se promènent à pied, je reste dans le salon avec Md Golovine qui se met au piano. Tout en jouant et en chantant elle me fait subir un interrogatoire; elle plaisante, je veux me fâcher et je ris: les Princesses sont rentrées. La Princesse mère, nous voyant seuls, en a fait une remarque en ricanant: elle nous a apostrophé d’inséparables. Ce mot m’a cho-qué; je me rappelai un mot semblable de Baktine et l’ai envoyé à tous les diab-les. J’ai été un peu confus, et ne me suis remis qu’à bout d’une demi-heure lorsque Md Golovine m’a proposé une partie de billard. Je lui ai dit en riant que cette fois-ci je ne la laisserai pas gagner et lui ai tenu la parole dans trois parties que j’ai jouées avec elle.
La jeune Princesse s ’est mise au piano; elle a joué et chanté plusieurs airs de Borgondio et même de Catalani avec beaucoup de goût et de justesse; elle a été d’une humeur charmante. Kürchner lui a proposé d’être son maître de chapelle ce qu’elle a accepté. Di tanti palpiti, Ombra adorata, Corne cervo foribondo etc. etc. ont été très bien exécutés. Kürchner finit par parodier quel-ques paroles des airs et je l’ai aidé. Nous avons fait rire la Princesse, le Prince et tout le monde. La gaieté de Md. Golovine et de la jeune Princesse ont beau-coup contribué à rendre cette soirée fort agréable. La Princesse Barbe n’a pas reparu toute l’après-dîner.
Au souper, le G énéral Prévost de Lamianc arrivé, nous a raconté les nouvelles du jour, comme c’est ordinairement son habitude. Il nous a dit le malheur qui est arrivé à l’acteur Durand dont le bateau a choppé près de Kres-towski ostrow: le pauvre Durand y a perdu un enfant à la mamelle.
Ce 17 Juin à 9 heures.
Nous avons d éjeuné, le Prince, le général, M. Sweschnikoff, Kürchner et moi, à 8 heures. Un moment après le Prince est encore parti pour la ville. J’ai vu un moment la P-sse Natalie; elles vont aussi à Kamenny-ostrow chez la maréchale. Le temps m’ayant paru détestable, je pris le parti de rentrer. J’ai écrit une lettre à M. Rousseau qui quitte bientôt Paris pour aller transplanter son embonpoint sur le sol d’Angleterre.
A 11 heures du soir.
La soir ée a été assez belle; après le carrousel et la promenade on s’est réuni au salon. J’ai joué au billard avec le Prince. Madame Golovine a chanté en se faisant accompagner par Kürchner qui faisait la grimace en exécutant plusieurs airs des romances françaises. Il a pourtant joué avec plaisir l’accom-pagnement de Per una sola fila et la musique du Prince Serge Golitzin pour la romance Je l ’ aime tant que Md. G. a chanté avec beaucoup de goût et de sentiment. Il faut que ce Prince Golitzin fût un homme sensible pour avoir composé un air si tendre et qui vient droit au cœur, surtout il est dans un parfait accord avec les paroles. Cette simplicité de sentiment, cette peinture d’un amour qui trouve dans toutes les choses l’objet de sa tendresse, se fait entendre et sentir dans la musique du Prince G. comme dans les vers de <нрзб.> Madame Golovine a aussi chant é plusieurs airs des opéras comiques françaises qui ont rap-pelée au Prince le séjour à Paris: il a été ranimé.
Samedi, ce 18 Juin, 1821, à 11 heures.
Nous nous sommes promen és avec le Prince et les Dames. La Princesse Nathalie a été d’une très bonne humeur, parcequ’elle a vu la veille des futures belles-soeurs et qu’elle a reçu une lettre du Comte Zouboff.
La soir ée s’est passée sur la plaine de jeux. Je me suis balancé sur la balançoire à cordes avec la Princesse Natalie: nous même mettions en mouve-ment la balançoire. J’ai saisi cette occasion pour lui parler de son promis. Elle a paru très satisfaite de l’intérêt que je prends à lui.
Dimanche, ce 19 Juin, à 11 heures.
Le Prince est parti pour Pawlowsk, parcequ ’il ne veut point dîner chez l’Impératrice le jour de gala le 26 juin. Les deux princesses et Md Golovine sont allées chez la maréchale. La princesse Barbe est malade. Elle m’a com-muniqué la lettre de sa sœur qui lui écrit qu’Alexis et son aimable épouse ne sont partis que 4 Juin de Charkoff. C’est Schydlowsky qui en fait part à Savva Martynoff. Le général Prévot boit comme une souche; Sweschnikoff est allé se promener en bateau sous le golfe; Kürchner accompagne le Prusse. J’attends vainement le zélateur Anastacéwitz pour aller avec lui en ville.
A 10 1/2 heures du soir.
Le Prince est revenu vers 7 heures. Nous avons eu beaucoup de monde dans le jardin d ’en haut. Le Comte Schérémeteff et Mr Simonin ont paru contents de me revoir; je n’ai pas encore été cette année-ci à la campagne du Comte: il m’en fait des reproches. Les deux Miss Simples, toute la famille de Séverine, Lady Bouzot avec son époux; son cousin Cotzeroff. Mr Bainkeur et plusieurs autres anglais; les enfants du Cte Orloff-Dénissoff; ceux du Cte Ko-nownitzin, beaucoup d’étrangers etc. ont peuplé le jardin. On se balançait aux différentes balançoires, on se roulait, on se promenait, et la soirée a été très animée. Nous sommes rentrés à six heures. Immédiatement après souper tout le monde s’est retiré, parce que le Prince s’est levé de très bonne heure et qu’il n’a pas eu le temps de faire sa sieste.
Demain j ’irai en ville, j’irai aussi voir Md Ponomareff. Voyons de quel air je serai reçu.
Кажется, здесь мне дышится легче. Сегодня в девять часов мы прогуливались с князем, госпожой Головиной и молодой княжной. Потом я зашел на минутку к г-же Головиной, чтобы занести ей роман «Айвенго», который я специально купил, чтобы она смогла его прочесть: она давно уже одолевала меня просьбами доставить ей это удовольствие. Малышка ее была прелестна; она заснула в своей колясочке, пока я разговаривал с маман. Г-жа Головина попросила меня появиться с ней на балконе, дабы избежать кривотолков со стороны окружающих нас здесь людей. Мне очень нравится спокойный характер этой женщины, она смеется, шутит, сама она не подает никакой надежды и не разрешает ее иметь, и тем не менее с ней проводишь время с большим удовольствием; это вид дружбы, если это слово может быть употреблено для обозначения безразличных отношений между представителями различных полов. Я подшутил над ней по поводу соседства двух красивых англичан из свиты миледи Шаго; она рассказала, что два дня назад эта дама проявила к ней чрезвычайно дружественное расположение: вместе они катались на Русских горках на даче у г-на Нарышкина, миледи приглашала ее к себе, но, любя одиночество, г-жа Головина отказалась.
8 часов вечера.
Я прочитал несколько страниц своего Тассо, у меня было несколько грустных минут; но вот и слуга, который пришел от имени князя пригласить меня на карусель.
11 часов вечера.
Все разошлись, я не хочу еще спать; это время успокоения и одиночества отдает меня во власть грустных размышлений: мне было слишком весело в течение всего дня.
Все-таки это хорошая выдумка — карусель с колясками, запряженными лошадьми; княжна Натали выиграла все призы, г-жа Головина тоже. Я столько прыгал, болтал и смеялся, что меня можно было бы принять за сбежавшего из желтого дома. Потом мы вместе с гном Свешниковым качались на подвесных лодках[822] и на французских качелях, которые князь построил по образцу качелей Тивольского парка. Вечером я сыграл две партии на бильярде с г-жой Головиной, которая выиграла, и княжной Варварой, у которой выиграл я: обеим дамам я даю 15 очков фору. Княжна Натали села за фортепиано, она сыграла и спела рондо дуэньи и романс графа Роберта из этой же оперы, затем La Placida Campagna. Прекрасный голос, чудесная манера исполнения, но это не г-жа П…ва: души в этом нет. Я сказал об этом г-ну Свешникову, но он совершенно не откликнулся на те лестные слова, которые я произнес в адрес г-жи П…вой, — он, который так любит молодых женщин. Мне вполне нравится пение г-жи Головиной, она не насилует своего голоса изощренным исполнением и тем не менее приятна.
16 июня, 11 часов вечера.
В девять часов княжна Натали послала меня за г-жой Головиной составить ей компанию в прогулке к Лиговскому каналу; я вошел к мадам и застал ее всю в слезах: ее ребенок плохо себя чувствует с пяти часов утра. Наконец ребенок немного успокоился, и мы пошли на увеселительную прогулку парами, как я шутя назвал ее в разговоре с княжной: она, г-жа Г., Свешников и я; Кюрхнер уехал в город с князем. На полдороге к Лиговскому каналу мы встретили англичанку верхом в сопровождении кавалера, они скакали во весь опор по большой аллее. Это одна из новых знакомых г-жи Головиной. Пройдя 4 версты, мы вернулись домой к 11 часам. Княжна была очень мила и весела: она только что получила письмо от графа Зубова.
11 часов вечера.
Вечер прошел очень мило. В 7 часов князь вернулся из города. Г-н Головин, отказавшись от партии в бостон с княгиней, Свешниковым и мной, ушел. Княгиня с дочерью отправились на прогулку в карете, князь, Кюрхнер и Свешников прогуливались пешком, я остался в салоне с г-жой Головиной, которая села за фортепиано. Во время пения и игры она подвергла меня допросу, она шутила — я хотел рассердиться, но рассмеялся; в это время княгиня с княжной вернулись. Княгиня, заметив нас одних, обратила, подсмеиваясь, на это внимание, назвав нас неразлучными. Эти слова меня неприятно поразили; я вспомнил подобные же, произнесенные Бахтиным, и послал их ко всем чертям. Я почувствовал себя смущенным и оправился лишь через полчаса, когда г-жа Головина предложила мне сыграть партию на бильярде. Я смеясь сказал, что на этот раз не позволю ей выиграть — и сдержал свое обещание в трех партиях, которые мы с ней сыграли.
Княжна села за фортепиано; она сыграла и спела несколько арий Боргондио и Каталани с большим вкусом и тактом; она была в прелестном настроении. Кюрхнер предложил ей быть ее капельмейстером, и она согласилась. Di tanti palpiti. Ombra adorata. Corne cervo fo-ribondo и т. д. и т. д. были великолепно исполнены. Под конец Кюрхнер стал пародировать слова некоторых арий, я его поддержал. Мы насмешили князя, княгиню и всех остальных присутствовавших. Веселость г-жи Головиной и княжны во многом способствовала тому, что вечер удался. Княжна Варвара не появлялась с обеда.
Пришедший во время ужина генерал Прево де Ламьянк рассказал нам по своему обыкновению новости дня. Он сообщил нам о несчастье, приключившемся с актером Дюраном, лодка которого перевернулась вблизи Крестовского острова: бедный Дюран потерял при этом грудного младенца.
17 июня, 9 часов.
Мы, то есть князь, генерал, г-н Свешников, Кюрхнер и я, позавтракали в 8 утра. Вскоре князь уехал в город. Я мельком видел княжну Натали; они тоже едут на Каменный остров к жене маршала. Так как погода была отвратительная, я решил вернуться домой. Я написал письмо г-ну Руссо, который вскоре покидает Париж, дабы переселить свое упитанное тело на английскую почву.
11 часов вечера.
Вечер был довольно хорош; после каруселя и прогулки все собрались в гостиной. Я играл на бильярде с князем. Г-жа Головина пела под аккомпанемент Кюрхнера, который морщился, исполняя мелодии французских романсов. Тем не менее он с удовольствием исполнил аккомпанемент Per una sola fila и музыку князя Сергея Голицына на романс Я так ее люблю, который г-жа Г. исполнила с большим вкусом и чувством. Видимо, этот князь Голицын был человеком весьма чувствительным, сочинив нежную мелодию, так много говорящую сердцу, тем более, что она еще и идеально соответствует словам. Эта простота чувства, изображение любви, которая во всем находит предмет своего обожания, ощущается, слышится в музыке князя Г., как и в стихах <нрзб.> Госпожа Головина спела множество арий из французских комических опер, которые напомнили князю о его пребывании в Париже; он был оживлен.
Суббота, 18 июня 1821, 11 часов.
Мы совершили прогулку с князем и дамами. Княжна Натали была в очень хорошем настроении, поскольку она повидалась накануне со своими будущими невестками и получила письмо от графа Зубова.
Вечер прошел на спортивной площадке. Я качался на веревочных качелях с княжной Натали, мы даже раскачали качели. Я воспользовался случаем, чтобы поговорить с ней о ее женихе. Кажется, она была весьма довольна тем интересом, который я проявляю к нему.
Воскресенье, 19 июня, 11 часов.
Князь уехал в Павловск, так как не хочет обедать у императрицы 26 июня во время празднества. Обе княжны и г-жа Головина отправились к супруге маршала. Княжна Варвара больна. Она показала мне письмо своей сестры, которая пишет, что Алексей и его милая супруга лишь 4 июня выехали из Харькова. Об этом сообщил Савве Мартынову Шидловский. Генерал Прево пьет мертвую, Свешников отправился на прогулку на лодке под парусом; Кюрхнер сопровождает пруссака. Я тщетно ожидаю соревнователя Анастасевича, чтобы поехать вместе с ним в город.
В 10 30 вечера.
Князь вернулся около 7 часов. У нас было много народу в верхнем парке. Граф Шереметьев и г-н Симонен были рады меня увидеть; в этом году я еще не был на даче у графа, за что он мне попенял. Обе мисс Симплз, вся семья Северина, леди Бузо с супругом, ее кузен Кочеров, г-н Бэнкер и другие англичане; дети графа Орлова, Денисова, графа Коновницина, много иностранцев и проч. заполнили сад. Качались на различных качелях, катались, гуляли, вечер был очень оживленным. Вернулись мы в шесть часов. Сразу же после ужина все разошлись, так как князь встал рано и у него не было времени отдохнуть после обеда.
Завтра я поеду в город и зайду к г-же Пономаревой. Посмотрим, каким образом меня там примут.
Се 21 Juin. Mardi, à 11 heures du matin.
J’étais arrivé en ville lundi à 11 heures. J’ai passé tout de suite chez No-roff, mais il était déjà sorti. J’ai passé ensuite à la banque d’amortissement et j’y suis resté plus d’une heure avec Mr Golovine. En sortant de la banque, j’ai été voir ce qui se fait chez Sleunine. Rien de nouveau. J’ai dîné chez Mr. Golo-vine, où nous n’étions que deux. Instantanément — après dîner, je suis allé chez M-me Ponomareff, pour voir quel accueil l’on me ferait. Je l’ai trouvée prête à se mettre à table, avec son époux, son frére et Panaïeff. Ell m’a fait l’accueil assez froid d’abord mais dans la suite nous nous sommes raccomodés. Ce n’est pas que je ne lui aie fait une petite reprimande pour le billet qu’elle m’avait écrit; elle a demandé à voir ce billet et l’a déchiré. Je me suis mis à ge-noux devant elle, je lui ai demandé pardon pour la lettre que je lui ai écrit à ce sujet, en la suppliant de la déchirer aussi, mais elle m’a repondu qu’elle la garderait comme toutes les autres qu’elle tient de moi. Je n’ai pas insisté da-vantage, mais je lui ai dit que je suis désolé d’avoir perdu son billet, parcequ’il était le seul que j’ai eu le bonheur de recevoir d’elle. Elle m’a dit de ne pas désespérer d’en avoir d’autres. J’ai été très gai, même trop gai, sur quoi son frère m’a fait la remarque m’ayant dit qu’il ne connaissait personne qui soit plus que moi garçon sans souci. Comme c’était le jour des fiançailles de sa sœur avec Mr Andreyeff Madame m’a prévenu qu’ils devaient y aller; et moi, ayant vu que Pa-naïeff doit être aussi du bal, je suis parti de bonne heures. J’ai voulu faire une visite à l’aide de camp, Dournoff, mais je ne l’ai pas trouvé au logis, ni son frère.
J ’ai donc été obligé de rentrer chez moi, par la grande pluie, qui m’a mouillée presque jusqu’aux os. N’importe, j’ai eu quelques moments agréables.
Je ne sais si je pourrai tenir ma promesse à Md de venir passer la journée de mercredi chez elle; je le ferai volontier, si rien n’empêche.
Ce 22 Juin, à 11 heures du matin, Mercredi.
La matin ée est superbe. Le Prince est allé en ville. Je voudrais aller dîner chez le Comte Pouchkine, mais comme on dit que nous aurons du monde aujourd’hui, je veux bien rester à la maison.
A 11 heures du soir.
Nous avons eu à dîner Mrs Toumansky et Golovine. Mr Anastacéwitz est aussi venu. A 7 heures la Princesse Anne Scherbatoff avec ses deux filles, le Prince Dmitry, Mrs Moreau et le Docteur Rosemann, étant venus, on a été au carrousel. Le cheval du Prince se cabra et manqua de renverser le cabriolet où se trouvait le Prince avec la Psse Natalie qui criait de toutes ses forces. Je suis accouru dans l’arène et lui ai présenté la main pour l’enserrer du cabriolet. Heureusement il ne lui est arrivé rien de fâcheux. Puis nous nous sommes pro-menés en bas sur l’étang du jardin avec le Prince Dmitry, nous nous sommes balancés, etc.
A propos des promenades sur l ’eau. Hier les trois jeunes Comtes Ko-nownitzin se promenaient en bateau sur la pièce d’eau du jardin de Kra <нрзб.>. Le père était sur le bord. Tout à coup le bateau a chaviré et les jeunes gens s’enfoncent dans l’eau. Le père les voit tomber et ne peut les secourir.
Ce 30 Juin à 7 heures du matin.
La f ête du Prince s’est passée d’une manière assez <tran>[823] — quille. Le matin il a reçu les visites et félicitations <de> ses connaissances de voisinage. Nous avons eu aussi <quelqu>es personnes à dîner. Le Comte Orloff-Denisoff <a> été, ainsi qu’Alexis avec toute la famille Metschnikoff, après 7 heures presque tout le <mon>de est parti. La maigre mine de la Psse les a dispercés. <…> l’anniversaire de l a naissance de la princesse Natalie: <nous> aurons beaucoup de monde le soir, de la musique; <les> jeux seront en mouvement etc. etc.
Ce 31 Juin, à 7 heures du matin.
Homo proponit, et deus disponit. Je suis port é cependant à croire que le bon Dieu ne se mêle point de tous les vains projets de l’homme, tels que ses fêtes, rejo-uissances etc. et qu’il a créé, exprès à cet effet, une fatalité qui est presque tou-jours là pour contrecarrer les plaisirs et les jouissances que l’homme se promet.
La matin ée d’hier a été très pluvieuse: il n’y a presque pas eu de beau temps. J’ai félicité la Psse Natalie chez son papa, à 9 heures du matin. Vers une heure d’après midi je suis venu chez la Psse mère: je trouve la jeune Psse sur la terrasse et lui demande si Md sa chère maman voudrait bien recevoir mes félicitations et hommages. Elle entre chez elle, reparaît et me dit que je serais le bienvenu, c’est à quoi je ne m’attendais guère, sachant que la Psse fut la veille continuellement occupée d’Alexis et de sa charmante épouse, ce qui n’a pas dû contribuer à la disposer en ma faveur. J’ai été d’autant plus surpris de l’accueil gracieux, qu’elle m’a fait; elle m’a parlé plus d’une demi heure avec un sourire plein de grâces qui ne lui est pas toujours propre. Après maints quolibets coup sur coup renvoués par S. Exell. la Psse, moi et une tierce personne qui était la Psse Natalie, car nous n’étions que trois, j’ai pris congé d’elles, et je suis rentré pour faire ma toilette.
22 июня, 11 часов утра, среда.
Утро великолепное. Князь уехал в город. Мне хотелось бы пойти на обед к графу Пушкину, но говорят, что у нас будут сегодня гости, поэтому я останусь дома.
11 часов вечера.
С нами обедали г-а Туманский и Головин. Г-н Анастасевич также пришел. В 7 часов приехали Анна Щербатова с дочерьми, князь Дмитрий, г-н Моро и доктор Роземан и все отправились на карусель. Лошадь князя встала на дыбы и чуть было не опрокинула кабриолет, в котором находились князь и княжна Натали, кричавшая изо всех сил. Я поспешил в манеж и подал ей руку, чтобы вызволить ее из кабриолета. По счастью, ничего страшного с ней не произошло. Потом мы с князем Дмитрием прогуливались на лодке по пруду нижнего парка, качались на качелях и проч.
Кстати о водных прогулках. Вчера трое молодых графов Ко-новнициных катались на лодке на пруду <нрзб> парка. Отец был на берегу. Внезапно лодка перевернулась и молодые люди оказались под водой. Отец видел, как они падали, и не мог их спасти.
30 июня, 7 часов утра.
Праздник князя прошел довольно спокойно. Утром он принимал визиты и поздравления своих знакомых, живущих по соседству. На обеде также присутствовало некоторое количество человек. Был граф Орлов-Денисов, а также Алексей со всем семейством Мечниковых; после 7 часов почти все разошлись. Кислое выражение лица княгини их распугало *. … день рождения княжны Натали, у нас будет много народу вечером, музыка, игры и т. д. и т. д.
В этом месте и в некоторых других край письма оборван.
31 июня, 7 часов утра.
Homo proponit, et deus disponit[824]. Я склонен, однако, думать, что Боженька не вмешивается во все пустые помыслы человека, такие, как празднества, увеселения и проч., проч., и что он создал специально для этого провидение, почти всегда готовое помешать удовольствиям и радостям, на которые надеется человек.
Вчерашнее утро было очень дождливым, небо почти не прояснялось. Я поздравил княжну Натали в кабинете у ее отца в 9 часов утра. Около часа дня я пошел к княгине; на террасе я нахожу молодую княжну и спрашиваю, сможет ли г-жа ее любезная матушка принять мои поздравления и свидетельства глубокого почтения. Она входит к ней, вновь появляется и говорит, что меня с радостью ждут, — то, на что я вовсе не рассчитывал, зная, что накануне княгиня была постоянно занята Алексеем и его очаровательной супругой, а это не должно было расположить ее в мою пользу. Тем более я был удивлен ласковым приемом, который она мне оказала; она разговаривала со мной более получаса с милой улыбкой, которая ей не всегда свойственна. После множества шуток, которыми мы обменялись с княгиней и еще одним присутствующим лицом, которым была княжна Натали — ибо мы были втроем, — я попрощался с ними и вернулся к себе, чтобы переодеться и привести себя в порядок.
Се 7 Juillet 1821. A la campagne.
Dix sept jours sans vous voir, Madame! Jugez donc si mon pauvre c œur devrait être déchiré. Mille fois j’étais sur le point d’aller me précipiter, voler à vos pieds, mais un génie ennemi me suscitait toutes les fois quelques fâcheu-ses contrariétés, quelque circonstance qui venait là-dessus près pour déjouer mes resolutions. Pour comble d’infortune, le Prince s’étant demis le pied de-vait garder la chambre et moi son compagnon dans les affaires et dans les ad-versités, je devais rester cloué au chevet de son lit. Enfin je saisis la première occasion favorable qui se fût présentée, je cours, je vole me prosterner devant ma souveraine et lui réitérer foi et hommages jurés tant de fois et si sincère-ment.
Ne croyez pas cependant, Madame, que cette cruelle absence e ût dimi-nué, affaibli les sentiments dont mon âme pour vous est remplie! Eloigné de vous, peut-être oublié, effacé de votre souvenir, mes plus chères pensées, cel-les que je caressais le plus dans mon imagination vous furent toujours con-sacrées; je ne vivais, ne respirais que dans l’avenir, que dans l’èspérance de pouvoir un jour vous les transmettre. Eloigné de vous, j’étais sans cesse en-touré de votre image; je ne lisais que les ouvrages dont nous avons parlé ensemble, que ceux que vous avez eu la bonté de me prêter. Je suis devenu plus dévot, je prie le bon Dieu avec fureur deux fois par jour et c’est afin de pouvoir redire plus souvent votre nom que j ’ai placé dans mes prières. Vous pouvez bien deviner que votre image est alors l’ange tutelaire qui volage autour de ma <нрзб.> et si je desirais voir celui qu e le bon Dieu m’avait donné à ma nais-sance, j’aurais voulu qu’il m’apparût sous vos traits: je l’adressais, je l’en aimerais davantage. J’aime ici la solitude: c’est alors que je suis seul avec vous. Je m’imagine encore d’être auprès de celle que j’adore, j’admire ses grâces, ses talents, son amabilité, je me la représente sous tous les aspects, sous toutes les formes, avec cette variété d’humeur qui la caractérise. Tantôt je crois la voir rire, j’écoute ses babils aimables et enjoué, où l’esprit perce tou-jours à travers le voile de la gaieté dont elle veut le cacher, tantôt je l’entends chanter ces airs que j’aime tant et qu’elle embellit de sa voix; je deviens tout ouïe, je n’ose plus respirer, je crains de perdre le moindre son, la moindre inflexion de sa voix. Tantôt je l’entends raisonner, parler de la littérature, avec ce goût pur, cette justesse du tact juste qui lui sont naturel. Tantôt je suis ab-sorbé dans la contemplation de ses perfections extérieurs, rien ne m’échappe alors: cette figure noble et spirituelle, ces traits qui ont pour moi la régularité d’un beau idéal, cet heureux accord de la beauté et des grâces, ce sourire plein d’appâs, ces yeux dont le feu embrasse le témeraire qui ose les fixer, cet-te blancheur éclatant du teint, cette peau si tendre et si mince, ce joli pied si élégant, que les Grâces elles-mêmes avaient moulé sur modèle, ce beau sein, ce sein, le trône de l’amour et de la volupté… mes yeux croient se promener, caresser tous les contours de ce coprs enchanteur, mon imagination m’entraine, m’égare, je m’enflamme, je brûle, je m’anéantis par l’excès de mes sensations si cuisantes, de mes rêves si séduisantes!..
Helas! qu ’elle est triste, cette réalité que je vois autour de moi lorsque j’ose descendre sur la terre après avoir quitté ces belles régions des illusions où mon imagination m’emporte! Je me vois seul, dans le désert, les beautés de la nature ne font sur moi aucune impression et celui de l’art moins encore.
Je vous ai dit une fois, Madame, que j ’ai souvent des idées qui parais-sent n’avoir pas le sens commun. Ici, loin de vous, c’est encore pire. Voici quelques une de ces aberrations d’une imagination effrénée qui cherche à tra-vailler dans l’absence d’une réalité plus douce. Je fais des reproches à la nature, à ma malheureuse étoile non pas déjà de ne m’avoir pas fait beau et bien-fait, mais de ne m’avoir pas créé laid et difforme. En voilà la raison: vous se-riez d’abord rebutée par mon extérieur, puis vous auriez comparé vos perfections avec ma difformité, vous auriez été frappée par le contraste, vous auriez dit: pourquoi cet être est-il si laid tandis que je suis si belle? pourquoi doit-il rebuter tout le monde tandis que j’attire… et vous m’auriez plaint: et dans la plainte de vous est encore un bonheur plus grand du moins que de vous être tout-à-fait indifférent… Vous auriez peut-être voulu me consoler mon triste sort et ce serait déjà une jouissance!.. Ah! veuillez me consoler de aussi d’une similitude de l’espérance, veuillez pénétrer dans le fond de mon cœur, y lire l’amour qu’il vous porte et alléger le poids qui le pèse! Mes souffrances deviendraient autant de félicités à proportion que vous daignerez croire à la sinc érité de mes sentiments, de ces <нрзб.> que je ne saurais mieux peindre qu’en répé tant sans cesse
Tout à vous pour l’éternité O. Somoff.Ce Ao ût 1821.
Me voil à rapproché des lieux que vous habitez. Madame! j’ai quitté la brillante campagne pour me réinstaller de nouveaux sous l’humble toit qui me sert d’abri à Petersbourg. Que de plaisirs, que de dissipations me promettait le séjour de la ville! Mes amis, Schydlowski et Toumansky sont de retour, St. Thomas est là pour me conter ses aventures d’Italie et d’Espagne, pour me rappeler sa belle patrie et de me tanner de temps en temps des bordées de calembourgs et de jeux de mots. La douce amitié va dorénavant rouvrir ses bras pour me rece-voir: en sera-t-il autant de l’amour? — Non! mon cœur me le dit et ce prophète, bien qu’il ne fût consolent, ne m’a jamais trompé. C’est une triste chose que l’espérance qui ne voit point de terme à ses atteints: on aime à se nourrir des vains illusions qui s’évanouissent au moindre souffle de le réalité, et c’est alors que le cœur gémit de voir disparaître les douces erreurs dont il était berié.
* * *
Votre opinion, Madame, doit être en toutes choses la boussole de la mienne. Dans mes lettres suivantes je prendrai la liberté de vous entretenir sur la littérature Russe, sur la littérature de notre langue maternelle; ce sujet ne peut pas vous paraître ennuyeux, Madame, à vous, qui aimez les productions de nos poètes et de nos prosateurs. Je me promettrai donc d’y énoncer mes sentiments sur chacun de ceux de notre temps qui se sont acquis une sorte de célébrité. Mais je vous prie, Madame, de m’éclairer par vos observations, de m’aider par votre lumière: je m’en rapporterai toujours à votre jugement si sain, à votre tact si juste, à votre goût si pur. Espérant d’avance en votre indulgence, je dépose à vos pieds l’hommage des sentences d’amour et d’adoration, dont mon cœur est rempli pour vous, Madame, pour vous qui êtes mon idéal de tout ce qui est beau, de tout ce qui est sublime.
Tout à vous pour la vie Oreste Somoff.Страждущий поэт к издателю благонамеренного
M. Г.
Покорнейше прошу вас о напечатании в издаваемом вами журнале прилагаемого при сем отрывка моих беспечных досугов, излившейся из сердца элегии: она последняя; я простился с музами — и навсегда повесил цевницу — потому… потому что… слушайте, и сочувствуйте мне:
До прошедшей весны я жил по делу целые три года в Петербурге. Еще с первых дней юности расцветали во мне наклонности Поэта; по прибытии же в столицу новые, трогательные элегии и баллады пленили меня, и гармония романтической поэзии наполнила весь мой слух и душу. Баловни-поэты, воспевающие в тиши времена года, говор пернатых, родные края и приветы юных красот — очаровали меня, а послания их друг к другу и к юным знакомым подругам первых, незабвенных лет — наполнили чувства мои счастливою негою; кроткая спутница ее лень дала сердцу моему тихий приют в самом себе. Посвятив себя досугу, оставил я дело свое в небрежении и, одинок, на Петербургской стороне, в тиши Зеленой улицы, взирая на чащу развесистых берез, поверял в чужбине звукам цевницы моей тайные ощущения унылого поэта. Так миновали три весны: несколько элегий, послания к родным, друзьям, к рощам и зефиру юности и воспоминания о ней были плодами моего досуга. Не желая помещать их в журналах, и пленяясь беспечным разнообразием «Полярной Звезды», хотел я на немой привет ее отозваться ответным отголоском. Уже приводил я в порядок знакомые звуки сердечного рассказа, для помещения их в издании «Звезды» юного 1824 года, как вдруг со сжатым сердцем, коего безмолвных ощущений не могу передать вам, прочитал указ о потере моего дела. Сей переворот игривой Фортуны оставил меня не только почти без имения, но и без возможности наслаждаться уединением столицы! В тоске советовался я с сердцем — отзыв его мелькнул, как молния… и легкокрылый зефир, быстрым полетом, свеял со взоров моих уныние, навеянное указом.
К вам, к вам, ручьи, кусты родные! Я понял ваш немой привет, Призывы сердца молодые, Призыв знакомых, прежних лет! Душе любимые долины, И прежняя родная сень, И юности беспечной лень..! Примите друга из чужбины! —Я уложил книги и бумаги, бросил последний взгляд на гостеприимный кров и перенесся душою в любимый сердца край, к неоплаканной радости вечно памятных юных дней — златокрылых, мечтательных. Семь раз в пути ловил я очарованным взором улетающие утренние туманы; в осьмое утро кибитка вскатилась на знакомый пригорок; я въехал в рощу, пробираюсь…
Вдруг роща ветви растворила, Открылся ряд родных домов… И вот бывалый, верный кров, Младенчества свидетель милый. Вот скромных хижин красота, Вот шум дубрав под тень зовущий, И ручеек в тиши бегущий, И лес, и леса пустота. И вот Поэт, с душою мирной, Спешит на голос ваш призывный.Природа для меня обновилась. В домашнем углу повесил я моих Пенатов, и с растроганною душою предался пленительным мечтам, ласкающим воображение юных моих досугов.
Как сельская красавица, румянилась заря, когда рассеявшийся утренний туман открывал ей меня, уже сидящего на росистом пригорке; она же вечером провожала меня в рощу к ручейку, коего журчание, соглашаясь с говором пернатых, вторилось в моем сердце и лелеяло мысли. Иногда
С закатом летния денницы, В прохладу рощицы густой, Сзывал пастушек резвый рой Призывный звук моей цевницы, И — часто юные певицы С ним глас сливали молодой.Но переменчиво сердце Поэта — переменчивы и его досуги: часто —
Я одинок, в дичи лесов, На утлый пень главой склонялся, Глядел на сумрачный покров, И тихой думе предавался. На бледный солнца луч взирал, Следил закат его унылой, Дружился с будущей могилой… Дней давних призраки сзывал.Друзья-поэты посещали отшельника, и из них всех пламеннее, всех игривее, в унылых восторгах пестрой мечты, юный, шестнадцатилетний сын брата моего больше всех сочувствовал моему сердцу и сладкой бездейственности разнообразной лени. (Я для того упоминаю об нем, что вы его узнаете: он отзовется к вам; он поделится с вами душевными ощущениями). Что счастливее дружбы?
Когда сойдет туман на сумрачные горы, И с ним в приютный мой, домашний уголок Поэтов-баловней пленительный кружок Придет — и принесет душевны разговоры, И шутки скромные и дружеские споры; Тогда за чашею пенистого вина, За полной кружкою некупленныя брашны, Во мне юнеет кровь, душа собой полна, Блажу Пенатов я, блажу мой кров домашний!Но бывали минуты, когда на одинокое сердце мое навевалась тайная грусть; когда обольстительница младость, отгоняя равнодушные мечты, нашептывала мне любовь.
Я зрел, манил тебя, о призрак черноокий! Когда густых полей в священной тишине, Как в легком облаке, спускалась ты ко мне; Но отлетала ты — и, странник одинокий, Один с своей тоской… Напрасно я искал твой образ молодой. Я слышал запах ароматный И легкий шорох твой в тиши, И нежный голос, сердцу внятный, И тихий, тайный вздох души; Не слышал лишь любви привета! Хотел небесную обнять, Искал, мой друг, тебя назвать; Но нет для друга эпитета!Таковы были ощущения праздного сердца и рой моих мечтаний! Но что человек? Он стремится к невидимой цели, заходит за рубеж земного, вперяет взоры в сумрак будущего, ничего не видит… вдруг разверзается бездна… мысли его замирают, хладеют, читайте, читайте… вот абрис моей истории.
Однажды летом, любуясь резвою игрою мотылька, следил я его с ветки на ветку и играл с ним; я гонялся — а он, подобие зефира, шутил над моими усилиями. Полевой божок скрылся за кусточек; обманутый, хотел я обежать кругом, и всею силою ударился правым глазом об сук зеленой, развесистой ивы, сук — увы! отцветший. Сей удар навсегда лишил меня глаза.
Однако ж прогулки мои продолжались. Сын природы, питомец мечты, более всего любил я, в часы вечерние, под густым свесом дерев столетних, распростершись на мягкой, влажной траве, и опершись рукою на утлый пень — на пень, символ разрушения, свидетель лет минувших, уныло смотреть в туманную даль, и в мерцающих ее призраках искать взором таинственного — будущего. Но сии невинные упражнения погубили физическую мою оболочку: я получил сильные ревматизмы; и осенью, когда умирающая природа покрыла небо черными тучами, когда умолк напев пернатых, и я по целым часам взирая на бунтующие ветры, срывающие зеленую одежду с шумящих надо мною деревьев, предавался грустным размышлениям, крупный проливной дождь, промочив меня несколько раз, заставил слечь на одинокий, безбрачный одр и терзаться до конца протекшего года мучительными страданиями. Дух мой погас, я лишился способности устроивать в порядок мысли и упустил время издания «Полярной Звезды». Теперь не могу даже петь и моих страданий: боль во всем теле и почти совершенное лишение правой руки не позволяют мне более поручать бумаге душевных отголосков. С трудом мог я написать сие письмо и прилагаемую элегию. В ней мало искусства, но язык души не украшается. Прошу напечатать ее в вашем журнале. Я бы дождался издания «Полярной Звезды» будущего года, но болезнь моя усиливается и? может быть, гений смерти уже носится надо мною. Притом простите самолюбию поэта: я уже не столь желаю видеть стихи мои напечатанными в «Звезде», ибо не могу их там читать: лежа, и одною рукой, трудно мне держать сию прелестную, но почти кубическую книжку; а одним глазом трудно разбирать мелкую и бледную печать ее. Издание сего года племянник мой списывает для меня в тетрадь. Простите! Если возвратятся силы мои, и с обновлением природы обновятся прежние черты сердца — я еще отзовусь к вам.
Мотыльков.* * *
Элегия
Мечта улетает от правил меры.
Разум сгорает в пламени сердца.
Зубин. Прогулка VI, стр. 25. Ты заснуло навсегда Счастье лет заснувших; Нет тебя… и нет следа Радостей минувших. Мрачен мне и светлый день И небес мерцанье: Скучна ночи грустна тень И луны сиянье. Где ты, образ златокрылой Пестрыя моей мечты? Где знакомый, где игривой Отголосок красоты? Юности беспечной младость, Счастье прежних бывших дней, Сердца девственная радость, Призрак памятный для ней? Миновалось, миновалось! Цвет увял души моей; Скорбь, как змий, мне в грудь закралась И грызет и точит в ней. Я напрасно взор тоскливый Простираю в темну даль; Бледен призрак молчаливый, Безответен, как печаль; И померкшими очами Кажет путь далекий мне, И манит с собой перстами И скрывается во тьме. Уныл, взбираюся на сумрачную гору, Гляжу на вид густой, на вид печальных туч: Их сер навислый путь — и сед и мрачен взору!! Угрюмые! где ж мне блеснет приветный луч? — Нигде! — Иду один из дичи опустелой И вторю отзывы души осиротелой. Страдалец, с тоскою Я встречу весну; И с сирой душою Я лето начну; И — может быть — осень, бушуя в лесах, Осыплется в листьях на хладный мой прах. Быть может, к забытой могиле моей, Когда зелениться вновь станет весна, С душистой природой, с расцветом полей Придет и она. Мотыльков <С. Д. Пономарева?>А. Е. Измайлов Из писем к…
Вы почиваете, а я давно не сплю; Об вас все думаю, все вами занимаюсь — Ах! С… Д…, как много вас люблю! Я в Царское Село сегодня собираюсь И тамо на коре дерев или древес Тем карандашиком, что вы мне подарили. Писать я буду букву: S. Ах! если б вы меня любили… 1-го июня 1823.* * *
Навстречу мне толпы Различного народа. Но на блаженную уже проходит мода: Не служат панихид ей более попы, Поминок более не правят И на могилу свеч не ставят: Не приказал митрополит — И говорят, что он сердит На протопопа, плута, вора, Мошенника отца Егора. 11 июня 1823.* * *
Ах! Пожалейте обо мне! Дрожащею рукой пишу я вам при свечке — Я был на Выборгской сегодня стороне И где ж? на Черной речке! Оттуда в самый дождь пришел теперь, измок! Как не измокнуть без шинели, Без зонтика… болит ужасно левый бок… Простите же… пора добраться до постели Боюсь, чтобы не занемочь… Простите… добра ночь! 13 июня.* * *
Мы ели много, много пили, Шумели, спорили, шутили; Нас было пять, шесть остряков — Другие же не отличались; Но все от наших острых слов До слез от всей души смеялись.Злодей Каплюшка преважно спросил меня: «вы ведь служили в Софийском полку?»
С сим словом пробка к потолку, Вино в покалах зашипело, Заискрило и забелело. Я ничего не отвечал, Вздохнул и, молча взяв покал, Вдруг выпил за здоровье ваше!.. Как жаль, что Общество разрушилося наше!* * *
Вхожу и вижу тут хозяина жену, А на столе под образами (Никак уж не солгу пред вами) — Большого черта Сатану С престрашными усами, С предлинными сетями. А у него в сетях мещане и купцы, Дворяне и крестьяне, Монахи и попы глупцы. Епископы, цари — и все ведь християне. Еще я видел там Довольно сплетниц дам; Поэтов не было — не только фабулистов, Но даже журналистов. 4 июня 1823.* * *
Ну, хорошо же вас огрели, Как в Волге-матушке реке От бережка невдалеке По шейку вы в воде сидели. Что ж следал верный ваш Гектор? О старый пес! какой позор! Зачем тогда я не был с вами? Уж как бы я отделал их! Убил бы, право, обоих! А вас… ну догадайтесь сами. 27 (?) авг. 1823* * *
С. Д. П.
С Тимковским цензором осмелюсь вас сравнить — Приличнее сего не знаю я сравненья: Как он, выводите меня вы из терпенья; Хочу, но не могу никак вас разлюбить. Обезоруживал меня он добротою, А вы любезностью своей и остротою. 21 сент. 1823.* * *
Рассудок говорит: «К С… не ходи», А сердце все твердит: Зайди, зайди, зайди.* * *
Подумаешь, вот в самом деле, Как счастливы бывают и скоты. Я вас не вижу по неделе, И тут, злодей! всегда мне ты Во всем препятствуешь, мешаешь И письма все мои читаешь. Постыл теперь стал фабулист: Нет в сердце для него квартеры У новой ветреной Венеры — Вступил туда Кавалерист. Пора, пора принять мне меры, Пора, пора умнее быть, Не тяготить других собою. Прости, София! Бог с тобою! — О если б мог я разлюбить. 16 ноября 1823. (ГНБ. ф. 310. № 2)III СТАТЬИ РАЗНЫХ ЛЕТ 1964–1999
К вопросу о философских взглядах Хемницера[825]
Философские взгляды И. И. Хемницера до сих пор не подвергались систематическому обследованию. В 1873 г. Я. К. Грот сделал достоянием общественности подлинное литературное наследие Хемницера, до тех пор известное русскому читателю в переделках первых редакторов баснописца — Львова и Капниста. Издание Грота включило и некоторые черновые заметки Хемницера и так называемую «записную книжку», откуда последующие биографы черпали материалы для жизнеописания одного из выдающихся русских писателей-вольнодумцев. Вместе с тем многочисленные записки, выписки, заметки, сделанные Хемницером для себя и, на первый взгляд, не имеющие непосредственного отношения к его литературному творчеству, остались за пределами издания Грота.
В Советское время часть этих материалов была введена в научный обиход (Г. В. Битнер, Л. Е. Боброва)[826]. Г. В. Битнер обратила внимание на философские интересы Хеминцера, плодом которых были, в частности, басни «Народ и идолы» и «Муха и паук».
Однако в поле зрения исследователей попали не все черновые заметки Хемницера; не было обращено достаточного внимания и на первоначальные наброски басен, который дают в некоторых случаях интересный и принципиально важный материал.
В настоящей статье мы ограничимся рассмотрением только тех материалов, которые имеют отношение к философским взглядам Хемницера, оставляя до другого раза текстологические и биографические изучения.
Естественно, что философские размышления Хемницера стимулировались в первую очередь чтением французских философов. В этом отношении он отнюдь не являлся исключением в массе русской дворянской интеллигенции второй половины XVIII в. При этом нужно иметь в виду, что философская мысль Хемницера развивалась не изолированно от «русского вольтерьянства», а впитывала как раз те проблемы, которые были для него наиболее характерными.
Философские заметки Хемницера сделаны в конце 1770 — начале 1780-х годов, уже после смерти Вольтера и Руссо и после восстания Пугачева, когда «русское просветительство» вступило в новую фазу, а правительственное отношение к идеям французских просветителей претерпело резкую и показательную эволюцию. Вольнодумство Хераскова, И. Богдановича и других идет на спад; резкие выступления против атеистов особенно учащаются. В то же время идеи просветительства удерживаются и культивируются в разных преломлениях, причем значительную роль здесь играют масонские журналы[827]. Что касается официальной политики, то Екатерина, всю жизнь видевшая в Руссо своего личного врага и провозвестника смут (характерно, что позднее книга Радищева вызвала у нее ассоциацию именно с Руссо, равно как и события французской революции)[828], теперь считает нужным противопоставить Руссо слишком резкому антиклерикалу Вольтеру, образ которого, впрочем, также приводится в соответствие с требованиями официально допустимого. Эта позиция отразилась в «Санктпетербургских ведомостях»[829].
В такой обстановке мысль Хемницера обращается к наиболее остро звучавшей проблеме философии религии. Как известно, критика церкви и духовенства Вольтером находила отклик не только среди образованного дворянства, но и самых широких слоях населения, где «Вольтеро в а вера» была синонимом атеизма вплоть до середины XIX в. «Несодержание постов, бывшее доселе в домах вельможеских, — вспоминал Г. С. Винский, — начинало уже показываться в состояниях низших, как и невыполнение некоторых обрядов с вольными отзывами на счет духовенства и самых догматов, чему виною можно поставить теснейшее сообщение с иностранцами и начавшие выходить в свет сочинения Вольтера, Ж.-Ж. Руссо и других, которые читалися с крайнею жадностью»[830]. Характерно сопоставление в этой связи имен Вольтера и Руссо.
Круг чтения Хемницера мы не можем установить с точностью. Нужно думать, он был достаточно широк. Кроме Вольтера и Руссо, он несомненно знал и других представителей просветительской философии. В его памятной книге был реестр сочинениям, выданным друзьям для чтения; среди них значатся сочинения Фридриха II, «Система природы» Гольбаха, вышедшая к тому времени в нескольких изданиях под именем Мирабо, а также «Les trois imposteurs» и «Philosophiе de la Nature». Первая книга («Trait é des trois imposteurs») — известный атеистический трактат, изданный впервые в Амстердаме или Гааге в 1719 г. под названием «La vie et l’esprit de Mr. Benois de Spinosa»; с середины века он получил название «Трактат о трех обманщиках» и выдержал до 1789 г. не менее 6 изданий[831]. Вторая — труд Делиля де Саля (Жана-Батиста Изоара — Jean-Baptiste Isoard, dit Delisle de Sales, 1743–1816), вышедший впервые в 1769 г. и в феврале 1777 г. навлекший на автора чудовищный приговор (один из них предусматривал наказание кнутом, клеймо и вечную каторгу; второй — позорный столб и публичное по-каяние)[832]. Список в достаточной мере рисует направление интересов Хемницера (и его друзей, бравших книги из его библиотеки).
Хемницера — философа и художника — занимает проблема бытия бога. И первое, с чем он должен был столкнуться в деистической литературе, — вопрос о существовании разумного начала в природе.
Доказательство бытия бога посредством телеологических доводов было одним из наиболее распространенных среди деистически настроенных философов.
Напомним, что долгая и не лишенная противоречий эволюция Дидро от деизма «Философских мыслей» и «Прогулок скептика» к атеизму «Мыслей об объяснении природы» в значительной мере шла через преодоление телеологического аргумента. Для Дидро-деиста, «разумность» и «целесообразность» явлений природы находит подтверждение в новейших достижениях естествознания, установившего согласованность функций различных органов в живом организме. В то же время в уста атеиста («Прогулка скептика») философ вкладывает серьезные и, по существу, неопровержимые возражения. Представление о миропорядке, говорит он, существует в уме наблюдателя, подобно тому, как муравьи, нашедшие жилище среди обломков и мусора в саду, стали бы восхвалять целенаправленную деятельность садовника. Анонимный предшественник блестящей плеяды французских атеистов, написавший «Трактат о трех обманщиках», пользуется тем же аргументом. Люди, говорит он, судят о гармонии в природе согласно своим представлениям о зле и добре, прекрасном и уродливом, разумном и неразумном. «Нельзя судить о совершенстве и несовершенстве бытия, не зная его сущности и природы»[833]. На место разумного перводвигателя ставятся необходимые законы самой природы.
К последовательному отрицанию деистического бога французский материализм пришел в «Системе природы» Гольбаха (1770). Аргументы раннего Дидро в защиту мировой гармонии здесь оборачиваются против деизма. Провозглашая движение неотъемлемым свойством материи, Гольбах, естественно, исключает из мировой системы «бога-часовщи ка», «бога-пер-водвигателя», в котором он более не нуждается. Всеобщая детерминированность явлений природы для него — показатель действия присущих ей неизменных законов. «Порядок — продукт определенного рода движений, которые есть необходимое следствие законов материи»[834]. «Пусть нам не говорят, — писал он далее, — что… мы приписываем все слепой причине, случайному (fortuit) столкновению атомов, случаю (hasard)… Природа не есть слепая причина; она не действует случайно… Все, что она производит, — необходимо, является всегда следствием ее неизменных, постоянных законов…»[835]. Что же касается соображений морального порядка, то «не лучше ли зависеть от рока или судьбы, чем от какого-то безрассудного бога, наказывающего созданную им тварь за недостаточный разум и знания, которые он сам же и сообщил ей?»[836].
Естественно, что деисты отнеслись к «Системе природы» резко критически. 8 августа 1770 г. Вольтер писал м-м дю Деффан: «Дьявол во плоти, по внушению Вельзевула, опубликовал книгу под названием „Система природы“, где на каждой странице пытается доказать, что не существует бога. Книга эта всех устрашает, и все хотят ее прочесть… Ее буквально пожирают»[837]. На протяжении нескольких месяцев Вольтер в своих письмах постоянно возвращается к «Системе природы». Это и понятно, ибо через все философское наследие Вольтера — от «Трактата о метафизике» (1738) до «Невежественного философа» (1766) проходит идея о «высшем геометре», которому вселенная обязана гармонией и целенаправленной деятельностью своих элементов.
Сущность своих философских расхождений с Гольбахом он резюмировал в помете на книге «Le vrai sense du Système de la Nature» (1774), излагавшей идеи «Системы природы»: «Будь они (модификации материи. — В. В.) обязаны своим существованием только движению, то существовала бы лишь первичная материя, а никак не животные, растения, солнца, планеты, вращающиеся вокруг этих солнц согласно законам математики. Чем более являешься математиком, тем более следует признавать архитектора природы»[838].
Когда Хемницер читал «Систему природы», в поле его зрения, как уже сказано, были не только сочинения Вольтера. Гольбах в своем сочинении прямо нападал и на «символы веры» «савойского викария», изложенные в знаменитом «Profession de foi de vicaire savoyard» Ж.-Ж. Руссо. Книга Руссо вышла в свет раньше «Системы природы», но полемизировала она со взглядами Гольбаха и группировавшихся вокруг него энциклопедистов. Историю своей ссоры с «гольбахианцами» (holbachiens) Руссо рассказал в «Исповеди»; женевского гражданина отталкивали принципы атеизма, провозглашенные на вечерах у Гольбаха значительно ранее, чем они получили печатное выражение в «Системе природы». «Я верю, — писал Руссо, — что воля двигает вселенной и дает жизнь природе… Сколько нужно нагромоздить софизмов, чтобы не признать гармонию существ… Не в моей власти заставить себя верить, что инертная и мертвая материя могла произвести живые и чувствующие существа, что слепая судьба (une fatalité aveugle) могла произвести разумные существа»[839]. Аргументация Вольтера и Руссо здесь сближается настолько, что современники не увидели в них никакой разницы. Сам Вольтер считал религиозную концепцию «савойского викария» непосредственным развитием своих собственных идей[840].
В конце 1770 — начале 1780-х годов Хемницер создаст басню «Муха и Паук», где слышится явственный отзвук философских споров о происхождении вселенной. Философствующая муха, стараясь «входить в глубину вещей», задает глубокомысленный вопрос: кем создано здание, где она находится, и создано ли оно вообще. Это здание,
В котором сколько все искусством поражало То столько ж простотой своей равно прельщало,призвано, по мысли баснописца, символизировать вселенную. Собеседник мухи, паук, дает ответ согласно «здравому смыслу». Здание создано «искусством», чему свидетельство — «порядок в нем видимых вещей». Искусство же предполагает творца, расположившего элементы здания согласно законам гармонии. Такая космогоническая система не удовлетворяет муху, которая, в поисках «вещам и бытия причин», пришла к мысли о самопроизвольном возникновении «здания»:
Случилось некогда, что собственно собой Здесь мелких камушков так много собралося, Что камень оттого составился большой, В котором оба мы находимся с тобой[841].Считая нужным определеннее указать на адресата своей басни, Хемницер добавил инвективу против «умов великих», которые
…весь свет случайным быть считают Со всем порядком тем, который в нем встречают, И лучше в нем судьбе слепой подвластны быть, Чем бога признавать, решились[842].Легко заметить, что Хемницер оставляет в стороне разницу между категориями необходимости («слепая судьба») и случайности в космогонических теориях материалистов. И Дидро, и Гольбах для него — атеисты, оба они отрицают разумное организующее начало в природе и тем самым, по мнению деистически настроенного автора басни, вступают в противоречие со здравым смыслом. Согласно Хемницеру, теория естественного происхождения вселенной могла явиться лишь в результате спекулятивных размышлений, метафизических умствований философов, совершенно абстрагировавшихся от чувственной реальности. Фигура метафизика подобного рода появляется в баснях Хемницера неоднократно (знаменитый «Метафизический ученик», «Лисица и сорока», отчасти «Буквы»). Хемницер явно склонен разделять ту характеристику, которую давали «метафизикам» Вольтер и Руссо: «Эти пустые и ничтожные болтуны, вооруженные своими пагубными парадоксами, стекаясь отовсюду, подкапываются под основы веры, уничтожают добродетель. Они встречают презрительной улыбкой такие слова, как отечество и религия, и употребляют свои таланты и философию на разрушение и поношение всего, что священно для людей»[843]. Читая рассуждения об атеизме в книге Делиля де Саля, Хемницер вновь затрагивает остро волновавший его вопрос.
«Rien de plus ridicule, — замечает он, — que de voir une infinité de volume <s> remplis de disputes sur l’existence d’un Etre éternel. Eh! d’où viendroit donc la première idée d’un Etre suprême au premier qui l’a manifesté si ce n’est de cet Etre même. Fous que vous êtes cessez donc de raisonner»[844].
Здесь перед нами — онтологическое доказательство бытия бога, восходящее к средневековой теологии, но поставленное на службу деизму.
Вместе с тем как раз выписки из Делиля де Саля позволяют уловить антиклерикальные тенденции в деизме Хемницера. Так, он записывает: «Tiré de la Philosoph<ie> de la Nat<ure>, t. I, p. 87. Le Panthéon de Rome contenoit 30 000 idoles. La difficulté de concevoir un Etre suprême existant en tous lieux a produit l’idée du Polythéisme. D’où je conclus: chacun se fait un Dieu selon sa phantaisie. I. Ch. Ibid., p. 92. Mahomet a peut-être le mieux exprimé l’idée de Dieu, en le définissant de cette manière: Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète»[845].
Критика религии у Хемницера начинается с художественного анализа происхождения религиозных культов. В последней редакции басни «Народ и идолы» высказана мысль, что в основе религии лежит обман. Об этом писали и Дидро, и Гольбах, и Вольтер; такая точка зрения была распространена и в русской философской литературе (см., например, «Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания» Д. С. Аничкова, 1769). В первоначальном прозаическом плане басни («Кумир, или Идол и народ») Хемницер предполагал дать характеристику народа как склонного к «дурачествам», т. е. такого, который легко обмануть. «Должно представить, что это был народ, который не закоснел в предрассуждении и жил по понятию простой природы. Из них же один выискался похитряе, который хотел простотою этого народа пользоваться; начал всякие выдумывать способы к обману их и завел между прочим идола, коему он молился; народ спросил его, для чего он это делает. Он говорил, что для того, что у него всего будет довольнее, нежели есть. И таким образом народ уловил, и народ сей идолу стал молиться. Плут этот был такой, как сказывают, жрец»[846]. Басня должна была кончаться прозрением народа и изгнанием жрецов. В окончательной редакции сарказм баснописца более тонок и скептичен:
Решился ли народ отстать От закоснелого годами заблужденья, От идолов своих и жертвоприношенья, Еще об этом не слыхать[847].Нападение на религию и обрядность вообще (в том числе и на христианскую) здесь достаточно недвусмысленно. Оставшиеся в рукописи заметки Хемницера с полной очевидностью показывают, что острие его антиклерикализма направлено против всякого официального культа и в первую очередь против христианства. Характерна запись по поводу книги Боссюэ «Discours sur l’histoire universelle» — курса лекций, читанного Боссюэ для дофина: «Bossuet dit au Dauphin dans son disc<ours> sur l’hist<oire> univ<erselle>: „que vos ancêtres ont mis la plus grande gloire d’être les Pro-tecteurs de la religion chrétienne“. — Protecteurs de religion de Christ. La religion de Christ avoit donc besoin d’être protegée. — Beau trait satyrique quant à un autre. Tout a donc besoin de protecteurs!»[848].
Далее Хемницер пишет: «Боже единый! боже всемогущий! долго ли еще человечеству быть ослепляему лжеучением религий, в столь разных видах ему представляемых! Да проповедуют только тебя единого все племена и языцы в равном понятии и да не делают зла друг другу. Изжени лжеучителей попов и со всеми законодателями лживых религий»[849]. Здесь явственно слышатся отзвуки «Трактата о трех обманщиках» и антицерковных выступлений Вольтера. В бумагах Хемницера сохранились наброски перевода «Орлеанской девственницы», внимание его привлекло начало поэмы и отдельные строки из песен I и XI, дающие ясное представление о точке зрения, с которой он читал поэму. Приводим наиболее существенные из набросков.
<1>
Не мое дело святых прославлять. Голос у меня слабый, да к тому же и немного на светскую стать; однако быть вам пропеть ту Жанну, которая, сказывают, превеликие чудеса наделала. Старанием ее девичьим рука укрепилась наших галлов, корень галльский и Карла доставила в способ увенчаться в земле на царство.
<Chant I, 1–8>.<2>
Не бойтесь, я именем Дионисий И ремеслом святой. <Puis il dit: «Ne faut vous effrayer: Je suis Denis, et saint de mon métier». <Chant I, 314–315>.<3>
Кругом запахло святым. <Odeur de saint se sentait а la ronde. <Chant I, 345>.<4>
Георгий хоть без носа очутился, однако храбрость не потерял и в отмщение чести своего лица снес у Дионисия тотчас ту часть, которую в некоторый четверг Малх откроил какому-то из воинов[850].
<George, sans nez, mais non pas sans courage, Venge а l’instant l’honneur de son visage, Et jurant Dieu, selon les nobles us De ses Anglaises, d’un coup de cimeterre Coupe а Denis ce que jadis Saint-Pierre Certain jeudi, fit tomber а Malchus. <Chant XI, 193–198>.Внимание переводчика концентрируется на тех эпизодах поэмы, где антиклерикализм Вольтера переходит в прямое издевательство над святыми христианского пантеона. В 1-й песни поэмы, откуда взяты наброски 2 и 3, святой Денис, покровитель Франции, спустившись на землю, вступает в препирательство с «насмешником» Ришмоном. Вся сцена носит отчетливо пародийный характер, который сохранен и в набросках Хемницера. Фрагмент 4 — кульминационный момент сражения между святыми Георгием и Денисом; ирония Вольтера в этом знаменитом эпизоде направлена, конечно, не только против эпической поэмы типа «Илиады», где бессмертные наносят друг другу физические увечья, но и против самого представления о «святых-покровителях», которые предстают в чрезвычайно материализованном и сниженном виде. Заметки Хемницера по поводу прочитанных глав еще более откровенны и порой достаточно вольны[851]. При этом нужно заметить, что «вольтерьянство» Хемницера имело достаточно глубокие корни и не являлось простым поверхностным эпатажем, как у многих его современников. Переводы из Вольтера — показатель не атеизма, а антиклерикализма, что вполне согласуется с содержанием других заметок Хемницера.
Отвергнув атеизм и официальные культы, Хемницер останавливается на естественной религии. Некоторый свет на взгляды Хемницера в этом отношении проливает басня «Народ и идолы». Идеальный народ (соседи угнетенного жрецами племени) служит богу милостивому и благому, «вид» которому он «не может дать». Здесь снова обнаруживается сближение Хемницера с концепцией Руссо. «Савойский викарий» связывает с именем бога «идеи о разуме, могуществе, воле и идею о доброте, которая неизменно следует из них»; но, продолжает он, «от этого я не узнаю лучше существа, которому я приписал ее; оно все так же неуловимо для моих чувств, как и для моего разума»[852]. «Я преклоняюсь перед его высшим могуществом и меня умиляют его благодеяния. Меня не нужно обучать этому культу, сама природа внушила его моему сердцу»[853]. Вольтеровское понимание природной гармонии не отличалось такой определенностью; представление Вольтера об атрибутах верховного существа претерпевало изменения. Следует иметь в виду, кроме того, что в России с именем Вольтера прочно связывалась «Поэма о гибели Лиссабона» (в 1763 г. к ней обращается Богданович) и «Кандид», где фернейский мудрец вступил в борьбу с идеей оптимизма и благости провидения. Как известно, «Поэма о гибели Лиссабона» вызвала полемику между Руссо и Вольтером об универсальном и специальном провидении (ср. письмо Руссо к Вольтеру 1 августа 1756 г., письмо Руссо к де Бомону и др.)[854]. Через два года Вольтер опубликовал «Кандида», где прямо ответил на оптимистические теории Руссо[855]. Поэтому есть основания предполагать, что представление Хемницера о естественной религии ближе к руссоизму, чем к вольтеровской концепции[856].
Защищая принципы естественной религии, Хемницер в плане «Кумир, или Идол и народ» делает существенное замечание: народ, о котором идет речь, «не закоснел в предрассудках» и жил «по понятиям простой природы». Доктрина естественной религии развивается им планомерно и непротиворечиво. Действительно, говорит он, невежество является питательной средой для расцвета предрассудков; однако следование «понятиям простой природы» не может внушить иной идеи божества, кроме как милостивого и благого. Если устранить обманщиков жрецов, «не закосневший в предрассудках» народ способен вернуться к истинной религии. Как ни парадоксально, Хемницер довольно б лизко следует схеме «Трактата о трех обманщиках»: до происхождения религии люди жили согласно естественному закону и разуму. Но естественный закон и разум Хемницер отождествляет с естественной религией.
Можно думать, что «Philosophie de la Nature» Делиля де Саля также не прошла бесследно для формирования мировоззрения Хемницера. Книга Делиля де Саля была эклектическим изложением основ деизма. Сохраняя «общие места» учения, автор в целом ряде случаев противоречит Руссо, вступая иной раз в прямую полемику с ним с вольтеровских позиций (ср. отрицание им антропоцентризма, оптимизма Руссо и т. д.). Однако в сознании современников «Философия природы» прочно связалась с именем Руссо, хотя женевский гражданин энергично отрицал свое авторство и давал резкие характеристики «Философии природы» и ее автору, не читав, впрочем, самой книги. Действительно, дух руссоизма проник в книгу Делиля де Саля[857]. Уже в предисловии он отдает дань руссоистскому культу чувства: «В меньшей степени следует пытаться завоевать ум (l’esprit), нежели покорить сердце; если бы случилось, что чтение некоторых из этих глав исторгнет те сладкие слезы, которые делают честь равно книге и ее читателям, цель философа была бы достигнута при помощи этого высшего триумфа природы»[858]. Автор провозглашает принципы религиозной терпимости по отношению ко всем культам; «из всех заблуждений касательно божества наиболее опасное есть индифферентизм»[859]. Принципы добродетели, согласно автору, вытекают из естественного закона, на основе которого должно быть построено утопическое идеальное общество. В природе все гармонично; человек, следуя естественному побуждению любви к себе, удерживает эту всеобщую гармонию в той сфере, на которую распространяется его деятельность; эта частная гармония (harmonie particulière) составляет для него закон природы (la loi de nature). Отсюда — естественное основание моральных норм. Делиль де Саль критикует как «атеистическую систему» Лукреция, так и Гоббса и Локка, не признающих естественного закона основанием гражданского. Что же касается суеверий, то они являются частным случаем искажения естественного закона.
В нашем распоряжении почти нет материалов, которые позволили бы проследить, как идея естественного закона преломилась в мировоззрении Хемницера. Его постоянные инвективы против общества, в котором люди
Всяк час пременный вид имеют: Иное говорят, другое разумеют.напоминают аналогичные высказывания Руссо, но не дают возможности делать какие-либо определенные заключения. Однако можно думать, что откликом на споры о «естественном человеке» является басня «<Остяк> и проезжий», где прямо противопоставлены «естественный человек», живущий по изначальным, врожденным нормам справедливости, и «Европа», где эти нормы ценности не имеют.
Показателен здесь самый выбор народности — «остяк». Еще в начале XIX в. это понятие не имело никакой этнической определенности. «Остяками» (отяками) называли аборигенов Сибири, вне зависимости от племенных различий. Остяк — дикарь, близкий к природе, живущий в первобытной простоте[860]. Хемницер как бы соглашается с Руссо, что развитие цивилизации влечет за собой развращение нравов, но делает это в достаточно осторожной форме. Он не склонен к далеко идущим выводам. Рационалист и просветитель, с широкими естественнонаучными интересами, Хемницер не мог, конечно, отрицать цивилизацию; однако, внимательно присматриваясь к аргументации Руссо, он не отвергал ее целиком. Проблема «естественного челове ка» во второй половине XVIII в., занимала русскую философскую мысль[861] и Хемницер, конечно, должен был на нее как-то откликнуться.
По-видимому, к концу 1770 — началу 1780-х годов относится «Надпись к комедии Палиссо „Философы“». Она была опубликована Я. К. Гротом (в русском и французском вариантах) без каких-либо пояснений:
На четвереньках мне способнее стоять, Затем, что, стоя так, глупцов мне не видать. (Sur ces quatre piliers mon corps se soutient mieux, Et je vois moins de sots qui me blessent les yeux).В рукописи Хемницера название несколько иное: «Перевод надписи к Палиссотовой комедии „Философы“». Французские стихи — оригинал Палиссо. В изданиях сочинений Палиссо они служили подписью под фронтисписом, изображающим сцену из комедии.
Как известно, комедия «Философы» Шарля де Монтенуа (Палиссо — Palissot, 1730–1814) была кульминационной точкой той борьбы, которую обуреваемый честолюбивыми замыслами комедиограф начал против кружка философов-энциклопедистов. Поставленная в 1756 г., комедия имела успех скандала. Намеки на Дидро, Дюкло, Гельвеция, Руссо были совершенно очевидны; автор прямо указал на осмеиваемых философов, назвав их сочинения и прозрачно зашифровав фамилию Дидро (Dortidius — Diderot)[862]. Наибольший эффект имела IX сцена III акта, из которой и взяты переведенные Хемницером стихи. В этой сцене в кружке философов появляется «слуга женевского гражданина» Криспен, входящий на четвереньках и произносящий следующий монолог:
Sur ces quatre piliers mon corps se soutient mieux, Et je vois moins de sots qui me blessent les yeux. ……………………… En nous civilisant, nous avons tout perdu: La santé, le bonheur, et même la vertu. Je me renferme donc dans la vie animaleи т. д[863].
Намек на Руссо с его «Рассуждением» для Дижонской академии и трактатом о происхождении неравенства не требовал никаких разъяснений, тем более, что несколько раньше «Discours sur l’inegalité» фигурирует в руках одного из философов. Однако Палиссо в одном из поздних изданий своих сочинений для отражения нападок воспользовался авторитетом Вольтера. Охарактеризовав трактат Руссо как «парадоксы… странные, неприемлемые для рассудка», он процитировал известное письмо Вольтера к Руссо: «Я получил, сударь, вашу новую книгу против рода человеческого. Никогда до сих пор не употребляли столько ума из желания превратить нас в животных. Читая ваш труд, испытываешь острое желание ходить на четвереньках, однако, более шестидесяти лет назад оставив эту привычку, я чувствую, к несчастью, что не могу к ней вернуться»[864]. У Палиссо было тем больше оснований сослаться на иронические замечания Вольтера, что как раз эту IX сцену комедии Палиссо Вольтер хвалил в письме к автору: «…так как гражданин Женевы виноват в оскорблении комедии, вполне естественно, что комедия ему отплачивает тем же»[865].
Позиция Вольтера совершенно ясна, если вспомнить возражения Руссо против театра в «Письме к Даламберу» и всю историю его конфликта с «фернейским патриархом». Впрочем, Вольтер упрекал Палиссо за оскорбительные выпады в адрес Гельвеция, Даламбера, Жокура и Дидро, к чьим глубоким знаниям он «всегда питал уважение»[866].
Литературная и сценическая история «Философов» не могла не быть известна Хемницеру, так как она нашла достаточно полное отражение в собраниях сочинений Палиссо. Выбрав для перевода двустишие с прямым намеком на философские идеи Руссо, Хемницер тем самым как-то определял и свою позицию в «споре философов».
В бумагах Хемницера сохранилось несколько записей, где упоминается имя Руссо. В одной из них значится: «Celui qui pourra lire Rousseau sans sentir la force et le vrai de ses sentiments, n’en a sûrement lui-même»[867].
Эмоциональное восприятие творений Руссо сочеталось у Хемницера с глубоким уважением к нему как к личности. Н. А. Львов вспоминал: «Живучи в Париже целую неделю, ходил он (Хемницер. — В. В.) каждое утро стеречь, когда Жан-Жак выйдет из дому своего, и, увидев его один раз, мне уже покою не было, что я, живучи с ним в одной комнате, не видал Жан-Жака»[868]. Очевидно, Руссо для Хемницера был воплощением проповедуемого им нравственного идеала[869]. Нет сомнения, что ему импонировала также и независимость философа, решительно отвергавшего всякие попытки коронованных особ приблизить его к себе[870]. В ином свете рисовалось Хемницеру поведение Вольтера, неожиданно ставшего во главе придворных панегиристов[871] и прямо заявлявшего Екатерине: «… что должен я писать, ты мне сама внушай». Хемницеру было легко поверить, что исторические работы Вольтера прямо инспирированы Екатериной; этот взгляд отразился в эпиграмме Хемницера:
Ну, виноват ли он, когда его дарили И просили, Чтоб вместо правды ложь он иногда писал?[872]При этих обстоятельствах обращение Хемницера к скандальной комедии Палиссо казалось бы необъяснимым, если бы отношение ее автора к «гражданину Женевы» не было сложнее, чем это представляется на первый взгляд.
Некоторые современники склонны были видеть в «Философах» пасквиль на Руссо. Через 30 с лишним лет после первого представления комедии ее престарелый автор, домогавшийся в ту пору «certificat du civisme» (удостоверение в лояльности к республике), был обвинен Шометтом в том, что «пытался забросать грязью венец знаменитого Ж.-Ж. Руссо… Он осмелился поставить Руссо на четвереньки и заставить его есть салат!». В своем письменном оправдании Палиссо указывал, что вовсе не имел в виду осмеять Руссо, выведя на сцену лишь его лакея. Объяснение удовлетворило обвинителя и муниципальный совет[873].
Печатая комедию в собрании сочинений, Палиссо приложил к ней серию объяснительных статей и философских этюдов, в которых изложил свои симпатии и антипатии. Авторитетом Руссо Палиссо пользовался для борьбы против «философов» (кстати, перепечатав тот самый отрывок из «Исповеди савойского викария», который так сходен с характеристикой «метафизиков» у Хемницера). Самого же Руссо Палиссо называл «одним из добрых гениев века» («un des plus beaux genies de се siècle»), оригинальным и неповторимым в своем поведении и трудах[874]. Против «Рассуждения о науках и искусствах» и «Трактата о неравенстве» Палиссо возражает: это сочинения, наполненные странными парадоксами. Вспомним, что русская просветительская мысль тоже отвергала или далеко не полностью принимала инвективы Руссо против цивилизации (ср., например, высказывания на этот счет Я. Козельского)[875].
Все эти обстоятельства объясняют, почему пасквиль Палиссо привлек внимание Хемницера. Но фраза Криспена, получившая самостоятельную жизнь на правах отдельного двустишия, изменила свою функцию. Буффонада Криспена имела целью разрушить коварные планы «философов» и расстроить предполагаемый брак между Розалией и главой кружка философов Валером. Формула «Sur ces quatre piliers mon corps se soutient mieux» пародировала идеи Руссо лишь косвенно, включаясь в контекст всей сцены; сама же по себе она была направлена против «глупцов», которым адресовалась. Эпиграмма Хемницера имеет именно этот смысл; а так как под «глупостью» баснописец понимал вообще любое уклонение от нормы мышления, поведения и т. д., то адресат эпиграммы мог быть понят расширительно. Стать на четвереньки — единственный способ устраниться от общества глупцов. Ходячая формула, осмеивающая идею естественного человека, превратилась в парадоксальное оправдание этой идеи, в ироническое утверждение рациональности мотивов, управляющих деятельностью эксцентричного философа.
Философские заметки Хемницера — интересный и показательный пример восприятия французской философии русскими просветителями.
Не являясь оригинальным философом, не будучи вообще философом par excellence, Хемницер отдал дань острому интересу русской интеллигенции к центральным философским вопросам своего времени. Его ориентация на Руссо и антипатия к Вольтеру окрашивались в тона третьесословной оппозиционности. Оппозиционность эта выступает тем более выпукло, что она проявляется во второй половине 1770 — начале 1780-х годов. Разночинец, усвоивший идеи естественного права и внесословной ценности человека, лишь недавно вернувшийся из предреволюционной Франции, Хемницер определяет свое место в идеологической борьбе эпохи, руководствуясь принципами, которые впоследствии провозгласят вожди буржуазной революции. Хемницер отнюдь не радикал; оппозиционность его воззрений скрыта за эзоповым языком басен, но в записках для себя он обнаруживает откровеннее и резкость своего антиклерикализма, и глубину своей антипатии к аристократической верхушке.
Характерно и другое. В строго ортодоксальную классицистскую эстетику, защитником которой всегда оставался Хемницер, начинает вторгаться руссоистская доктрина. Через некоторое время она послужит одним из краеугольных камней сентименталистской и романтической литературы. У Хемницера она еще не угрожает основам эстетических представлений, ибо не накладывает отпечатка на характер изображения человека (тем более в творчестве сатирика и баснописца). Но процесс скрытой диффузии эстетических идей уже начался, и детальное исследование этого процесса, вероятно, сможет обнаружить его зарождение и первоначальное развитие.
Из разысканий о Пушкине[876]
1. Пушкинский анекдот о Павле I
В черновой тетради В. А. Соллогуба, хранящейся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина и содержащей ранние редакции статей, очерков и повестей («Взяточник», «Именины» и др.) и записи услышанных рассказов, находится несколько исторических анекдотов о Павле I. Среди них особое внимание привлекает приводимый ниже рассказ, слышанный Соллогубом от Пушкина.
«Пушкин рассказывал, что, когда он служил в Министерстве ин.<ост-ранных> дел, ему случилось дежурить с одним восьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее.
Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел[877] и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: „Указ е.<го> и.<мператорского> в.<еличества>“ — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать[878]. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказания и боялся начать с средины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий[879] чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего.
— Что ж государь? — спросил Пушкин.
— Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.
— А что же диктовал вам государь? — спросил снова Пушкин.
— Хоть убейте, не могу сказать. Я до того был испуган — что ни одного слова припомнить не могу»[880].
* * *
Тетрадь Соллогуба заполнялась в середине 1840-х годов (одна из последующих записей датирована 1846 г.). Таким образом, наша запись, хотя и сделанная по памяти, принадлежит к числу довольно ранних. Близкое, хотя и недолгое, общение Соллогуба с Пушкиным увеличивает достоверность его свидетельства: можно думать, что он слышал рассказ сам, а не получил через вторые руки, как иногда бывало[881]. В таком случае это произошло не ранее середины 1830-х годов, когда Соллогуб встречался с Пушкиным у Карамзиных, и вероятнее всего с 1836 г., уже после благополучного окончания их конфликта, едва не закончившегося дуэлью. К осени 1836 г. Соллогуб относит свое «короткое сближение» с Пушкиным. «Не могу простить себе, что не записывал каждый день что от него слышал», — замечал он впоследствии[882].
Между тем услышал Пушкин анекдот не в 1830-е годы, а гораздо раньше, когда ему случалось дежурить в Коллегии иностранных дел. Это было в первые годы после выхода из Лицея. 15 июня 1817 г. он был приведен к присяге и зачислен на службу, и до своего отъезда из Петербурга в мае 1820 г. он мог нести дежурство неоднократно (исключая, конечно, время отлучек — например, с 8 июля по конец августа 1817 г. — или болезни)[883].
Анекдот, таким образом, как бы имеет две даты и связан одновременно с двумя стадиями исторического и литературного сознания Пушкина. В 1810-е годы его остро интересует история цареубийства 11 марта, но прежде всего в своей социально-политической и философской основе. Так она появляется в «Вольности» и позднее, уже на юге, в «Заметках пo русской истории XVIII века». Нет сомнения, что Пушкин в это время не раз слышал анекдоты о Павле и его времени — от Карамзина, от Греча, сообщившего десятки их в своих поздних записках; на юге — от Ланжерона, Болховского и др[884]. Все вероятные источники осведомленности Пушкина, разумеется, учесть невозможно, как невозможно представить себе тематический и сюжетный репертуар рассказов, бывших в его поле зрения. Один их них, однако, может привлечь наше внимание: это несомненно известный Пушкину рассказ об отце В. К. Кюхельбекера, перед самым падением Павла едва не попавшем во временщики. Накануне своей последней ночи Павел посылал его узнать, что означает собрание нескольких титулованных особ между дворцом и садом. На следующее утро Карл фон Кюхельбекер уже прощался с телом бывшего императора, стоя за сомкнутыми штыками часовых[885]. Как и в публикуемом нами рассказе, случайность играет здесь принципиальную, а в литературном отношении и сюжетообразующую роль. Тем не менее ни один из этих исторических анекдотов не отражается ни в художественном творчестве, ни в письмах и записях раннего Пушкина, дошедших до нас. Интерес к анекдоту как жанру придет позже, вместе с эволюцией исторических представлений Пушкина. Вероятно, «история домашним образом» уже представала в уничтоженных Пушкиным автобиографических записках. В 1826 или 1827 г. Пушкин задумывает трагедию «Павел I», о которой рассказывает на вечере у Полевого 19 февраля 1827 г[886]. С другой стороны, по-видимому, к этим же годам относится сохраненный Вяземским юмористичекий рассказ Пушкина о некоем академике, который имел «свой взгляд на историю»: 11 марта 1801 г., вызванный ночью к ректору, он обнаружил на столе пунш — и на этом кончились его исторические воспоминания[887]. Этот бытовой, «нижний» регистр политических событии в 1830-е годы также включается Пушкиным в понятие «истории»; oн отражается в «Table Talk», в записях бесед с Загряжской, в дворцовых анекдотах, которыми обменивается Пушкин со Смирновой-Россет. То же самое мы находим в дневнике 1833–1835 гг., который является и красноречивым свидетельством постоянного интереса Пушкина к личности и судьбе Павла — «романтического нашего императора»; это определение косвенно указывает на новую фазу интереса — внимание Пушкина обращается теперь и на психологию личности, в которой странно смешиваются противоположные свойства и наклонности: гуманные побуждения с бессмысленной жестокостью, своеобразная «рыцарственность», кодекс сословной чести, чувство справедливости с неограниченным деспотизмом и самодурством, здравый смысл с психическими аномалиями. К этому времени в памяти Пушкина и всплывает забытый анекдот, характеризующий данное направление интересов, и он прекрасно включается в общий контекст других услышанных или рассказанных им тогда же анекдотов-новелл на близкие темы.
Не зная исходного рассказа, мы не можем судить, как он преобразился в передаче Пушкина; нам неизвестно, какую трансформацию он претерпел и под пером Соллогуба. В поздних мемуарах Соллогуб цитировал по памяти пушкинские письма с почти текстуальной точностью. Здесь он, очевидно, не ставил себе такой задачи: об этом свидетельствуют, между прочим, и следы его работы над текстом, сохраненные рукописью. С другой стороны, работа эта минимальна; в черновой рукописи мы обнаруживаем лишь единичные исправления и невыправленные погрешности против практической стилистики, что говорит об экспромтном характере записи. Она позволяет уловить общие принципы пушкинского построения новеллы: стремительно развивающийся сюжет, освобожденный от побочных описаний и еще подчеркнутый протокольным лаконизмом малораспространенных предложений, и остропсихологическая ситуация, занимающая как бы периферию рассказа, — парализованный страхом чиновник действует силой канцелярского автоматизма, предписывающего начинать переписывание с заголовка; способность к рациональной волевой деятельности у него подавлена полностью и восприятие диктуемого текста заторможено; наконец, чувство страха и ожидание наказания увеличивается у него с каждым пропущенным словом, безостановочно следующим одно за другим. По динамически возрастающему напряжению эта ситуация напоминает другой психологический этюд Пушкина — переданную Нащокиным историю любовного приключения со светской женщиной (видимо, с графиней Д. Ф. Фикельмон)[888]. В нашем рассказе напряжение разрешается резким спадом, производящим впечатление комического облегчения по контрасту с ожидаемым: расправа, сравнительно легкая, последовала мгновенно и исчерпала инцидент — император «ничего-с»: «изволил <…> ударить <…> в рожу и вышел». Столкновение стилистических рядов — канцелярски-«высокого» и вульгарно-просторечного — усиливает разрешающий комизм концовки. При этом она оказывается совершенно «в духе Павла», верн е е, того его облика, который закреплен многочисленными рассказами о его импульсивном поведении: под влиянием минуты принят важный указ, под влиянием минуты и по случайному поводу указ этот уходит в небытие.
Здесь мы подходим к глубинному смыслу анекдота, скрытому за пародийностью внешнего сод е ржания. Этим смыслом он не мог наполниться в 1810-е годы. Проблема исторической случайности стала занимать Пушкина только в Михайловском. 13 и 14 декабря 1825 г. он пишет «Графа Нулина», «пародируя» «историю и Шекспира», и одновременно начинает развертываться цепь парадоксальных случайностей в его собственной судьбе: неудачный выезд из Михайловского в канун выступления на Сенатской площади, неожиданное освобождение и т. д. В заметке о «Графе Нулине» (1830?) окончательно формулируется мысль о том, что большое историческое событие может не произойти в силу случайности. Факты собственной биографии Пушкина способны были лишь дать новую пищу его историческим размышлениям[889].
История царствования Павла обогащала проблему историческими прецедентами. Последние дни его царствования были чреваты переменами, которых ждали с минуты на минуту; непредсказуемая воля императора могла на какое-то время изменить течение внешней и внутренней политики страны, коснуться престолонаследия, разрушить случайными арестами уже зревший заговор[890]. Эта обстановка, прекрасно памятная современникам, конечно, была известна Пушкину; она объясняет не только интерес Пушкина к содержанию указа, продиктованного спешно, ночью, в пустом здании Коллегии иностранных дел, но и определяет место, которое принадлежит указу в сюжетной структуре рассказа. Два контекста — созданный самой повествовательной сферой и более широкий, реально-исторический — увеличивают «суггестивность» мотива, ожидаемую значительность события и поднимают концовку на уровень не только стилистического, но и исторического гротеска.
Такова эта новелла Пушкина о «несостоявшейся истории» — один из немногочисленных сохранившихся образцов его устного повествовательного мастерства, отразивший в миниатюре его литературные и исторические интересы 1830-х годов.
2. «Побежденная трудность»
Крылатое словцо «побежденная трудность» («difficulté vaincue»), по-видимому, были одним из излюбленных у Пушкина. Оно появляется впервые в статье «О поэзии классической и романтической» (1825), где Пушкин характеризует им рифму: «побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие» (Акад., XI, 37). Охотно пользовался им Пушкин и в разговоре. «Он выше всего ставил „la difficulté vaincue“», — вспоминал барон Е. Ф. Розен. На этот раз речь шла о своеобразной особенности трагедии Розена «Басманов» — отсутствии в ней фигуры Лжедимитрия, персонажа, казалось бы, неизбежного при избранной Розеном теме. В том, что драматург сумел обойтись без Лжедимитрия в пьесе о Басманове, Пушкин видел особое искусство, «побежденную трудность». Розен утверждал, что Лжедимитрий не был нужен ни для авторского замысла, ни для движения сюжета, «Какая побежденная трудность, — возразил я, — когда я и не боролся!», «Voil à justement ce qui prouve que la difficul té est complètement vaincue» («Это-то и доказывает, что трудность вполне побеждена»), — ответил Пушкин[891].
По-видимому, Розен довольно точен в передаче деталей разговора; ту же тему и те же выражения мы находим в сохранившемся письме его к Пушкину от 13 декабря 1836 г., где он говорит о своем либретто к «Ивану Сусанину»: «Personne ne remarque la peine inouie que m’a coûtée cette composition; je m’en glorifie: c’est une preuve, que j’ai vaincu la difficulté» («Никто не замечает огромных усилий, которых мне стоило это произведение; я этим горжусь; это доказывает, что я победил трудность») (Акад., XVI, 197, 399). В этой фразе слышатся отзвуки предшествующих бесед о принципах драматического искусства.
Нам уже приходилось указывать, что пушкинская формула восходит к письму Вольтера Г. Уолполу о трагедии и к его же «Рассуждению о трагедии», где Вольтер требует соблюдения жизненной «достоверности» сценического действия в пределах классических «правил»; это и есть та «трудность», преодоление которой приносит «пользу и удовольствие»[892].
С легкой руки Вольтера выражение «побежденная трудность» получило распространение в русской литературе. Так, Батюшков писал в «Прогулке в Академию художеств» (1814): «…я не одних побежденных трудностей ищу в картине»[893]. Конечно, Пушкин мог заимствовать формулу у Вольтера непосредственно, однако при этом он учитывал русскую традицию ее бытования, и, вероятно, не только письменную, но и устную. Известно, например, что эту формулу любил и часто цитировал Карамзин. В 1799 г. Г. П. Каменев, посетивший Карамзина, сообщал в письме к С. А. Москотильникову: «Стихи с рифмами <Карамзин> называет побежденною трудностью…»[894]. Вслед за Карамзиным Пушкин употребляет это определение, характеризуя рифму.
«Побежденная трудность» — не единственное речение, перешедшее к Пушкину через Карамзина. Ту же судьбу имели афоризм Бомарше «Il nе faut pas que l’honnête homme mérite d’être pendu» («He должно, чтобы честный человек заслуживал повешения»), взятый в качестве эпиграфа к статье «Александр Радищев», и слова «подвиг честного человека», примененные Пушкиным к самому Карамзину[895]. Кс. Полевой вспоминал, что Пушкин «любил повторять изречения или апофегмы Карамзина»[896].
Искусство беседы, которым Пушкин владел с блеском, питалось разными истоками, и кружок Карамзина, по-видимому, был одним из них. Во всяком случае мы знаем теперь, что некоторые изречения прославленных французских остроумцев XVIII столетия, воспринятые Пушкиным, получили первоначальное хождение именно в этой среде, давшей, кстати сказать, таких известных в свое время острословов, как Вяземский и Д. Н. Блудов.
3. Пушкинская поговорка у Лермонтова
В лермонтовском «Журналисте, читателе и писателе» в монологе Журналиста есть строки:
Войдите в наше положенье! Читает нас и низший круг; Нагая резкость выраженья Не всякий оскорбляет слух; Приличья, вкус — все так условно; А деньги все ведь платят ровно!!!Э. Г. Герштейн впервые обратила внимание на то, что для речевой характеристики Журналиста Лермонтов воспользовался ходовым выражением, употребительным в кружке Карамзиных. В августе 1840 г. Вяземский вспоминал его как «старую прибаутку». «Войдите в мое положение! — голос значительно возвысить на слоге „же“. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым»[897].
Между тем есть и иное свидетельство о происхождении этого выражения, 5 мая 1846 г. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Приготовься видеть в № 6 „Современника“ одни учено-сериозные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но войди в мое положение (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)…»[898].
Плетнев указывает на свой источник более определенно, чем Вяземский, и по-видимому с полным основанием. Вряд ли поговорка попала к нему от Карамзиных, с которыми он общался редко и никогда близок не был. Пушкина же, особенно в последние годы жизни поэта, он знал домашним образом и был связан с ним теснее, нежели Вяземский; в памяти его запечатлелись речения, привычки, характерные мелочи и особенности повседневного поведения его покойного друга, — о них он вспоминал часто в письмах к тому же Гроту. Вероятнее всего, поговорка, приведенная им, была в ходу у Пушкина и Карамзиных, откуда она уже и попала к Лермонтову. Вяземский же приписал ее Лермонтову по совершенно понятной аберрации: к августу 1840 г. он уже знал «Журналиста, читателя и писателя», опубликованного в апрельском номере «Отечественных записок» за 1840 г.
Пушкинское речение совершенно естественно входит в стихотворение Лермонтова, ближайшим образом связанное с литературно-полемической позицией Пушкина и его группы и включающее целый ряд реминисценций из стихов и полемических статей 1830–1831 гг. Эта особенность «Журналиста, читателя и писателя» достаточно хорошо известна. На нем лежит и отпечаток литературно-бытовой среды, в которой возникло стихотворение. Пушкинская поговорка в нем, однако, является чем-то большим, нежели простая реминисценция: она, конечно, рассчитана на узнавание и на определенное интонирование, как об этом пишет Вяземский. По-видимому, она читалась с жалобно-просительной интонацией, с особым эмфатическим подчеркиванием фразы, и тем самым получила дополнительные смысловые акценты.
4. К истории пушкинского экспромта
В своих воспоминаниях о Пушкине («Ссылка на мертвых», 1847) Е. Ф. Розен рассказывает следующий эпизод.
Пушкин охотно выслушивал его критические реплики по адресу близких писателей, зa исключением лишь одного, имя которого Розен обозначил буквенной анаграммой N. N. Однажды в разговоре Розен заметил это Пушкину. «Вы знаете, что я уважаю и как человека и как писателя N. N.; но как только коснусь его слабой стороны, вы тотчас вооружаетесь серьезною миною, так что поневоле замолчишь. Воля ваша, я не поверю, чтобы вы всегда оставались серьезны, читая стихи N. N., например (тут я привел одно место, где для рифмы, и чрезвычайно некстати, мелькнул „огнь весталок“). Пушкин не утерпел, расхохотался и признался мне, что, читая это место, он невольно закричал в рифму „Палок!“. Тут-то и объяснилось, что частые резкие изысканности у N. N., так и вызывающие эпиграмматическую критику, побудили Пушкина вооружиться против нее, единожды навсегда, этою серьезною миною»[899].
Этот писатель, не названный Розеном, — П. А. Вяземский, а цитированное стихотворение — его известное «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), бывшее в свое время предметом ожесточенной журнальной полемики и начинающееся словами:
Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок Талантов низкий враг, завистливый зоил. Как оный вечный огнь на алтаре весталок, Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил, В груди несчастного неугасимо тлеет и т. д.Добросовестный мемуарист, Розен, конечно, не выдумал этот эпизод, но смысла его не понял, так как не мог знать его предысторию.
Послание Вяземского было резким памфлетом на Каченовского как «зоила» Карамзина. Оно появилось в январский книжке «Сына отечества» за 1821 г.; сразу же по выходе Каченовский перепечатал его в своем «Вестнике Европы», снабдив издевательскими примечаниями. Одно из них касалось замеченной Розеном строки с «весталками». Изысканный и неточный образ, как считал критик, дан только для рифмы; малоталантливый автор изнемог в борьбе с техническими трудностями стиха. Каченовский приводил к случаю признание «дурного поэта» из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк»:
…Чалмоносна Порта! Но что же к ней прибрать мне в рифму, кроме Черта?[900]Выпад Каченовского был подхвачен; другой критик «Вестника Европы» в мартовской книжке журнала замечал: «Огонь в храме Beсты был священнейшим, благодетельнейшим для римлян <…> а здесь, для рифмы, он служит примером мучительному огню зависти!!»[901]. Еще через два месяца Каченовский печатает ответное послание Вяземскому С. Т. Аксакова, где тоже не забыт «огнь весталок»:
Священной Весты огнь не оскорблю сравненьем Сего фанатика с безумным ослепленьем[902].Уже 19 февраля 1821 г. в письме А. И. Тургеневу Вяземский отвечал на упреки: «Можно прибрать и палок и галок, и все это будет не hors d’oeuvre»[903].
Пушкин на юге следил за «журнальной войной» и тоже принял в ней некоторое участие. Посланием Вяземского он не был доволен и 2 января 1822 г. писал автору, что для Каченовского достаточно было «легкого хлыста» эпиграммы и не было надобности в «сатирической палице» (Акад., XIII, 34). Вслед за тем он пишет сам такую эпиграмму — известное четверостишие, посланное в письме Л. С. Пушкину 21 января 1822 г.:
Клеветник без дарованья, Палок ищет он чутьем и т. д. (Акад., XIII, 36)Эти строки каламбурны и имеют в виду как раз примечание о «весталках». Нападая на рифму «жалок» — «весталок», Каченовский подсказывает («ищет чутьем») другую, более естественную — «палок». Любопытно, что Вяземский также шел к этому каламбуру, но остановился на полпути. В марте 1823 г. Пушкин посылает текст эпиграммы и самому Вяземскому (Акад., XIII, 60). А 7 июня 1824 г., как будто продолжая начатый за два года до этого спор об эпиграмме как средстве полемики, он пишет Вяземскому по поводу эпиграммы последнего на М. Дмитриева и А. Писарева («Цып, цып, сердитые малютки»): «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны, о поединке и смех и грех было и думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (Акад., XIII, 96).
Прямые или косвенные отзвуки этой полемики прослеживаются в творчестве Пушкина и позднее. Среди приписываемых ему стихотворений некоторое время печатался экспромт, как раз на четыре упоминавшиеся рифмы:
Черна, как галка, Суха, как палка, Увы, весталка, Тебя мне жалко.Принадлежность этого экспромта Пушкину была предметом сомнений и колебаний. П. А. Ефремов, исключивший его из своего издания, как написанный С. А. Соболевским, в следующем же томе напечатал поправку, указав на авторство Пушкина — с глухой ссылкой на источник своих сведений[904]. Позднее он раскрыл этот источник: им оказалось свидетельство П. П. Вяземского, удостоверившего, «что четверостишие это действительно пушкинское»[905]. Атрибуция Вяземского в дальнейшем, впрочем, была отвергнута, и лишь недавняя находка автографа — по-видимому, пушкинского — вновь ставит этот вопрос. Текст, напечатанный Ефремовым, был либо одной из редакций, либо переданным по памяти и искаженным текстом пушкинского экспромта «К портрету N. N.»:
Вот вам весталка, Суха, как палка, Черна, как галка, Куда как жалка[906].Каков бы ни был адресат эпиграммы, литературная генеалогия ее ведет к «Посланию к М. Т. Каченовскому» и последующим полемикам, и весьма любопытно, что именно семейная традиция Вяземских безоговорочно приписывала это четверостишие Пушкину.
Ни история полемик вокруг послания Вяземского, ни пушкинский экспромт, конечно, не были известны Е. Ф. Розену, с рассказа которого мы начали этот этюд. Розен вошел в пушкинский круг лишь в конце 1820-х годов; в начале десятилетия он едва знал русский язык. Имя Вяземского он скрыл: в 1847 г., когда писались его мемуары, Вяземский был жив, еще не сошел с литературной сцены и Розен поддерживал с ним отношения. Тем более вероятным представляется рассказ Розена, который осмысляется как одно из звеньев длинной цепи литературных фактов. Вместе с тем, конечно, мемуарист переставил акценты и дал наблюдению собственную интерпретацию, как это делал нередко. Замечание Пушкина касалось не творчества Вяземского в целом, как думал Розен, но одного лишь эпизода его литературной биографии, которого Розен, сам того не зная, коснулся в случайном разговоре, заново пробудив в Пушкине весь круг связанных с этим эпизодом ассоциаций.
К изучению «Дум» К. Ф. Рылеева[907]
Думы К. Ф. Рылеева принадлежат к центральным и наиболее изученным явлениям в гражданской поэзии 1820-х годов. Их всестороннее текстологическое и историко-литературное исследование ведется более столетия. Уже в фундаментальном труде В. И. Маслова «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» (Киев, 1912) содержался богатый материал для их комментирования и интерпретации; издания Рылеева, монографические работы и статьи о нем, появившиеся в советское время, подняли изучение дум на качественно новую ступень[908]. Можно считать, что в настоящее время ни в эдиционном, ни в историко-литературном отношении думы Рылеева не представляют сколько-нибудь неясной проблемы, — и, может быть, этим обстоятельством следует объяснить определенный спад исследовательского интереса к ним за последние десятилетия: мы можем назвать за это время лишь единичные работы, специально им посвященные; последней по времени является их академическое издание, осуществленное в серии «Литературные памятники», с полным сводом вариантов и вступительной статьей Л. Г. Фризмана[909]. Вместе с тем и в изучении дум, как и в любой научной области, остаются вопросы спорные и нерешенные или решенные не до конца и преждевременно снятые с повестки дня. Цель настоящих заметок — привлечь внимание к некоторым из таких вопросов; они касаются текста и историко-литературной интерпретации отдельных дум и в дальнейшем, как нам кажется, могут послужить отправной точкой для более углубленного анализа.
1. Закончена ли дума «Владимир Святый»?
Вопрос этот кажется вначале несколько неожиданным, и в науке о Рылееве он не возникал. Дума всегда рассматривалась как завершенный текст, не попавший в прижизненное издание 1825 года предположительно по цензурным причинам. Она сохранилась в единственном автографе — беловом, на который нанесена правка, превратившая его в черновик (рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории). Мы знаем, однако, что ее не было в числе дум, запрещенных цензурой к включению в сборник 1825 года; никаких положительных сведений о том, что она вообще подавалась в цензуру, у нас нет. Более того, самое предположение о бесцензурности ее содержания (Владимир изображен в ней язычником и братоубийцей), внешне правдоподобное, вызывает сомнения по существу: именно так Владимир предстает не только в «Истории государства Российского», печатавшейся с «высочайшего разрешения», но и в одновременно появившейся «Русской истории» С. Н. Глинки, проходившей общую цензуру. У Глинки муки совести Владимира после убийства Ярополка превращаются в прямой лейтмотив повествования, приобретающий даже характер аллюзии: «Обагрясь кровию брата своего Ярополка и невольно смущаясь страхом, Владимир, помраченный тьмою невежества, возмечтал, что умилостивлением мнимых своих богов заглушит голос совести, карающий и сильного венценосца!»[910]
Все эти доводы заставляют нас предполагать, что цензура не была причиной того, что дума «Владимир Святый» не появилась в печати. Анализ самого содержания думы и сопоставление ее с источником убеждают в том, что мы имеем дело с незаконченным текстом. История Владимира доведена до эпизода появления «святого» перед преступным князем и до рассказа о страшном суде, побудившего его принять крещение. Далее следует сцена похода Владимира на Корсунь и заключительная сентенция:
Так в князе огнь души надменной, Остаток мрачного язычества горел: С рукой царевны несравненной Он веру самую завоевать летел…Эти строки прямо опираются на Карамзина: «Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукой победителя»[911]. По рассказу Карамзина, эта попытка была лишь первым этапом на пути к крещению: завоевав Корсунь, Владимир не «завоевал» веру, и лишь приезд царевны Анны, внезапная слепота и последующее исцеление повлекли за собою его «прозрение». Карамзин ссылается на богословов, толкующих «прозрение» в мистико-символическом духе; он приводит и мнение Татищева, согласно которому слепота была послана князю в наказание за сомнение и ослушание[912]. Именно здесь заключалась моралистическая идея посрамления гордыни земного владыки — и есть некоторые основания полагать, что дума писалась отчасти и на эту тему. Во всяком случае, она никак не могла заканчиваться эпизодом похода на Корсунь: такая концовка разрушала бы целостность легенды и вся дума лишалась бы прямого смысла.
Впрочем, уже одно внимательное чтение последнего четверостишия дает возможность уловить в нем ту осуждающую авторскую интонацию, которая совершенно не согласуется ни с названием думы, ни с другими ее местами (описание райского блаженства, ожидающего Владимира-христианина, строки «Крести ж, крести меня, о дивный! В восторге пламенном воскликнул мудрый князь» и т. д.). Можно думать, что Рылеев оставил работу над этой думой, оборвав ее посередине. Чем была вызвана эта остановка — сказать трудно; может быть, причины коренились в самой исходной легенде, которая не давала возможности ни для прямой героизации Владимира, ни для безусловного его осуждения. Она могла быть разработана, скорее всего, в религиозно-моралистическом плане, причем самому Владимиру принадлежала пассивная роль. Его характер терял ту четкость и определенность контуров, которые были необходимы для дидактического рассказа; становилась затруднительной мотивировка перехода от преступника-братоубийцы к святому христианского пантеона. Так это или нет — об этом мы можем только строить предположения; несомненно, однако, что, рассматривая «Владимира Святого» как целостный текст, мы наталкиваемся на непреодолимые затруднения: начатые поэтические темы оказываются оборванными, сюжет — незавершенным, характер героя — неясным, авторские оценки — немотивированными. Между тем как раз эти особенности чрезвычайно характерны для восходящих частей сюжета, построенного на принципе контрастных противопоставлений — который лежит, между прочим, и в основе легенды о крещении Владимира.
2. Неизвестный автограф думы «Видение императрицы Анны»
Это произведение — одна из интереснейших дум Рылеева — было до последнего времени известно в двух автографах: черновом, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, с заглавием «Голова Волынского», затем измененным на «Видение императрицы Анны», и беловом автографе Пушкинского дома, озаглавленном «Голова Волынского». В последнее время Л. Г. Фризману удалось обнаружить третий автограф, беловой, с названием «Видение Анны Иоанновны», хранящийся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). По этому автографу, проанализированному Л. Г. Фризманом в специальной статье[913], дума была напечатана им и в издании 1975 года[914]. Таким образом, возник вопрос об источнике текста этой думы. Напомним, что при жизни Рылеева она не была напечатана; «одобренная» в Вольном обществе любителей российской словесности 16 октября 1822 года, она, по-видимому, тогда же встретила противодействие цензуры; вторично Рылеев пытался ее включить в сборник 1825 года, но она снова не была пропущена — вместе с думой «Царевич Алексей Петрович в Рождествене».
Основные отличия автографа ЦГАДА от традиционного источника текста — автографа Пушкинского дома — отсутствие первой строфы и разночтения в стихах 8 («Торжествовали смерть героя» вместо «казнь героя»), 32–33 («И в шуме пиршеств и в глуши» вместо «в тиши») и 67–68, 70–72 последней строфы. Он находится на одном листе с думой «Петр Великий в Острогожске» (стихи 1–28), представленной в Вольное общество любителей российской словесности 16 мая 1823 года. По предположению Л. Г. Фризмана, именно по этому автографу Рылеев имел в виду публиковать думу в сборнике 1825 года, — и потому лист был приобщен к цензурному экземпляру дум, вместе с которым хранится и по сие время.
Л. Г. Фризман исследовал три этапа работы Рылеева над текстом, отразившиеся в трех имеющихся автографах. Исследование это, закрепленное в статье и в текстологической сводке в издании, имеет серьезное текстологическое и историко-литературное значение. Однако в настоящее время мы уже имеем возможность дополнить общую картину и даже внести в нее некоторые коррективы. Дело в том, что исследователям Рылеева остался неизвестен еще один, четвертый, и также беловой, автограф «Видения императрицы Анны», хранящийся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР)[915]. Автограф этот почти не дает новых строк; за небольшими разночтениями он совпадает с беловым автографом Пушкинского дома (далее: ПД). Озаглавлен он «Видение императрицы Анны», при этом последние два слова зачеркнуты. К заглавию сделано примечание: «Содержание из народного предания». Разночтения — в стихах 37 («незапно» вместо «внезапно»), 50 («пылает» вместо «сияет»), в стихе 60, который подвергся правке:
а) «Равны там раб и Царь надменный»,
б) «Равны там Царь и раб презренный» (как в ПД),
в) как а),
и в стихе 80 («Идет домой с тревожной думой» вместо «Спешит домой с тяжелой думой»). В стихах 51–52, окончательный вариант которых совпадает с ПД, первоначально было:
Из шеи каплет кровь порой И пол чертога обагряет.Все эти разночтения имеются уже в черновом автографе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее: ЛБ). Таким образом, подобно автографу ЦГАДА, наш автограф является более поздним, чем ЛБ. По-видимому, он предшествует ПД: в разночтениях он еще связан с отвергнутыми потом вариантами ЛБ. Между тем на нем стоит весьма симптоматичная помета (не рылеевской рукой): «Для Соревнователя». Это, несомненно, та редакция, которую Рылеев передал для печати после чтения думы в Обществе в октябре 1822 года.
Здесь нам следует обратить внимание на характер исправлений. Изменено заглавие — причем чисто механически и с явным ухудшением (простым зачеркиванием имени Анны Иоанновны; осталось «Видение»); подверглась правке строка «Равны там раб и Царь надменный» (правка эта ни к каким результатам не привела). Можно предположить с некоторыми основаниями, что в обоих случаях исправления носили вынужденный — автоцензурный — характер. Возможно даже, что изменение заглавия было предложено не Рылеевым. Нужно думать, что возвращение к первоначальным вариантам заглавия и анализируемых строк, которое мы находим в автографе ПД, является попыткой Рылеева (попыткой, как мы знаем, неудачной) хотя бы частично нейтрализовать ожидаемые цензурные претензии. Тогда это — еще один довод в пользу позднего происхождения автографа ПД.
В самом характере разночтений автографа ПД по отношению к ЦГА-ДА обнаруживается некоторая последовательность. Они направлены на смысловое уточнение текста: «Торжествовали казнь героя» (вместо «смерть» в строке 8); «И в шуме пиршеств, и в тиши Меня раскаянье терзает» (вместо «в глуши» — строки 41–42 в автографе ЦГАДА). Эта последняя формула имеет свою судьбу: она варьируется по меньшей мере в трех думах Рылеева, где речь идет о мучимом раскаянием носителе власти:
И в хижине и во дворце Меня глас внутренний тревожит… («Курбский», 1821) Глас совести в чертогах и в глуши Везде равно меня тревожит. («Борис Годунов», 1821 или 1822)Эти примеры показывают, что вначале сложилась формула с оппозицией «хижина — дворец» («чертоги — глушь») и была механически перенесена в иной контекст («шум пиршеств — глушь»), а затем уточнена («шум — тишь»). Наконец, в последней строфе Рылеев явно пытался соблюсти согласование глагольных времен:
Гром музыки звучал еще, Весельем оживлялись лица; Все ждали Анну, но вотще, Не возвращается царица…(вместо: «Все ждут царицу, но вотще, Не возвращается царица»).
Эти разночтения автографа ПД по отношению к ЦГАДА, кажется, также говорят в пользу текста ПД как последней по времени редакции. Во всяком случае, вопрос о соотношении редакции ЦГАДА и ПД с появлением автографа ЦГАОР возникает вновь, и его решение должно быть осуществлено с привлечением всей совокупности палеографических данных. Творческая история думы «Видение Анны Иоанновны» (или «Голова Волынского») выдвигается, таким образом, как особая исследовательская проблема.
Любопытно примечание к этой думе в новонайденном автографе: «Содержание из народного предания». Указания такого рода нередко бывали фиктивны и играли роль цензурного заслона. Однако здесь оно, как можно думать, соответствует действительности. Устные предания о бироновщине были, по-видимому, распространены. Еще В. И. Маслов указывал на рассказ, приведенный в записках И. И. Дмитриева, где речь шла о том, что императрица Анна перед смертью видела своего двойника, всходящего на трон. Дмитриев свидетельствовал, что предание это было широко известно и передавалось из уст в уста[916]. Известна была и другая легенда — о призрачном шествии из Адмиралтейства в Зимний дворец накануне смерти Анны; о нем рассказывал Н. И. Гречу астроном Шретер, якобы сам его видевший; его рассказ Греч включил в свой роман «Черная женщина»[917]. Ни та, ни другая легенда не имеют отношения к думе Рылеева, где основным сюжетным мотивом является именно призрак Волынского. Между тем о предании такого рода сведения есть; они содержатся, например, в книге Н. И. Тургенева «Россия и русские»: «Говорят, что как Елизавета после казни d’Essex, так и императрица Анна после ужасной казни Волынского не знала более покоя. Измученный и окровавленный призрак ее прежнего министра преследовал ее беспрестанно. Даже на смертном одре ей казалось, что она видит его, и в момент смерти на лице ее был изображен страшный ужас»[918]. Здесь мы, несомненно, имеем дело с поздним отзвуком устной традиции, которая дала жизнь и рылеевской думе. Вероятно, она может быть восстановлена — в первую очередь по мемуарным источникам, так как в печати она задерживалась цензурой[919]. С другой стороны, в думе Рылеева она, конечно, подверглась обработке и, вероятно, была контаминирована с какими-то иными мотивами. Изучение сюжетного генезиса этой думы — специальная задача, которая, видимо, еще привлечет внимание исследователей.
3. К истории текста думы «Ольга при могиле Игоря»
Текст этой думы при современном состоянии материала не может быть обоснован бесспорно, — однако печатать ее, на наш взгляд, при всех обстоятельствах следует несколько иначе, чем это делается обычно. В цензурном экземпляре «Дум» (ЦГАДА) и первопечатном тексте она состояла из одиннадцати строф. Монолог Ольги, повествующей Святославу об истории гибели его отца Игоря, заканчивался в ней поучением:
Отец будь подданым своим И боле князь, чем воин; Будь друг своих, гроза чужим, И жить в веках достоин!В 1954 году в «Литературном наследстве» А. Г. Цейтлин опубликовал беловой автограф строфы, пропущенной в первых публикациях, — вероятнее всего, по цензурным соображениям. Цитированные строки также имели весьма симптоматичные разночтения:
Вот, Святослав! к чему ведет Несправедливость власти; И князь несчастлив и народ, Где на престоле страсти. Но вдвое князь — во всех местах Внимает вопль с укором; По смерти ждет его в веках Потомство с приговором. Отец будь подданным, о сын, И вместе князь и воин; Будь над страстями властелин И жить в веках достоин!По предположению публикатора, разночтения последнего четверостишия с печатным объясняются стилистической правкой в неудачном первом стихе. Кем бы ни была осуществлена эта правка (самим Рылеевым или редактором первой, журнальной публикации думы), Рылеев санкционировал ее в издании 1825 года и в цензурной рукописи. А. Г. Цейтлин предложил поэтому ввести пропущенную строфу в основной текст, а последнее четверостишие печатать по прижизненным публикациям[920].
Такое решение было принято и всеми последующими редакторами Рылеева, между тем оно представляется спорным. Прежде всего, разночтения в последнем четверостишии не только стилистические: в печатной редакции — иная центральная мысль. Идея осуждения страстей на престоле здесь отсутствует совершенно: акцент ложится на идею гражданских добродетелей, противопоставляемых не только военному хищничеству, но и военной славе («боле князь, чем воин»). Эта мысль владеет Рылеевым и позднее: к 1823 году относятся «Видение» и «Гражданское мужество», где она развита в обширном поэтическом рассуждении. В думу «Ольга при могиле Игоря» она могла быть привнесена только самим Рылеевым. Все это показывает, что перед нами — две редакции думы, разнящиеся не только по тексту, но и по смысловой основе. Но этого мало. Есть основания думать, что автограф, опубликованный А. Г. Цейтлиным, дает не ранний, подвергшийся правке текст, а позднейшее дополнение к нему. Сейчас нам известно, что 12 января 1825 года Рылеев посылал Вяземскому «несколько поправок для „Дум“», которые просил «отослать в цензуру или к Селива-новскому» вместе с тремя дополнительными думами[921]. Естественно предположить, что перед нами — одна из таких «поправок», отвергнутая цензурой вместе с двумя присланными тогда же думами; в противном случае нам трудно будет объяснить появление двенадцати строк отдельно от всей думы. Если это предположение правильно, тогда, введя эту «поправку», мы получаем окончательный текст. Как бы то ни было, нельзя интерполировать пропущенную строфу, ничего не меняя в последней: необходимо либо остановиться на тексте прижизненной публикации, либо (что с нашей точки зрения справедливее) печатать по автографу все двенадцать стихов.
4. Из источников думы «Димитрий Донской»
Традиционно считается, что источниками этой думы являются изложение летописных данных в «Истории» Карамзина и напечатанная в 1812 году в «Русском вестнике» «Речь Димитрия Донского к войску перед сражением на Куликовом поле» И. Ламанского[922]. Оба они были названы еще В. И. Масловым[923]. Первый из них не вызывает сомнений: некоторые строфы думы написаны как прямая парафраза изложения Карамзина. Второе же произведение довольно далеко от рылеевской думы — и, вероятно, о его воздействии следует говорить с большей осторожностью. Во всяком случае, мы можем назвать более вероятные источники, и один из них — трагедия В. А. Озерова «Димитрий Донской» (1806), пользовавшаяся совершенно исключительной популярностью в период патриотического подъема, связанного с наполеоновскими войнами, да и позднее. Роль этой трагедии для жанрового формирования дум уже была отмечена в литературе[924], но она, как нам представляется, имела для Рылеева еще и другое значение: на протяжении десятилетий она служила своеобразным резервуаром, откуда черпались фразеологизмы и афористические формулы героико-патриоти-ческого содержания — с самыми разнообразными целями и функциями (напомним, например, что печально известная трагедия Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» была обязана своим названием монологу вестника (Боярина) во втором явлении пятого действия «Димитрия Донского»). Триумф Озерова-драматурга совпал с пребыванием Рылеева в Первом кадетском корпусе, и до него, несомненно, доходило устное предание об авторе «Донского», окончившем то же учебное заведение, а затем служившем адъютантом начальника корпуса графа Ангальта — личности, почти легендарной среди кадетов. Ф. Булгарин, также окончивший Первый кадетский корпус, вспоминал об «исступленном энтузиазме», который вызвала первая постановка трагедии и содержавшиеся в ней аллюзии: «Все сильные стихи, имевшие отношение к тогдашнему положению России, были выучены наизусть почти всеми грамотными людьми…» «Я помню, — продолжал он, — что однажды весь партер единогласно повторил последний стих: „Языки ведайте: велик российский бог!“ — и вслед за этим раздалось общее громогласное ура!»[925]
Есть все основания поэтому считать, что формулы «Силен русский бог» и далее в концовке: «Велик нас ополчивший в брань! … Он, он один прославил нас!» — имеют непосредственным источником заключительные слова трагедии (ср. в том же последнем монологе у Озерова: «Прославь, и утверди, и возвеличь Россию!»). Равным образом к ней восходят и иные ключевые формулы, сами по себе не индивидуально озеровские, но нашедшие себе место в его монологах: «И сокрушен гордыни рог» (ср.: «Поможет нам сотреть гордыни вашей рог» — действие I, явл. 3); «И окрест их татар громада В своей потопшая крови» («И на земле вкруг них татарских груда тел» — действие V, явл. 5); «Расторгнул русский рабства цепи И стал на вражеских костях» («И русский в поле стал, хваля и славя бога» — действие V, явл. 2). Число примеров можно было бы легко умножить. При разнице метрических характеристик (александрийский шестистопный и четырехстопный ямб) парафразы не могут быть более близкими; впрочем, конечно, Рылеев и не перелагал монологи, а, как и многие его современники, держал в памяти словесные формулы трагедии.
Но как раз «Димитрий Донской» показывает, что в разных эпизодах Рылеев мог ориентироваться на разножанровые образцы. Картина битвы у него близка к аналогичным сценам «Руслана и Людмилы»; если это и не прямое заимствование, то ориентация на самый тип описания. Ср.:
Повсюду хлещет кровь ручьями, Зеленый побагровел дол: Там русский поражен врагами, Здесь пал растоптанный могол, Тут слышен копий треск и звуки, Там сокрушился меч о меч. Летят отсеченные руки, И головы катятся с плеч.У Пушкина:
Равнина кровью залилась… Там русский пал, там печенег; Там клики битвы, там побег… Тот легкой поражен стрелою; Другой, придавленный щитом, Растоптан бешеным конем… Везде главы слетают с плеч…Трагедия Озерова и пушкинская поэма, по-видимому, должны учитываться в числе наиболее вероятных источников этой думы.
5. Источник «Ивана Сусанина»
В той же XVIII части «Русского вестника» за 1812 год, где напечатана «Речь Димитрия Донского…», находится рассказ об Иване Сусанине, послуживший, по-видимому, непосредственным источником этой думы. Он не попал в поле зрения комментаторов, так как был включен в более обширное целое — «Опыт о народном нравоучении», принадлежавший, несомненно, самому издателю — С. Н. Глинке. «Опыт» был предварен изображением Сусанина, с девизом: «Умрем все за веру и царя-государя. Слова крест.<янина> Сусанина. Опыт о нар.<одном> нрав.<оучении>. Ст.<атья> 7» (ср. у Рылеева парафразу этих «слов»: «Не дрогнув, умру за царя и за Русь!»). Эта статья седьмая и была занята «нравственным и историческим повествованием» о подвиге Сусанина[926], гораздо более подробным, нежели в позднейшей «Истории» Глинки, где был дан лишь сокращенный ее пересказ (с текстуальными заимствованиями). Отсюда Рылеев взял почти все эпизоды думы: как и в рассказе Глинки, Сусанин приводит поляков на ночлег в деревню, где угощает вином, сам же проводит ночь в бодрствовании и молитве. Очень точно воспроизведена следующая сцена: сын Сусанина, посланный матерью, находит отца и умоляет вернуться. «Сам бог меня сюда привел!» — говорит он у Глинки. Эти слова вложены Рылеевым в уста Сусанина: «Приводит сам бог тебя к этому дому». Последующий разговор Сусанина с сыном, поручение предупредить царя о необходимости бежать, патриотическая речь Сусанина — аналогичны в «повествовании» и в думе. Сходными оказываются и частные детали (ср. у Глинки: «Вьюга вовсе укротилась»; у Рылеева — «Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга»). Все это не оставляет сомнений в том, что Рылеев переработал именно данный рассказ Глинки, который под его пером претерпел существенные изменения как в идейном, так и в стилистическом отношении. Дальнейшее исследование должно прояснить характер соотношения думы и ее источника; оно неизбежно затронет вопросы творческой истории и даст дополнительный материал для изучения жанровой природы дум.
* * *
На этом мы хотели бы закончить наши заметки о некоторых частных вопросах, возникающих в связи с изучением и изданием рылеевских дум. Не претендуя ни на бесспорность суждений, ни на окончательность выводов, они могут оказаться небесполезными при дальнейших переизданиях рылеевских текстов, — и в этом случае задача их будет выполнена.
Некрасов и К. А. Данненберг[927]
Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Провинциальный юноша в столичном городе, еще только вступающий на путь журналиста и литератора, вынужденный перебиваться случайными заработками и постоянно менять квартиры по требованию хозяев, на долгое время порвавший связи с домом, — он как будто выпадает из той стабильной социальной сферы, откуда обычно доходят до нас письменные документы. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.
По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа. К числу таких материалов относятся письма, послужившие основанием настоящему этюду. Они принадлежат известному в биографии Некрасова Клавдию Андреевичу Данненбергу, его недолгому сожителю и приятелю, связанному с ним, как мы попытаемся показать далее, и более глубокими литературными интересами. Письма эти отражают повседневный быт будущего великого поэта в осенние месяцы 1839 года, содержат некоторые неизвестные ранее данные для его литературной биографии и, сверх того, дают нам небезынтересный материал для характеристики самого их автора, которого мы отныне должны причислять к ранней некрасовской литературной среде.
1
Личность Данненберга интересовала биографов Некрасова, но известно о нем было мало. В описываемое время ему было двадцать три года: он родился в 1816 году[928]. Воспоминания Н. В. Успенского и В. А. Панаева рисуют его разносторонне одаренным человеком — художником и музыкантом; мы увидим далее, что он был не лишен и поэтического дарования. Успенский сообщал, что Данненберг учился в Казани на медицинском факультете университета и против воли отца оставил его, чтобы поступить в Петербурге в Академию художеств[929]. Сведения эти верны: с 3 октября 1833 года Данненберг был студентом Казанского университета, откуда 17 февраля 1839 года уволился по прошению[930]. От Успенского и Панаева, передававших рассказы самого Некрасова, мы знаем об общении его с Данненбергом в Петербурге. В последнее время об этом появились новые данные: как было доказано О. В. Ломан, Данненбергу посвящено одно из ранних стихотворений Некрасова, написанное уже после выхода сборника «Мечты и звуки»[931]. Дальнейшая судьба Данненберга не была известна; последний след его пребывания в столице — статья о Казанском театре в «Пантеоне русского и всех европейских театров» (1840), возможно, попавшая сюда при содействии Некрасова[932].
Сейчас мы можем расширить круг этих сведений. Материалы как о самом Данненберге, так и об общении его с Некрасовым находятся в бумагах Николая Ивановича Второва (1818–1865), известного впоследствии ученого и литератора демократического направления, главы воронежского краеведческого кружка, сыгравшего столь важную роль в личной и литературной биографии И. С. Никитина[933]. Данненберг и Второв были товарищами еще в Самаре, где прошло их детство; они одновременно учились и в Казанском университете (Второв провел здесь 1834–1837 годы). Дом Второвых, где сходился кружок университетских студентов, был одним из средоточий казанской культурной жизни; отец Н. И. Второва, Иван Алексеевич, сам выступавший на литературном поприще еще в конце XVIII — начале XIX столетия, сохранял и умножал свои петербургские, московские и казанские литературные связи, к которым приобщал и сына. Он знал Крылова, Рылеева, Греча, Гнедича, Дельвига; в его дневнике мы находим описание встреч с Пушкиным[934].
Второвы общаются с казанскими литераторами разных поколений. Они дружны с Фуксами — Карлом Федоровичем, естествоиспытателем и медиком, профессором университета, и женой его, писательницей, хозяйкой одного из самых значительных провинциальных салонов тогдашней России, гордившейся своим родством с Г. П. Каменевым и знакомством с Пушкиным. Они знакомы с казанскими Панаевыми. В дневниках Второва и письмах Данненберга постоянно упоминается имя Рындовских; глава этого семейства, Федор Михайлович, был женат на Поликсении Ивановне Панаевой, любимой сестре идиллика В. И. Панаева, т. е. был дядей И. И. Панаева по отцовской линии; сам он был в свое время довольно плодовитым поэтом, постоянным участником «Благонамеренного» А. Е. Измайлова; уже в 1818 году, по предложению Измайлова, «доктора медицины» Рындовского избирают действительным членом вновь возобновленного Общества любителей словесности, наук и художеств[935]. Второв постоянно бывает в его доме[936], — и вслед за ним здесь как свой человек принят Данненберг; в письмах в Казань он постоянно интересуется судьбой этой семьи. Каролина Гильтер, мать его невесты, пишет ему: «Старик Рендовский (так!) очень худ, ждут ноньчи или завтри его кончины, с ним сделался удар, — как мне жаль ето семейство, нещастие его со всех сторон давит»[937]. Он умер 27 сентября 1839 года[938], и Данненберг, получив известие, пишет Второву: «Воображаю, каково положение остального семейства Рындовских; едва ли П. Ив. перенесет эту потерю»[939]. Вся эта переписка, как и посещение Данненберга В. А. Панаевым, падает на то время, когда Данненберг и Некрасов уже живут вместе, и в эти же месяцы, по-видимому, Некрасов знакомится с И. И. Панаевым у М. А. Гамазова[940]. Последующая их тесная связь, вероятно, в какой-то степени оказывалась подготовленной и общими знакомствами.
Это — семейные связи Второва и отчасти Данненберга; едва ли не большее значение для нас имеют их университетские связи. В переписке Данненберга постоянно упоминаются его товарищи-студенты и окончившие курс; мы встречаем здесь и имена, получившие впоследствии известность в ученом мире. К ним принадлежит, например, Александр Яковлевич Стобеус, окончивший в 1837 году кандидатом с золотой медалью и затем преподававший правоведение; он был давним приятелем Второва и сохранял с ним близкие дружеские отношения в последующие годы[941], или Карл Александрович Демонси (ум. 1867), выпуска 1836 года; в 1839 году он уже ассистент, издавший на латинском языке диссертацию по медицине; впоследствии он будет ординарным профессором и деканом медицинского факультета при Харьковском университете. Экстраординарным профессором Петербургского университета по кафедре турецкого языка станет Вильгельм Францевич Диттель (1816–1848), уже в 1837 году, сразу по окончании, получивший степень кандидата арабо-персидско-турецкой словесности. В этой среде, по-видимому, также прочны литературные интересы. Казанские студенты издают свой рукописный журнал «Северное созвездие», которым руководит Евлампий Кириллович Огородников, вначале, как и Данненберг, учившийся на медицинском факультете (с 1833 года), а затем увлекшийся восточными языками; в 1839 году он был своекоштным студентом III курса по разряду восточной словесности (китайский язык). Он окончил курс в мае 1841 года, получил звание кандидата и серебряную медаль[942]. Три книжки журнала, объединившего опыты двадцати молодых литераторов (семнадцать из них были студентами университета), вышли в 1838–1839 годах; четвертая была обещана к осени 1839 года; появилась ли она, неизвестно. Данненберг был среди участников журнала; к сожалению, мы не знаем, что именно здесь принадлежит ему, так как все произведения анонимны, и авторы лишь перечислены в общем списке[943]. Вероятнее всего, он поместил стихи. Стихи в этом кругу пишут все: их пишет Второв, Данненберг и, по-видимому, даже невеста Данненберга; во всяком случае, вместе с письмами она посылает Данненбергу и стихи — причем, вероятнее всего, ею сочиненные, а не переписанные. В «Северном созвездии» сказались ультраромантические симпатии казанских поэтов — то характерное поэтическое умонастроение, которое породило поэзию А. В. Тимофеева, учившегося здесь десятью годами ранее. В переписке Данненберга сохранились образцы его поэтического творчества; нам небезынтересно познакомиться с ними уже потому, что они стилистически довольно близки ранним стихам Некрасова, с которым Данненберг вскоре установит литературный контакт.
НЕВЕСТА
Прости мне, красавица, если напрасно Любовь не хотел оценить я твою; Ее испытал я: любовь та ужасна; Прости же теперь, что тебе изменю — Другую нашел. Я нашел себе деву, — Она не из светских красавиц взята; Она не внимает хоть сердца напеву, Зато из свинца — постоянства слита. Безмолвна она, — хоть «люблю» и не скажет, Зато не коварна, как ты, но верна; Она глубоко в моем сердце заляжет; Люблю я ее, — мне невеста она. Ты помнишь, когда я среди обольщенья В тебе заключал все блаженство мое; Но встретя в награду тогда лишь презренье, В тот мир себе в спутницы выбрал ее. Для брака я выберу пору ночную; Невесту на пир роковой снаряжу; Открою ей сирую грудь молодую И крепко ее я в объятья зажму. Приди, полюбуйся на пиршество брака: Земля будет нам брачным ложем, — и кровь Там шумно запенится вместо арака; Приди! Полюбуйся!.. но вспомни любовь!..[944]2
Весной 1839 года, уволившись «по прошению», Данненберг выехал из Казани с намерением отправиться в столицу. По пути он посетил родную Самару, откуда 9 июня отправил Н. И. Второву письмо — первое из той пачки писем, которая займет теперь наше внимание.
По рассказам Н. В. Успенского было известно, что Данненберг уехал с соблюдением всех мер предосторожности и, во избежание гнева родителей, «решился некоторое время вовсе не писать им о себе»[945]. По письмам Данненберга мы можем представить себе ситуацию и более полно, и более точно. Предосторожности, принятые им, были связаны не только с намерением сделаться из медика художником, как думал Успенский, но и с его планами женитьбы, которые никак не могли вызвать одобрения в его семействе, жившем в это время в Самаре. Его избранницей была Любовь Августовна Гильтер, сестра его университетского товарища Павла, учившегося на медицинском факультете; мать их, Каролина Петровна (ум. 1853), была повивальной бабкой при университетской больнице[946]. Данненберг собирался взять в жены бесприданницу из огромной и малосостоятельной семьи. «…У моих детей ничего нет, окроме их доброго сердца», — писала ему Каролина Гильтер[947]. Чувство молодых людей было взаимным, и брак был решен; по городу уже ходили слухи об их отношениях (слухи эти несколько утихли с отъездом Данненберга)[948]. Оставалось преодолеть сопротивление родителей — прежде всего отца, твердо решившего воспрепятствовать этому браку: до него уже доходили рассказы о матримониальных планах сына. Семья Данненбергов интересовалась, действительно ли Клавдий «женился на какой-то Л.<юбови> Авг.<устовне> и уехал в Петербург; маминька К<лавдия> Андреевича согласилась на его женитьбу и благословила его; но отец никак об этом слышать не хотел и теперь в ужасном горе»[949]. Каролина Гильтер писала Данненбергу еще в 1840 году: «Странно, право, что старичок ваш вам не верит и возымел такое худое мнение как об вас, так и об нас…» «Конечно, — писала она далее, — он не знает ни наших правил, ни наших суждений об долге детей к родителям и родителей к детям…»[950] Невеста безропотно переносила и тоску ожидания, и тревогу о неизвестном будущем; с каждой почтой она посылала «милому другу Клавдию Андреевичу» большое письмо. Положение было сложным; еще в ноябре 1839 года Данненберг спрашивал Второва: «Как бы это сделать, чтоб никто ко мне больше не писал? Тс — никому ни слова, прошу тебя. Дома у меня кутерьма: думают, что я в Казани женился и уехал с женой в Питер (не говори об этом Гильтеру). Чтоб поправить свои обстоятельства, я непременно должен приехать скорее домой в Самару; а не то все пойдет к шаху. — Не дивись, — или подивись, как судьба вертит мной. Сил не достает!»[951]
17 августа 1839 года Данненберг сообщал Второву, что посетил Нижний Новгород. Настроение его не слишком радужно; он уже начинает испытывать недостаток в деньгах. 4 сентября он приезжает в Петербург[952].
В столице депрессия его усиливается. «…Смотрю на все слишком равнодушно, может быть, оттого, что мне скучно до того, что ты себе представить не можешь, и потому меня ничто не занимает. Видел картину Брюллова; прекрасна, но я нашел менее, нежели воображал. На днях начнется в Академии выставка, буду там и постараюсь после описать тебе, что особенно привлечет мое внимание, — а я должен быть недели три совершенно без дела, потому что занятия начнутся не раньше как после выставки. Я избрал архитектуру, причем вменяется в обязанность и рисованье, а это мне и на-руку, — что-нибудь сотворим». Он дает Второву и адрес: Васильевский остров, 3 линия, дом Шлиманна. Он просит известий из Казани и жалуется на одиночество и горести, его преследующие. «Одно осталось утешение: это воспоминание, — когда я мыслию переношусь в Казань, где так был я счастлив, где для меня все, для чего я живу и переношу много-много; но ужели я не увижу конца моим испытаниям?» Из взятых с собою денег у него осталось только 75 рублей[953].
Обо всем этом Данненберг сообщает Второву 14 сентября. Это время — канун встречи его с Некрасовым. В начале сентября Некрасов живет еще у Д. И. Успенского, учителя греческого и латинского языков Петербургской духовной семинарии, приютившего его у себя. Нам известен его адрес: «Рождественской части, 6-го квартала у Малоохтенского перевоза в доме купца Трофимова»[954]. Затем происходит ссора с Успенским; Некрасов оставляет его квартиру, и начинаются поиски временного пристанища. Все эти события падают, по-видимому, на конец сентября — начало октября; в первой половине октября 1839 года он уже живет вместе с Данненбергом[955].
Как произошло их знакомство, Данненберг не рассказывает, и, восстанавливая общую ситуацию, мы вынуждены опираться на уже известные автобиографические рассказы Некрасова, переданные Н. В. Успенским и В. А. Панаевым. Из писем Данненберга мы можем извлечь лишь некоторые косвенные данные, вносящие в них дополнительные штрихи. Тяготясь одиночеством, он, видимо, искал себе товарища; небольшие деньги, которыми он располагал, таяли. Бродя по Васильевскому острову, он, если верить Успенскому, обратил внимание на объявление о сдаче комнаты, которое вывесил Некрасов, дошедший до материальной крайности, и зашел к нему. По свидетельству Панаева, он просто ошибся адресом, разыскивая кого-то из своих знакомых. Некрасов рассказывал, что неприветливо принял незнакомого «господина в плаще», справлявшегося о местопребывании некоего «N», и не обнаружил желания вступать в беседу. «Вижу, — продолжал он, — что господин в плаще не уходит. Подождав немного, я ему сказал:
— Что вам нужно? Небось, любуетесь на мою обстановку.
— Признаюсь, — ответил он, — ваша обстановка озадачила меня; хотя я тоже не в завидном положении, но у меня есть в кармане двадцать рублей и довольно хорошая квартира; не пожелаете ли поселиться у меня? Пожалуйте хоть сейчас, я живу очень близко отсюда.
— Мне нужно заплатить хозяйке пять рублей, — сказал я.
— Вот вам пять рублей, заплатите и идемте со мною.
Я тотчас же расстался с хозяйкой, взял под мышку коврик и подушку, и мы отправились вместе с господином в плаще. Фамилия этого человека была Данненберг…»[956]
Рассказ, переданный Панаевым, безусловно, достовернее версии Успенского, согласно которой Данненберг нанял комнату Некрасова и тут же «переехал» в нее, бросив в угол узелок, составлявший все его имущество. Некоторые мелкие и совершенно конкретные детали воспоминаний Панаева подтверждаются письмами. Данненберг в стесненных обстоятельствах, но еще не впал в нищету: три недели назад у него было семьдесят пять рублей, от которых осталось двадцать к моменту разговора; он жил на Васильевском острове — стало быть, действительно близко от Некрасова; средства позволяли ему снимать квартиру, а не угол. Достоверна, наконец, самая ситуация: уже в цитированном нами письме видно стремление Данненберга освободиться от своего одиночества. Случайное знакомство с молодым литератором (род занятий Некрасова, конечно, стал ему понятен с первого взгляда) предоставляло для этого благоприятную возможность.
Следующее письмо Данненберга Второву — от 17 октября 1839 года[957] — содержит первое упоминание о Некрасове. Оно представляет особый интерес, и мы приведем его целиком.
<К. А. Данненберг — Н. И. Второву>
17 октября.
Любезный дружище Николай Иванович!
Проходя во второй раз по выставке, я остановился у сосновой доски (нарисованной), на которой повешено несколько картинок на булавках, 1 портрет, завешенный китайской бумажкой, а другой за разбитыми стеклами; обман удивительный. Еще превосходная картина была Иисус с Никодимом при свете лампы. Было несколько хороших пейзажей, впрочем, нынешняя выставка больше портретная. Благодарю тебя за огромное письмо твое; нельзя ли нам почаще меняться такими; право, это мне будет не неприятно. Между прочим, ты просто твердыня; зачем тебе было сказывать, что получил письмо незапечатанным? лубок, я думал, что ты догадаешься; а не тут-то было; и по твоей милости я получил нос, хотя и небольшой, а все как-то не хорошо. Вперед не буду, не буду, вот те солно краснышко, к тебе с такими поручениями адресоваться. Я это сделал, чтоб не платить за 2 письма. Ну да бог тебя простит. — За новость тебе скажу, что я написал повесть Друг Мишель, помещу ее, кажется, в Альманахе, который мы хотим издать с моим сожителем Некрасовым, — его стихи ты встречал в «Сыне отеч.<ества>» и «Б.<иблиотеке> для ч.<тения>». — Работай поскорее Болгарскую статью и присылай, — если она будет не так велика, так мы ее тут же тиснем; в противном же случае можно будет продать в «Б.<иблиотеку> для ч.<тения>», а после, пожалуй, напечатать особо с приложением видов. — Я теперь достал себе источник денежный, взялся Полевому переводить с француз.<ского> статьи в «Сына отеч.<ества>» и беру по 60 руб. за лист. Шумим! В ноябре, я думаю, не позже Некрасов пишет либретто, а я музыку, и к новому году опера «Испанка», блестящая нашими именами, выдет в свет. Шумим! Послушай, мусье Николя! уговор лучше денег, — хлеб-соль вместе, а невесту врозь. Если ты смеешь быть к ней неравнодушен, берегись! Я приеду через год непременно, если не раньше, и откушу тебе нос и уши. Слышишь? — Мне от Академии задано нарисовать что-нибудь с натуры, и я вчера намахал портрет с Некрасова до<во>ль-но похоже, величиною с обыкновенный лист, карандашом[958]. прилагаемое письмо потрудись отдать Демонси, он тебе покажет адрес; но ты пиши не так, а вот как: на Васильевском острове, во второй линии между Большим и Средним проспектом в доме Духанина № 132. Да передай Шмукеру записочку, а билеты я посылаю тебе для штуки. — Объявление о вашем переводе будет напечатано в след.<ующ>их №№ «Северной пчелы» и «Литературных приб.<авлений>» или Инвалидных прибавлений к русской литературе. Это все равно. Я нашел здесь Ленивцева и вижусь с ним раза 3 или 4 в неделю. Поклонись Александрову, Удельному Депутату с братьями, Долгову, Терзиеву, Диттелю, Стобеусу и всем, всем, всем[959]. Папеньке мое почтение. Прощай! еще спасибо за письмо. Не говори, что я ленив, — видишь, отвечаю, и вперед буду. Только пиши ты; да попроси знакомых студентов следовать твоему примеру. Будь здоров, не забывай
твоего К. ДанненбергаКланяйся Огородникову и скажи ему, не пришлет ли он в наш Альманах побольше хороших стихов из его журнала. И ты не найдешь ли где. Прощай!
Поздравь ее со днем рожденья 2-го ноября[960].
Письмо поражает своим резко изменившимся тоном. Меланхолические жалобы на судьбу сменились мажорными интонациями; Данненберг полон оптимизма и жажды деятельности. Он шутит, даже несколько бравируя и пересыпая свои фразы студенческим арго. Его художественные интересы вновь заявляют о себе; он начинает с обещанного описания годичной выставки в Академии художеств. Внимание его привлечено не столько работами академиков, сколько картиной непрофессионального художника — «любителя художеств, камер-юнкера» Вонлярлярского «Беседа Христа с Никодимом»; об этой картине («копии с Ферстейга»), кстати, сообщала и «Северная пчела», также находившая в ней «талант и вкус»[961]. Между прочим, в стихах Некрасова есть также следы впечатлений от петербургских выставок — в первую очередь, конечно, от «Последнего дня Помпеи» Брюллова; эту картину описывает в меру своего разумения «Феоклист Онуфрич Боб» («Провинциальный подьячий в Петербурге», 1840).
Нет сомнения, что петербургские художественные впечатления Данненберга были небезразличны и адресату письма и в известной степени характеризуют ту интеллектуальную атмосферу, которая царила в казанском кружке. Второва занимали в это время проблемы живописи и архитектуры. Еще 14 сентября Данненберг просил его прислать «статью о Боґлгарах», теперь он вновь напоминает о ней, имея в виду устроить ее в печать. Статья была результатом их совместной работы: не далее как осенью 1838 года они совершили поездку по Казанской губернии с этнографическими и археологическими целями; в конце сентября они осматривали развалины в Болгарах, и Данненберг, несмотря на сильный холод, пытался сделать зарисовки[962]. Выставка, по-видимому, заставляла его спешить с опубликованием: развалины привлекли уже внимание столичных художников, и Данненберг, конечно, не был безучастным созерцателем целой серии этюдов и картин братьев Чернецовых с изображением казанских окрестностей, в числе которых была и «Внутренность развалин в Боґлгарах, Казанской губернии» Г. Чернецова[963]. Как явствует из письма, он брал на себя выполнение и других литературных комиссий Второва.
Это имеет значение для биографа Некрасова, потому что последний мыслился в качестве деятельного участника литературных начинаний Данненберга и даже их перводвигателя. Более того, у нас есть все основания думать, что именно Некрасов ввел своего нового приятеля в петербургские литературные круги. В письме от 11 ноября 1839 года Данненберг сообщал: «Некрасов (не родня казанс.<кому>[964]) жил у Полевова и потому знаком с ним; по просьбе моей он взял у него статью для перевода и передал мне; а я перевел ее и отнес сам к Полевому, — вот тебе и знакомство. Переведу ему еще листа 4 или 5, получу деньги, да и марр.р. рш отсюда; здесь хорошо, а в Казани лучше»[965]. Мы не можем сейчас сказать сколько-нибудь определенно, имеем ли мы дело с реальным биографическим фактом или неточной передачей какого-то разговора: никаких сведений о том, что Некрасов жил у Полевого, у нас нет, мы знаем только, что он бывал там, — и, по-видимому, довольно часто. Как бы то ни было, связи с Полевым продолжаются у Некрасова еще в конце 1839 года, когда он уже перестает печататься в «Сыне отечества», и через Полевого он добывает для Данненберга журнальную работу. Обещая Второву продать его статью в «Библиотеку для чтения» или поместить объявление о его переводе в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» или «Северной пчеле», Данненберг, конечно, рассчитывает на связи Некрасова с этими изданиями, тем более, что в двух первых Некрасов печатал свои стихи. Данненберг обещает очень уверенно, а в одном из последующих писем удостоверяет, что Некрасов находится в хороших отношениях с главными петербургскими журналистами.
Совместные литературные планы Некрасова и Данненберга также не оставляют сомнений в том, что уже к осени 1839 года за плечами Некрасова есть некоторый опыт профессиональной литературной работы. Это вовсе не романтически настроенный провинциальный юноша, пассивно переносящий горькую нужду, — это сложившийся, хотя и еще очень молодой литератор, изыскивающий средства жить профессиональным трудом. Он вхож в достаточно широкие литературные и журналистские круги, в которых ориентируется сравнительно свободно, и модус его поведения типичен для литератора-профессионала тридцатых годов. Замысел альманаха, о котором сообщает нам Данненберг, — обычное для этого времени литературно-издательское предприятие. Осуществление его требовало от издателей как раз широты литературных связей, и мы можем пожалеть, что Данненберг не сообщил, кого именно собирался привлечь Некрасов: один список имен обозначил бы его литературную среду в 1838–1839 годах. Вместе с тем уже скудные сведения по истории этого альманаха, которые мы можем извлечь из письма Данненберга, показывают, что среда эта не была ни слишком обширной, ни высокоавторитетной в литературном отношении. Издатели уже заранее предвидели недостаток материалов. Во всяком случае, Данненберг прибегал к Второву не только как к потенциальному автору, но и как своего рода эмиссару, прося его искать «хорошие стихи» и обратиться за ними к Огородникову — издателю того самого «Северного созвездия», о котором речь уже шла выше. Он знал, конечно, что участники этого журнала не могли конкурировать со столичными литераторами, и тем не менее счел нужным пригласить их к сотрудничеству.
Альманах Некрасова и Данненберга не состоялся, как и задуманная ими опера «Испанка», работа над которой, видимо, была уже начата. Самый замысел оперы, однако, был не менее любопытен, чем замысел альманаха, и также говорил об известной ориентированности авторов — уже не только в литературной, но и в театральной жизни Петербурга.
«Испанские» темы, проникавшие в Россию и непосредственно, и через посредничество французской романтической литературы, в конце 1830-х годов были уже настолько популярны, что обращение к ним перестало быть признаком сколько-нибудь определенной литературной ориентации. Их широко культивировали, в частности, в кружке Полевого, с которым были связаны первые литературные шаги Некрасова. Среди стихов, повестей и драм на «испанские» темы, сочиненных литературными знакомыми Некрасова, мы находим в немалом числе и такие, в которых фигура женщины-испанки занимает особое, и в иных случаях центральное, место. В драматическом конфликте обычно действуют «любовь» и «честь» или родовая гордость. Н. Бобылев, посещавший кружок Полевого одновременно с Некрасовым, — и, кстати, тогда же издавший альманах, — в 1837 году перевел повесть герцогини д’Абрантес «Испанка», где героиня жертвует своей жизнью и жизнью ребенка, чтобы отомстить завоевателям-французам за смерть мужа; Луиза, из переведенной Н. Полевым повести Рейбо, отвергает любовь испанского короля, сохраняя верность своему избраннику; то же делает и Клара в повести А. Мейснера, послужившей потом основой для драмы Полевого «Мать-испанка» (1843). Героический женский характер в мелодраматической «испанской» ситуации появляется и в повести Бальзака «Испанская честь» («Le grand d’Espagne»), переведенной Ф. Кони, также бывавшим у Полевого в 1838 году[966]. Эти и многие другие образцы — мы указываем лишь на ближайшие по времени и явившиеся в непосредственном окружении Некрасова — легко могли послужить стимулом для замысла оперного либретто.
Следов этого либретто в наследии Некрасова не осталось; однако через год или два экзотические «испанские» и «итальянские» сцены займут свое место в некрасовских повестях в «Пантеоне» — «Певица» (1840) и «В Сардинии» (1842), при чем обе повести окажутся связанными с впечатлениями от музыкального театра. В первой мы находим вставные арии; во второй — прямую сюжетную реминисценцию: сардинский рыбак намерен с кинжалом в руке мстить обольстителю своей сестры. Ситуация прямо перешла сюда из знаменитой «Фенеллы», как в петербургской постановке была названа «Немая из Портичи» Обера. Либретто оперы подверглось на русской сцене значительным цензурным изменениям; Мазаниелло, роль которого с шумным успехом исполнял Голанд, был назван Фиорилло[967]. Это-то имя («Фиорелло») носит некрасовский мститель-рыбак, выдавая таким образом свою литературно-театральную генеалогию.
До сих пор мы имели дело с теми замыслами и опытами друзей, которые несли на себе черты высокой романтической традиции. Ею отмечены ранние стихи Данненберга и Некрасова; нужно думать, что она должна была сказаться и в либретто и музыке неосуществленной оперы. Однако Данненберг упоминает в своем письме еще об одном своем произведении, также неизвестном нам, — повести «Друг Мишель». В этом названии ощущается как будто фельетонная манера. За неимением образцов прозы Данненберга, нам стоит обратить внимание на стилистические особенности его дружеских писем. Одно из них особенно интересно, так как намеренно стилизовано под «повесть»; под вымышленными именами-кличками из студенческого жаргона («Твердыня», «Абдул Крепость») здесь описывается предполагаемая встреча и разговор адресата и корреспондента. Разговор пародиен; однако самая пародия заключается в том, что оба собеседника предстают в объективированном виде воображаемых литературных героев. В этой псевдоповести мы находим целый ряд черт, которые будут свойственны и повестям и фельетонам раннего Некрасова: именно, установку на речевую характеристику, с широким использованием бытового просторечия и поговорочных речений. «Виновааааааат! — завопил во все горло Абдул Федотыч, чертя указательным пальцем левой руки по своей шее. — Ага! Попался! — возразил Твердыня, — и не совестно тебе на всет божий смотреть, продолжал он, — как тебе не стыдно не писать ко мне так долго! скажешь: некогда». «Виноват — снова произнес Абдул, — не прикажите казнить, прикажите речь говорить! Ведь время на время не приходит; иногда лучше родится рожь, иногда пшеница, бывает в году и масленица, бывает и великий пост; понял — ладно, а не понял — не прогневайся, лучше сказать не умею, ведь я живу хоть и в Питере, а ем пряники-то не писаны». И далее: «кто в бурю на море не бывал, да кто в Питере в нужде не бывал, тот досыта богу не маливался»[968]. Подобные же речения мы находим уже в «Повести о бедном Климе» (1842–1843): «ни брат, ни сват… кузнец двоюродный нашему слесарю», «грош заплочено да пять раз ворочено!.. Вынести на базар — четвертак дадут да полтинник сдачи попросят»[969]; позднее, в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» появится фигура дворового человека Егора Спиночки, сыплющего прибаутками (VI, 289 и след.). Еще более близкое совпадение обнаруживается в романе «Три страны света» Некрасова и Панаевой: вторая глава пятой части названа здесь: «Кто на море не бывал, тот богу не маливался»[970]. Отметим пока самое тождество формул: нам придется еще к нему вернуться.
Одновременное обращение писателя к «высокому» и «низкому», к элегической медитации и пародии — явление хорошо известное в истории литературы и даже для романтика не представляющее собою ничего исключительного, скорее напротив. Однако в творчестве романтика 1830-х годов удельный вес пародии несколько иной, чем в предшествующее десятилетие, и она нередко тяготеет к превращению в автопародию. Разрушающаяся эстетическая система, эклектичная в самых своих основах, облегчала этот переход, и едва ли не эту тенденцию мы улавливаем, сопоставляя бытовое просторечие писем Данненберга с мелодраматической патетикой его же «Невесты». Если «Друг Мишель» действительно был повестью фельетонного типа, то в этом случае творческое сознание Данненберга оказывалось типологически близким некрасовскому. Вспомним, насколько быстрым оказался переход Некрасова от романтических стихов к журнальному фельетону, — и от «серьезной» трактовки романтических ситуаций к их прямому пародированию. В «Несчастливце в любви, или Чудных любовных похождениях русского Грациозо» (1841) травестированы сцены, пользовавшиеся еще в конце 1830-х годов необыкновенной популярностью: к ним принадлежит, например, сцена прыжка всадника на коне со скалы в бурную реку[971]. Более того: уже в 1841 году Некрасов начинает пародировать свои собственные стихи, вошедшие в «Мечты и звуки», включая их в иронический или снижающий контекст. В том же «Русском Грациозо» мы встречаем вплетенные в повествование традиционные формулы из этих стихов (ср., например, эпизод с куртизанкой Франциской, к которой герой был «прикован» «неразрывной цепью страсти», и строки в «Признании»: «Я навек к тебе прикован Цепью страсти роковой» — V, 218); в рассказе «Двадцать пять рублей» (1841) сниженно воспроизведены несколько строк из «Турчанки» (V, 123) и т. д. Если бы речь шла о зрелом Некрасове, в этом не было бы ничего удивительного, но ведь, например, повесть «В Сардинии», с ее ультраромантическим сюжетом, пишется всего годом позже. Речь идет, таким образом, не об отмене, а о внутреннем разрушении, коррозировании романтической эстетики раннего Некрасова.
3
Литературные планы и замыслы, о которых сообщал Данненберг в своем первом письме, оказались неудачны. Приятели продолжали жить вместе в доме Духанина на второй линии Васильевского острова, изыскивая средства поправить свои материальные дела. По-видимому, адрес этот, указанный Данненбергом, был первым из их петербургских адресов; впрочем, его нельзя считать совершенно несомненным. Данненберг, судя по письму, имел два адреса для писем и давал Второву один из них. Мы не знаем достоверно, был ли это реальный адрес или лишь наиболее надежный, — например, на случай смены квартиры.
К тому времени, как составлялись проекты альманаха и оперы и делались поденные переводы для Полевого, Некрасов уже предпринял все необходимые шаги для издания сборника своих стихов. Еще 26 июня, задолго до знакомства с Данненбергом, он отнес в петербургскую цензуру рукопись на 114 листах, под названием «Стихотворения Н. Некрасова». 25 июля рукопись была одобрена, и 8 августа автор получил ее обратно[972]. Таким образом, к осени 1839 года процензурованная тетрадь — будущая книжка «Мечты и звуки» — лежала у Некрасова по неимению средств на ее издание; Г. Ф. Бенецкий, рекомендовавший поэту издать сборник, распространил среди кадетов Павловского корпуса по предварительной подписке «до сотни билетов», как вспоминал сам Некрасов (впрочем, цифра эта, как мы увидим, оказалась преувеличенной). Шансов добыть деньги для печатания было, по-видимому, столь мало, что Данненберг, перечисляя совместные замыслы, ни словом не упоминает о сборнике вплоть до 12 декабря 1839 года, когда он пишет Второву обширное письмо, отчасти разъясняющее нам обстоятельства выхода в свет первого некрасовского сборника.
«У меня есть до тебя просьба, — пишет Данненберг, — будь, пожалуйста, понахальнее и распехай по рукам (ежели можно) своим и моим знакомым прилагаемые билеты; но с тем, чтоб деньги отдавали тут же на руку, и первой же почтой пришли по возможности вырученное. Я пустился на аферы, — вместе с товарищем издаем его стихи. Здесь в Питере пущено 50 билет.<ов>; но все-таки мало, чтоб на эти деньги можно было напечатать. Впрочем, не думай, чтоб стихи были дурные; прочти обращики в „Б.<иб-лиотеке> для ч.<тения>“ или „С.<ыне> отеч.<ества>“, с подписью Некрасов. Напечатаны будут на хорошей бумаге, в цветно<й> обертке, величиною листов в 7 в 8-ю долю. Между прочим, вот тебе кому можно подсунуть: троим Огневым[973], Стобеусу, Демонси и еще кому знаешь, т. е. кому возможно. Сказать, что я издаю, — можешь; но что я назначил имена под-пис<чи>ков — не смей». И далее: в приписке: «Стихи по напечатании с первой же почтой будут присланы. Не позже 1 х месяц.<ев>. Постарайся, чтоб к 12 генваря вырученные деньги были здесь. Если будет барыш, то долг мой пришлю тебе в скорости. Нет сомнений, что удача будет, потому что Некрасов со всеми главными журналистами в ладах»[974].
Хлопоты Второва, по-видимому, были успешны, и у нас есть основания думать, что поддержка казанских друзей Данненберга в немалой степени подвинула издание сборника. Печатание между тем задерживалось; может статься, что как раз в это время Некрасов начал испытывать сомнения в достоинстве стихов, о чем он вспоминал в своих автобиографических набросках; он собирался «изорвать» рукопись, но его убедили отправиться за советом к Жуковскому. Визит этот известен; его описал сам Некрасов (XII, 11–12, 22). Жуковский похвалил одно или два стихотворения[975], но советовал снять имя с титульного листа. Некрасов так и поступил, и сборник, получивший новое название «Мечты и звуки Н. Н.», появился в свет 6 февраля 1840 года[976]. Теперь началось распространение самой книги, при помощи Н. Ф. Фермора; сам Некрасов безуспешно пытался продать ее через коммиссионеров[977]. Все это время у издателей книги не было возможности вести переписку, и лишь 19 февраля 1840 года Данненберг отправляет Второву письмо с благодарностью и объяснением вынужденного молчания.
<К. А. Данненберг — Н. И. Второву>
«Любезный дружище Ник.<олай> Иванович. Мне пишут, что ты уже начинаешь жаловаться на мое молчание; виноват! но ведь сам посуди, что мне совестно было бы писать, не отправляя книг, — проклятая типография замешкалась, — на прошлой неделе только вышли стихи из печати, и тебе вот они как снег на голову. Спасибо тебе за хлопоты; напрасно ты на свое имя взял экземпляр, мы бы тебе и так подарили, Некрасов тебя так уважает заочно, что хочет написать оду под заглавием: „Доброта и аккуратность Н. И. Второва“. Так вот тебе 16 экземпляров, один отдай Павлу Августовичу, а прочими распорядись как знаешь.
Скажу тебе весточку, что я скоро получу звание художника и место в Перми, скоро увижусь с тобой; но не говори этого никому; извини и то, что не остановлюсь у тебя, несмотря на давнишний уговор, — мне не хочется, чтобы многие знали об моем приезде или проезде. Ко мне не пиши. Папеньке мое почтение, знакомым поклон. Конец последнего письма твоего остался для меня какой-то неприятной и щекотливой загадкой. Об „Гете и Шиллере“ я узнаю, и можно будет без меня выписать через Ленивцева, на него можно положиться. Прощай — до свидания.
Твой К. Данненберг. 19 февраля 1840 года»[978].Написав это, Данненберг снова замолчал, почти на месяц. Только 15 марта он пишет следующее письмо — короткую записку, где извещает, что намерен отправиться в Пермь немедленно, как только закончит свой академический проект. Ему срочно нужны деньги; он просит Второва заложить или продать его перстень, хотя бы за 75 рублей вместо 90; он объясняет, что не пишет домой, так как не рассчитывает получить оттуда ответ ранее чем через месяц, а уехать хотел бы до весенней распутицы. Он сообщает свой адрес: Васильевский остров, 7 линия, между Большим и Средним проспектами, дом Герасимова, квартира Эйхгорна, — и просит писать по экстра-почте[979].
Уехать, однако, ему в этот раз не удалось. Проект его, очевидно, не был принят; Каролина Гильтер 30 марта упрекала его: «зачем прежний ваш проект не работали прямо в академии, то теперь были бы уже в Казани». Казанские друзья и особенно невеста ждали его приезда со дня на день; он сообщил им, что вынужден задержаться еще на две недели. Павел Гильтер грозил шуточными карами «канальям профессоришкам». «… Однако позволь тебе заметить, что ты чудак преогромный, — как написать 2 проекта и не вздумать, что могут придраться и испортить!» Тем не менее дела поправить было нельзя; в утешение Гильтер сообщал, что Второв отвечает той же почтой «и, кажется, посылает pecuniam»[980]. Две недели оказались тоже иллюзией; 28 марта Данненберг писал Второву с той же квартиры, что не надеется закончить дела ранее праздников, и вновь повторяет просьбу о деньгах: «… теперь у меня денежных источников нет, и потому порядочно нуждаюсь»[981]. Но прошли и праздники, а Данненберг по-прежнему вынужден был жить в Петербурге. Задержка его раздражала друзей; их беспокоило и то, что Данненберг писал мало и редко. Второв послал «pecuniam» с обиженным письмом, на которое обеспокоенный Данненберг поспешил откликнуться 22 апреля: «Любезный друг Николай Иванович! Признаюсь, я не ждал получить от тебя такое письмо, или, лучше сказать, обидную записку. Ты полагаешь, что переписка с тобой мне тягостна; из чего ты это мог заключить — не знаю. Я начинаю думать, что ты не получил сочинения Некрасова; то если это в самом деле так, — следовало бы упомянуть об этом в письме; и теперь прошу тебя уведомить меня об этих книгах; я перед тобой, да и перед всяким, подлецом быть не хочу». Опасения Данненберга были напрасны: Второв получил книги. Во всяком случае, «Мечты и звуки» были в составе его библиотеки, которую он пожертвовал в пользу города в 1844 году, уезжая из Казани[982]. «Ты очень ошибаешься, — продолжал Данненберг, — если думаешь, что я не дорожу дружбой того, с кем я был почти все детство вместе и провел лучшие лета жизни, и следов. <ательно> кого я мог узнать хорошо. Если я в самом деле что дурно сделал, то ты еще хуже: ты послал ко мне деньги с таким обидным письмом, не сказавши о причине; ты думал, что деньги для меня дороже твоей дружбы, и ошибся, — здесь можно только нуждаться, а умереть с голоду нельзя, и ты лучше бы сделал, если бы не присылал ничего, а твое сострадание ядовито до nec plus ultra. У меня друзей так мало, что и троих не перечесть, и мне будет слишком ощутительна потеря тебя»[983]. «Впрочем, кажется, этому случиться трудно», — оговаривается он, и на этом прекращает выяснение отношений, переходя на свой обычный спокойно-дружеский тон.
По-видимому, в это время он живет еще вместе с Некрасовым и тяготы, переносимые им, — это тяготы обоих. Визит к ним В. А. Панаева датируется обычно концом апреля — началом мая 1840 года[984]. Адрес, названный Панаевым, впрочем, разнится от того, который сообщал Данненберг в Казань: он вспоминал, что друзья жили «в четвертой линии, на втором этаже, окнами на улицу». Расхождения эти мы не можем сейчас объяснить достаточно убедительно; может быть, здесь ошибка памяти мемуариста, может быть — очередная смена квартиры. В мартовском номере «Пантеона русского и всех европейских театров» Некрасов печатает посвященные Данненбергу стихи; тема их — тоска по родине, по берегам Волги, с которыми «жизнь сердца связана», — равно близка и автору, и адресату. В мае, по-видимому, их совместная жизнь окончилась, вскоре после того, как в Петербург приехал казанский приятель Данненберга Владимир Александрович Деммерт. Он учился в университете в 1838–1839 годах и 5 сентября 1839 года уволился «по прошению»[985], чтобы повторить путь Данненберга. Еще в ноябре 1839 года последний пытался через Второва отговорить Деммерта от поездки в Петербург. «Скажи Гильтеру, чтоб он передал Деммерту, что он дурно сделал, что вышел из универ.<ситета> и хочет ехать сюда в живописцы. Это бесконечная работа; много их здесь, и надо быть выше Брюлло, чтоб иметь известность; надо проучиться лет 6 на своем содержании (1000 руб. в год) — немного невыгодно. Я лучше Деммерта рисую, и то не соглашусь быть здесь академистом живописи; здесь нынче поступают только для усовершенствования; все низшие классы уничтожены, и его, кажется, не примут; впрочем, как он хочет, а это мое мнение»[986]. Эти увещания не возымели действия; да Деммерта, видимо, и не так легко было уговорить. В Казани он пользовался репутацией отъявленной богемы. «Я етого Демерта не очень люблю, — писала Данненбергу К. Гильтер, — он очень огорчил свою мать, что пошел в актеры, да когда он и здесь еще был, то был уже пьяница и все что вам угодно»[987]. Данненберг защищал товарища, и Гильтер с удовлетворением приняла известие, что беспутный человек «переменил род своей жизни» и «раскаивается»; она даже готова была благословить его на новое поприще[988].
С этим Деммертом и поселился теперь Данненберг. «Так как ты живешь вместе с Демертом, — писал ему П. Гильтер, — то скажи ему, что я на него сердит за то, что об себе ни строчки не напишет, — я бы желал знать — что и как он»[989]. Письмо написано 30 мая, нужно думать, что прежние друзья съехались не позднее середины месяца.
Что делал Данненберг далее — об этом мы можем судить только по письмам к нему семейства Гильтеров. К 27 мая они получают от него письмо с ошеломляющим известием, что его приезд откладывается еще на три с половиной месяца. Он не приехал ни тогда, ни позже: в октябре К. Гильтер советовала ему не ссориться с профессорами и терпеливо выносить наложенную «епитимию»[990]. В ноябре выяснилось, что Данненбергу предстоит еще искать места; проект его, по-видимому, все еще не был принят[991]. Письма в Казань приходят от него все реже. 13 февраля 1841 года П. Гильтер пишет ему: «Недели две назад читал я у Вани Огнева копию с твоего письма, котор<ое> ты писал Туманову в Саратов (стихами) и между прочим прочел в нем, что в январе отправляешься в Пермь архитектором, но вот и январь проехал, да и февраль доезжает, скоро и ему карачун, а тебя все нет да нет. — Эх-ма! дурно! вот что значит одному-то жить…»[992]
Это были уже последние письма. След Данненберга потерялся в середине 1841 года — чтобы вновь открыться — неожиданно и драматически — на могильной плите казанского православного кладбища. В «казанском некрополе» Н. Агафонова мы находим его имя; он скончался двадцати пяти лет от роду 24 января 1842 года[993]. Видимо, он добрался до Казани, куда так стремился, но как сложились последние полгода его жизни, успел ли он соединиться со своей невестой, от чего и при каких обстоятельствах умер — нам неизвестно.
В конце 1847 года Некрасов в обществе В. А. Панаева и нескольких других знакомых вспоминал свое еще не столь далекое прошлое, и Панаев напомнил ему о прежнем товарище; они вспомнили и о совместном житье Некрасова и Данненберга в квартире с оригинальными солнечными часами, и о щах, составлявших их дневную пищу, «и после того много, много Некрасов рассказал еще доброго о Данненберге»[994]. Ни рассказчик, ни слушатели не подозревали, конечно, что история уже дописала печальный конец этих мемуаров; они вызывали из незаслуженного небытия живой облик молодого, полного сил, веселого и одаренного человека.
В то время, когда происходил этот разговор, Некрасов и Панаева уже, по-видимому, начали писать или, во всяком случае, обдумывать новый роман «в 8 частей и 60 печатных листов», об окончании которого Некрасов сообщал Тургеневу в письме от 12 сентября 1848 года. Это был роман «Три страны света», о котором нам уже приходилось мельком упоминать: одна из его глав была названа поговоркой, употребленной в письме Данненберга.
Совпадение это могло быть случайным: ходовое речение не есть реминисценция; более того, самое авторство глав в «Трех странах света» устанавливается лишь предположительно. И вместе с тем впечатления от общения с Данненбергом, как кажется, отразились в нескольких эпизодах обширного романа. История Каютина, покидающего «на несколько лет» невесту, чтобы устроить свою и ее жизнь, находит параллель в биографии друга некрасовской молодости. «У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь, заработаю рублей триста — и марш» (VII, 34), — говорит Каютин Полиньке, как будто прямо повторяя фразу из другого письма Данненберга, цитированного нами выше. «…Вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете», — возражает ему Полинька, — и здесь уже прямо слышатся отголоски автобиографических рассказов Некрасова о совместной жизни с Данненбергом. Мотив кольца, подаренного уехавшим женихом, и письма, подоспевшего в день рождения Полиньки (часть II, гл. II, «Рожденье Полиньки»), — не есть ли это также отзвук подлинной истории отношений Данненберга к Любови Гильтер, о которых мы узнаем из его переписки? Как и Данненберг и Панаевы, Каютин связан с Казанской губернией, где было поместье его отца и осталось имение дяди; сюда-то, в Казань, отправляется он в поисках средств для снаряжения экспедиции (часть II, гл. VIII, «Выстрел»). Наконец, подобно Данненбергу, он пишет стихи; они слегка иронически процитированы в главе «Свадьба» (часть III, гл. I), — и в той же главе мы находим его за фортепьяно: он владеет инструментом как подлинный музыкант, не только играя популярные мелодии, но и «фантазируя», импровизируя. Сходство этим, впрочем, ограничивается. Данненберг не был, конечно, прототипом Каютина; мы можем говорить лишь о близости отдельных черт личности, поведения, духовного облика. Наряду с Каютиным мы находим в «Трех странах света» и персонаж иного рода, который будет и позднее занимать воображение Некрасова: тип бедствующего художника, по-видимому приезжего в Петербурге, которому нужно зарабатывать деньги, чтобы учиться. Этот художник — Митя — живет на Васильевском острове «в шестнадцатой линии» — в непосредственной близости от временных квартир Некрасова и Данненберга; он ждет, пока ему удастся его шедевр, и связывает с ним свои надежды на будущее, как Данненберг со своим академическим проектом; тем временем он перебивается случайными заработками и умирает совсем молодым от чахотки (часть VI, гл. VIII, «Полинькины родные»). О смерти Данненберга Некрасов мог и не узнать; о какой-то болезни, быть может, чахотке, разрушающей его организм, знал отлично: в письмах казанских друзей Данненберга мы находим встревоженные вопросы о здоровье; до них дошли слухи, что молодой художник чувствует себя плохо. История Мити также могла опираться на реальные, еще не потускневшие впечатления.
Так это или нет — мы не можем сказать с полной уверенностью. Во всяком случае, такая гипотеза кажется нам не лишенной вероятия. Автобиографичность прозы Некрасова — установленный факт, и среди множества неизвестных нам по имени, но существовавших в действительности людей, давших писателю материал для художественного воплощения, естественно искать того, кто оставил в его жизни глубокий и светлый след.
Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов (Этюды и разыскания)[995]
В длительной и многообразной истории культурных связей России и Болгарии первая половина XIX в. представляет собою период, особенно сложный для изучения. Материалы, документирующие их в это время, разрознены, частью утрачены; контакты деятелей русской культуры с поселенцами болгарских колоний на юге России нередко вообще не отражались в письменных источниках и навсегда ускользнули от внимания исследователей. Но даже то, что осталось, еще ждет своего фронтального изучения; если болгарская филология располагает рядом первоклассных работ, специально посвященных выдающимся деятелям болгарского Возрождения, то деятельность Венелина, Вельтмана, Липранди, Теплякова лишь изредка привлекает к себе то внимание, которого она заслуживает. Нельзя сказать, чтобы это были забытые имена; мы можем насчитать известное число весьма ценных работ, исследующих их славянские, в частности болгарские, связи; однако здесь лежит еще обширное поле изучения, изобилующее «белыми пятнами». Настоящие заметки отнюдь не претендуют на то, чтобы восполнить все эти пробелы; цель их скорее в том, чтобы обозначить некоторые проблемы, попавшие в поле зрения автора, и предпринять разыскания, более или менее частные, о болгарских мотивах и сюжетах в творчестве того же Вельтмана или Теплякова. В силу этих обстоятельств самое исследование не носит монографического характера; это именно заметки, этюды, разыскания в области русской литературы и ее славянских связей, — заметки, которые, быть может, окажутся небесполезными для дальнейшего обобщающего исследования.
Липранди и Вельтман
В истории русско-болгарских культурных связей 1820-е годы составляют особую и весьма важную страницу. Это период постепенного развертывания «восточного кризиса», период борьбы за освобождение греков и славянских народностей Оттоманской империи, — борьбы, которая имела столь существенное значение для внешней и внутренней истории России и Болгарии. Именно в это время «балканская проблема» возникает как первоочередная и для русского правительства, и для деятелей тайных обществ: в правительственных сферах обсуждается вопрос о войне с Турцией; Пестель и «соединенные славяне» вынашивают планы создания славянских федераций[996]. Юг России — Бессарабия, Одесса, охвачен броженьем; издавна существовавшие здесь болгарские колонии отнюдь не остаются безучастными к греческим событиям; славянские иммигранты непрерывно пересекают русскую границу; в рядах гетеристов действуют болгарские отряды. Эти события прочно входят в литературное сознание времени.
Среди политиков и литераторов, охваченных живым и жгучим интересом к развертывающимся событиям, есть, однако, некоторое число людей, силою обстоятельств поставленных в несколько особое положение. Это кишиневский и одесский круг, в котором в 1821–1824 гг. находится и Пушкин: В. Ф. Раевский, В. И. Туманский, И. П. Липранди, А. Ф. Вельтман. Их контакты с участниками движения носят более непосредственный характер, нежели у столичных литераторов; сфера их наблюдений и диапазон устных сведений богаче и разнообразнее. Они знают болгарских гетеристов. Им известны полулегендарные исторические личности; со слов очевидцев Пушкин пишет повесть «Кирджали»; Липранди также рассказывает про «Георгия Кирджали, родом нагорного болгара», и упрекает Пушкина за неточности[997]. В общении с Липранди возникает пушкинская запись песни «на предательскую смерть известного и прежде, а во время гетерии храбрейшего Бим-баши Саввы, родом болгарина, подготовившего движение болгар, коим Ипсиланти не умел воспользоваться»[998]. В своем архиве Пушкин сохранил текст одной из валашских песен о смерти Саввы — событии, отразившемся и в болгарском фольклоре[999].
Все эти контакты, известные нам неполно и во многом случайно и бывшие фактом повседневного быта, закреплялись литературным творчеством, в том числе творчеством Пушкина. Правда, в литературном репертуаре эпохи еще отсутствует и «болгарская» тема как таковая, и литературный образ страны или национального характера, а культурные связи носят односторонний характер. История их в точном смысле слова еще не началась; но о предыстории уже может идти речь.
В этой предыстории деятельность Липранди играла свою, и немаловажную, роль. Мы видели уже, что его информированность была очень полезна для Пушкина; позднее она послужит А. Ф. Вельтману, В. Г. Теплякову, Ю. И. Венелину. Она не была случайной; Липрапди был своеобразным аккумулятором сведений о Болгарии, как, впрочем, и о других славянских землях Оттоманской империи. Уже в эти годы он связан с военной контрразведкой; в его функции входит «собрание сведений о действиях турков в придунайских княжествах и Болгарии»[1000], и он выполняет задание добросовестно и точно, пользуясь случаем расширить свои знания о быте, этнографии и культуре страны. В начале 1820-х годов он, по его собственным словам, «занимался… сводом повествований разных историков древних и им последовавших вообще о пространстве, занимающем Европейскую Турцию», и имел довольно обширное собрание книг, говоривших о крае «с самой глубокой древности»[1001]. Когда накануне русско-турецкой войны он стал во главе «высшей тайной заграничной полиции» и получил в свое распоряжение широкую сеть агентов, он воспользовался случаем обогатить себя информацией, получаемой помимо книг. В 1828–1829 гг. он командует отрядом волонтеров и, передвигаясь по стране, накапливает редкостный запас собственных впечатлений о быте, этнографии, географических особенностях разных областей Болгарии, о фольклоре края, об участниках политических движений, с которыми ему довелось общаться лично или слышать о них от их ближайших сподвижников. Его служебные записки, составленные в конце 1820-х годов, наполнены экскурсами по болгарской истории и археологии; они напоминают отчеты ученого разыскателя[1002]. Этих впечатлений ему хватило надолго, — в 1877 г. он вспоминал о них в очерке «Болгария», написанном по материалам его старых «записок» и в иных случаях имеющем значение исторического первоисточника[1003]. «Болгария» начинается кратким, но насыщенным очерком истории «некогда славного, но ныне забытого народа болгарского», государства, пределы которого, «простираясь от Черного моря до Мраморного, Егейского и Адриатического, заключали в себе множество городов многолюдных и процветавших в свое время»[1004]. В 1877 г. говорить о «забытом» народе уже не приходилось, — но история Болгарии составлялась Липранди почти за пятьдесят лет до этой публикации. С 1820-х годов он собирал материалы для своеобразной энциклопедии Оттоманской империи, обширного справочника, где словарные статьи располагались в алфавитном порядке. Об этом своем труде Липранди в 1835 г. писал Вельтману из Тульчина, прося его помощи в литературной обработке: «Что касается до содержания всего сочинения, пришлю вам только для любопытства одну букву, которую велю переписать (здесь и это весьма трудно)… Статьи сии… просто повествовательные, — кое-где рассуждение; и есть многие из них довольно занимательные. Не скажите, что „овсяная каша сама себя хвалит“, но я в оных только компилятор и, опровергая ложь, показываю истину». Свое сочинение Липранди предполагал напечатать, — в России или за ее пределами, что, по его словам, ему предлагали еще в 1830 г., когда «оно не было приведено в порядок и не дополнено, как находится ныне»[1005].
С этой работой Липранди, вчерне оконченной в 1830 г., был связан обширный цикл разысканий, касавшихся славянских земель, которые входили в состав Оттоманской империи, — и здесь особое место принадлежало Болгарии. Среди материалов его архива сохранились тетради, заключающие систематическое изложение древней и средневековой истории Болгарии. По-видимому, эта рукопись, перебеленная самим автором, но с обширными более поздними вставками, относится к началу 1830-х годов. В тексте есть ссылки на личные впечатления автора, относящиеся к 1828 г., и упоминания книги Раича, появившейся у Липранди в 1831 г. Это, конечно, не первая редакция; что же касается материалов для нее, то они собирались, как мы знаем, еще в период бессарабского общения с Пушкиным и Вельтманом. Таким образом, уже в конце 1820-х годов Липранди располагал, по-видимому, весьма значительным багажом исторических сведений и предпринимал для их проверки посильные разыскания, делясь результатами с пионерами русской славистики.
История Болгарии, написанная Липранди, конечно, не могла не быть компилятивным трудом, и методы критики источников, которыми он пользовался, несли на себе печать дилетантизма, свойственную вообще ранним, доромантическим этапам русской и западной историографии. В объективном изложении событий Липранди стремился следовать Карамзину и даже упрекал его за некоторую идеализацию Святослава (которой, впрочем, и сам отдал дань); в еще большей мере он адресовал этот упрек летописи Нестора, подвергая ее рационалистической критике за преуменьшение численности русских войск, создававшее ореол сказочного героизма вокруг русской дружины, и т. д. и т. п. Совершенно естественно, однако, что источниковедческие проблемы не возникали для него в сколько-нибудь целостном виде; он писал «прагматическую» историю, опираясь на самые разнородные материалы и лишь иногда позволяя себе корректировать частности. Круг этих материалов притом был довольно обширен. Уже цитированное нами письмо его к Вельтману от 20 октября 1835 г. содержит весьма колоритный рассказ-воспоминание о предпринятых им поисках книг по славяноведению; рассказ этот доносит до нас пафос его ра-зыскательской деятельности.
«Прежде чем, по желанию вашему, известить вас о себе, — пишет Липранди, — я поговорю с вами о предмете ваших занятий. Во-первых, я рылся, и давно роюсь, в библиотеке Потоцкого, но не встретил в ней ничего вами желаемого; рукописей никаких нет; Иоана Потоцкого, кроме „Fragm<ents> sur la Scythie“, других нет (у меня же есть его „Hist<oire> du gouvernement de Podolie“, „Hist<oire> du gouvernement de Chèrson“ — и „Chronologie de Manethon“. Если ето вам нужно, черкните, и они явятся к вам); вся моя библиотека, или, лучше сказать, знатная часть оной, имеет то, что мне теперь нужно, в Кишиневе. Посылаю вам „Историю славянских народов“ Раича, 4 книги на славяно-сербском языке, я достал их с большим усилием в 1831-м году в Букаресте — заплатил 7 червонцев; когда они вам нужны, располагайте; у меня есть еще несколько альманахов сербских, изданных в Буде, и „Песнопевка“ Качича, также на сербском языке, которые я с трудом же добыл; если у вас в Москве нет оных, то напишите, и я принесу вам дар оных, ибо у вас они будут полезнее, как у меня; в первых есть любопытные статейки; а в „Песнопевке“ многие песни или большая часть оных воспевают геройские подвиги древних славянских царей тех стран и богатырей их. У меня есть еще „Сербиянка“, поема на нынешнем сербском языке, — четыре книги, сочинения Степана Милутиновича, в 1826 году, — но не думаю, чтоб она была вам полезна, ибо описывается только борьба сербов с оттоманами, от самого восстания сих первых в 1805 году до 1818 года. Книга ета запрещена у нас: и ето, если вам нужно, то пришлю, с тем, однако же, чтоб возвратить мне. Из двух писем ваших, кажется, что я догадываюсь о предмете ваших занятий; конечно, вы имеете Сестренцевича о славянах, склавах и сарматах 4 книги; они у меня есть, но, вероятно, и у вас в Москве много: издание петербургское. Может быть, вы не знаете о сочинении на немецком языке, которое вам необходимо; ето „Geschichte des ungrischen Reiches und seiner Nebenländer“ — Энгеля, в Гале, 1805 года, в пяти частях, in 4°. Но не пугайтесь названием Венгрии: тут вы найдете историю довольно подробную: обеих Далмаций, Кроации, Сербии, Булгарии, Герцеговины, Боснии, Молдавии, Валахии и Баната, — но опять не пугайтесь, не одна история, — а что вам, кажется, будет полезно, — ето описание литературы каждой из сих областей слишком даже подробно: успехи, причины и пр., и пр. Словом, немец не жалел время и имел большой гедульт, — а еще полезнее, что все ето писано не на честное слово — а с основанием на источниках. При каждой области приложен список всем повествованиям об оной, даже нашим русским, о которых я никогда и не слыхивал; указываются рукописи латинские и славянские, которых, как вы знаете, большое множество в Вене, Буде и прочих местах Австрии, особенно же и Венеции, Рагузе и пр. Если вы не найдете книг сих в какой-либо частной библиотеке в Москве, то я готов вам оные прислать месяцев на шесть и даже на год, ибо уступить их не могу: я сам насилу достал из Вены, где всего был один экземпляр»[1006].
Это письмо Липранди интересно во многих отношениях, и прежде всего потому, что оно характеризует его работу как историка. В своей истории Болгарии он воспользовался теми трудами, которые назвал Вельтману, — четырехтомным исследованием Сестренцевича-Богуша «Recherches histo— riques sur l’origine des Sarmates, des Esclavones et des Slaves etc.» (St-Pé-tersbourg, 1812), работами Раича и Энгеля. Конечно, он ими не ограничился; ему известны византийские хроники Льва Диакона, Кедрина-Скилицы, — по-видимому, не в подлинниках, а в латинских переводах, приведенных в фундаментальном труде Дюфрена, ссылки на которого мы неоднократно встречаем в рукописи его истории. Все эти источники, однако, стоят для него в одном ряду; он пользуется безразлично подлинным свидетельством и изложением Раича или Мавро Орбини. При всем своем энтузиазме и обилии знаний он остается скорее дилетантом-собирателем, нежели исследователем; как ученый он отстает от требований времени. Историческая методология, выработанная романтической историографией, проходит мимо него; в 1835 г. он рекомендует Вельтману труды, к этому времени устаревшие, и не знает даже, что подробно описанная им книга Энгеля уже давно и хорошо известна: в 1829 г. Венелин подробно разбирает ее концепцию в своих «Древних и нынешних болгарах…». Когда в 1852 г. С. Н. Палаузов заново обратится к изучению «века Симеона», он отвергнет все его источники, за исключением только книги Стриттера. Вельтман, правда, не сделает этого, — он даже, как увидим далее, повторит прямую методологическую ошибку своего корреспондента, сославшись на песенный сборник М. Качича-Миошича как на историческое свидетельство.
Вместе с тем работа Липранди имела уже то достоинство, что она была первой систематической историей Болгарии, написанной на русском языке. Липранди начал свои изучения раньше Венелина и раньше и дольше, нежели Венелин, общался с живыми носителями культуры и языка. Даже Шафарик в 1826–1830 гг. мог лишь мечтать о поездке по болгарским землям; Тепляков, занятый римско-греческой древностью, не имел собственно славяноведческих интересов; кратковременное путешествие Венелина в 1830 г. было едва достаточно для беглого и внешнего ознакомления со страной. Липранди был в лучшем положении, и во многом благодаря собственной инициативе. События болгарской истории новейшего времени происходили у него на глазах; он впитывал эти сведения и стремился их зафиксировать. Не отсюда ли шел его углубленный интерес к историческим трудам Яна Потоцкого, также ездившего на места, чтобы увидеть славянские древности собственными глазами; не потому ли он рекомендует Вельтману поэму «Сербиянка» Симы Милутиновича, что автор ее сам общался с описанными им историческими лицами?[1007] Об этом Липранди, несомненно, знал; Милутинович жил в Бессарабии; его «Сербиянка» была издана в Лейпциге знакомым Липранди И. С. Ризничем, мужем известной в биографии Пушкина Амалии Ризнич; возможно, что книга была известна и Пушкину[1008]. В свою историю, как и в свои официальные записки, Липранди включал собственные свидетельства о состоянии археологических памятников, о быте и топографии Болгарии. Наконец, письменные источники, собранные им, добывались во время путешествий и были чрезвычайно редки; достаточно сослаться на его живой интерес к полузабытому к 1830-м годам Я. Потоцкому, замечательному по своим историческим и литературным трудам и еще ожидавшему своего воскрешения; его рукописи в начале 1830-х годов пытается разыскать и Пушкин[1009].
Материалы, сообщенные Вельтману Липранди, касались славянских земель в целом и лишь в части своей затрагивали болгарскую историю. Будущий автор «Райны» еще не сосредоточил своих интересов на «болгарской» теме; это произойдет несколько позднее. Сейчас его интересует скорее сербский материал; сборником Вука Караджича он пользовался в «Кощее Бессмертном» (1833). Однако уже к началу 1840-х годов болгарская «старина» начинает приковывать его внимание. Он пишет об этом Липранди; по ответам Липранди мы можем представить себе характер вопросов Вельтмана. Он хочет получить детальное описание болгарских народных обрядов, уже известных ему в общих чертах, — может быть, по другим их славянским аналогиям. Ему важны национальные варианты, и это симптоматично; мы постараемся показать далее, что в собственной повести на болгарскую тему Вельтману не удалось решить как раз проблему национального колорита. Здесь нам следует отметить, что самая проблема, по-видимому, все же находится в поле его зрения. Интересы Вельтмана лежат прежде всего в области народной мифологии и обрядовой поэзии. Этот интерес не есть индивидуальная особенность: он является общим для всей романтической фольклористики с ее постоянной тягой к выделению древнейших исторических звеньев народной жизни. В письме В. Априлову от 17 сентября 1837 г. Венелин формулировал именно эту программу собирания памятников народного быта: разные верования и суеверия — в вампиров, колдунов, таинственную силу растений и камней, талисманов и пр.; семейные и календарные обряды[1010].
28 марта 1841 г. Липранди пишет Вельтману из Петербурга: «В прошлом году, 10 декабря, писал я к вам и послал коледу и пр., но не знаю, получили ли вы, потому что не имею от вас ни слова»[1011]. Речь, по-видимому, шла о нескольких листах с записями народных песен, сохранившихся и ныне в архиве Вельтмана[1012]. Это был уже подлинный болгарский фольклор, и запись была сделана болгарином. Параллельно с Венелиным Вельтман начинал профессионально-фольклористическую работу по составлению сборника болгарских народных песен. Венелин получал тексты песен от В. Априлова; последний — от Неофита Рылского и А. С. Кипиловского, начавших фольклористическую деятельность. Вельтман трудился вместе с Н. Катрановым (1829–1853), рано умершим студентом Московского университета, известным в русской литературе как прототип тургеневского Инсарова[1013]. Собранные Вельтманом и Катрановым песни попали в сборник П. Безсонова (1855), наиболее полный для своего времени свод болгарского песенного фольклора. К моменту знакомства с Катрановым, приехавшим в Москву в 1848 г., Вельтман уже располагал какими-то материалами, в том числе и присланными Липранди. Дата «1840 г.», указанная в письме последнего, дает возможность установить хронологию работы Вельтмана-фольклориста. Повесть о Райне, королевне болгарской, появляется в 1843 г.; ей предшествуют занятия Вельтмана болгарским народным творчеством.
По-видимому, около этого времени Липранди присылает Вельтману и сделанные им записи болгарских обрядов и поверий. Они, конечно, предшествуют коляде: в них Липранди передает общее содержание песни и цитирует ее очень осторожно, с оговорками, — во всем этом не было бы необходимости, если бы Вельтман уже имел ее текст.
Записи Липранди посвящены нескольким сюжетам. Одна из них — описание календарного праздника Георгиев день; вторая — упомянутое уже изложение колядки; третья посвящена народным представлениям о вампирах, «полтениках». Они дают нам право включить Липранди в немногочисленный список ранних русских славяноведов-фольклористов, понимая, конечно, всю условность этого обозначения в применении к полудилетанту. Нам приходилось уже упоминать о постоянном стремлении Липранди соотнести исторические и литературные данные с собственными наблюдениями на местах. Если в исторических штудиях эти наблюдения, сделанные без специальной археологической подготовки, могли быть только более или менее вероятными гипотезами, то при изучении этнографии и народного быта они становились свидетельствами очевидца. Записи Липранди принадлежат к числу самых ранних памятников болгарской фольклористики, — если учесть, что в их основе лежат впечатления конца 1820-х годов, по-видимому тогда же и зафиксированные в том или ином виде. В отличие от многих других фольклористов своего времени он стремится документировать свои сообщения и даже локализовать обряды географически. В одном случае он упоминает об источнике первостепенного интереса, по-видимому утраченном безвозвратно, — о рукописи, оставленной ему профессиональным истребителем вампиров и, видимо, содержавшей наставление по отправлению всей церемонии.
Самые факты, сообщенные Липранди, в настоящее время известны в фольклористике[1014]. Колядка, пересказанная им, по свидетельству современных исследователей, одна из наиболее распространенных, существующих во множестве вариантов: «Замъчи се божа майка От Игната до Коледа»; речь в ней идет о том, что богородица почувствовала родовые муки на Игнатов день, 20 декабря, и родила «млада бога» в день Коляды, 24 декабря. Далее, как и пишет Липранди, упоминаются христианские святые, «персидские цари» (волхвы) и т. д. Липранди совершенно точно почувствовал здесь «древнее предание»; но ему, рационалисту даже в вопросах религии, конечно, не ясен генезис песни: поздние христианские наслоения на языческом субстрате[1015]. Второй описанный им обряд — на Георгиев день (23 апреля) — также принадлежит к числу распространенных и устойчивых. Липранди, как можно думать, не видел всех ритуальных празднеств и церемоний, продолжающихся несколько дней, и дал только описание заключительного жертвоприношения. Оно почти совпадает со свидетельством Н. Герова: в самый день 23 апреля каждый хозяин дома закалывает в жертву св. Георгию ягненка мужского пола; кровь жертвенного животного собирают в сосуд и рисуют ею кресты на воротах дома и на лбу и щеках детей; кости же не выбрасывают, а зарывают в муравейник, «чтобы овцы плодились, как муравьи»[1016]. Позднейшие описания показывают, что Липранди не ошибся и в тех деталях, которых мы не находим у Герова: свечи на рогах жертвенного ягненка ставят и до сего времени и тщательно следят, чтобы во время жертвоприношения ни одна капля крови не упала на землю: человек, случайно наступивший на кровь, можеть ослепнуть или заболеть неизлечимой болезнью. Поэтому сосуд с жертвенной кровью зарывают в землю. Последнее объяснение, впрочем, не единственное и, возможно, вторичное: зарывание сосуда преследовало цель получения урожая или приплода скота, как об этом писал и Геров; жертвенная кровь использовалась как лекарство.
Третий рассказ Липранди — об уничтожении «полтеников», — вероятно, наиболее интересен. То, что тема «вампиризма» привлекла внимание Вельтмана, вовсе не удивительно для середины 1830-х годов. С конца предшествующего десятилетия она незаметно, н о прочно входит в русскую литературу. История этого проникновения заслуживает особого исследования и не может занимать нас здесь; важно отметить, однако, что «рассказы о вампирах» постоянно опирались на славянские фольклорные источники — подлинные или фиктивные. «Гузла» П. Мериме (1827) была прямо под них стилизована; и «Константин Якубович», и «Вампир», и «Кара-Али-вампир» подавались как народные иллирийские баллады[1017]. П. Киреевский, переводя «Вампира» Полидори в 1828 г., счел нужным приложить к книге подробный фольклористический комментарий, где ссылался на венгерские, польские, австрийские поверья[1018], в 1833 г. О. Сомов печатает свою повесть «Киевские ведьмы», основанную на мотивах украинского фольклора, — с темой ведьмы-упыря, высасывающей кровь возлюбленного[1019]. Это романтическое поветрие держалось еще в 1840-е годы; вспомним широко известных «Упыря» и «Семью вурдалаков» А. К. Толстого. Вельтман не остался в стороне от общего увлечения: в его романе «Светославич, вражий питомец» (1835) в одном из эпизодов является Хульда, колдунья, которая «по ночам ходила кровь пить людскую»; «люди взяли да и положили ее ничком и вбили кол в спину»[1020]. В этом пассаже ощущаются следы знакомства с народной обрядностью; обычай переворачивать «заложного» покойника, в том числе упыря, вампира, со спины на живот был широко известен; еще в конце XIX в. он существовал в ряде областей России[1021]. По-видимому, Липранди не без основания предполагал, что его корреспондент знает и сербские обряды, касающиеся вампиров.
То, что сообщал Липранди Вельтману, было результатом собственных впечатлений, собранных рассказов и, возможно, чтения рукописи, о которой он упоминал. Есть основания думать, что его описание совершенно не испытало влияния романтической литературной традиции и даже сложилось до того, как эта традиция стала фактом русской литературы. Прежде всего, в нем нет типа вампира, высасывающего человеческую кровь; «пол-теники» встают из гробов, чтобы беспокоить живых: пугать их, наносить ущерб хозяйству и в редких случаях приносить смерть. Именно этот круг представлений мы находим и в словаре Н. Герова: вампиры (как и «полте-ники») сосут кровь животных (последние — только детенышей), душат маленьких детей и больных. «Полтеники» покидают могилы и днем, и ночью; вампиры — только ночью, за исключением суббот, когда они остаются в гробах. Их можно убить колом из черного глога (боярышник — Сrataegus monogyna), причем эту операцию совершает особое лицо — глог, «глогынковець»; для этого он раскапывает могилу и забивает кол в живот «полте-ника», так, чтобы он прошел насквозь и засел в земле; при этом тело поливается горячим вином или маслом, после чего «полтеник» уже не может выйти на свет[1022]. Рассказ Липранди содержит лишь незначительные отклонения от описаний Н. Герова: могила не раскапывалась; «вино» и «масло» заменялись водой, «смешанной с каким-то прахом»; кол забивался не в живот, а в голову, и т. д.
Таковы в общ и х чертах фольклористические работы Липранди, посланные Вельтману. Как памятник ранней русско-болгарской фольклористики они несомненно имеют право на наше внимание. Но к сказанному мы должны добавить еще одно соображение, как нам кажется, подчеркивающее примечательную особенность его записей.
Липранди был, помимо всех своих прочих дел и обязанностей, политическим наблюдателем — и оставался им даже тогда, когда был занят историческими и фольклористическими изысканиями. С другой стороны, он некогда стоял в непосредственной близости к тайным обществам юга, — и его наблюдения далеко не всегда носили официозный характер. Закваска просветительства в его мировоззрении была достаточно сильна, — и в его этнографических «отчетах» она выразилась в постоянном стремлении уловить социальное функционирование обряда. В этом было отличие Липранди от абсолютного большинства современных ему фольклористов романтической ориентации. Он увидел и зафиксировал то, что фиксировалось исключительно редко: отношение к обряду властей и официальной церкви. Его просветительский антиклерикализм позволил ему заметить, что служители церкви поддерживают и даже освящают «суеверие», потому что извлекают из него выгоду, — и он точно описал размер этой выгоды. Рассказ об освящении жертвенного животного окрашен у него почти саркастическими нотками; в тех же тонах рисуется общественное положение «шамана» — глога, который за восьмидневное свое пребывание в деревне «переест множество живности» и выпьет «до 50 ок» вина, — подсчет, необыкновенно выразительно характеризующий и аппетиты глога, и пунктуальность наблюдателя. Эта социальная окрашенность, делающая записи Липранди поистине драгоценными для современного историка и социолога, не была, однако, свойственна Вельтману, с его стремлением к идеализации старины. Его интересовал самый обряд, быт, история, которые в скором времени получат у него романтическую и славянофильскую интерпретацию. Липранди предоставлял ему материал, — как историк и собиратель; художественные же идеи и ассоциации, которыми облекались болгарские реалии, исходили из других источников. Этот ассоциативный круг, с трудом улавливаемый и определяемый, однако, существовал реально, — и не только для Вельтмана, но и для целого ряда современных ему историков и художников, которые одновременно с ним начинают открывать для русской литературы совершенно новую область.
Болгарские обряды и предания в записи И. П. Липранди
1-е. В Булгарии имеют обычай в день св. Георгия, св. Параскевы и св. архангела приносить в жертву сим святым агнца. Для сего они зажигают две восковые церковные свечи и прилепливают оные ко рогам агнца; поп кадилом с ладаном обкуривает его кругом, как бы какого-либо святого или образ; потом снимают свечи и режут его так, чтоб ни капли крови не пало на землю, и для сего обыкновенно приготовляется особенный сосуд. Кровию сей намазывают детей своих, чертя кресты на лбу, щеках и бороде. Когда же зажарят барашка сего, то собираются все домашние и холостая родня, призывают опять попа, который над сим зажаренным барашком читает тропарь и другие молитвы и наконец благословляет оного. Кожа и жареная передняя лопатка принадлежит священнику, которую он тотчас и берет к себе, что в большой деревне, где в каждом почти доме празднуется сей святой, составляет немаловажный доход для него. Иногда священник по каким-либо причинам прибыть в дом не может или не успеет быть в каждом, то в таком случае посылает одного из своих сыновей, который, прочитав «Отче наш», берет шкурку и лопатку и возвращается домой.
Когда съедят всего барашка сего, тогда с большим тщанием собирают все кости, самые даже мелкие, и закапывают в землю. Несомненно, что обычай сей, основанный на невежестве, поддерживаясь священниками, имеющими от сего прибыль, долго еще будет существовать.
В Сербии, Боснии, Герцеговине и в других местах Оттоманской империи, равно и между турками, в день св. Георгия и в пасху жарится барашек, но без подобной церемонии, исключая, что в день пасхи христиане иногда вносят оного в церковь.
2-е. Булгары истребляют ватмиров[1023] также глоговым деревом, они называют их полтениками, иногда краконополами и варколаками; верят, что мертвые тела сии посредством диавольского наваждения встают из гробов своих и беспокоят живых, а преимущественно родственников.
Булгары убеждены, что полтеники могут входить в дома, разбивать все, что заблагорассудят, пугать, а иногда получать таковую силу, что убивают людей и скот.
Если где в Булгарии, в городе или деревне, появится таковый полтеник, тогда все идут (даже с разрешения турецкого местного правительства) к тому, который предназначен убивать такового полтеника и которого называют глог, оттого, что он употребляет для сего дрекол (кол) глогового дерева; тогда, обыкновенно в субботу (в день, когда, по мнению глога, полте-ник не оставляет могилы, в прочие же дни он ходит), глог сей приходит на гроб того или той, которого подозревают быть полтеником, т. е. обыкновенно умершие скоропостижно или <от> весьма кратковременной болезни, по мнению их, делаются таковыми.
По прибытии на место глог делает изостренным глоговым своим дреколом (батиной) на могиле над самым гробом три ямы, беспрестанно поливая их водою. Самую большую делает над головою умершего до самого трупа, потом вливает воду, смешанную с каким-то прахом; потом берет дрекол и бьет его в большую сию над главою яму, до того, что он весь войдет в землю[1024]; при сем часто поливает водою, смешанною, как выше сказано, с каким-то составом; тогда уверяют булгары, что конец кола, видимый из земли, обагряется кровью, и присовокупляют, что это сам дьявол то тело уязвляет. После всего сего полтеник уже не оставляет более никогда своей могилы.
Глог уверяет, что таковой полтеник, если не будет вышеупомянутым образом убит, в продолжение целого года может беспокоить жителей. За все сие глог берет что хочет, от 50 до 200 левов, сверх сего, в продолжение восьмидневного его пребывания в городе или селе он выпивает до 50 ок вина и переест множество живности и пр.
Вот что булгары рассказывают о сем глоге, что будто праотец его был ловцом зверей и, расставляя для сего сети, он часто поутру находил их с места сдвинутыми — и должен был опять снова раскладывать; но на другой случалось всегда то же самое. Желая узнать, кто препятствует и мешает ему в сем, скрылся однажды ночью в тайное место, из коего вдруг услышал среди ночи большой шум, который приближался к тому месту, где разложена была его сеть, и увидел толпу народа, у которого все лица были черные; иные с рогами, другие с опашами, т. е. с хвостами, некоторые были пешком, но многие на разных четвероногих животных; все они следовали одним путем, но один из дьявольского сего собрания отделился, подошел к сети и отнял ее. Другой же сказал ему: «Зачем ты делаешь человеку пакости каждый день; если б человек сей знал, да положил бы под свою сеть глоговое дерево, тогда бы ты уцеломудрился и рассказал бы ему все тайны, которые знаешь». «Да, — отвечал тот, — я уверен, что эта мысль ему не придет в голову».
Когда же все дьяволы разошлись, то праотец глогов, слышав весь разговор сей, нашел тотчас глоговое дерево и подложил под сеть свою. На следующую ночь он услышал опять шум дьявольского еего собрания и опять увидел одного из них отделившегося немирного диявола к сети, дабы ее отнять, но попался сам в оную и не мог следовать за другими своими товарищами. Праотец же глогов, дождавшись дня, подошел к своей сети и увидел в оной черта, но преображенного в самого настоящего турка в полном одеянии, который угрожал старому глогу и говорил: «Как ты дерзнул поставить сеть свою здесь на царской дороге?» «Я сейчас тебе скажу», — отвечал ему старый глог и, взяв из-под сети глоговое дерево, начал сего видимого турка бить беспощадно, который не могши вылезть из сети, начал просить и говорить: «Оставь меня, я тебе покажу одно ремесло, которым ты и чада твои в изобилии везде жить могут». «Какое ремесло?» — спросил старый. «Ступай, — сказал дьявол, — в такое-то место, там ты найдешь такое-то былие, с которым ты и с глоговым деревом будешь иметь силу всех дьяволов изгнать из мертвых тел, т. е. полтеников истреблять». Старый, услышав сие, отпустил турка, который вдруг исчез. Глог передал сие дьявольское научение сынам и внукам своим.
Еще уверяет булгарский глог, что умершие некрещеные дети христиан, когда делаются полтениками, то бывают сильнее обыкновенных. Турки бывают также полтениками; и с ними глог поступает одинаково. Но жиды, по мнению булгар, полтениками не бывают и быть не могут. Рассказывают, даже и сам глог уверяет, что он один чрез лес или поле ходить не смеет, ибо волк его приметит или почует, тогда вмиг растерзает.
Обычай сербов истреблять вампиров другим образом здесь не упоминаю, потому что, полагаю, у вас есть, — они их называют не полтеника-ми. Я сохранил рукопись, сделанную мне попом Эски-Емина Магмет Хаджи-башею и глогом, который ночевал у меня тут.
3. В северной или нагорной Булгарии празднества сохранили некоторую тень древних их преданий.
Например, в праздник рождества Христова, называемый простолюдинами Коледа, есть древний обычай (но не в городах), по деревням только, где молодые неженатые люди собираются прежде праздника за день или за два, по десяти и более вместе, и ходят по селению от дома до дома, поют древнюю песнь, и жители дают им разные припасы, как-то: мясо разного рода, хлеб и тому подобное, но вместе с сим неотменно, хотя малую часть, льну и волны.
Песня сия заключается в сих словах:
Замучися божия майка, Ой Коледо, мой Коледо! От Игната[1025], мой Коледо, Ой Коледо, мой Коледо!Прочие слова мне неизвестны; однако знаю, что они в оной поминают рождество Христово, царей персидских, ангелов, пастырей и пр.
Все собранные запасы и прочие в день рождества Христова приносят среди деревни на какое-либо пространное место, ставят стол, и, продавши волну и лен, покупают вино, и целый день пьют, едят, угощают всех, и поют сию же самую песню, как равно и пляшут. Песнь сия поется только до дня св. богоявления.
В Сербии и других местах некоторые есть изменения.
4. Булгары называют кутью сию кольва (сербы «колива»). Она состоит, как и везде почти, из отваренной пшеницы с изюмом, медом или сахаром и корицею. Набожные булгары каждую субботу поминают покойников. В сии дни церкви заставлены блюдами с оною. По совершении молитв над ними и по выходе из церкви ее раздают всем, даже встречающимся, и при сем подают водку. Родственникам и знакомым кольву рассылают с воткнутыми в нее зажженными свечами на большом подносе, в коем иногда ставят еще два или три других блюд<а> с кушаньями.
Мнение булгар о ведьмах, чародеях, святых и пр., и пр. почти одинаково с сербами, которые вы найдете у Караджича. Если б что потребовалось вам более — уведомьте.
ГБЛ, Вельт. III. 16. 8.У истоков исторической повести
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. открыла русским ученым и литераторам пути в Болгарию.
20 марта 1829 г. от берегов Одессы отправляется венецианский бриг «Lа Рerseveranza», уносящий к «берегам Мизии» двадцатипятилетнего путешественника и поэта В. Г. Теплякова, этого «русского Мельмота» или Чайльд-Гарольда, по политическому доносу проведшего полгода в Петропавловской крепости и высланного на юг без права жительства в столицах. Он едет, облеченный полномочиями проводить археологические разыскания на освобожденных от турецких войск территориях; едет с грузом исторических и литературных ассоциаций на места античного Причерноморья, чтобы искать следы древней Фракии, греческие мраморы и монеты и могилу Овидия. Результатом его поездки были антики для одесского музея, археологические отчеты, превосходная эпистолярная проза его «Писем из Болгарии» и цикл «Фракийских элегий», привлекший внимание Пушкина[1026]. Однако нас интересует сейчас не его деятельность в целом, а лишь некоторые ее эпизоды.
В апреле 1829 г. Тепляков сделал остановку в окрестностях Девно. По-видимому, здесь произошла его встреча с И. П. Липранди, и тот рекомендовал ему обратить внимание на равнину близ Афлотара, где, по его соображениям, было место знаменитой битвы Святослава с Цимисхием в 971 г.; сам Липранди, опросив местных жителей, добыл найденное в земле оружие «вроде бердышей чрезвычайной тяжести», которое потом, в 1830 г., передал в Бухаресте для обследования Венелину[1027]. Был ли разговор с Липранди толчком, направившим ход исторических размышлений Теплякова, или самого его заняли проблемы средневековой истории Болгарии — сказать трудно; но в апреле 1829 г. он как будто отвлекся от остро интересовавших его античных тем. Стоя на том месте, где, как он считал, находилась древняя болгарская столица, русский поэт созерцал «зеленый луг» с «тысячей речных меандров, голубых лент, с перспективою гор, синеющихся издали подобно колоссальным головам сахару», и сказочная красота открывшейся картины объяснила ему намерение Святослава «перенести своих скандинавских богов в стены Траянова Маркианополя»[1028]. Мысль его обращается ко временам Крума и войн Болгарии с Византией; он приводит исторические справки, долженствующие подкрепить «ученое мнение г. Бларамберга» о тождестве Девно с древним Маркианополем, якобы ставшим столицей Болгарии и с тех пор называвшимся в византийских летописях «Великим Переяславом или Перфлавом, η μεγαλη Πεςϑλαβα». Он вспоминает страницы «Истории» Карамзина, где шла речь о воцарении князя Святослава в 967 г. в Маркианополе, «Болгарском Переяславце», и радуется мысли, «что и русская сталь отпечаталась в сих самых местах на груди Византии», что «и киевские варвары делили сокровища кесарей на пиру народов, за упокой древней вселенской монархии»[1029]. И далее в его письме появляются размышления о неисповедимом ходе истории, сменяющей старые царства новыми, без видимой цели переходя от развалин к развалинам. «Опустошительный ураган варваров» преобразил мир — «но что же в том?..» В прозаический текст вторгается стихотворный фрагмент — из третьей «фракийской элегии» Теплякова «Берега Мизии». Исторические разыскания ближайшим путем преобразуются в обобщенный художественный мотив, где болгарские впечатления растворены и внешне, казалось бы, неощутимы, но составляют вместе с тем некий субстрат, фундамент возводимого поэтического здания.
Так было в третьей элегии. Четвертая же элегия — «Гебеджинские развалины» — возникает непосредственно на конкретном и локальном материале. 22 апреля Тепляков, по-видимому, первым из европейских путешественников становится зрителем грандиозной картины: в 15-ти верстах от Варны, «по направлению к Праводам» (совр. район сел Солнчево, Баново, Страшимирово, Марково и Белослав Варненского округа), взору его открываются «огромные колонны», рассыпанные «по пространству более 3-х верст», без всякой «архитектурной последовательности». «Целые тысячи сих чудесных колонн поражают вас самыми странными формами. В иных местах они возвышаются совершенно правильными цилиндрами; в других — представляют вид башни, обрушенной пирамиды, усеченного конуса; иные делаются книзу толще и кажутся опоясанными широкими карнизами». Это были так называемые «Побитые камни» («Побити камъни»), которые еще спустя несколько десятилетий занимали болгарских и западноевропейских геологов, установивших позднее их сталактитное происхождение. Тепляков сам пытался ответить на этот вопрос и, насколько мог, обследовал столбы, пытаясь обнаружить следы человеческой руки, но поиски были бесплодны, и он оставил последующим естествоиспытателям и «антиквариям» решать, есть ли это «массы простых базальтических обломков» или произведения древнего зодчества, «остатки огромного древнего поселения»[1030].
Как ученый Тепляков не скрыл от читателя своих сомнений; как поэт он явно предпочел последнюю версию. В «Гебеджинских развалинах» он продолжил тему исторического круговорота цивилизаций, отправляясь от сделанного им открытия. Пейзажный фон, на котором развертывается его описание руин, есть живописное отображение ландшафтов, виденных им на месте «древнего Маркианополя»; упоминание о «битвенной равнине», «покрытой мертвою и раненой дружиной», быть может, ассоциативно связано с разговорами о русско-византийских битвах времен Святослава и Иоанна Цимисхия. Созерцание «гебеджинских развалин» вызывает в его сознании картины «допотопных», доантичных времен, — и культурный комплекс, изображаемый им в элегии, ничего общего не имеет с античностью:
Быть может, некогда и в этом запустенье Гигантской роскоши лилось обвороженье: Вздымались портики близ кедровых палат, Кругом висячие сады благоухали, Теснились медные чудовища у врат, И мрамор золотом расписанных аркад Слоны гранитные хребтами подпирали! И здесь огромных башен лес До вековых переворотов Пронзал, быть может, свод небес, И пена горных струй средь пальмовых древес Из пасти бронзовых сверкала бегемотов!Это не античность и не славянский мир; сам Тепляков в примечании к элегии указывал, что он опирался на «некоторые обозначения Крития, Эвсевия, Лукиана и Плутарха»[1031], но едва ли только на них. В его описании ощущаются следы ориентальной лирики В. Гюго, посвященной древнему Востоку — Вавилону или Содому и Гоморре; «гранитных слонов», подпирающих гигантские здания, «висячие сады, полные цветов и аркад», яшмовых идолов мы находим в знаменитом «Небесном огне» («Le Feu du Ciel»), открывающем сборник «Les Orientales» (1829) и трактующем ту же эсхатологическую тему. Реальные впечатления вновь облеклись у Теплякова многообразными ассоциациями — историческими, литературными; болгарская история опять ушла в субстрат, в «литературное подсознание»; проблема национального колорита не возникла. Этому поэту вообще не был свойствен преимущественный интерес к славянству и славянским древностям — ни в конце 1820-х годов, ни позже; идеи формирующегося славянофильства шли мимо него. Однако он коснулся, быть может неожиданно для себя самого, целого узла проблем, которые на какое-то время выдвинулись на передний план для русских и болгарских культурных деятелей.
Липранди принадлежал к числу первых заинтересованных читателей Теплякова. Он отметил письма о «гебеджинских развалинах» и вступил в полемику с поэтом, решительно утверждая их естественное происхождение. Поэтические образы «допотопной» древности мало занимали этого скептика и позитивиста; зато исторической топографией Преслава он интересовался специально и в своих разысканиях пришел в резкое противоречие с мнениями Карамзина, Теплякова и Бларамберга. «На месте древнего Переяславца, или Большой Преславы, — писал он в составленной им истории, — ныне стоит г. Ески-Стамбул, около 18 верст от Шумлы к Балканам. Епископ, имеющий пребывание свое в Шумле, сохранил наименование епископа Преславского и так именуется в фирманах, выдаваемых Портою на сей предмет. Что же касается до жителей булгар, то они совершенно никакого предания о сем не имеют. В бытность мою в 1828 году в Ески-Стамбуле я нашел следы обширнейшего города, коего настоящий занимает едва десятую только часть. Остатки сии видны преимущественно в правую сторону, и на оконечности тут одной скалы видно что-то подобное на основание замка, довольно пространного[1032]. Старая мечетъ, именуемая Ески-джаме, нет никакого сомнения, была первобытно построена для христианского храма, весьма пространного. Занятия и время препятствовало сделать более на месте разысканий, которые несомненно могли бы пояснить многое и определить епоху хотя построения оной — как равно и некоторым другим древностям, заключающимся в сем городе, названном Марцинополем, от имени Марцианы, сестры Трояновой»[1033].
Именно эта проблема, вскользь затронутая Тепляковым, — проблема, связанная с узловыми моментами болгарской истории, привлекает к себе внимание болгарских культурных деятелей и тесно связанного с ними Ю. И. Венелина. В 1827 г. А. С. Кипиловский готовит к изданию составленную им болгарскую историю. «Для болгар нужна их история; они не знают своих предков»[1034]. Эта мысль становится лейтмотивом переписки В. Априлова и Н. Палаузова с Венелиным. Венелин требует археологических разысканий; он также хочет знать, где находилась древняя болгарская столица. Априлов не может ответить ничего определенного: «Касательно же Преславы и проч. скажем, что хотя бы архимандрит Неофит или кто-либо из тамошних и посетил ее развалины, то мало принес бы пользы; ибо они не умеют снимать планы с развалин, как должно. Но со всем тем мы надеемся, что они что-нибудь да сделают. Не знаем, за что г. Тепляков в своих письмах из Болгарии (1829), следуя г. Бларамбергу, ставит ее в нынешнем Девно, где находятся его гигантские развалины»[1035]. Эту часть письма Венелин опубликовал; в подлиннике сохранилась опущенная им фраза, почти совпадающая с тем, что писал Липранди и затем Вельтман: «Преслава существует и по церковному учреждению, там есть епископ и ныне»[1036]. Примечание самого Венелина гласит: «Преслава, в русских летописях Переяславец Дунайский, лежит на дороге от Шумна в Цариград. Возле гигантских ее развалин теперь не более 400 домов. Преслава была древнейшею столицею болгарских царей; некогда огромный город. Вот почему греки всегда ее называли Πεςϑλαβα Μεγαλη; т. е. Великая Преслава. Турки и доселе называют Эски-Стамбул, т. е. Старый Цареград. Преслава имеет своего епископа, местопребывание коего есть Шумна».[1037]
Симптоматична эта общность интересов, проблематики, даже самих доводов. Она не может быть случайной. Вопрос о месте древней болгарской столицы приобретал широкий смысл — это был вопрос об исторической топографии военных, политических и культурных контактов Болгарии и России. В середине 1830-х годов эта тема является как будто по историческому вызову. «Письма из Болгарии» выходят в свет отдельным изданием в 1833 г.; через два года Н. А. Полевой оканчивает свои «Византийские легенды», в предисловии к которым намечает возможное их продолжение: «Изобразить ли грозного соперника Цимисхиева, нашего Святослава, борьбу их на берегах Дуная, гибель обоих, одного в чертогах царяградских, другого в таборах печенегов?..»[1038]. Мысль об исторической роли славянства пронизывает книгу Полевого; устами одного из персонажей, отшельника-мистика, он утверждает идею соединения «Севера с Седмихолмием»; он ссылается на «скифское», славянское происхождение императоров Юстина и Юстиниана, «переименованного так из славянского Управд»; приводит свидетельства Кедрина и Зонары о намерении императора Александра основать в Константинополе славянскую династию и в крещении Ольги усматривает предвестие «близкого пришествия славян на трон Цареградский»[1039]. Именно с этой идеей оказалась связанной в «Легендах» фигура Калокира — «природного славянина», «скифа», посла Никифора к Святославу и предполагаемого соперника Цимисхия в борьбе за византийский престол; обрисовка Калокира у Полевого далеко отклонилась от исторических источников и даже от собственной его «Истории русского народа», и есть все основания думать, что ему предназначалась в дальнейшем важная роль.
Если бы Полевой осуществил свой замысел продолжения, он неизбежно бы пришел к необходимости ввести в повесть по крайней мере болгарский исторический фон. Намерения его остались нереализованными, но тема не исчезла из литературы. В том же 1835 г., на протяжении которого пишется первая часть его «Легенд», А. Ф. Вельтман, его давний знакомый, подает в цензуру свое новое произведение — роман в двух частях «Светославич, вражий питомец, диво времен красного солнца Владимира». Уже на первых страницах, как это нередко бывает у Вельтмана, мы находим в концентрированном виде целую сюжетную схему, которая потенциально может быть развернута в особую повесть, — здесь это история последнего драматического похода Святослава. Князь прощается с нелюбимой женой; в тревожном и пророческом его сне проходят картины «высоких берегов, сливающихся с небом», где «болонье покрыто шелковым ковром, солнце горячо, а волны и рощи дышут прохладой»; «в глубине лесистого Имо великий Преслав, стольный град краля болгарского, светит златыми кровлями, покоится в недрах гор». Он видит и царя Бориса: Борис «горд, сидит на златокованном престоле, держит державу да клюку властную, не хочет знать Святослава»[1040].
Соблазнительно сопоставить этот отрывок с письмами Теплякова, уже несомненно известными Вельтману, и установить структурную общность описания: роскошный южный ландшафт рассматривается сверху, как будто с высоты птичьего полета; затем мысль (или взгляд) наблюдателя задерживается на «стольном граде» — Преславе. Но сходство здесь не есть результат подражания; природа Болгарии, поражающая воображение путешественника, становится элементом литературного образа страны, органической частью специфически болгарского колорита.
Роман Вельтмана не был романом о Святославе. Тема болгарских походов «последнего героя язычества» в «Светославиче» — лишь едва намеченная побочная тема. Однако в фокус внимания писателя уже попало то место «Повести временных лет», где сообщается о намерении Святослава основаться в завоеванной Болгарии, оставив Киев. Уже намечается зерно любовной интриги — мотив равнодушия к жене. Пройдет восемь лет — и побочная тема разовьется в сюжет «Райны, королевны болгарской»; тогда возникнут новые ситуации и конфликты, в новом свете предстанут взаимоотношения Святослава и Бориса, и «Великий Преслав» станет основным местом действия. Сейчас все еще в стадии отдаленного замысла, столь же неясного, как и у Полевого, но с одним существенным отличием. Славянская древность не была для Полевого магистральной линией творчества. Для Вельтмана она органична. Выше мы пытались показать, каким образом его славяноведческие интересы локализовались в начале 1840-х годов в области болгарской истории и фольклористики. Совершенно естественно поэтому, что именно Вельтман, а не кто иной, обращается в 1843 г. к сюжету повести из болгарской истории, точнее, болгаро-русской истории, так как в концепции «Райны» Святославу принадлежит важная роль. И столь же естественно, что по своей проблематике, сюжету и даже отдельным мотивам повесть Вельтмана оказалась тесно связанной с теми вопросами, которые занимали современную ему историческую и художественную мысль. Его повесть начинается с элегической ламентации о древнем величии столицы царя Симеона «Великого Преслава», где «знаменовались подвиги… добросанного князя Святослава»: «Где ж этот белый град великого царства? Какие холмы венчались его твердынями? Никто не знает, кроме султана, который в фирмане своем именует владыку шумлинского преславским»[1041].
Нам уже знаком этот вопрос — не в его риторическом, а в археологическом варианте. Его задавали читателям и друг другу Тепляков, Венелин, Априлов. На него пытался ответить Липранди, и ответ этот почти дословно совпадает с цитированным местом повести Вельтмана. Липранди упоминал и о том, что болгарские старожилы «совершенно никакого предания о сем не имеют», — и едва ли не это сообщение подхватывает Вельтман, превращая его в художественный мотив исторического забвения, как будто прямо вырастающий из белого пятна археологических карт. В допечатном тексте мы находим его в осложненном виде; беловая рукопись заканчивается словами:
«Было великое царство Болгарское, и не стало его; теперь Болгария тело без души; одичавший и запустевший сад, в котором там-сям видны еще следы прошедшей жизни: развалины древних городов, замков и храмов, где рядилось, молилось, гуляло и славилось славянство.
И теперь еще есть в Болгарии и небо, и земля, и все украшения их: и злак сельный, и былие травное, и источник, исходящий из земли и напояющий земное, и всякое древо красное в видение и доброе во снедь, и рыбы морские, и птицы небесные, и звери — да нет человека-делателя…»[1042]
Именно эту идею — всеобщего круговорота, исчезновения древних цивилизаций — вынес из изучения болгарских древностей Тепляков. Мы видели ее и в «Письмах из Болгарии», и в «Берегах Мизии», и в «Гебеджинских развалинах». Но там она выступала в обобщенно-философском виде. У Вельтмана она наполняется новым содержанием. В его повести явственно обрисовывается тема контраста между историческим величием Болгарии и ее унижением под чужеземным владычеством — излюбленная тема Венелина и Липранди. «Райна» начинается с исторических воспоминаний об эпохе Симеона, с именем которого был связан политический и культурный расцвет Болгарин. Царствование Симеона привлекало русских славистов еще в начале XIX в.; с началом болгарского Возрождения интерес к нему, естественно, усилился. Первые болгарские историки начинают с изучения «века Симеона»; так называлась магистерская диссертация С. Н. Палаузова, знакомца Вельтмана и ученика И. И. Срезневского; самый выбор темы носил характер национально-политической акции[1043]. Но Вельтмана в 1843 г. интересует не расцвет, а падение Болгарского царства, и упоминание о Симеоне играет роль своеобразного контрастного фона. Вместе с тем самый образ его, оставаясь за пределами повести, приобретает в ней важную сюжетную роль, а эпизоды и легенды, связанные с его именем, составляют значительную часть ее исторической канвы.
Все эти мотивы и темы были далеко не случайны для Вельтмана. Литератор и историк с ясно выраженными славянофильскими симпатиями, он пишет повесть о символическом историческом прецеденте — совершившейся тысячу лет назад встрече двух родственных народов, — и он напоминает о ней в тот момент, когда оба эти народа готовы вступить в новую фазу взаимоотношений. Детальное рассмотрение повести покажет нам, что идея славянского родства последовательно выдерживается на всем протяжении рассказа и даже подчиняет себе реальный исторический материал.
Повесть Вельтмана о художнике
1. «Райна, королевна болгарская»
Содержание «Райны, королевны болгарской», появившейся впервые в 1843 г. в июльской книжке «Библиотеки для чтения», в общих чертах сводится к следующему.
После внезапной смерти царя Симеона, случившейся при таинственных обстоятельствах, престол занял сын его Петр. При нем начались феодальные смуты. Ближайший советник Петра, Георгий Сурсувул, армянин по национальности, облеченный высоким титулом комиса, является душой тайных политических интриг; он ищет царской власти для своего сына, комитопула Самуила, и намеренно провоцирует столкновение с Византией, рассчитывая с помощью императора получить престол. С династическими целями он стремится породниться с царем, женив Самуила на дочери Петра Райне, в которую комитопул страстно влюблен. Получив отказ, он вынашивает замыслы мести.
Тем временем византийский император призывает на помощь против болгар русского князя Святослава, и тот, явясь с дружиной, начинает опустошение страны. В самом начале похода Петр умирает; волей обманутого народа Георгию Сурсувулу вручается царская власть. Райне передают посмертную волю отца: выйти за Самуила. День свадьбы назначен; Райна, казалось, покоряется судьбе, но с амвона обвиняет комиса и его сына в убийстве своего отца. Среди всеобщего замешательства предстает видение: Петр на троне и рядом с ним Райна. Самуила поражает суеверный ужас; Райну замертво выносят из толпы.
Спасителем Райны оказывается дядя ее Воян, сын Симеона от первой жены, отвергнутый отцом и много лет скрывавшийся под видом отшельника. Он изучал искусство магии и пользовался славой волшебника, однако волшебство его заключалось в необыкновенном даре ваяния. Во время начавшихся смут он пытался предупредить Петра о предательской игре Сурсувула и являлся на площади безвестным старцем, предсказывавшим народу беды от узурпаторов. Ему принадлежала изваянная из воска группа, изображающая Райну и Петра, которая внушила страх Самуилу, — и он же с небольшой группой сторонников похищает Райну и укрывает ее в окрестных пещерах.
В это время войско Святослава вступает в болгарскую столицу; Святослав видит изваяние и восхищен красотой Райны; он требует возвращения королевны, грозя в противном случае разорить царство ее отца. Здесь к нему является Воян в виде чернеца и произносит пламенную речь о бедах Болгарии. Святослав тронут; он обещает утвердить на престоле законную династию и положить конец смутам и неустройству. Разговор убедил Вояна, что русский князь не «насильник и женолюбец» и что судьбы Болгарии зависят теперь от него и от Райны. Он решает сблизить их, поселив в обоих любовь. Вдохновленный этой мыслью, он создает восковой лик «добросанного князя», полный красоты и величия. Замысел удался: образ прекрасного витязя поражает воображение девушки. Брат Райны, Борис, бывший в заложниках в Царьграде, возвращен на болгарский престол; во время праздника происходит встреча Райны и Святослава.
События, казалось, движутся к благополучному концу, однако в Киеве умирает мать Святослава, великая княгиня Ольга, и Святослав вынужден на время покинуть Болгарию, в которой решил было обосноваться навсегда. Придя как враг, он стал «поборником» родственной страны; здесь он «мирен духом», и любовь к Райне сулит ему счастье. Вступление на византийский престол Иоанна Цимисхия разрушает эту идиллию; новый император, сам армянин по происхождению, вступает в сношения с комито-пулом Самуилом, и в Болгарии вспыхивает мятеж. Борис свергнут, Райну захватывают в плен. Возвратившийся Святослав вынужден теперь бросить свою дружину против огромного греческого войска, — он требует не золота и добычи, а прекращения смут и восстановления Бориса на болгарском престоле. Сеча следует за сечей; сам же Святослав вместе с Вояном в дерзком ночном набеге освобождает Райну из укрепленных теремов лесной ку-лы. Греки предлагают мир, и Святослав теперь должен вернуться на родину; с ним вместе уезжают Воян и Райна. В Белобережье русскую дружину настигают печенеги, нанятые комитопулом Самуилом; они требуют Райну. Борьба с несметным войском безнадежна, но выдать Райну Святослав отказывается. Она решается принести себя в жертву, спасая Святослава, а тем самым своих братьев и родину. В полночь она выходит на кровлю теремной башни под стрелы печенежских лучников; пораженная стрелой, она остается неподвижной; ветер колеблет ее белое покрывало. В замке хватились Райны; Святослав, боясь, что она сама отдалась в руки печенегов, предпринимает отчаянную вылазку; в разгар битвы он замечает неподвижную белую фигуру на башне и, забыв о врагах, погибает под их ударами. Умирает и Воян, положив голову на колени племянницы. Печенеги занимают Белобережье, названное ими «Кизикерменом» — «Крепостью Девы».
Со смертью Святослава оканчивается «самобытное существование Болгарии», подпадающей под власть Цимисхия; Борис развенчан; несколько лет правит Самуил, отложившийся от Греции; но это последняя вспышка самостоятельности; «с 1019 года Болгарией правили уже наместники василевсов греческих».
Такова эта повесть. Она отнюдь не принадлежит к лучшим писательским достижениям Вельтмана; над ней тяготеют сюжетные схемы исторического романа из времен средневековья, принятые, видимо, с оглядкой на традицию В. Скотта и его подражателей: мы находим здесь реликтовые мотивы «таинственного» и «сверхъестественного», тут же объясняемые; сюжетные перипетии «похищений», характерную топографию — крепости в лесу, подземелья, служащие убежищем воину-отшельнику. Психология действующих лиц чрезвычайно обеднена: действуют «злодеи» и «герои», и их функция в повести полностью определяет их характер и поведение. Центральная сюжетная линия — любовь Святослава и Райны — по своей обрисовке восходит даже к доромантическим образцам. Тем не менее именно «Райне» предстояло сыграть значительную роль в болгарской литературе 1860-х годов; в 1852 г. появляются одновременно два ее перевода (Е. Мутевой и Й. Груева); в 1866 г. Д. Войников пишет на ее основе драму и ставит на сцене; увлечение ею испытывает в 1860-е годы Л. Каравелов[1044]. В бумагах Вельтмана сохранилось письмо Н. Х. Павловича из Одессы от 8 мая 1861 г., где корреспондент благодарит писателя за добрые чувства к болгарскому народу, выраженные в его романе, и сообщает о написанных им исторических картинах на темы «Райны»[1045]. Пробуждение интереса к Болгарии, несомненно, было одной из главных задач Вельтмана; эта открыто идеологическая установка, сказавшаяся в цитированной нами выше концовке повести, наложила свою печать и на ее художественную структуру. Отсюда идет и откровенная идеализация походов Святослава. «Молва о его великодушии пронеслась по всей Болгарии. Никто не смел противиться грозе меча его; но и никто не жаловался на насилия и грабежи» (85). Между тем Вельтману, конечно, были хорошо известны результаты войны Святослава в Северной Болгарии — разрушения и жестокости, наводившие страх на население; по словам Льва Диакона, в 970 г. киевский князь приказал посадить на кол 20 тысяч человек[1046]. Вельтман идет дальше Карамзина, которого, как мы помним, еще Липранди упрекал в идеализации Святослава. Но Вельтману нужен не исторический киевский князь, а символ объединения родственных народов, — и акцент ложится как раз на тот мотив, который занимал воображение писателя в годы работы над «Светославичем», — мотив растущей привязанности к завоеванной стране. Это летописное известие вместе с известием о холодности Святослава к жене-киевлянке является историко-психологической мотивировкой для появления фигуры Райны — полностью вымышленной.
Концепция Святослава имела у Вельтмана, однако, и более глубокие корни. «Рыцарский» этический кодекс, которым он наделяет своего героя, согласно историческим воззрениям Вельтмана, сложился веками. Историческая генеалогия Святослава уходит в полумифические представления «Эдды» — к «владетельному роду Форн-Иотаров, то есть древних великанов (Reus)», — как объяснял Вельтман ранее происхождение другого своего рыцаря-славянина — Ратибора Холмоградского[1047], — и даже далее, вплоть до древнеиндийского мифа. В допечатной редакции повести читаем: «Святослав был последний представитель быта древней славянской Руси, или раджии, как индейцы, родичи славянского племени, называют рыцарство, или благорожденное сословие посвятивших себя божеству войны Сканде, или Светавасу, Индре белоконному. Святослав был скандинав, но юмальского или гималайского племени, которое у норманнов называлось Рызар или Форнйотар, то есть древнейшее вельможное племя, порода царственная»[1048]. От «раджанов», значится в основном тексте, шел и свято соблюдаемый Святославом воинский закон рыцарской чести: не носить «бесчестного» оружия — палки с клинком, «зубчатых стрел, стрел, напитанных ядом, и стрел огнеметных». «Раджаны не нападали ни на спящего, ни на безоружного, ни на удрученного скорбию, ни на раненого, ни на труса, ни на беглеца» (30).
Итак, отношения Святослава к наследникам Симеона возникают на почве исконного родства, уходящего в доисторическое и мифологическое прошлое индийских предков славянства, — родства «царственных пород». «Породнение» с болгарской царевной в этом смысле есть своего рода акт воссоединения. Именно это родство обеспечивает Святославу и Вояну взаимное понимание, когда речь между ними заходит о прошлом могуществе болгарской земли; «голос крови» связывает собеседников. В одном из планов повести Вельтман специально отмечает: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки». Все это типично славянофильский комплекс идей, отразившийся, между прочим, и в болгарской этнографии, — напомним «индоевропейские» увлечения Г. С. Раковского[1049].
Если Петр, Воян, Святослав, Райна составляют круг «положительных» героев повести, то противостоит им иной, столь же монолитный. Он включает Георгия Сурсувула, греков и Самуила. Заметим, что все это не славяне. Исторический Самуил был по происхождению армянин; соответственно армянином является и Георгий Сурсувул, согласно Вельтману, отец Самуила. В тексте повести мы не раз находим указания на союз их с единомышленниками — византийскими армянами; стало быть, и здесь действует «голос крови», объединяющий людей по этническому родству. Этот мотив вообще характерен для славянофильского национализма; однако абсолютизировать его было бы ошибочно: оснований к тому не дает ни творчество Вельтмана в целом, ни рассматриваемая повесть, хотя в ней он, как тенденция, сказался сильнее, нежели в других произведениях писателя. В «Райне» сыном армянки, второй жены Симеона, оказывается Петр; тем самым армянская кровь течет и в жилах героини повести Райны, которая к тому же наполовину гречанка: Вельтман делает ее дочерью Петра от брака с греческой царевной.
Национальный мотив является, таким образом, вторичным при характеристике лагеря «врагов»; они объединены не по национальному, а по социальному признаку. Это феодалы, сеятели смут, узурпаторы. Воплощение феодального честолюбия и феодальных распрей — Георгий Сурсувул, готовый навлечь беды на родину ради собственных выгод. Это романтический злодей.
Позднейшие историки совершенно иначе расценивали роль Сурсувула — твердого и энергичного регента при мягком и слабовольном Петре[1050].
Современники Вельтмана — Липранди, Палаузов — также отнюдь не подозревали его в раскольнических замыслах[1051]. Исключением был Венелин; именно он выдвинул гипотезу об «интригах Юрья Сурсувула», который якобы имел намерение сохранить в руках власть «дяди короля» и вступил для этого в тайные сношения с Византией и в дворцовые распри[1052]. Была ли эта близость версий результатом общения Вельтмана с Венелиным (книга Венелина вышла посмертно лишь в 1849 г.) или возникла независимо, по аналогии с многочисленными подобными же фактами западной и русской истории, — сказать сейчас трудно.
Эта гипотеза, вполне произвольная, цементировала, однако, художественное целое. Георгий Сурсувул, брат жены Симеона, по праву королевского зятя занимает место у подножия престола и добивается удаления законного наследника — Вояна. По его плану убит и сам Симеон, а затем царь Петр; обманутый народ избирает его на царство, но он отказывается: он готовит трон для своего сына Самуила.
Во всех этих эпизодах история составляет лишь внешнюю канву, и отклонения от нее намеренны. Нужно сказать, однако, что в тексте повести Вельтман избегает прямо противоречить известным в его время историческим фактам; он заполняет художественной фантазией исторические лакуны. Конечно, Георгий Сурсувул ни прямо, ни косвенно не был причиной смерти Симеона и Петра, но та и другая произошла скоропостижно и неожиданно для современников и давала возможность вышить художественные узоры на исторической канве. Вопрос о происхождении Самуила, занимавшего болгарский престол в 997–1014 гг., не окончательно разрешен и в наши дни; в 1840-е годы он был вовсе не ясен. Известно, однако, что Самуил возглавлял восстание четырех комитопулов (сыновей комиса), начавшееся в 969 г., уже после смерти Петра, и носившее антивизантийский характер[1053]. Вельтман смещает хронологию и устанавливает произвольные связи. Название «комис» обозначало разные высшие военные должности; Вельтман применяет его к Сурсувулу, чтобы связать его с восстанием комитопулов. Теперь короля Самуила легко превратить в сына Георгия Сурсувула — и он делает это, давая таким образом художественную и психологическую мотивировку политическим интригам последнего; он вводит в этот круг вымышленную Райну и заставляет Самуила искать ее руки. Все эти погрешности против истины нужны писателю для того, чтобы центральная идея повести, связанная с именами Святослава, Райны и Вояна, получила видимость исторического обоснования.
И столь же произвольно, хотя и целенаправленно, Вельтман создает художественный и национальный колорит своей повести.
Рассматривая художественное воплощение болгарских впечатлений, например, у Теплякова, мы уже имели случай заметить, что в них нет никаких попыток найти специфический couleur locale вновь открываемой страны. Причиной этого были и индивидуальные особенности Теплякова — поэта и историка, и слишком незначительный багаж сведений по истории и этнографии Болгарии, которым располагала русская литература в конце 1820-х годов. Иное дело Вельтман, писавший в 1843 г., с уже определившимся славяноведческим направлением интересов. Стилизация была особенностью его художественной манеры. Его исторические романы каждый раз получают свой стилистический ключ, — иногда даже несколько; в прихотливом сказе контрастируют или накладываются друг на друга то иронический «Ich-Erz ä hlung» современного автора-повествователя, то народная сказка или легенда, то эпическая песня. В «Райне» нет этих контрастов, но на «нейтральном», «вальтер-скоттовском» повествовательном фоне время от времени возникают стилизованные фрагменты. Обычно это речевые характеристики персонажей. Они отсылают читателя к определенным литературным образцам, которые в совокупности и позволяют нам почувствовать, каким образом Вельтман создавал национальный болгарский колорит X в.
Прежде всего, конечно, это летопись. Прямые цитаты, со ссылкой на летопись, есть в описании Святослава в третьей главе; мы находим и парафразы летописных формул, равно как и общих мест былинных и сказочных текстов: «Идет князь — большой за меньшего не прячется; на суде — умный дураком не ограждается, виноватый на правого вины не складывает» (34), Вельтман обратился также к «Слову о полку Игореве»: «Днепр лелеет насады Святослава… на каждом насаде по сорока пеших воинов; красные щиты стеной у борта… Там, где Днепр пробил каменные горы Половецкие, начинались кочевья ордынские» (52–53). Все это было совершенно естественно при изображении древней Руси; несколько иначе создается стилистический колорит болгарских эпизодов. Здесь Вельтман избегает имитации «древней» речи, лишь изредка вставляя в текст болгарские и сербские слова. Зато он обращается к тексту Библии. «Лобзай его лобзанием сердца, как меня, брата твоего», — говорит Борис Райне, указывая на Святослава (89). Это формулы «Песни песней». Но, вероятно, наиболее показательным примером является речь Вояна перед Святославом; на развалинах Болгарского царства в виду грозного завоевателя Воян произносит речь — парафразу плача Иеремии. Вельтман сам назвал свой источник, которому следовал почти буквально:
«Райна, королевна болгарская»
За что возложил ты на нее руку гнева своего, напряг лук свой и поставил ее знамением на стреляние? За что насытил горестию и напоил желчью? (72)
Оскудели очи ее в слезах, смутилось сердце, изливается душа, да не на лоно матери! (72)
Потемнело наше золото, изменилось серебро наше доброе, рассыпались камни святыни, достояние наше обратилось к чуждым, домы к иноплеменникам; отпала красота с ланит дев; как овны без пажити, идем мы пред лицом гонящих нас! (73)
«Плач Иеремии»
Напряже лук свой и постави мя яко знамение на стреляние (III, 12); насыти мя горести, напои мя желчи (III, 15)
Оскудеша очи мои в слезах, смутися сердце мое, излияся на землю слава моя (II, 11); егда изливахуся душы их в лоно матерей их (II, 12)
Како потемне злато, изменися серебро доброе; рассыпашася камыцы святыни (IV, 1); достояние наше обратися к чуждим и домы наша к иноплеменником (V, 2–3); и отъяся от дщере Сиони вся лепота ея; быша князи ея яко овни не имущии пажити, и хождаху не с крепостью пред лицем гонящего (I, 6)
Нет никаких сомнений в том, что в выборе источника для своих стилизации Вельтман опирался и на соображения филологического порядка. Он ориентировался на язык Кирилла и Мефодия и славянских законоучителей времени Симеона. Однако было бы странно, если бы он не попытался расширить круг литературных и языковых ассоциаций, пользуясь тем фольклорным материалом, который уже имелся в его распоряжении. Действительно, уже в первые главы повести он вводит имитацию плача по царю Петру, со строками-лейтмотивами: «Ой, горе, горе, великая тужба!», «Ой, враны-гавраны поднялися с гнезд…» Эти двуязычные тавтологические сочетания (скорее русско-сербские, нежели русско-болгарские), метафорические обозначения («орел», «ворон»), постоянные эпитеты («белое тело») были для него стилизацией условно-фольклорной стихии в целом. Самый же плач он не стилизует, а почти без изменений переносит из Краледворской рукописи:
Ой, подскочил к нему льстивый враг, Поразил в широкие перси тяжкий млат! Зашумел-застонал жалобой темный лес; Ой, вышиб он ему душу-душеньку, Вылетела она чрез гортань, вылетала, Из гортани красными устами отходяла! Ой, хлынула волной его теплая кровь; За подружкой-душкой струею течет!Это почти точный перевод «Оленя», по-видимому, первый стихотворный перевод песни на русский язык[1054].
По-видимому, не случайно Вельтман останавливает свой выбор на таком типе эпического описания, который в наибольшей мере напоминает гомеровский эпос. Параллели между сербскими юнацкими песнями и «Илиадой» стали в это время общим местом в фольклористике, и не без оснований; современные исследователи также неоднократно обращали внимание на сходство — как раз в изображении гибели героев[1055]. Об этом писал и Венелин; расширяя эту параллель, он находил «гомеризм» и в болгарских песнях[1056]. Для Вельтмана здесь лежит один из признаков фольклорного стиля, в том числе и общеславянского, — и ему нужен пример такого стиля в наиболее «чистом» его виде. Он не мог в 1843 г. сомневаться в подлинности Краледворской рукописи, но он знал, конечно, что имеет дело не с болгарским и не с близким сербским, а с чешским фольклором. Но национальные грани стирались в его художественном сознании. Он создавал некую общую модель «славянского героического эпоса».
Вельтман поступал со своими литературными источниками так же, как с историческими: свободно контаминируя материал во имя общей социальной и художественной идеи. Материал этот был разнороден, и ему не удавалось добиться художественного единства. Быть может, ярче всего это сказалось на том образе «Райны», который явился наиболее существенным достижением писателя и который первоначально должен был стать в повести центральным. К этому образу — Вояна — мы и переходим. Он должен быть рассмотрен вместе с творческой эволюцией замысла.
2. Воян
В бумагах Вельтмана сохранились два плана будущей повести.
Один из них, без заглавия, подробно излагает содержание первых сцен, имеющих некоторые важные отличия от печатного текста. Второй план охватывает содержание повести целиком и также отклоняется от известной нам печатной редакции. Датировать эти планы точно мы не можем; существенно, однако, что они принадлежат к ранней стадии (или стадиям) формирования замысла. Второй план, озаглавленный «Содержание повести „Баян“», содержит историческую экспозицию, Vorgeschichte повествования, набросанную на отдельном листе:
Содержание повести «Баян»
У Симеона, болгар<ского> короля, были от первой жены дети: Михаил и Боян. Михаил пострижен; а Боян был волшебник, мог человека в волка и в другого зверя превращ<ать>. От второго брака, от сестры Георгия Сурсувула, были Петр, Иоанн и Михаил.
Покуда Симеон был в живых, все окрест<ные> народы боялись его как сильного борца и грозного короля; но когда умер — на Болгар<ию> восстали турки (венгры), сербы, хорваты (раазы) и греки.
Петр начал войну с греками, но кончил миром и союзом с дочерью Христофора Кесаря (Роксана)[1057] Марией (в крещ<ении> Ирина).
Братья Петра из зависти начали ковы строить. Они брата Иоанна посад<или> в темницу, а сообщников убили; греческ<ий> (см. Раича, кн. II, с. 490) царь Лакапен способ<ствовал> убежать ему из темницы и увез в Конс<тантинополь>, где женил на армянке.
Михаил также восстал на брата, но с своими единомышленниками принужд<ен> был бежать в Грецию, коей и передался (но вскоре умер).
По смерти Ирины, жены Петра, мир с грек<ами> продолжался: два сына Петра Борис и Роман были в залоге у имп<ератора> Ники-фора.
NB. После Лакапена возвед<ен> на визант<ийский> прест<ол> Никифор Фока в 963 году. В 4-е лето царств<ования> в июне он требовал от Петра, чтоб он войско турков (венг<ров>) не пропускал чрез Дунай, но он не обратил на это внимания; почему Фока послал Калокира, сына херс<онского> князя, назнач<енного> патрикием, к Святославу, вызывать на войну с Булг<арией>.
Когда Русь пришла в Болг<арию>, Петр умер, правили два сына Петра, Борис и Роман; они взяты были в плен.
В это время Фока умер, восш<ел> на прес<тол> греч<еский> Иоанн Цимисхий; Калокир обещал Святославу утверд<ить> за ним Болгарию, если он согласится способст<вовать> ему занять престол гречес<кий>.
Певец Баян оплакивает падение родины:
Тяжко тебе, голове, кроме плечю, Зло тебе телу, кроме головы!Действу<ют?>.
Баян — сын Симеона от первой жены, славянки.
Мать Баяна.
Эта экспозиция почти целиком соответствует историческим данным[1058], за одним существенным исключением, которое вместе с тем является и неким зерном замысла. Исключение касается сыновей Симеона. О них сообщали византийские хронисты, затем Дюканж и Раич, трудами которых пользовались и Вельтман, и Липранди. От первого брака Симеон имел только одного сына — Михаила; от второго — с сестрой вельможи Георгия Сурсувула — троих: Петра, Ивана и Вениамина, известного также под народным именем Бояна. Дюканж, а за ним Раич и Липранди говорили о двух Михаилах — от первого и второго брака; младшего Михаила, по их мнению, хронисты называли Вениамином[1059]. Эта версия отразилась в плане, где также названы два Михаила. В печатном тексте Вельтман от нее отказался, а впоследствии в примечании к переводу «Слова о полку Игореве» изложил ее, отметив вопросительным знаком как сомнительную[1060]. Дело, однако, было здесь не только — и даже не в первую очередь — в историческом критицизме. Уже из названия плана совершенно очевидно, что Боян мыслился в качестве героя повести. Его первородство — важный элемент замысла: он законный наследник престола. Пункт плана: «Баян — сын Симеона от первой жены, славянки» намечает второй существеннейший мотив, о котором нам пришлось уже говорить выше.
Теперь нам необходимо обратиться к другому плану, где есть содержание первой главы. Оно намечено уже и в нашем плане: «Певец Баян оплакивает падение родины» и «Мать Баяна»:
Содержание
Глава 1
Король Петр, сын Симеона Болгарск<ого>, умирает; его сыновья Борис и Роман в залоге в Констант<инополе>. Народ собирается в граде Великой Преславе на площади близ храма Св. Димитрия рядить, кого избирать на царство. Партии: войско за Георгия Сурсувула, извес<тного> под именем комиса булгарс<кого> или комитопула, брата жены Петра, который, занимая должность конюшего при короле <1 нрзб.> и дядьки детей Симеона, имел право в случае неимения наследников на престол. Другая партия малочислен<ных> любимцев Петра — за детей Петра, находящ<ихся> в залоге[1061]. Начинается раздор. Боян, певец народный, уговаривает народ звать наследников Петра; но народ, обольщенный Георгием, не соглашается по нелюбви к Петру и не хотя зависеть от греков. Является на площадь старая женщина, монахиня, она требует слова[1062] и, обращаясь к Бояну: «Боян, Боян, полно петь! ты сын Симеона». Она[1063] рассказывает народу причину ненависти к ней Симеона и открывает, что Боян его сын законный. Народ готов провозгласить Бояна; но он отрекается. «Отец отрекся от меня, — говорит он, — не возьму наследия, вот наследие мое (показ<ывает> гусли), певцу ли быть царем?»
Народ избирает Георгия-комиса.
«Сын Симеона от первой жены, славянки», Боян первоначального замысла является как носитель национально-патриотической идеи. «Боян — Сурсувул» — это целая система контрастных противопоставлений. Боян — славянин, Сурсувул — чужой. Боян — законный наследник престола, отрекшийся от него; Сурсувул — честолюбец, мечтающий о власти. Боян хочет национальной независимости Болгарии, Сурсувул — ее подчинения Византии. Боян действует силой поэтического убеждения, Сурсувул — путями интриги и обмана.
Роль Бояна в сюжете отчасти проясняется второй половиной рассматриваемого нами плана, которую приводим целиком:
Глава 2
Между тем гречес<кий> император призывает Святослава на помощь против булгар. Святослав сбирается в поход, покоряет Булгарию. Торжество. Является Боян. Поет и смиряет нрав Святослава; поет ему про деву святую. Святослав спрашивает: где она? Он говорит, что[1064] только христианин может ее видеть.
Святослав получает известие о нашествии печенегов на Киев. Он забыв<ает> все и торопится из Булгарии, предоставляя правление Борису, но под воен<ным> началь<ством> <1 нрзб.>, к чему уговорил его Боян. В Киеве тоскует о неизвестной деве и вскоре возвращается в Булгарию.
Глава 3
Военные действия против греков. Святослав призывает Бояна.
Вторая и третья главы «Содержания» довершают абрис первоначальной фигуры Бояна. Перед нами певец, гусляр царственного рода, с судьбой, полной внутреннего драматизма: сын первой, нелюбимой жены царя, согласно Вельтману сосланной или добровольно ушедшей в монастырь (историкам судьба ее неизвестна) он знает свои права на престол, но добровольно отказывается от них. Истинное призвание и наследие певца — его искусство. Его Боян ставит на службу вере. Когда Святослав покоряет Болгарию, он обращает его, силою песнопений, к образу святой девы. По-видимому, Райна (если она присутствовала в этом замысле) должна была стать в глазах Святослава чем-то вроде земного воплощения богоматери, орудием христианизации языческого героя.
Так, определяется славянофильская концепция вельтмановской повести. «Чистая кровь родства» близких народов, «чувства любви к божеству, к родной земле и к своему ближнему» — все то, что Вельтман считал непременной принадлежностью первобытного славянского патриархализ-ма, получает художественную реализацию в образах Бояна, Святослава и в их взаимоотношениях.
Боян первоначального плана, конечно, нес на себе черты певца из «Слова о полку Игореве». Такая параллель напрашивалась сама собой: 30 апреля 1830 г., накануне отъезда в Болгарию, Венелин писал Шевыреву: «…еду… в страну классическую для Руси… в Болгарию, отечество Баяна, славянского Оссиана»[1065]. У Вельтмана первые импульсы к отождествлению двух Баянов возникли еще в 1833 г., когда он издавал «Слово» и остановился перед «темным местом»: «Рекъ Боянъ и ходы на Святославля п h снотворца старого времени Ярославля Ольгова коганя хоти: тяжко ти головы, кром h плечю; зло ти т h лу, кроме головы: Русской земли без Игоря». Затруднившись в толковании «ходы на» и не определив двойственного числа[1066], Вельтман пытался выйти из положения путем рискованных конъектур. «Расстановка слов, — писал он, — кажется, должна быть следующая: Боянъ песнь творцю стараго времени (так же, как и выше: соловiю стараго времени) Ярославля Ольгова, Коганя, рекъ хоти и ходы на Святославля; т. е. рек желания свои и обращения к Святославу». Далее он сделал примечание, для нас особенно интересное: «Слова Бояна совершенно изображают горестную мысль о удалении Святослава в Болгарию; а слова певца Игоря прекрасное сравнение обстоятельств»[1067].
Когда Боян, сын Симеона, выдвинулся в качестве героя повествования, Вельтман воспользовался своей старой гипотезой — не прямо, а ассоциативно: в уста своему гусляру, певцу Бояну, он вложил слова: «Тяжко тебе, голове, кроме плечю, Зло тебе, телу, кроме головы!» — слова, как он считал, обозначавшие тему «болгарских походов Святослава». Далее по пути сближения двух Боянов он не пошел. Это сделал Венелин, который прямо попытался доказать их тождество и даже характеризовал болгарского Бояна по тексту русского памятника[1068]. Гипотеза держалась и позднее — с разными вариациями — как в русской, так и в болгарской историографии[1069].
Между тем за год до выхода «Райны» Вельтман пришел к особой точке зрения на Бояна, делавшей невозможной такую ассоциацию. Имя «Бо-ян» в соответствии с этим новым пониманием явилось в «Слове» вследствие порчи текста; певец «Слова» — «бо Ян», Ян Вышатич, упоминаемый в летописях[1070]. Во втором издании своего перевода «Слова» Вельтман сохранил это предположение и сделал любопытное примечание, бросающее отчасти свет и на источники «Райны»: «Некоторые ссылаются на Бояна, сына Симеона, краля Болгарского. По Качичу, у Симеона было три сына: Стефан, Вукош (Вук) и Сава. Ковачич (так!) в „Песнословке“ называет Вукоша Волканом. Раич в своей Ист<ории> славян называет, по Дюфрену, сыновей Симеона Петром, Иоанном и Михаилом (?) и прибавляет, что у него был четвертый сын Воян, который чародействовал и претворял человека в волка. Но этот Боян и есть тот же вук (волк), ибо это имя изменяется в Вуjо, Вуян, Вукач, Вукаш и Волкан»[1071].
В данном случае Вельтман ошибся; по-видимому, у него не было под руками сборника Качича. Из сыновей Симеона Болгарского Качич говорит об одном Петре; Степана, Вукшу и Сабу (Саву) он называет как сыновей словинского короля Симеона[1072]. Слова Раича изложены точнее, хотя несколько изменено написание имени (у Раича — Ваян)[1073].
Нам важна, однако, не эта ошибка, а изменение художественного смысла образа. Боян и Воян разошлись. Теперь нам следует обратить внимание на одну деталь, которая в свете сказанного представляется существенной. «Содержание», в котором идет речь о певце-христианине, называет его Боя-ном. В первом листе другого плана, где записано «Содержание повести „Баян“» и изложена историческая экспозиция, где «певец Баян», сын Симеона от жены-славянки, «оплакивает падение родины» цитатой из «Слова о полку Игореве», употреблено две формы: Боян и Баян. Вторая глава этого плана, как и все последующие, записана на особом листе, и речь здесь идет только о Вояне. Этот Воян не певец, и роль его в повести совершенно иная. Мы должны говорить о двух стадиях замысла; к первой относится «Содержание» и первый лист «Содержания повести „Баян“»; ко второй — все остальное. К рассмотрению второй стадии мы и переходим.
Отказавшись от певца Баяна, Вельтман сделал исходной точкой развития образа легенду, рассказанную Лиутпрандом.
Лиутпранд, кремонский епископ, талантливый историк, посетивший Византию в 949 г. с дипломатической миссией, рассказал, что Боян (Вениамин), сын Симеона от первой жены, занимался колдовством и мог превращать человека в волка или любого зверя по выбору. Дюканж удержал этот рассказ; Раич повторил его; Липранди пересказал Раича и даже сохранил его комментарий: «суеверие, достойное тех времян»[1074]. Это-то «суеверие» оказывается важным для Вельтмана, — оно составляет зерно концепции. Воян не певец, а чародей, воздействующий не на дух, а на тело; он превращает человека в волка и заключает («по Качичу») понятие «волк» в своем собственном имени. Он обладатель атрибутов оборотничества, закрепленных в былине о Волхе и фигуре князя Всеслава в «Слове о полку Игореве». Не лишним будет напомнить, что сказку о Волхе-оборотне Вельтман включил в «Кощея бессмертного»[1075], а позднее цитировал во втором издании «Слова» «древнюю песню о Волхе Всеславьевиче» — правда, вне связи со Всеславом. Фигура же последнего интересовала его особо; об этом князе, рожденном, по словам летописи, от волхвованья, он приводил в соответствующем месте свод летописных свидетельств[1076].
В новом облике Бояна — Вояна стали проступать черты древнего языческого мифа[1077].
Соответственно меняются акценты и семантическая нагрузка. Воян — художник, ваятель (не исключена возможность, что Вельтман этимологизировал имя). Искусство его не божественное, а языческое, дьявольское. Его цель не утвердить, а уничтожить христианство, и он намерен сделать своим орудием Святослава. В этом плане впервые появляется фигура Райны — героической защитницы христианства, обращающей Святослава силою небесной и земной любви, и в первый раз возникает мотив изваянного портрета.
Приведем этот план:
Глава 2. Сбор народа в Переяславле и раздоры за выбор короля. Партия за Бориса и Романа, сыновей Петра, наход<ящихся> в Кон-с<тантинополе>, и партия комитопуловых детей. За комитопулов войско. Воян-гусляр смущает народ предск<азанием> бед.
Глава 3. Комитопул вступает на престол, требует от Райны ее руку, она не соглашается; хочет употр<ебить> насилие; является Воян и уводит ее в пещеру к себе.
Глава 4. Посольство греч<еского> импе<ратора> к Святославу. Он идет в Булгарию — война — Свят<ослав> в Переяславце.
Глава 5. Пещера Вояна. Жизнь Райны в ней. История Вояна. Воян лепит из воску образ Райны и наряжает в ее одежду, язычники в его распоряжении, посредством их он ведет интриги. Во дворе переяславском живет один из его приверженцев, Ракош; чрез него вносят во дворец образ Райны; он уверяет Ракоша, что это лик богини и что Святослав влюбится в нее и примет сторону булгар и уничтож<ит> хрис<тианскую> религию.
Глава 6. Святослав побеждает комитопулов — берет их в плен. Борис и Роман прибыли в Переяславль, готовится торжество коронования. Святославу является Воян. Соблазняет его ликом Райны; условия, на которых он ее получит. В это время известие от Ольги о нашествии печенегов. Святослав, забывая любовь, оставляет часть войска в Перея<славле>, едет в Русь, остановив торжество коронования Бориса до возвращения своего.
NB. Воян ведет Святос<лава> в пещеру и показывает лик Райны, а Райне Святослава. Райна влюбляется. Воян говорит ей, что она получит руку его, что будет царицей Греции, если отречется от Христа. Она отрекается.
Глава 7. Святослав возвращается, война с греками. Боян ведет Святослава в пещеру; там показывает он ему Райну; Райна видит Святослава.
Глава 8. Воян уговаривает Райну, чтоб она отреклась от Христа, тогда корона Греции и Святос<лав> будут принадл<ежать> ей; она отрекается.
Святослав тайно ходит около пещеры и встречает Райну, бежавшую от Вояна. Разговор с ней. Она спрашивает его, христианин ли он, и узнав, что нет, отталкивает его от себя. Святослав дает слово быть христианином. Она умоляет его не вести войны против ее братьев. Он посылает посла к Цимисхию и уезжает с ней в Русь.
Глава 9. Воян восстанавливает печенегов на него <?>. Смерть Свят<ослава> и Райны.
В этом плане присутствуют почти все основные сюжетные мотивы повести, но как бы с обратным знаком. Зловещий, дьявольский образ соблазнителя Вояна определяет их функцию. Отравление Райны от посягательств комитопула мнимо; оно лишь пролог к целой цепи несчастий. Великое произведение искусства служит преступной цели, и любовь, им вызванная, несет с собой гибель. Этот резкий поворот сюжета предопределил и расстановку действующих лиц. Райна выдвигается на передний план повествования; собственно говоря, только она и Воян действуют в повести как равные друг другу противники. Святославу отводится роль совершенно пассивная; он ведет себя как идеальный любовник сентиментальной повести. Художественная концепция вновь оказывалась чревата непреодолимыми противоречиями.
Вместе с тем на этом этапе движения замысла осложнился и углубился характер Вояна, который интересовал Вельтмана едва ли не более остальных. Рассказ Лиутпранда о чернокнижнике, владеющем искусством превращения людей в животных, вызвал к жизни целую цепь ассоциаций, уже присутствовавших в творческом сознании Вельтмана.
Дело в том, что еще в 1837 г. он напечатал в «Московском наблюдателе» повесть «Иоланда» из эпохи французского средневековья; в ней шла речь о тулузском церопластике (ваятель из воска) Гюи Бертране, сделавшем по заказу неизвестного восковую фигуру по портрету женщины. Художник не знал, что изобразил «с разительным сходством» молодую девушку знатного рода Санцию, невесту рыцаря Раймонда; не знал он и того, что сделала заказ его сбежавшая дочь Иоланда, соблазненная и оставленная Раймондом; ему было неизвестно, наконец, что восковой портрет послужит предметом «демонских волхвований» Иоланды, которая велит его отпеть как умирающую, а затем проколет кинжалом. По законам симильной магии, известной с первобытных времен, все это должно было вызвать смерть Санции. На деле последовала цепь трагических случайностей: Иоланду обвиняют в убийстве с помощью колдовства и сжигают; невольный виновник трагедии Гюи Бертран умирает от разрыва сердца, узнав в портрете казненной свою дочь. Весь сюжет мотивирован одним обстоятельством: великий мастер добился иллюзии такой силы, что восковую фигуру принимают за труп. К этой небольшой и изящной повести Вельтман сделал обширное примечание о древних и средневековых суевериях, касающихся имитативной магии и связанных с искусством церопластики[1078].
Эти-то сюжетные мотивы и прикрепляются к фигуре Вояна в рассматриваемом плане повести, показывая нам, каким образом рассказ Лиутпранда превратился в повесть о художнике. Первоначальная кристаллизация образа произошла, и теперь к основному сюжетному ядру начинают стягиваться другие мотивы, также связанные с симильной магией и церопластикой.
Прежде всего Вельтман обращается к известной в болгарской истории легенде о смерти Симеона. Эта легенда, рассказанная несколькими византийскими хронистами (Псевдо-Симеоном Магистром, продолжателем Феофана, Кедрином и Зонарой), была известна и Липранди, и Вельтману. Липранди знал ее, по-видимому, по изложению Раича и Мавро Орбини. «В то же время (927 г., — В. В.), — читаем у последнего, — пришел един человек донести царю, что болван, поставленный на воротах Ксерофила, превратился во образ Симеона Болгарянина, которому ежели бы де отрублена была голова, то почует скоро реченного Симеона смерть, еже и бысть учинено. И не много по том нападоша на Болгара болезни безмерные от стомаха, от которых положен бысть во гроб»[1079]. Раич усомнился в этой «повести», похожей «на баснь… и суеверие», и даже предупредил своих читателей, что прислушиваться к ней «не христианско есть дело»; Липранди перевел его комментарий на язык современных понятий: «Повесть, достойная во многих отношениях Мавро-Урбина, который, впрочем, и не показывает источников оной».
Круг сведений Вельтмана ко времени создания «Райны», по-видимому, был больше, и, обрабатывая легенду, он пользовался целым рядом источников, как исторических, так и литературных. В византийских хрониках он мог почерпнуть и другие рассказы, касающиеся симильной магии. Псевдо-Симеон Магистр и продолжатель Феофана сохранили очень близкую легенду из времен императора Феофила (829–842). Желая оградить Византию от нашествия иноплеменных завоевателей, руководимых тремя вождями, император обратился к помощи патриарха Иоанна, владевшего искусством магии. Тот отправился ночью на ипподром, где стояла бронзовая статуя о трех головах; их он путем заклятий мистически отождествил с головами неприятельских военачальников. После этого он велел бить палицами по головам статуи; две были снесены прочь, третья погнулась. Через несколько дней во вражеском стане началась распря, в которой были обезглавлены двое из вождей; третий, раненый, остался жив. Войска их возвратились на родину[1080].
Некоторые реалии вельтмановской обработки заставляют думать, что он свободно контаминировал несколько подобных рассказов. «Статуя, поставленная у ворот Ксерофила», у него получила точное определение — это статуя Беллерофонта, поражающего химеру. Голова Беллерофонта приобретает черты Симеона; уродливый человечек, изваянный в той же скульптурной группе, оживает, чтобы исполнить древнее пророчество: спасти город от могущественного врага. Здесь слышатся отзвуки иных преданий о магических статуях, оберегающих Византию. Одно из них мы можем указать точно: это рассказ Никиты Акомината (Хониата) об издавна стоявшем на Тавре изваянии всадника, о котором говорили, что это Беллерофонт на Пегасе. Когда крестоносцы захватили Константинополь, они отбили молотком левое переднее копыто коня и нашли «статую человека, похожего более на какого-нибудь болгарина, чем на латинянина»; статуя эта, уничтоженная крестоносцами, была талисманом, ограждающим город от нападения[1081]. История Никиты Акомината уже была известна русской историографии: ею пользовался и Полевой для своих «Византийских легенд»[1082].
Образ церопластика Вояна связывал воедино все эти рассказы — от рассказа Лиутпранда до легенд о смерти Симеона. Подобно Бертрану, Воян лепит из воска голову своего кровного родича, чтобы на свое несчастье обречь его в жертву мнимому колдовству. Сам он оказывается игрушкой в руках низких и коварных убийц, которые ночью спиливают мраморную голову Беллерофонта и заменяют ее восковой головой болгарского царя. Волшебство, изумляющее суеверный народ, — отсечение головы Симеона от статуи и ее исчезновение в огне костра — есть результат заранее подготовленного спектакля; безобразный человечек, якобы отделившийся от скульптурной группы, — переодетый заговорщик; гибель Симеона не действие чар, а заранее подготовленное предательское убийство. Сказочник и фантаст, Вельтман решительно избегает мистики; он мог бы повторить вслед за Раичем и Липранди формулу недоверия к «баснословию» византийских и латинских хронистов.
Сюжетная схема повести на этот раз сложилась окончательно, и это было связано с третьим и последним этапом эволюции центрального героя. Пустынник-мудрец, адепт христианской веры — демонический соблазнитель — художник, воин и патриот, искупающий свой тяжкий грех, — путь Вояна из «Райны, королевны болгарской».
Все мотивы, намеченные первоначально, остались — но в новой, преобразованной функции. Наследник престола, отвергнутый отцом, питает в душе месть, поддерживаемую матерью; он погрязает в грехе чернокнижия и в пучинах византийского разврата. Здесь-то он и профанирует свое искусство, становясь невольной причиной смерти отца; фатальное преступление, сделавшееся для него трагической виной, открывает ему глаза. Отныне он кающийся грешник. Собственно говоря, здесь почти тот же рисунок образа, что и в художнике гоголевского «Портрета»: необыкновенный дар, которым он обладает, может в зависимости от применения стать орудием дьявола или божества. Первое вызвало к жизни портрет Петромихали; второе — божественный образ. Голова Симеона — память о первом, греховном этапе пути художника, отмеченном корыстолюбием и жаждой мести; это искусство несет смерть. Изваяния Святослава и Райны внушены чистыми патриотическими помыслами и бескорыстным желанием блага двум родственным по крови и духу существам; это искусство несет любовь. Тень трагической жертвенности все время лежит на этом новом Вояне, в котором как бы совместились черты, полученные от первого и второго своего предшественника: от отрешенного от земных помыслов христианского певца и демона, погруженного в языческую, земную стихию. Отшельник, он покидает свое уединение, чтобы вырвать «сродницу» из рук злодеев; отвергая мирскую суету, он, подобно «второму Вояну», «плетет интриги», но уже не во имя язычества; он устраивает всенародный спектакль, обманывающий суеверов изваянными фигурами Райны и короля Петра на престоле; чуждаясь властителей, он печется о престолонаследии; отвращаясь от плотской любви, он вдохновляет и готовит союз Святослава и Райны. Дряхлой рукой он берет меч и участвует в воинском набеге, освобождая Райну из вторичного плена силой хитрости и оружия. Воплощением патриотической идеи становится художник, аскет и воин.
Этот образ и стал высшим художественным достижением вельтмановской повести, и, как мы пытались показать, совершенно закономерно. Он прошел длительный путь художественной зволюции, в то время как остальные персонажи оставались лишь бледной иллюстрацией исторической и социальной идеи. В то же время он имеет для нашей темы и более общее значение.
Знакомство русской культуры с Болгарией накануне болгарского Возрождения неизбежно должно было пройти несколько этапов развития. Один из них — первоначальное собирание материалов о стране, которая предстала русским изыскателям и литераторам как почти вовсе новая, — с прервавшейся исторической традицией, с не пробужденными еще силами, дремлющими в талантливом, но подавленном вековым угнетением народе. Таково было первое впечатление и Венелина, и Теплякова. Деятельность Липранди и заключалась, собственно, в накапливании и первоначальной систематизации исторических, этнографических, экономических фактов; «прагматическая» история Болгарии также принадлежала этим фазам первичного ознакомления. «О болгарской литературе нечего и говорить, ибо она еще не возродилось», — писал Венелин в 1829 г.[1083]; болгарский фольклор открывал, однако, возможность проникновения в духовную сокровищницу народа, — и фольклористические интересы мы обнаруживаем и у Венелина, и у Вельтмана, и у Липранди. В «Райне, королевне болгарской» мы видим уже первую, пусть несовершенную, попытку художественного познания, — активного освоения и преломления накопленных знаний, — попытку, исторически тем более существенную, что она вызвала «обратную связь» в виде переводов и подражаний и способствовала развитию художественного самосознания в болгарской литературной среде. Образ Бояна — Вояна, ставший затем столь популярным в болгарской историографии, как бы концентрировал в себе предшествующие попытки научного и художественного освоения болгарской истории: художественные мотивы возникают здесь на фундаменте исторического изучения и не теряют своей эстетической природы, синтезируясь в едином и достаточно многообразном и сложном психологическом рисунке. Но повесть Вельтмана не открывала новых путей в русской литературе; она полностью принадлежала позднему, уже угасающему романтизму, — вместе с научными изысканиями ее автора. Историческое и художественное сознание развивались быстро, и уже вторая треть века меняла характер культурных связей: она вызывала к жизни новые интеллектуальные силы, порождаемые не только русской, но и болгарской средой.
Из неизданных откликов на смерть Пушкина[1084]
Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку. Эта общность заключается прежде всего в том, что все стихи, о которых пойдет далее речь, написаны под свежим впечатлением гибели поэта людьми, либо хорошо его знавшими, либо живо заинтересованными его судьбой, и, таким образом, отражают настроения близкой Пушкину литературной или окололитературной среды. Далее: все эти стихи не увидели света при жизни их авторов. Почему это произошло — судить трудно; по-видимому, некоторые из них и не предназначались для печати, другие, может быть, не были пропущены. Известно, что по личному распоряжению С. С. Уварова все отклики на смерть Пушкина должны были проходить особую цензуру председателя цензурного комитета и самого министра[1085]; при этом все отзывы о Пушкине, переходившие границы «строжайшей умеренности», запрещались. Так было запрещено к печати стихотворение А. С. Норова «Погас луч неба, светлый гений…»[1086]. Как бы то ни было, по субъективным или объективным причинам, публикуемые стихи бесцензурны, и это также накладывает на них известный отпечаток: они не только откровенны в выражении своих симпатий к погибшему поэту, но и свободно включают в себя факты и интерпретации, не всегда уместные в печати и представляющие, как мы увидим далее, самостоятельный исторический интерес.
1
Первое из публикуемых нами стихотворений принадлежит перу поэта, драматурга, романиста и критика Бориса Михайловича Федорова (1798–1875), старинного неприятеля Дельвига и Баратынского, присяжного памфлетиста журнала «Благонамеренный», в 1820-е годы — автора известных пародий на «союз поэтов». Эта принадлежность Федорова к враждебному литературному кружку предопределила во многом и то ироническое пренебрежение, с каким относился к Федорову Пушкин. Здесь не место прослеживать детали их личных и литературных взаимоотношений, небезынтересные сами по себе и не во всем еще ясные; укажем только, что Федоров, сохранивший литературную неприязнь к поэтам ближайшего пушкинского окружения, неизменно демонстрировал свою благожелательность по отношению к самому Пушкину[1087]. В данном случае нам важны самые поздние эпизоды их общения, о которых рассказал книгопродавец И. Т. Лисенков: они встретились в его лавке за несколько дней до последней дуэли Пушкина и разговорились. «Два или три часа не могли расстаться, — вспоминал Лисенков, — и пробыли в моем магазине чуть не до полуночи, так что предложенный им мною чай не пожелали принять и с жаром друг с другом вели непрерывный интересный разговор обо всем литературном мире; при расставании же оба один другого приглашали на всегдашнее знакомство, а через три дня оказалось, что приглашению этому осуществиться должно за гробом <…> На другой же день публика была поражена известием о смертельной дуэли, и Борис Михайлович в тот же день явился ко мне со слезами на глазах для воспоминания о его знакомстве у меня, глубоко сожалея о потере знаменитого колоссального поэта, который через несколько дней вскоре и угас»[1088]. Под этим впечатлением Федоров написал стихи, о которых нам известно по упоминанию в письме А. М. Языкова к С. Д. Комовскому от 2 марта 1837 г.: «Мы имеем на смерть Пушкина только стихи Лермонтова и Бориса Федорова»[1089]. Текст этих стихов неизвестен; публикуемое нами стихотворение также не подходит под описание Языкова. Оно, конечно, написано несколько позже и является откликом не столько на самую гибель Пушкина, сколько на связанные с нею разговоры в петербургском обществе.
Федоров посвятил свои стихи княгине Зинаиде Ивановне Юсуповой, урожд. Нарышкиной (1809–1893), жене кн. Бориса Николаевича Юсупова (1794–1842). О связях Пушкина с этим семейством мы знаем очень мало; тем ценнее для нас свидетельство Федорова, что Юсупова с жаром вступилась за «славу» Пушкина в петербургских салонах, заявив себя, таким образом, приверженцем «пушкинской партии». Семью Юсуповых Федоров знал близко; вдова старого князя Н. Б. Юсупова Татьяна Васильевна покровительствовала ему и поддерживала его материально; смерть ее в 1841 г. была для него тяжелым ударом[1090]. В 1849 г. он посвящает специальную брошюру памяти кн. Б. Н. Юсупова[1091]; знакомство же с его вдовой, З. И. Юсуповой, продолжает сохранять до самой смерти. В ее альбоме мы находим несколько стихотворений Федорова, самое позднее из которых датировано 1873 г. Федоров адресует стихи и самой хозяйке альбома, и ее второму мужу, графу Карлу де Шово, маркизу де Серр (Chauveau de Serre); он сочиняет даже целую балладу, прославляющую доблести рода де Шово[1092]. В тот же альбом он вписывает и стихи, удостоверяющие привязанность автора и адресата памяти Пушкина. Поэтические их достоинства невысоки: это обычный галантный мадригал, построенный на парафразе основного мотива пушкинских стихов, адресованных А. П. Керн. В лирическом восторге Федоров потерял чувство меры, отведя Пушкину роль потенциального трубадура светской красавицы. Однако не эстетические промахи или достижения Федорова занимают нас сейчас. Его стихотворение есть своего рода исторический документ, который заставляет нас присмотреться внимательнее к другим материалам юсуповского альбома.
2
Муж З. И. Юсуповой, кн. Б. Н. Юсупов, был сыном того самого Н. Б. Юсупова, которому Пушкин посвятил свое послание «К вельможе». Как реагировали на это послание младшие члены семейства, мы не знаем, но, конечно, оно не прошло незамеченным. Лето 1830 г. Б. Н. Юсупов, гофмейстер двора, проводит в Царском Селе и близко общается, в частности, с Жуковским. В альбоме Юсуповой под датой «1 Août 1830. Soirée au cottage» мы находим автограф шуточных стихов Жуковского «Какое сходство и какая разница между Быком и Розою?»[1093], с тою же подписью «Бык», какую Жуковский употреблял, например, в домашней переписке с А. О. Смирновой-Россет; отношения его с З. И. Юсуповой, известной красавицей петербургского света, уже в это время отличались, как видно, дружеской короткостью. В более поздние годы записи в альбом Юсуповой делают Вяземский, Крылов, Мятлев, И. И. Козлов, Соллогуб — весь круг пушкинских литературных друзей и знакомых. Юсупова коллекционировала автографы, и предметом ее желаний был автограф Пушкина. Она получила его уже после смерти поэта. Об этом мы знаем: из сохранившейся в альбоме весьма интересной неопубликованной записки Жуковского, которую мы приведем полностью.
«J’ai l’honneur de vous envoyer, madame la princesse, un fragment écrit de la main de Pouchkine: c’est une sorte de biographie de son ami Delvig, qu’il n’a pas eu le tems de finir. J’ai voulu d’abord vous envoyer un conte en vers, mais il s’est trouvé que ce manuscript est inséré dans le régistre général et numéroté. Je ne puis pas en disposer. Le fragment ci-joint m’appartient en propre, je 1’ai trouvé dans mes pa-piers et je vous le cède avec plaisir. Je suis sûr à present que me con-serverai dans votre souvenir, car j’y serai fixé par le nom de Pouchkine.
Joukovsky»[1094].Перевод:
«Имею честь послать вам, княгиня, отрывок, писанный рукою Пушкина: это своего рода биография его друга Дельвига, которую он не имел времени закончить. Я хотел сначала послать вам сказку в стихах, но оказалось, что эта рукопись внесена в общий регистр и пронумерована. Я не могу ею раcпоряжаться. Прилагаемый отрывок — моя собственность; я нашел его в своих бумагах и с удовольствием уступаю его вам. Теперь я уверен, что останусь в вашей памяти, ибо буду закреплен в ней именем Пушкина.
Жуковский».Точно датировать эту записку затруднительно. Осенью 1839 — весной 1840 г. Жуковский занимался рукописями Пушкина, готовя к печати IX–XI тома посмертного собрания сочинений[1095]. В XI томе этого собрания была напечатана неоконченная пушкинская статья «Дельвиг» (XI, 273–274), автограф которой, по-видимому, и был подарен Жуковским Юсуповой. Это был, конечно, беловой автограф на пяти листках, поступивший позднее из юсуповского собрания в Пушкинский Дом[1096]. Другие заметки Пушкина о Дельвиге, также известные Жуковскому, — фрагмент из «Отрывков из писем, мыслей и замечаний», отрывок из воспоминаний («Я ехал с Вяземским…»), — во-первых, не подходят под понятие «биография», а во-вторых, имеют жандармские пометы; дальнейшая их судьба также не позволяет думать, что они побывали когда-либо в руках у Юсуповой. Мы можем предполагать, что Жуковский сделал свой подарок не ранее 1840 г., когда вышел из печати XI том «Сочинений Александра Пушкина» и автограф перестал быть необходимым для издания.
Он подарил его как реликвию, заменив им первоначально выбранную «сказку в стихах», которой не мог распоряжаться. Может быть, это была «Сказка о мертвой царевне…». Она действительно имела жандармские пометы (№ 16–21), но оставалась у Жуковского; этот автограф он, между прочим, также подарил — но позднее — Карлу Радовицу[1097].
Таковы дополнительные сведения, дающие своего рода контекст первому из публикуемых нами стихотворений.
3
Второе стихотворение на смерть Пушкина, приводимое нами в приложении, менее интересно по своему бытовому и общественному контексту, но зато более значительно по содержанию. Автограф его наклеен на плотный лист бумаги; по формату и особенностям внешнего оформления это, несомненно, один из сохранившихся листов альбома Н. А. Марковича, в юные годы, да и позднее (в конце 1820-х годов) довольно близко общавшегося с Пушкиным и его кругом[1098]. Автограф беловой; под ним стоят подпись «З-ий» и помета «Триест»[1099]. Этих данных вместе с автобиографическими сведениями, содержащимися в стихотворении, достаточно, чтобы определить автора. Это Ефим Петрович Зайцевский (1801–1860), «поэтический спутник» Дениса Давыдова, моряк-поэт, попавший в поле зрения Пушкина в 1830 г., во время посещения Петербурга по пути на воды в Германию. Зайцевский имел заслуженную репутацию героя после штурма Варны, где он получил рану в руку разрывной пулей. 7 февраля 1830 г. О. М. Сомов писал В. Ф. Одоевскому: «Завтра вечером непременно буду у вас и приведу к вам интересного моряка Зайцевского»[1100], а 10 февраля Пушкин уже печатает в «Литературной газете» поэтическое приветствие Зайцевскому Дениса Давыдова; эти стихи вызвали цензурную тяжбу, в которой Пушкин принял непосредственное участие. Через номер он печатает и ответ Зайцевского Давыдову[1101]. Зайцевский уехал в мае 1830 г.; он посетил Германию, Швейцарию и Италию, в Женеве встречался с Шевыревым и Соболевским, с которым сохранял связи и позже. В Милане он свел знакомство с находившимися та м русскими семействами; судя по известиям о нем в переписке Соболевского, он вел за границей довольно свободную жизнь[1102]. В марте 1834 г. он был в Петербурге и снова встречался с Пушкиным; вместе с ним, доктором С. Ф. Гаевским и В. Ф. Одоевским Зайцевский отклоняет приглашение участвовать в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, не желая мириться с редакторским диктатом Сенковского, о чем Пушкин сделал запись в своем дневнике под 2 апреля 1834 г. (XII, 323). Это, по-видимому, была их последняя встреча; известие о гибели Пушкина застало Зайцевского за границей.
Итальянский период жизни Зайцевского известен очень мало; высказывалось даже мнение, что он почти перестает писать. Между тем это не так. В конце 1830-х годов поэтическая деятельность его довольно интенсивна. В 1839 г., находясь в Риме и Неаполе, он пишет несколько стихотворений, навеянных итальянскими впечатлениями, и поддерживает связи с русскими литераторами: с Д. И. Долгоруким, В. Ф. Одоевским и, по-видимому, с И. П. Мятлевым. Среди бумаг Д. И. Долгорукого сохранились хранящие след этих дружеских связей стихотворения Зайцевского; одно из них («Законы осуждают предмет моей любви», Неаполь, 1839) посвящено «И. П. Мятлеву и князю Д. И. Долгорукову»; другое («К перышку», Неаполь, 1839) имеет подзаголовок «Своевольное подражание поэту Мятлеву». Вероятно, с Мятлевым Зайцевский познакомился, когда тот путешествовал по Европе. Попытки его «в мятлевском роде», впрочем, были мало удачны. Больший интерес представляет третий текст, подаренный Зайцевским Долгорукову: это перевод терцинами стихов 1–36 популярной в русской литературе третьей песни «Ада» Данте («L’Inferno. С. III. Терцет по Данту»)[1103], третий по времени перевод большого фрагмента знаменитой поэмы (после П. А. Катенина и А. С. Норова). Мы приведем этот отрывок, о котором, насколько нам известно, никаких упоминаний в литературе не было.
«К юдоли вечных слез проходят мною, Проходят мной в обитель вечных мук, Проходят мной к погибнувшим душою. Правдив был труд меня создавших рук: Я дело божества, любви начала И вечной мудрости, ключу (так!) наук. И до меня созданья не бывало, Лишь вечность, и стою от века я: За прагом сим отчаянье всех ждало». Сии слова, как тучи в высях дня, Темнели надписью над дверью ада. Я вскрикнул: «Вождь, их смысл страшит меня». Он молвил мне с прозорливостью взгляда: «Сомнений здесь на сердце не читай, Погибелью здесь мужества утрата. Вступаем мы в поведанный мной Край, Весь полный скорбных жертв и безответный Для душ, утративших свой светлый рай». Мне руку сжав и взор склоня приветный, Он ободрил мой дух и укротил И ввел меня в мир Тайны заповедный. Здесь в воздухе без света и светил Гремят проклятий крик, визг, плач, стенанья, — И слез поток невольно я пролил. Племен и Царств здесь слышалось рыданье, Звучала бездна гулом голосов, И с воплями слилось рукоплесканье. Так дышит вихрь, взрывая грудь песков. И я воззвал, весь полн недоумений: «Кого карал так гнев и суд богов?». Он рек: «Сей род презренный поколений — Толпа; бесцветна их души печаль, Без добродетелей, без преступлений, Их жизнь пуста, их никому не жаль».Этот отрывок наглядно показывает нам и уровень мастерства, и поэтическую ориентацию Зайцевского в конце 1830-х годов. Эпигон-романтик, он овладел поэтической фразеологией пушкинской эпохи и, конечно, не ошибался, когда в стихах памяти Пушкина объявлял его своим поэтическим учителем. Но он был учеником Пушкина в общем смысле: не столько последователь, сколько подражатель, он воспроизводил уже готовые формулы, пересказывая с их помощью оригинал; в отличие хотя бы от того же Катенина он не стремился отыскать общий стилистический ключ дантовской поэмы и дать ему русский эквивалент. У него нет индивидуального стиля: его поэтическая система эклектична, в ней слышатся отзвуки то сентиментальной и элегической, то «высокой», псалмодической поэзии. Наконец, самая интерпретация исходного текста типична для эпигонского романтизма: дантовские отверженные души для него «толпа», «чернь» — традиционное понятие массовой романтической лирики, варьирующей антитезу «поэт — толпа». В русском литературном сознании 1830-х годов этот общеромантический мотив также постоянно связывался с именем Пушкина.
Все эти стилистические тенденции нашли место и в поэтическом отклике Зайцевского на смерть Пушкина, где живые черточки реального облика поэта, памятные автору по личным впечатлениям, наложились на образ вдохновленного свыше романтического «певца». Судя по тону и содержанию стихотворения, оно было непосредственным откликом на известие о гибели Пушкина. На эту мысль наводит, в частности, концовка стихотворения с несколько наивной угрозой «разрядить» в Дантеса пистолет. Неосуществимая мечта о «мщении» Дантесу (естественная, впрочем, для «моряка-солдата») спорадически возникала в обществе под влиянием первого потрясения: напомним о намерении Л. С. Пушкина вызвать Дантеса на дуэль и о распространившемся слухе, что то же самое собирался сделать Мицкевич[1104].
Зайцевский прожил в Италии до конца жизни — почти тридцать лет, лишь изредка заезжая в Россию (например, в 1840–1841 гг.); с 1846 г. он состоял при русской дипломатической миссии в Неаполе. По-видимому, он стремился, насколько возможно, сохранить свои прежние связи. В бумагах С. А. Соболевского осталось несколько его писем за 1840-е годы[1105]. В 1853 г. его видел в Венеции Вяземский, отметивший в своем дневнике: «Вечером был у Кассини и видел там Зайцевского, переселившего себя в Италию, когда, казалось бы, России почва совершенно по нем. В русской судьбе много таких странностей. Бедный Пушкин не выезжал из России, а Зайцевский не выезжает из Италии»[1106]. С Кассини Зайцевского также связывало давнее знакомство: сохранилось письмо Зайцевского В. Ф. Одоевскому 1839 г. с просьбой взять под свое покровительство Кассини, русского консула в Триесте, отправляющегося в Петербург[1107].
Эти связи, может быть, объясняют отчасти помету «Триест» под стихотворением Зайцевского. Когда Н. А. Маркович, некогда однокашник Соболевского, посетил во время своего заграничного путешествия Триест (это произошло в ноябре 1857 г.)[1108], он, по-видимому, встретил там Зайцевского, и «бывший поэт» записал для его альбома свои старые стихи, которым придавал особое значение. Имя Пушкина в них было символичным: оно возникало как своего рода знак связи их автора с Россией, ее культурной традицией и даже как знак принадлежности его к поэтическому цеху. Впрочем, это лишь гипотеза, хотя, на наш взгляд, и наиболее вероятная; если же «Триест» обозначает не место записи, а место создания стихотворения, тогда нужно предполагать какие-то встречи Зайцевского с Марковичем в России, о которых до нас не дошло никаких сведений.
4
Если два первых стихотворения нашей публикации принадлежат перу профессиональных поэтов, то автор остальных стихов, по— видимому, дилетант. Личность его нам неизвестна. От него сохранилась тетрадь стихов 1837–1839 гг., как правило, в беловых автографах, подвергшихся затем небольшой правке. Поэтические достоинства большинства из них невысоки, хотя встречаются и стихи вполне профессиональные, на уровне массовой журнальной поэзии 1830-х годов («К черным глазам», 1837; «К картине „Петр Великий на Ладожском озере“», 1839). В печати они неизвестны, — во всяком случае ни одного из них нам не удалось обнаружить ни в периодических изданиях, ни в регистрах рукописей цензурного комитета за ближайшие годы. Из помет в рукописи и скудных автобиографических признаний в самих стихах явствует, что автор их был военным и в летние месяцы 1837–1838 гг. нес службу в Красном Селе, куда выезжали на лето в лагеря гвардейские части; что в 1839 г. он был в Бородине, где праздновался юбилей знаменитого сражения. Последняя дата стоит под стихотворением «К памятнику Бородинской битвы». Сам он, по-видимому, был выходцем из Новгородской губернии, о чем нам придется говорить несколько ниже. Никаких других биографических указаний в стихах нет.
Несколько больше мы узнаем о литературной и идеологической ориентации автора. Гвардейский офицер был настроен официозно-монархически. В 1837–1839 гг. он создает обширную поэму о пожаре Зимнего дворца, преисполненную верноподданнических чувств; официальным пафосом насыщены и его стихи «К колонне Александра I» (1839). Во всем этом ощущается осознанная позиция. Автор внимательно следит за современной ему литературой и журналистикой: в его сборнике мы находим целый ряд откликов на культурные события времени. В этом-то сборнике он и помещает несколько стихотворений, посвященных памяти Пушкина.
Пушкин занимает исключительное место в сознании нашего поэта. На первой же странице он записывает четверостишие «К гению» (с пометой «1837 года Генваря 30-е. С. П.<етербург>»):
Он расцветал в садах Лицея, Свидетель славы — был Кавказ; В Москве женился, стал слабее, Поэт в историке погас[1109].Четверостишие очень характерно. Оно пишется как эпитафия — на следующий день после смерти Пушкина — и резюмирует его творческий путь в духе широко распространенной в 1830-е годы концепции затухания его творчества. При всем том Пушкин остается для него «гением», и начинает он эпитафию с парафразы пушкинских стихов, впрочем, также становящейся уже общим местом: и А. И. Полежаев («Венок на гроб Пушкина», 1837), и С. И. Стромилов («Пушкин», 1837) включают ее в свои надгробные стихи[1110]. Через неделю — 7 февраля — из-под пера неизвестного автора выливается уже целый цикл стихов о Пушкине. И содержание их, и хронология представляют немалый интерес.
К этому времени в поле зрения нашего автора было уже некоторое количество изустных сведений о дуэли и смерти Пушкина, печатные извещения (в том числе знаменитый некролог в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» от 30 января: «Солнце нашей поэзии закатилось…») и иные источники, о которых сказано ниже. Слухами о подробностях дуэли был полон Петербург; не исключено, что неизвестный нам поэт побывал и на квартире Пушкина или на отпевании 1 февраля, куда собрался весь мыслящий Петербург. Во всяком случае и в «Думе на смерть П<уш-кин>а», и в дополняющем ее «Отдельном отрывке» мы находим следы петербургских толков. Иной раз источники прямо цитируются: «Так, наше солнце закатилось! Так, луч поэзии погас!». В других случаях сообщаются детали, восходящие к рассказам ближайших друзей Пушкина: о жестоких предсмертных страданиях поэта, заставлявших его желать скорейшей кончины, — об этом много позднее писали А. И. Тургенев и В. И. Даль[1111]. Неожиданной выглядит лишь осведомленность нашего автора в том, что касается места погребения Пушкина: оно совершилось 6 февраля, а уже на следующий день он подробно описывает местонахождение могилы — «в Святогорском монастыре, неподалеку от его (Пушкина — В. В.) деревни, там же погребена и родительница его, — и это место было им самим избрано». Он упоминает и «Святой Горы песок отрадный», и в этом замечании, сделанном вскользь, ощущается след непосредственных зрительных впечатлений. Нет сомнений, что могилу Н. О. Пушкиной он видел сам, посетив Святогорский монастырь в промежуток между апрелем 1836 и январем 1837 г., и, видимо, тогда же узнал, что Пушкин купил соседнее место для себя; может быть, он слышал и о том, что Пушкин хвалил сухую и песчаную землю[1112]. 1 марта 1838 г. датирована в рассматриваемой тетради «Элегия», где прямо описывается Святогорский монастырь:
Высокий курган — на нем храм со крестом, Зовется Святой он Горою!Такая осведомленность перестанет быть удивительной, если мы вспомним, что автор происходил из Новгородской губернии. Берега Волхова он называет своими родными местами («Мысли на берегах Волхова»); под одним из его стихотворений («Прости») стоит помета: «Званка 1837. Сент. 11».
Таковы реалии стихотворения, небезынтересные уже сами по себе. Но ими не исчерпывается историко-литературное значение стихотворения. «Дума на смерть П<ушкин>а» является одним из самых ранних (если не самым ранним) поэтических откликов на лермонтовскую «Смерть поэта». Сравним отдельные строки обоих произведений:
«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»
[Потерянный во мненьи света] [Играя славою чужой] Он поднял руку на поэта Свершил удар… Погас! и смолкли дивны звуки; Не взвеселит он больше нас Кто дивный светоч был для нас«СМЕРТЬ ПОЭТА»
Восстал он против мнений света Не мог щадить он нашей славы На что он руку поднимал! Навел удар… Замолкли звуки чудных песен Не раздаваться им опять Угас, как светоч, дивный генийСтроки из «Смерти поэта» входят, таким образом, в число опорных заимствованных формул, на которых строится стихотворение неизвестного поэта. Принципиальный смысл их, однако, изменился, и самый образ Пушкина в восприятии этого автора не только не тождествен лермонтовскому, но противоположен ему. В «Думе на смерть П<ушкин>а» социальный смысл конфликта снят; он перенесен в плоскость национальную. И здесь нам приходится обратить внимание на другой ряд поэтических ассоциаций — уже со стихами Пушкина:
«ДУМА НА СМЕРТЬ П<УШКИН>А»
Он равным зрел неравный бой Да будет тих величья сонПУШКИН
И равен был неравный бой «Бородинская годовщина» И тих твоей могилы бранной Невозмутимый, вечный сон «Перед гробницею святой»«Отдельный отрывок» и «Врагам всего, что русским мило…», проясняющие окончательно концепцию «Думы на смерть П<ушкин>а», являются прямой парафразой стихов «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины». Итак, в поэтическом сознании автора прежде всего «антифранцузские» стихи Пушкина, понятые прямолинейно и примитивно, в духе «официальной народности» и официального патриотизма. Пушкин рассматривается как жертва «клеветников, врагов России», «гнездо» которых есть средоточие мятежей против законной легитимной власти. Здесь монархические чувства неизвестного автора разыгрываются до такой степени, что он прямо начинает угрожать Франции разорением, которое должно совершиться под эгидой имени Пушкина. Чудовищность этой идеи, впрочем, кажется, заставляет его остановиться и дописать к своим стихам примирительный «постскриптум», где непосредственный виновник гибели Пушкина Дантес отделен от нации в целом.
Перед нами, таким образом, случай ярко официозного освещения социальной трагедии, и он весьма интересен, так как обращает наше внимание на некоторые особенности создавшейся в 1837 г. общественной ситуации. Известны донесения Либермана, сообщавшего прусскому двору об антифранцузских настроениях, проявившихся, в частности, во время похорон Пушкина, и анонимные письма этого же времени, обвинявшие в гибели поэта иностранцев[1113]. Эти настроения встречали негласную поддержку при русском дворе, резко отрицательно настроенном к французской парламентской системе и к правительству Луи-Филиппа. Стихи гвардейского поэта были их подчеркнутым выражением; они не могли бы быть допущены к печати из дипломатических соображений, но ни в коей мере не могли стать предметом политического преследования. И здесь достойно внимания, что официозно настроенный поэт неожиданно берет себе в союзники Лермонтова. «Смерть поэта» — разумеется, без последних 16 строк, еще не существовавших к 7 февраля 1837 г., — он рассматривает как отражение той же, близкой ему, «антифранцузской» точки зрения. Это, конечно, аберрация, но легко объяснимая, и она проливает свет на парадоксальные на первый взгляд особенности цензурной истории стихотворения Лермонтова. А. Н. Муравьев вспоминал, что «бурю» против Лермонтова вызвала последняя строфа; в остальной же части стихотворения ни он, ни А. Н. Мордвинов, ни Бенкендорф не нашли «ничего предосудительного»[1114]. Заключительные 16 строк проясняли адрес лермонтовской инвективы; без них стихотворение можно было при желании трактовать в почти официозном духе, как это сделал неизвестный нам поэт. Любопытно, что С. А. Раевский в своем «Объяснении» по поводу этих стихов прямо пытался навести власти на такое толкование, подчеркивая, что они направлены против «иностранцев», не подлежащих русскому суду; он обращал внимание на патриотические настроения Лермонтова и в доказательство приводил его стихи «Опять народные витии…» — подражание стихотворению Пушкина «Клеветникам России»[1115].
Следы подобной трактовки мы улавливаем и позже; при этом важно отметить, что сам Лермонтов ее учитывает и недвусмысленно противодействует ее распространению. В декабре 1839 г. секретарь французского посольства барон д’Андрэ от имени посла де Баранта осведомляется у А. И. Тургенева: «…правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина?». Лермонтов спешит сообщить Тургеневу точный текст, из которого оказывается, что «он и не думал поносить французскую нацию». Этот эпизод разыгрывается в напряженный момент франко-русских отношений и накладывает отпечаток на всю историю дуэли Лермонтова с сыном Баранта. «Заключительной репликой» этого спора, по удачному выражению Э. Г. Герштейн[1116], было «Последнее новоселье» Лермонтова — по общему мнению, стихи «антифранцузские», в которых, однако, автор, как будто предупреждая подобное толкование, ставит один очень важный и симптоматичный «пушкинский» акцент:
Сказать мне хочется великому народу: Ты жалкий и пустой народ.Резкая характеристика относится к буржуазной «толпе», «растоптавшей в пыли» национальную славу, и она требует объяснений и обоснований («Ты жалок потому…» и т. д.). «Великий народ» — историческая характеристика, атрибутивно присущая нации в целом. Здесь совершенно тот же ход мысли, что и в пушкинской статье «Последний из свойственников Иоанны д’Арк»: «Жалкий век! Жалкий народ!»[1117].
Таковы проблемы, которые ставит перед нами новонайденный текст[1118].
Приложение
Б. М. Федоров
<3. И. Юсуповой>
Восторгом мысль моя согрета: Вы были дивный идеал, Когда любимого Поэта Ваш голос славу защищал. Ценя и мысль, и выраженье, И чувства пламенной мечты, Вы сами были вдохновенье И чистый гений красоты. Хоть мимолетно Вы касались Струн лиры Пушкина златой, Их звуки в сердце отзывались, Чаруя, властвуя душой. Вот лучший лавр его могилы. О, если б он услышать мог, Кто был его защитник милый, Покров бы смертный он расторг… Он возвратился б снова миру; Душою Гений не угас; Но Вам бы — посвятил он лиру, И все звучал бы он — о Вас!..Е. П. Зайцевский
Памяти Пушкина
Тебя с надгробным отпеваньем Не проводил к усопшим я, Последним смертным целованьем Не целовал в уста тебя, Твой гроб, омоченный слезами, Не я в могилу опустил И горстию земли с друзьями Его с молитвой не прикрыл. Под чуждым небом смерть Поэта Оплакал одиноко я. Носясь в сиянье славы света, Да внемлет днесь мне тень твоя… О Пушкин! Пушкин! Кто б пророком Твоей кончины ранней был? Тебя дух юности живил, Во взоре голубом, глубоком Играла жизнь избытком сил; Как грива льва, власы кудрями Струились темною волной, Над величавой головой Горел и вился гений твой, Бессмертья окружен лучами. И, сладкогласный лебедь, ты В страны взносился неземные, С своей воздушной высоты Ты пел нам песни золотые. Высоким, сладким пеньем сим Россия в торжестве внимала И с гордостью тебя своим Любимым сыном называла. Твой свежий лавр навек вплетен В венец лавровый Николая, Ты жил, нас славой покрывая, Народом и царем почтен. Ты вдохновенные искусства Своею лирой освятил, Нам выражал России чувства, Поэтов русских князем был… И вдруг, пришельцем безыменным, Зашедшим к нам бродяг путем, Принятым с лаской, накормленным За радушным у нас столом, Ты смертным поражен ударом… И вот твои отрады, Русь! Под черным гроба покрывалом Схоронены навек… О Русь! Многих твоя уж правит тризна, И каждый твой пришлец, как вран, Питается от наших ран, От ран и язв твоих, Отчизна!.. Я мысленно перед могилой Твоей колени преклонил И прах святой, России милый, Слезами скорби оросил. Моряк-солдат, я был поэтом, Я лиру Пушкина любил, И первый Пушкин перед светом Меня от Муз благословил, Нас всех увлек своим полетом… Тебя уж нет для нас, поэт! Мы в сиротстве остались грустном; Но мой заряжен пистолет, И на твоем убийце гнусном, России мщением зажжен, Он будет мною разряжен… З-ий. Триест.Неизвестный автор
Дума на смерть П<ушкин>а
Великий Рим! ты в скорби час Постиг, что́ Гения утрата, Ты слезы лил, когда погас Твой лебедь сладостный Торквато. Ты б и теперь, великий, дал Народу грустному десницу И нашей скорби колесницу Ты б с нами вместе провожал! Главу ты гордую склонял Пред тем, кто истинно был славен; Везде талант ты ободрял И мнил, что гений всюду равен. Так, благородный гражданин! Тебе совместны эти чувства, И чтит душою славянин Тебя, как колыбель искусства. Но вы, упадшие душой, Челом поникшие — разврату! Вас веселит преступный бой, Вы нашей тешитесь слезой; Вы рукоплещете собрату — Преступнику, кто сокрушил Своей рукою дерзновенной Кумир, для русского священный, И Русь в унынье погрузил. Убийца Гения, он мнил, Что, стоя смерти на пороге, Он не убийство совершил, Коль жизнь его была в залоге. Враждою сильной[1119] пламенея, Преступник[1120] жертвовал собой И в дикой ярости злодея Он равным зрел — неравный бой! Отринутый презреньем света[1121], Пришлец бесславный, всем чужой[1122], Он поднял руку на поэта И, став при двери гробовой, Свершил удар, — но рок ужасный Ему отсрочил казни час, Он жив — а лебедь наш прекрасный В начале дней своих — погас! Погас! и смолкли дивны звуки; Не взвеселит он больше нас, В нем заглушили песни муки, И страшен был последний час! «Как пальма, смятая грозою», Сокрыв страданье от людей, Он лишь к друзьям взывал с мольбою Слова последние: «скорей!». Так, наше солнце закатилось! Так, луч поэзии погас! Того уж нет, кем Русь гордилась, Кто дивный светоч был для нас! Чья песнь, как проповедь святая, Пленяла русские сердца, — Тем жизнь окончена земная; Он в лоне мира и Творца. Ликует смерть, похитив славу, Убийца в ужасе стоит! Объяла горесть всю державу — И песнь надгробная звучит! Могила свежая разрыта; Земля, гордясь, готовит сень, И, белым саваном покрыта, Нисходит к ней святая тень. Свершилось все: певец угас! Он спит под сенью благодатной! Да будет Меккою для нас Святой Горы песок отрадный!![1123] Да будет тих величья сон, — Как в час явления денницы Заря осветит небосклон, — Так светит луч его гробницы. Туда зовет родная тень! Туда душа моя несется! И, мнится, там светлее день, И сердце славою упьется! Туда, туда!.. но не дерзнет Стопа убийцы вслед за мною Переступить святых ворот И прах его омыть слезою! Злодейству места с славой нет!! Тобой там воздух заразится; И под пятой завянет цвет, И кровь святая задымится!! Твой жребий — Каина удел! Бежать тех мест, где злодеяньем Ты положил себе предел И осудил себя изгнаньем! Беги, злодей! Терзай себя! Здесь не взведут тебя на плаху! Земля чуждается тебя — И твоего не примет праха! Да будет казнь тебе одно: Багрить над грешным изголовьем Твое кровавое пятно, И всех проклятие — надгробьем! 1837 года февраля 7. С. Петербург.Врагам того, что русским мило…
Враги того, что русским мило! Разгульный пир теперь у вас. Вы мните: вот того могила, Кто восставал грозой на нас, Чей стих, как хартия завета, Напомнил вечный наш позор; Кто пел величье полусвета, Тот, наконец, закрыл свой взор! Пируй, мятежная семья! Пей чашу дикого веселья! Ликуй на грани бытия!.. Но жди кровавого похмелья: Терпенью близится конец, Блестит меч грозной Немезиды, И скоро кровью мы обиды Омоем в ярости сердец! Тогда Его святая тень Под небом Ф<ранции> явится, Вас озарит кровавый день, И месть ужасная свершится; Полки славян вам пир дадут, Родною тенью в бой ведомы, Как вихрь, размечут ваши домы И имя Ф<ранции> сотрут! Тогда не мните договором Отсрочить свой последний час! Нет! договор мы чтем позором, И нет пощады уж для вас! Пощады злобе не даруем; Мы будем мстить вам до конца И пеплом градов отпируем Мы тризну падшего Певца!.. 1837. Апрель 15. С. Петер<бург>.P. S.
Омойте, буйные, с смиреньем Пятно кровавое с себя И смерть поэта с сожаленьем Оплачьте, славу возлюбя, А имя вашего собрата, С негодованьем на устах, Вы напишите в тех рядах, Где пишут имя Герострата! Тогда же.Отдельный отрывок
Беги заслуженных оков: Их яд костей твоих не сгложет, Тебе гнездо бунтовщиков Еще убежищем быть может! Не унывай: злодейству есть Приют в стране той отдаленной, Где в каждом сердце — злая месть, А чести огнь погас священный! Сыны порока не устали Там друг на друга восставать; Отцы их детям завещали Мятеж всегдашний возжигать; Как предрассудок, видеть веру, Пренебрегать закон святой; И кто чуждался их примера, Тех поносить злой клеветой. Но клеветы мы презрим жало, Над нами светит та ж заря, При коей Русь на вас восстала По манью сильного царя!.. Все та же Русь!.. Европа знает, — И вас уверить в том пора, Что днесь Владыку осеняет Величье дивного Петра. 1837. Февра<ля> 7-го. С. Петербург.Денис Давыдов — поэт[1124]
«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», — писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», — лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века. «…Давыдов примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, — и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта; но чтоб понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, т. е. как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека…»
Слова Белинского были не просто данью уважения и художнического удовлетворения, — они заключали в себе концепцию творчества, причем ту самую, какую хотел бы услышать сам Давыдов из уст своих современников. «Он был поэт в душе; для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью»[1125], — этой именно характеристики ждал и добивался Давыдов, когда писал свою автобиографию, когда убеждал Н. М. Языкова, что имеет право на внимание как «один из самых поэтических лиц русской армии»[1126]. Заметим: не как храбрый воин, не как выдающийся военачальник и даже не как талантливый поэт, — но как то, и другое, и третье, взятое в нераздельной целостности и органичности.
Денис Васильевич Давыдов родился 16 июля 1784 года в Москве, в старинной дворянской семье, связанной узами родства с Раевскими, Каховскими, Ермоловыми, Самойловыми и др[1127]. Военная профессия была для Давыдовых традиционна, и семи лет мальчик был уже знаком с бытом военного лагеря, а девяти — видел «великого Суворова» в доме отца; об этой встрече, как о самом своем сильном детском впечатлении, он рассказал в особом очерке[1128]. В свою автобиографию он включил, однако, и другое воспоминание: тринадцати лет или около того от роду, умея только «лепетать по-французски, танцевать, рисовать» и зная начатки музыки, он познакомился в Москве с питомцами Университетского благородного пансиона, — они доставили ему случай прочитать «Аониды», альманах Н. М. Карамзина. Пример новых знакомых, печатавшихся в «Аонидах», воспламенил «честолюбие» будущего поэта, — но из-под пера его вышли лишь довольно нелепые сентиментальные стихи о пастушке и «изменившей» ей овечке. Этот эпизод в своем существе важнее и серьезнее, чем он предстает в пародийном рассказе Давыдова: он указывает на пробуждение литературных интересов будущего поэта и на его первоначальную литературную среду — кружок литераторов, собиравшихся вокруг Карамзина; с «университетским питомцем» Жуковским у него потом установятся прочные литературные связи, а стихи самого Карамзина в «Аонидах» отразятся в его собственном творчестве.
Формирование личности Давыдова падает на годы павловского террора, затронувшего и его семью, и родных: А. М. Каховский, А. П. Ермолов были сосланы как участники так называемого «смоленского заговора»; в 1798 году отец Давыдова попал под суд по делу о беспорядках в полку. Имение Давыдовых было конфисковано, и семья бедствовала многие годы; Давыдов вспоминал, что, живя в Петербурге, он по неделям вынужден был питаться одним картофелем. Переворот 11 марта 1801 года открыл перед «дворянским недорослем» возможность службы в столице: в том же году Давыдова отвозят в Петербург и с большими трудностями определяют эс-тандарт-юнкером в Кавалергардский полк. Социальное воспитание юноши завершается в атмосфере первых лет александровского царствования, с их либеральными веяниями, оживлением политической жизни, свободным обсуждением общественных проблем во вновь возникающих журналах. Он сближается с кружком офицеров Преображенского полка, куда входили в числе других С. Н. Марин и А. В. Аргамаков, непосредственные участники заговора 11 марта; это была среда светская, военная и литературно-театральная. К кружку примыкали Д. В. Арсеньев, Ф. И. Толстой («Американец»), Г. В. Гераков, А. А. Шаховской; родственные и дружеские узы связывали их с домом знаменитого мецената А. Л. Нарышкина, директора императорских театров, и, с другой стороны, — с приютинским литературным гнездом А. Н. Оленина, откуда в ближайшие же годы выйдут деятели двух противостоящих литературных партий. Марин и Шаховской станут членами «Беседы любителей русского слова», Давыдов, Батюшков — «Арзамаса», но это произойдет позже: в 1801–1803 годах эстетическое размежевание еще не осуществилось до конца.
В кругу преображенцев Давыдов воспринимает стихию сатиры и пародии — характерную принадлежность домашних литературных кружков и домашней поэзии. Здесь она сочеталась с оппозиционным духом; так, Марину принадлежали две очень известные в свое время сатиры на «гатчинцев»: «1796-го году, ноября 7-го» и «Пародия на Оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова» (1801). В царствование Павла оживилась рукописная сатира, — репрессии не могли остановить ее потока. С ослаблением цензурного пресса социальные и политические проблемы, вызванные к жизни только что минувшим царствованием, начинают обсуждаться уже печатно.
В этих условиях появляются ставшие знаменитыми басни молодого Давыдова — «Голова н Ноги» и «Быль или басня, как кто хочет назови», известная также под названием «Река и зеркало». Он воспользовался сюжетами, распространенными и актуальными как раз в начале века: они ставили проблему гражданской ответственности монарха — одну из центральных для просветительской социологической мысли. В «Были или басне…» Давыдов конкретизировал сюжет: упоминание о «Сибири», куда «деспот» ссылает правдолюбивого вельможу, проясняло социальный адрес — речь шла о русском царе (царствующем или историческом). Вторая же басня — «Голова и Ноги» — оказывалась бесцензурной уже по самой своей проблематике. Согласно доктрине, широко распространенной в XVIII веке, социальная гармония обеспечивается незыблемой иерархией состояний; нарушение ее ведет к анархии и гибели социального организма. У Давыдова изменена сама исходная точка рассуждения: реально существующей является не гармония, а дисгармония в общественных отношениях, и вина за нее лежит на «голове», которая превысила предоставленную ей обществом власть. «Монархия» переросла в «деспотию». Теперь общество может применить к «деспоту» санкции в силу естественного права. Такой вариант решения проблемы выбирало радикальное крыло Просвещения (в частности, Радищев в «Вольности»); нет сомнения, что Давыдов осмыслял здесь и социальный опыт цареубийства 11 марта.
Эти басни сразу же получили распространение. В. Д. Давыдов, конечно со слов отца, рассказывал, что его ранние сатиры стали известны «по милости услужливых друзей»[1129]. По-видимому, все же отношение к ним «друзей» было двойственным: не чуждаясь свободоязычия, они в новых условиях вряд ли сочувствовали политической фронде; во всяком случае, в стихах самого Марина мы неоднократно находим восторженные упоминания Александра I.
Переписывая басни Давыдова, они досадовали на его юношескую дерзость; в печатной отповеди Аргамакова «мальчишке пустомеле» была упомянута и басня «Голова и Ноги»: «И Ноги заставляешь болтать нам вздор и ложь». Впрочем, это была не война идей, а скорее предостережение.
Сатирические стихи Давыдова не остались без последствий: автор их получил «головомойку» от петербургского генерал-губернатора, а 13 сентября 1804 года был выписан из поручиков Кавалергардского полка в армию, в Белорусский гусарский полк, стоявший в окрестностях Звенигородки в Киевской губернии. Обстоятельства этой фактической высылки нам неизвестны, хотя современники их знали: Давыдов не раз рассказывал о них (в частности, фельдмаршалу Каменскому) и описал в не дошедшей до нас части своих записок[1130].
Репутация сочинителя антиправительственных стихов, якобы наказанного за них ссылкой в Сибирь, еще более укрепилась за Давыдовым, когда в начале 1805 года стала распространяться басня «Орлица, Турухтан и Тетерев», которую устойчивая традиция приписала его перу. Эта басня — один из наиболее резких памфлетов на Александра I и его ближайшее окружение: новый царь, пришедший на смену убитому «тирану», — «скупяга из скупых», берегущий «крохи» и отдавший царство «любимцам», которые разоряют его, насаждая коварство и бесчестность. Именно об этом — о строгой экономии, установленной Александром в личных расходах и пожалованиях, и неоправданной расточительности средств в бюрократических учреждениях — будет писать Карамзин в записке 1811 года «О древней и новой России…»[1131]. Критика, справедливая и проницательная, шла, однако, со стороны консервативной оппозиции либеральным реформам Александра. «Орлица, Турухтан и Тетерев» пишется в 1804 году, когда в Сенате и только что учрежденных министерствах шла борьба между сторонниками «старой» и «новой» партий; первая, консервативная, обвиняла Александра в отказе от государственных форм екатерининского времени. Давыдов говорит буквально то же самое, и осведомленные современники вряд ли случайно связывали басню с выступлениями таких «недовольных», как А. С. Шишков или А. С. Хвостов — столпы консервативной оппозиции, — а в «любимцах» «Тетерева» видели либеральное окружение Александра I. Резчайший антиправительственный памфлет оказывался порождением не революционной, а фрондерской идеологии, причем с чертами консерватизма.
Служба в Белорусском гусарском полку не была для Давыдова обременительной. Его начальник, Б. А. Четвертинский, брат известной красавицы, фаворитки императора М. А. Нарышкиной, вскоре стал ближайшим приятелем Давыдова. Бывший кавалергард, ныне гусар, входит в атмосферу гусарского быта. Плодом новых впечатлений явились знаменитые послания Бурцову (1804), получившие широчайшую популярность и во многом определившие литературную репутацию их автора.
Успех их был симптомом времени. «Молодечество», «удальство» становилось характерной чертой эпохи. «Попировать, подраться на саблях, побушевать где бы не следовало, это входило в состав нашей военной жизни в мирное время. <…>…Военно-кавалерийская молодежь не хотела покоряться власти, кроме своей полковой, и беспрерывно противодействовала земской и городской полиции, фланкируя противу их чиновников. Буянство хотя и подвергалось наказанию, но не почиталось пороком и не помрачало чести офицера, если не выходило из известных, условных границ»[1132]. Ф. Булгарин, которому принадлежат приведенные строки, цитировал при этом «Песню» Давыдова («Я люблю кровавый бой…»), удостоверяя, что «так, в самом деле, думали девять десятых офицеров легкой кавалерии» в начале столетия. Это время создает легенды об удальцах — силаче Лукине, героических авантюристах Н. А. Хвостове и Г. И. Давыдове; его порождением был и Федор Толстой — «Американец», близкий приятель Д. Давыдова, яркая, талантливая и «преступная» личность, реальные похождения которого обрастали устными анекдотами, формировавшими легенду. Люди начала века, ровесники и младшие современники Давыдова, составили и тот «гусарский» круг, в котором вращался юный Пушкин; к нему принадлежали П. П. Каверин, члены «Зеленой лампы» и театральных собраний Н. В. Всеволожского. К нему, наконец, принадлежал и сам Денис Давыдов. Стихи, обращенные к Бурцову, «гусару гусаров», уходили своими корнями в реальный социальный быт и социальную психологию[1133]. В них отражалась новая система этических ценностей, где «буянство» перестало почитаться пороком.
Однако чтобы стихи к Бурцову стали фактом литературы, смены этических ценностных ориентаций было недостаточно; нужны были сдвиги в шкале эстетических ценностей. Екатерининское время также изобиловало примерами «удальства», но мы не знаем случаев его эстетизации или героизации. В XVIII веке Бурцов мог быть в лучшем случае героем травестированной ироикомической поэмы, бурлеска, сущность которого заключалась в контрасте между «высоким» способом и «низким» предметом изображения. «Литературный Бурцов» — это Буянов из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина (1811) или гусар в отставке Угаров в «Липецких водах» А. А. Шаховского (1815) — комическая фигура «хвата», с его невоспитанностью, бесцеремонностью и интеллектуальным кругозором любителя лошадей, собак и кутежей с цыганками. В системе эстетических оппозиций «высокое — низкое», определявшей литературные представления XVIII — первой четверти XIX века, гусарским стихам Давыдова места, конечно, не было; они могли стать эстетическим фактом только тогда, когда утвердилась новая система оппозиций: «поэтическое — прозаическое». Бурцов у Давыдова — герой поэтический, а под поэтическим понимается то, что выходит за пределы жизненной ординарности, размеренности, регулярности.
Такой герой требовал резко экспрессивных форм словесного изображения. И современников, и потомков поражала и нередко шокировала «грубость» давыдовских «гусарских» стихов. Но «грубость» эта не самоценна, она мотивирована самым обликом носителя речи или адресата. И его положение в социальном мире, и его речевое поведение противопоставлены бытовой повседневности (а в нее более всего и прежде всего включался этикетный, организованный светский быт), как сфера «поэтического» сфере «прозы»[1134]. В этом отношении «гусары» Давыдова предвосхищают, например, героев Бестужева-Марлинского, противопоставленных «ледяному свету» как носители естественного, эмоционального, не подчиненного условностям начала, — и, быть может, отчасти поэтому глава русской романтической прозы уже в 1820-е годы будет открыто демонстрировать свою приверженность поэзии Давыдова и даже посвятит ему свой «Замок Нейгаузен». И так же, как у Бестужева, и даже еще в большей степени, бытовое правдоподобие у Давыдова — иллюзия. «Ясной сабли полоса», заменяющая зеркало, «куль овса» вместо диванов, «ташка с царским вензелем» в роли картины — все это быт не реальный, повседневный, а полемически соотнесенный с ним, быт функциональный, стилизованный, почти символический, своеобразная форма будущей романтической экзотики.
Но и в этих подчеркнуто стилизованных формах быт играл свою роль: он расширял и видоизменял область эстетически допустимого в традиционной батальной лирике. Он становился атрибутом «рядового» героя, заменившего теперь героя «возвышенного», и непременной принадлежностью «гусарской песни», вытеснявшей военную оду. «Гусарщина» Давыдова, несомненно, была симптомом демократизации поэзии.
Современники — вне зависимости от того, принимали ли они или отвергали ее эстетическую основу, — ощущали ее как открытие и как своего рода индивидуальную монополию Давыдова-поэта. Давыдову пытались подражать; Батюшков в «Разлуке» (1812–1813) сделал попытку перевести Давыдовские «гусарские» стихи на язык своей поэзии — и потерпел неудачу. Пушкин иронически отозвался об этом творческом «споре». В лицейские и первые послелицейские годы он сам создавал стихи в духе Давыдова — и также без большого успеха. «Гусарская песня» не была ни долговечной, ни продуктивной; она не создала в русской поэзии сколько-нибудь устойчивого жанрового образования, и, как мы увидим далее, сам Давыдов более ее не разрабатывает. Значение ее было в другом: она расшатывала сложившуюся батальную традицию и отыскивала новые, деканонизирующие формы лирической экспрессии, оказавшие воздействие на соседние жанры — элегию и романс.
Стихи к Бурцову писались юношей, еще ни разу не видевшим сражения. В 1805 году Кавалергардский полк был при Аустерлице, Белорусский гусарский оставался в тылу. Влиятельные друзья — и более всех Б. А. Четвертинский — хлопотали о возвращении Давыдова в гвардию, и небезуспешно: 4 июля 1806 года его переводят поручиком в лейб-гвардии гусарский полк. В начале сентября он прибывает в Петербург. Он стремится в действующую армию и даже предпринимает отчаянный ночной визит к фельдмаршалу графу М. Ф. Каменскому, о чем рассказывал позднее в одном из очерков. Ему помогло ходатайство М. А. Нарышкиной-Четвертинской, взявшей молодого лейб-гусара под свое покровительство: ее стараниями Давыдов получил должность адъютанта П. И. Багратиона и 5 января 1807 года выехал на театр военных действий. 24 января он получает первое боевое крещение в деле у Вольфсдорфа, а 26–27 января участвует в «гомерическом побоище» при Прейсиш-Эйлау, которое навсегда осталось для него самым сильным впечатлением войны: в течение полутора суток он выдерживает артиллерийские атаки — «…широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание…» («Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау 1807 года января 26-го и 27-го»)[1135]. Вместе с армией он проходит путь до Фридланда и становится очевидцем встречи Александра и Наполеона в Тильзите. Летом 1807 года вместе с Багратионом он отбывает в Россию.
Несколько месяцев Давыдов проводит в Москве. Двадцатитрехлетний штаб-ротмистр, боевой офицер, прошедший наполеоновскую кампанию и увенчанный за храбрость Прейсиш-Эйлауским крестом и прусским орденом «Pour le merite», «утопает» в «московских веселостях» и, «как в эти лета водится, влюблен <…> до безумия»[1136]. Здесь происходит его сближение с кружком московских литераторов, в частности с Жуковским; его стихи — «Договор», «Мудрость», — написанные по возвращении из похода, появляются в свет в изданиях Жуковского — «Вестнике Европы», «Собрании русских стихотворений», наряду со стихами Батюшкова и молодого Вяземского. В феврале 1808 года он покидает Москву: началась русско-шведская война, и Давыдов спешит догнать армию в Шведской Финляндии. С разрешения Багратиона, он поступает в авангард Я. П. Кульнева, одного из примечательнейших военачальников суворовской школы, известного своей легендарной храбростью и оригинальностью характера. Под началом Кульнева он служит всю кампанию 1808–1809 годов, участвует в нескольких смелых вылазках и в труднейшем переходе по льду Ботнического залива. Багратион представляет его к награде, но безуспешно: в глазах правительства Давыдов продолжал оставаться неблагонадежным.
Летом 1809 года Багратион был назначен главнокомандующим Задунайской армией, действовавшей на театре русско-турецкой войны; 23 июля он прибывает в Галац и 11 августа принимает командование. Давыдов находится при нем «во всех сражениях того года». В его формулярном списке отмечены участие во взятии Мачина (18 августа), Гирсова (22 августа), сражения при Рассевате (4 сентября), под Татарицей (10 октября)… Когда Багратион был отставлен от командования, Давыдов поступает снова в авангард Кульнева; 22 мая 1810 года он сражается под стенами Силистрии, 11–12 июня — под Шумлой. На этот раз правительство вынуждено наградить его: он получает алмазные знаки ордена святой Анны 2-й степени и — с марта 1810 года — чин ротмистра. Но он сам отказывается от дальнейшего служебного продвижения, когда новый главнокомандующий, граф Н. М. Каменский, входит в резкий конфликт с военачальниками, с которыми Давыдов был связан родственными и дружескими узами, — когда из действующей армии один за другим уходят граф П. А. Строганов, обвиненный фельдмаршалом в рассеивании порочащих его слухов, и Н. Н. Раевский. «Человек, покровительствованный генералом Раевским, — писал он последнему 14 июля 1810 года, — не может уже остаться на поприще брани, где господин Каменский прячется»[1137]. Неудачный штурм Рущука 22 июля укрепил его в намерении «дать тягу». В следующем же месяце мы находим его у Раевского в Яссах, затем в Каменке, имении В. Л. Давыдова, а в 1811 году — в Москве и Петербурге. 25 августа 1811 года он пишет из Петербурга письмо Вяземскому — первое дошедшее до нас из их многолетней переписки. В письме — следы не остывших еще московских литературных впечатлений. С Вяземским Давыдов уже на «ты»; с В. Л. Пушкиным он близок настолько, что тот, по приезде в Петербург в 1811 году, является к нему читать «Опасного соседа». И это, конечно, лишь ничтожная часть его литературных связей. В том же письме он передавал поклоны Ю. А. Нелединскому-Мелецкому. Это существенно, если вспомнить рассказы Вяземского о «великолепных праздниках» у Нелединского, в его доме около Мясницкой, куда были приглашаемы молодые литераторы — в их числе Давыдов и Жуковский[1138]. В стихах Давыдова есть след знакомства с поэзией Нелединского-Мелецкого (см. примечание к стих. «Что пользы мне в твоем совете…»). И наконец, еще один результат московских встреч: появление в «Вестнике Европы» 1811 года нескольких стихотворений Давыдова.
Письмо Вяземскому пишется накануне отъезда Давыдова в Житомир, где с осени 1811 года находилась главная квартира 2-й Западной армии под командованием Багратиона. Давыдов вернулся не к Каменскому, а к «генералу своему», как говорит он в автобиографии. Это время для него было временем бездействия, заполняемого курьерскими поездками и «беседами» с «соименным его» Дионисием-Вакхом; сын добавляет к этому, что поэт был влюблен, как всегда, и отпрашивался у начальника во внеочередные отпуски, пропадая по нескольку недель и возвращаясь лишь тогда, когда рассерженный Багратион грозился отправить его в полк[1139].
О своих сердечных увлечениях в 1811–1812 годах и более ранних сам Давыдов упоминал постоянно. Почти все его стихи 1810-х годов — это стихи о несчастной любви и измене. Мы можем назвать адресатов некоторых из них, например, Аглаю Давыдову; о других мы ничего не знаем и располагаем лишь неясными намеками в поэтических текстах. Так, в двух его элегиях — пятой и седьмой — упоминается о возлюбленной, с именем которой герой бросался в сечу, четвертая же элегия содержит признание: «в ужасах войны кровавой» (т. е. в 1812–1814 годах) герой еще «не знал» адресата. Элегии посвящены разным лицам, и это предопределило несведенность лирических мотивов внутри цикла, выстроенного задним числом.
Вместе с тем стихи Давыдова 1810-х годов — факт прежде всего литературный, а не биографический, и литературная их генеалогия представляет значительный интерес. Они отражают воздействие «легкой» и уґже — анакреонтической поэзии XVIII столетия, представленной, в частности, в «Аонидах». Выход «Анакреонтических песен» Державина (1804) оживил традицию, вызвав поток подражаний, в том числе в творчестве близких Давыдову Марина и Аргамакова. В «Мудрости», «Чиже и Розе» мы имеем дело с языком анакреонтической лирики, унаследовавшим от галантной, прециозной поэзии аллегоричность и перифрастичность, равно как и эмблематику образов типа «зефиров», «мотыльков» и самой «розы». Однако даже эти стихи написаны уже рукой, создавшей «бурцовские» послания. В изысканные и манерные аллегории то и дело вторгается дух шуточной и сатирической домашней поэзии. Так, в «Мудрости» аллегорические персонажи предстают в каком-то обытовленном, почти басенном виде. Стихия комического окрашивает галантные стихи, придавая им полупародийный характер. Это особенно ясно сказывается в «Договоре». Давыдов писал элегию — так это стихотворение рассматривала затем критика и так считал сам Давыдов, одно время включавший его в элегический цикл. Через двадцать пять лет он объявил его сатирой и усилил резкость сатирических характеристик. Но «Договор» был и тем и другим — опытом синкретического жанра, объединявшего противоположные начала. Жанр этот не удержался в русской поэзии: в эпоху становления «унылой элегии» он был просто непонятен, — и колебания автора были показательны. Элегические мотивы и ситуации вплелись здесь в контекст сатирической панорамы. Самый сюжет, оформленный словесно в дипломатических профессионализмах: «первая статья», «статья вторая» и т. д., — соотносился с многочисленными стихотворными «объяснениями в любви» от имени моряка, врача, портного и пр.; эта традиция сказалась, между прочим, в «Послании г<ра-фу> В<елеурско>му» (1809) Батюшкова («И новый регламент, и новые законы в глазах прелестницы читать») и в «Песне» («Как залп ужасный средь сраженья…») С. Н. Марина:
И ты, в душе, тобой плененной, Ввела любовный вахтпарад.Имя Марина, наиболее заметного представителя домашней, кружковой поэзии начала века, возникает здесь не случайно: напомним, что и сам Марин обращался к источнику «Договоров» — «Mes conventions» Э. Виже. Пародийное описание трагедии в давыдовской сатире-элегии (у Виже его нет), где герой как попало ударяет деревянным кинжалом «княжну», с которой потом едет домой ужинать, — находит соответствие в «Превращенной Дидоне» Марина, где подобным же образом вскрывается условность театрального действа: в нем «никто не умирает», и вестник объявляет зрителям о том, что делается за кулисами, соблазняя их скорым окончанием и грядущим ужином. Существенно, однако, что пародийное начало у Давыдова не снимает и не снижает лирического, оно сочетается и сосуществует с ним, расширяя диапазон авторской интонации и по своей функции сближаясь с романтической иронией. В «Гусаре» Давыдов будет иронически обыгрывать тривиальную образность галантной поэзии: «голубка», «свивающая гнездышко» в кивере гусара, «Амур», гуляющий с гусарской саблей, — но эта устаревшая эмблематика будет скрывать серьезное лирическое содержание. Постоянная смена авторского отношения к изображаемому (переменная модальность текста) — уже достояние новой поэзии: классицизм требовал единства и определенности эмоционального колорита.
1812 год стал переломным в биографии Давыдова. Собственно, Отечественная война и создала привычный нам облик «поэта-партизана», закрепленный традицией. С началом военных действий Давыдов просит Багратиона о переводе в Ахтырский гусарский полк, чтобы «служить во фронте». Командуя первым батальоном, он в течение июня — августа принял участие по меньшей мере в восьми сражениях, а 21 августа предложил Багратиону свой план систематической партизанской войны. План этот, одобренный Багратионом, был встречен с недоверием другими военачальниками, однако Кутузов поддержал его, и Давыдов получил отряд, хотя и весьма скромный: 50 ахтырских гусар и 80 казаков. Так начался его знаменитый партизанский рейд, многократно описанный в исторической литературе, в том числе и самим Давыдовым («Дневник партизанских действий в 1812 году»), — рейд, нанесший ощутимый ущерб тылам наполеоновской армии и ставший началом развернутого и организованного партизанского движения, занявшего большое место в военных планах Кутузова. Уже в двадцатых числах сентября Кутузов считает нужным особо отметить «поиски» Давыдова, в том числе на Смоленской дороге. 28 октября соединенные отряды Давыдова, Фигнера, Сеславина и Орлова-Давыдова одерживают при Ляхове решительную победу над корпусом генерала Ожеро и берут в плен самого командующего.
9 декабря партия Давыдова, двигавшаяся в направлении Виленской губернии, вступила в Гродно. Армия Наполеона уже отступила за Неман. 24 декабря был отдан приказ о перераспределении частей армии, и отряд Давыдова вошел в состав главного авангарда под командованием генерала Ф. Ф. Винценгероде. Самостоятельные действия Давыдова оканчивались; заслуги его наконец были признаны. По представлению Кутузова он получил чин полковника, ордена святого Георгия 4-го класса и святого Владимира 3-го класса. Еще важнее была репутация «отца партизанской войны», приобретенная Давыдовым. Давыдов настаивал на своем приоритете, который современники и позднейшие исследователи иногда оспаривали, и, может быть, не без оснований; дело было, однако, не в хронологическом первенстве, а в убедительной разработке и обосновании самого принципа и роли партизанского движения в современной войне, — принципа, блестяще подтвержденного военной практикой Давыдова и закрепленного затем в его исторических сочинениях. Партизанское движение опиралось на убеждение в народном характере Отечественной войны 1812 года, — и Давыдов вспоминал потом, как пришло к нему осознание необходимости «в народной войне» «<…> не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде»[1140]. Характерно при этом, что официальный патриотизм афишек Ростопчина Давыдова резко отталкивал; его «приноравливание» предполагало не искусственную стилизацию псевдонародного слога, а органическое сближение с солдатом и крестьянином. Оно происходило естественно; о нем Давыдов рассказал в своих поздних мемуарах.
4 января 1813 года, на третий день после перехода границы, «партизан Ахтырского полка Давыдов», «сходно с приказанием», присоединился к корпусам Винценгероде[1141]. Пройдя Вислу и Одер, авангард направился к Дрездену. Подойдя первым к столице Саксонии, Давыдов решился овладеть ею и, после переговоров с защищавшим город генералом Дюрютом, заключил трехдневное перемирие и 10 марта 1813 года вступил в Дрезден. Подошедший 13 марта Винценгероде не санкционировал этих действий; Давыдов был отрешен от командования; ему грозил военный суд. Заступничество Кутузова спасло его; по личному распоряжению Александра I он был возвращен в армию, но уже не получил прежней команды. То с Ахтырским полком, то во главе «партии наездников» он совершает весь заграничный поход 1813–1814 годов до самого Парижа. 23 мая 1814 года, получив шестимесячный отпуск, он выезжает в Москву. Здесь застает его и весна 1815 года.
Давыдов писал в автобиографии, что по возвращении «он предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий».
Война не отразилась в его поэтическом творчестве, — ее осмысление наступает позднее и ретроспективно. Почти полное отсутствие стихов за 1812–1813 годы как нельзя лучше опровергает легенду, создававшуюся самим Давыдовым, — что его сочинения писались «при бивачных огнях», в минуты отдыха между сражениями. Для поэзии ему нужен был досуг, увлечения, мирная жизнь, полная сменяющихся культурных впечатлений и интеллектуального общения. О Давыдове — «говоруне», «словоохотливом весельчаке», рассказчике, острослове вспоминают многие мемуаристы. И. И. Лажечников много лет помнил, как он однажды встретил Давыдова в 1813 году в кружке Н. Н. Раевского, в садике одного из силезских городков: «С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры, с черною как смоль бородой, из-под которой виден победоносец Георгий, с брюшком, легко затянутым ремнем», он что-то рассказывал под хохот окруживших его офицеров. Речь его была остроумна и саркастична, — это качество, памятное всем, его слышавшим, сам он высоко ценил и закрепил его в автохарактеристике в стихотворении «Полусолдат»:
Он, расточитель острых слов, Им хлещет прозой и стихами.Лажечников, конечно, вспоминал эти стихи, когда писал о Давыдове: «Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего»[1142]. Эта индивидуальная особенность находила выход в эпиграммах, которые Давыдов писал легко и охотно, до самого конца жизни; в этом же качестве он предстал перед кругом своих московских друзей. Еще не оправившаяся от страшных разрушений, Москва праздновала победу «в шумных кликах торжества», «запивая» «свой пожар и блеск похода», как потом вспоминал об этом Вяземский, воскрешавший в стихах «К старому гусару» (1832) «весь тот мир, всю эту шайку беззаботных молодцов», к которой в первую очередь принадлежал и Давыдов. Давыдов очень любил эти стихи и варьировал из них строки: «Будут дружеской артели Все ребята налицо». Уже через десятилетие с лишком эта эпоха рисовалась ему как дни юности и «заблуждений разгульных, любовных и поэтических», когда собирались «за шампанским с Толстым, с Жуковским, с Батюшковым» (письмо Вяземскому от 20 июля 1828 года)[1143]. От нее остается целая серия анекдотических рассказов о гомерических кутежах. Эта «поэзия разгула» в значительной мере условна. Тот же Вяземский вспоминал впоследствии, что Давыдов «поэтизировал», говоря о своих попойках, что он был всегда очень возбужден и «умен <…> был, а пьяным не бывал»[1144]. В свое время Ермолову придется объяснить Николаю I разницу между реальным Давыдовым и поэтическим образом Давыдова-гусара, а князю А. Г. Татищеву успокаивать будущую тещу поэта: «Давыдов, когда его хорошо узнаешь, только хвастун своих пороков»[1145].
«Хвастовство» имело, однако, социальный смысл и функцию, которую очень хорошо чувствовали современники эпохи, например Ф. Н. Глинка. Оно было эмоциональным бунтом против казенной регулярности, «монотонии и глухой обыденности», бунтом, скрывавшим за собою субъективное неприятие существующих социально-бытовых, нравственных и даже политических норм[1146]. Еще в 1820-е годы «вакхическая» поэзия будет в ортодоксальном сознании связываться с понятием «либерализма». Такая связь зарождается в первые послевоенные годы, — и не случайно именно из «дружеской артели» выходят гедонистические стихи с прямыми политическими аллюзиями, подобные стихам Вяземского «К партизану-поэту» (1815). Денис Давыдов становится героем целой серии подобных посланий, — это как раз та фигура, которая дает благодарный материал для поэтического обобщения: «счастливый певец Вина, любви и славы» (В. А. Жуковский, «Певец во стане русских воинов», 1812), «Анакреон под дуломаном, Поэт, рубака, весельчак» (Вяземский, «К партизану-поэту», 1815). Обращенные к нему стихи составляют своего рода антологию, которую сам Давыдов тщательно собирал и переписывал, и в этой антологии за ним закрепляется привычная для нас формула «поэт и партизан», — характеристика не профессиональная, а образно-поэтическая, обе части которой соединены и взаимно обусловлены по законам художественной связи. К этому поэтическому портрету прочно прикрепляется также поэтическая тема дружеского пира; при этом послания к Давыдову опираются на его собственные, ходившие в списках «гусарские» стихи и воскрешают фигуру Бурцова — своего рода символ гусарской вольницы.
Стихи Давыдова 1814–1815 годов включаются в этот общий контекст. Но как раз его послание Ф. И. Толстому — «Болтун красноречивый…» (1815) — показывает, какой сдвиг произошел в его творчестве. «Болтун красноречивый…» — уже не «бурцовское» послание. В нем звучит тема «интеллектуального пира». «Круг желанный Отличных сорванцов», «владельцы острых слов» — все это решительно противостоит вызывающей примитивности пиров 1804 года. Мотив «остряков» здесь едва ли не доминирующий. Это очень ясно в упомянутых уже стихах Вяземского «К партизану-поэту», перекликающихся с Давыдовским посланием, — на этом пиру
Родятся искры острых слов, Друг друга гонят, упреждают И, загоревшись, угасают При шумном смехе остряков!Через несколько лет тема получает прямо социальное звучание в послании Пушкина к «Зеленой лампе» («Горишь ли ты, лампада наша», 1822):
Кипишь ли ты, златая чаша, В руках веселых остряков? —и заново возникает в «декабристских строфах» «Онегина».
Бурцов посланий 1804 года встречал монологи поэта-гусара красноречивым молчанием: «Нос твой рдеет, лоб твой жмется, Отвечать тебе невмочь…» («Бурцову», первая редакция). Здесь противоположный принцип изображения; он будет продолжен в «Песне старого гусара»:
Ни полслова… Дым столбом… Ни полслова… Все мертвецки Пьют — и, преклонясь челом, Засыпают молодецки.Эта ретроспектива уже тронута легкой иронией: не забудем, что «старые гусары» представлены как «председатели бесед». Между новомодными интеллектуалами, говорящими о Жомини, и «коренными» воинами, чье ремесло — «кровавый бой», появляется новое, ценностно значимое звено: вольнодумцы и поэты, связанные узами дружества и единомыслия. После 1815 года всерьез героизировать Бурцова уже невозможно. И может быть, поэтому в послании Толстому 1815 года нет ни «куля овса», ни «стаканов пуншевых», но есть венки из плюща, Вакх и страсбургский пирог. Быт эстетизирован, интеллектуальный пир проецирован на греческий симпосий. Здесь ощущаются явные и давно замеченные исследователями следы воздействия поэтики Батюшкова.
Литературные отношения Давыдова и Батюшкова мало исследованы, — между тем они составляют особую проблему, весьма существенную при изучении творчества Давыдова. Взаимные оценки поэтов благожелательны, и даже более: Давыдов прямо признается в своем «восхищении» «гением» Батюшкова[1147]. «Бурцовские» послания Давыдова эстетически подготавливали «Мои пенаты»: бытовая сфера батюшковского послания — «стол ветхий и треногий С изорванным сукном» — функционально близка давыдовской, при всех внешних различиях; это тоже быт не повседневный, а символический. С другой стороны, батюшковский «ленивый мудрец» появляется уже в стихотворении Давыдова 1813 или 1814 года («К Е. Ф. Сну…»). Когда в 1814 году выходят из печати «Мои пенаты», они меняют поэтическую систему давыдовских посланий. Самый стих послания «Болтун красноречивый…» — астрофический трехстопный ямб «Моих пенатов», а античный колорит — не колорит в собственном смысле, но поэтические эвфемизмы, своего рода эквиваленты «высокого», «поэтического», «украшающего» слога. Этот язык не был исключительной и индивидуальной особенностью «Моих пенатов»: за ними последовали два других послания Батюшкова — «К Ж<уковско>му» (1812) и «Ответ Т<ургене>ву» (1812); в первом из них есть описание эпикурейского обеда, близкое к тому, какое мы находим в послании Давыдова:
…вины И портер выписной, И сочны апельсины, И с трюфлями пирог…В разное время и вне хронологической последовательности в печати появляется целый ряд посланий, порожденных «Моими пенатами»: «К Батюшкову» Жуковского, «К Д. В. Дашкову» В. Л. Пушкина, «К подруге» и «К Батюшкову» Вяземского. Стихи Давыдова к Ф. Толстому включаются в этот поток (частью, несомненно, известный Давыдову до печати) и усваивают его поэтические темы, — не только тему дружеского пира, но и другую: тему «двора» и «света» как благ иллюзорных, мнимых, которым противопоставлены подлинные жизненные и духовные ценности. Тема эта порождает словесные формулы с устойчивыми значениями. «Молодые счастливцы», «баловни природы» — эти поэтические фразеологизмы из «Моих пенатов» войдут затем как ключевые в декларации Пушкина и «союза поэтов». Но определение «счастливцы» появляется у Батюшкова, и с негативным смыслом:
Развратные счастливцы, Придворные друзья И бледны горделивцы, Надутые князья!Именно в этом значении формула появится у Давыдова — много позже, в элегии «Бородинское поле»:
…Счастливцы горделивы Невольным пахарем влекут меня на нивы.Здесь была уже не только поэтическая, но и общественная ориентация.
Еще в 1814 году за сражение под Бриеном Давыдов был произведен в генерал-майоры. В конце года в приказах было объявлено об ошибочном производстве. Это недоразумение, выяснившееся только в 1815 году, было для Давыдова еще одним доказательством настороженно-недоброжелательного отношения к нему двора и более всего великого князя Константина Павловича. Но Давыдов столкнулся, скорее всего, не столько с личной «ненавистью», сколько с военно-бюрократической машиной, безличными общими распоряжениями, силой которых его удерживали без дела в Варшаве всю вторую половину 1815 года, гасили его воинскую инициативу, заставляли заниматься штабной работой, «парадами и формировкой». В январе 1816 года он в Киеве; он получает наконец следующий чин и назначения; сначала при начальнике 1-й драгунской дивизии, затем, по неотступным просьбам, во 2-ю гусарскую дивизию. В 1818–1819 г oдах он начальник штаба 7-го, затем 3-го пехотного корпуса, дислоцированного в Кременчуге. Оставленный в глубокой провинции, он стремится не сидеть на одном месте и проводит время в инспекторских смотрах и беспрестанных поездках то в Киев, то в Москву и Петербург. Ему нужен дом и семья; в 1816 году он собирается жениться на Е. А. Злотницкой, но брак расстраивается. Все эти перипетии отражаются в его стихах.
1815–1819 годы — годы наибольшей близости Давыдова к деятелям тайных обществ юга — близости и чисто географической, и идейной. Он дружен с М. Ф. Орловым; он свой человек в Тульчине и Каменке. Его ближайшие покровители, сослуживцы и друзья поддерживают тесные связи с активнейшими деятелями будущего декабризма: Пестель, И. Г. Бурцов — доверенные лица П. Д. Киселева, М. А. Фонвизин — Ермолова, С. Г. Волконский станет зятем Н. Н. Раевского. Да и сами Киселев и Ермолов занимают в военной администрации особое положение: они тронуты духом оппозиции настолько, что будущие декабристы рассчитывают на них как на прямых союзников.
О политике правительства Давыдов в эти годы высказывается резко и недвусмысленно. Он преисполнен отвращения к Аракчееву и аракчеевщине, военной бюрократии, «парадным генералам», наследникам гатчинских экзерцицмейстеров, «пресмыкающимся» перед властью, чтобы снискать «кусок эмали или несколько тысяч белых негров»[1148]. Подобно Киселеву и Орлову, он требует уважения к солдату и с энтузиазмом принимается за организацию ланкастерских школ по орловской методе. Он посылает в петербургский «Военный журнал» статьи о 1812 годе, — что в 1817–1818 годах было общественным жестом: тема «народной войны» была в эти годы если не запретной, то нежелательной. Наконец, он знает что-то о проектах «Ордена русских рыцарей» М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова. Но перед декабристскими проектами социального переустройства он останавливается.
«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу, — пишет он П. Д. Киселеву в известном письме 1819 года. — …Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабев ночною грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне он не внемлет!» Его план — постепенная «осада», «пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева»[1149]. В отличие от П. Д. Киселева, он не склонен возлагать надежды на реформы сверху; в отличие от Орлова, не верит в эффективность революционного взрыва. В 1823 году он с сочувствием следит за ходом испанской революции и жалеет о падении Мадрида; в интереснейшем письме к А. Я. Булгакову он набрасывает общий очерк политической жизни последних десятилетий: после победы над Наполеоном наступила всеобщая реакция; на сцену вышли «магнетизм» и «Крюднерша» — обскурантизм мистических и политических сект, Священного союза, клерикальных кругов. «Я начинаю верить, — заключает он свое письмо, — что инквизиция и самодержавие есть притягательное дыхание диавола, от коего человеческий род спастись не может»[1150]. Это апогей политического критицизма, — но вместе с тем и политического скептицизма. Скептицизм Давыдова не есть стройная, продуманная система взглядов, присущая политическому мыслителю; у него нет и сколько-нибудь оформленной позитивной программы. Он был несомненно искренен, когда говорил о своих монархических убеждениях, — но таких, которые не нравились реальным монархам; подобно многим из умеренных просветителей XVIII–XIX веков, он был противником «деспотии», «самовластия», — и не более того. Он знал, однако, что в реальных условиях России середины 1820-х годов политическая реальность — именно «деспотия», а не «просвещенный абсолютизм», — и не только это убеждение, но и пессимизм, вызванный в нем поражением европейских революций, сближает его с многими деятелями декабризма и с Пушкиным: это охвативший почти всю мыслящую часть общества «кризис 1823 года». Теперь Давыдов готов принять самодержавие как неизбежное зло. В. Д. Давыдов помнил, что отец его возражал даже против конституционного ограничения монархии, предпочитая «одного большого тирана» «массам маленьких, подкрашенных красноречием». К сожалению, мы не знаем, к какому времени относится это высказывание; может быть, оно принадлежит уже 1830-м годам: оно близко той позиции, которая отразилась в «Современной песне». Как бы то ни было, Давыдов продолжал сохранять неприязнь к современной ему официальной России, но в нем крепло и недоверие к «духу революционных преобразований». По-видимому, эти настроения улавливали и члены тайных обществ. По семейному преданию, сохраненному сыновьями Давыдова, заговорщики намеренно избегали его, чтобы не замешать[1151]; сам он вспоминал, что, «находясь всегда в весьма коротких сношениях с участниками заговора», он «не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ». Когда на смену Союзу Благоденствия пришли подлинно конспиративные общества, декабристам нужны были уже не сочувствующие и сомневающиеся, но единомышленники. Когда же, незадолго до восстания, двоюродный брат Давыдова, Василий Львович, все же пригласил его запиской «вступить в Tugendbund», он ответил: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять»[1152]. Эта полушутка как нельзя лучше показывает двойственное положение Давыдова в реальной обстановке современной ему России: критикуя правительство, он ощущал себя «солдатом», обязанным служить верой и правдой, но все время оказывающимся в оппозиции силою вещей. Двойственным было и отношение к нему: его награждали за «службу», но не считали «своим»; не верили в начале его пути, не верили и под конец жизни[1153].
Социальное сознание Давыдова получит в его стихах непосредственное отражение позднее, в 1828–1830 годах. Во второй половине 1810-х годов он выступает исключительно как лирический поэт. Это время — период его интенсивного творчества и продолжающихся литературных контактов. Его среда, как и прежде, — московский круг молодых последователей Карамзина, формирующий в 1815–1817 годах литературно-полемическое общество «Арзамас».
Сохранилось очень немного свидетельств об организационном участии Давыдова в «Арзамасе». Он был принят в члены 14 октября 1815 года и получил шуточное прозвище «Армянин» (из баллады Жуковского «Алина и Альсим»). На заседаниях он, по-видимому, ни разу не присутствовал.
Ф. Ф. Вигель вспоминал, что петербургские «арзамасцы» Давыдова «никогда меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и <В. Л.> Пушкиным составили они отделение „Арзамаса“, и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев»[1154]. Все это вряд ли достоверно и рассказано по слухам. Александр Тургенев, блюститель традиций «Арзамаса», даже не мог вспомнить арзамасского прозвища Давыдова. То, что прежними издателями Давыдова считалось его вступительной «арзамасской» речью и было в 1893 году напечатано в собрании его сочинений, является, как ныне установлено, слегка отредактированной речью Андрея Тургенева в «Дружеском литературном обществе», относящейся еще к 1801 году[1155]. Однако нужно говорить не об участии Давыдова в кружке в собственном смысле слова, а о принадлежности его к неформализованной группе литераторов, которая в современной исследовательской литературе обозначается как «арзамасское братство» и которую объединял не устав и совместные заседания, а дружеские и профессиональные связи, ощущаемые как общность[1156]. Эти связи и эта общность установились у Давыдова с Батюшковым, Жуковским, Вяземским еще в начале века; подобно им, он был «арзамасцем до Арзамаса». В «Арзамас» он пришел естественно и разделил с ним профессиональные интересы и даже профессиональные привычки. Он писал Жуковскому в декабре 1829 года, посылая свои стихи: «…все тебе отдаю на суд; ты архипастырь наш, président de la chambre du conseil (председатель суда. — Сост.); что определишь, то и будет…» Его письма Вяземскому пестрят настоятельными просьбами: «Прошу поправить, да непременно поправить, иначе я точно рассержусь»[1157]. Позднее он изберет себе и других поэтических арбитров — Баратынского, Языкова. За всем этим стоит литературный быт и психология кружка, причем именно «арзамасского» кружка. И признание безусловного приоритета Жуковского в области поэтического «слога» — несмотря на любые расхождения как социального, так и общеэстетического свойства, и взаимная стилистическая критика, — все это входило в систему литературных взаимоотношений «арзамасского братства». «Критика слога» органически включалась в эстетическую программу «школы гармонической точности» с ее критериями «вкуса», «соразмерности и сообразности». И здесь возникало явление почти парадоксальное. Постоянно подчеркивая непрофессиональность, импульсивность, небрежность своего творчества и стиля, Давыдов настойчиво требует от друзей его «полировки» и в то же время сам с почти педантическим упорством работает над отдельными строками и словами. Не много найдется современников Давыдова, которые бы вносили лексические изменения почти в каждую новую публикацию и даже почти в каждую автокопию своих стихов. Давыдов делал это.
Варианты его стихов, расположенные в хронологической последовательности, дают нам очень выразительную картину типично «арзамасской» творческой лаборатории. За редким исключением, он не создает новых редакций: он отшлифовывает раз написанное на уровне строк и слов, ища логической и гармонической точности и адекватности смысловых и стилистических оттенков. Это именно критика «вкуса»; недаром же он постоянно упоминает в письмах о «нескольких пятнах грязи», которые просит вычистить, и жалуется на неточности, с которыми не может справиться сам.
Ему нужен общий поэтический фон, на котором стилистический оттенок дает семантический сдвиг, не контрастирующий, а гармонирующий с целым, и тем не менее ясно ощущаемый. Это был общий закон поэтики Батюшкова — Жуковского[1158].
Давыдов оживляет, казалось бы, стертые поэтизмы, наполняя их конкретно-чувственным содержанием; он играет оттенками, обертонами, соотношениями тропа и общего контекста, — он владеет всеми теми специфическими средствами поэтического языка пушкинской поры, которые были материализацией основного эстетического требования — «вкуса» и «гармонии».
Но этого мало. Он сам принимает участие в коллективных стилистических разборах «арзамасских» стихов с позиций «гармонической точности» — и на это время сбрасывает с себя маску ученика и дилетанта, с профессиональной определенностью заявляя иной раз свое особое мнение. Блестящим примером такого разбора является письмо его Вяземскому о стихах Пушкина «Жуковскому» (июнь 1818 года), приведших в восторг Вяземского и Жуковского. Давыдов решительно противопоставляет их отзывам свое суждение. «Стихи Пушкина хороши, — пишет он, — но не так, как тебе кажутся, и не лучшие из его стихов. Первые четыре для меня непонятны. Но И быстрый холод вдохновенья Власы подъемлет на челе прекрасно! И меня подрал мороз по коже. От стиха сего до рифмы ясным не узнаю молодого Пушкина. В дыму столетий чудесно! но великаны сумрака Карамзина… что скажешь? А мысль одинакая. Замечание твое насчет злодейства и с сынами справедливо. Теперь от рифмы окружен до рифмы земной я слышу Василия Львовича, напев его. Но стих И в нем трепещет вдохновенье — прелестен! Вот мое мнение насчет этих стихов» 2. Это критика не только «слога» — неточностей поэтического словоупотребления. Давыдов идет дальше Вяземского; он касается вопросов лирической композиции, отмечая длинноты, ослабляющие поэтическую энергию. В «арзамасской» фразеологии имя В. Л. Пушкина, «напев» его означали вялость, «водяность» стиха. Во второй редакции Пушкин сократил послание почти наполовину, убрав и первые четыре строки, и всю вторую часть, где находились стихи, напомнившие Давыдову «Василия Львовича»; эта новая редакция создавалась уже тогда, когда Пушкину могли быть известны давыдовские замечания.
У нас есть все основания считать, что именно в «арзамасской» среде, в Москве, в конце 1817 — начале 1818 года созрела мысль об издании первого сборника стихов Давыдова. Он должен был открываться элегиями. Новый период творчества «поэта-партизана» проходил под знаком элегий, написанных им в 1814–1818 годах, посвященных разным адресатам, но ныне выстроенных в единый лирический цикл, — своего рода книга элегий, подобная IV книге «Po é sies é rotiques» Парни и, вероятно, прямо на нее ориентированная. Единство цикла обеспечивалось единством лирического героя и лирической эмоции; каждая ситуация составляла как бы главу лирического романа, обозначенную заглавием. Это собрание читал Жуковский, сделавший замечания по жанровому составу и вовсе не коснувшийся стиля.
Здесь возникает еще один ложный парадокс. Давыдов упорно требовал от Жуковского поправок, — Жуковский с таким же упорством отказывался их делать. «Ты шутишь, требуя, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне: поправь (по правилам малярного искусства) улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и пр. и пр. Нет, голубчик, не проведешь»[1159]. «Прелесть» «музы Давыдова» для Жуковского — именно в ее «небрежности», непосредственности, способности быть мгновенным отпечатком душевных движений, сохраняя ту эмоциональную энергию, которая исчезает при прикосновении «искусства». Именно ее, как мы видели, искал Давыдов в стихах «молодого Пушкина».
Это качество поэтической энергии, экспрессии сам Давыдов более всего ценил в своих стихах, употребляя для ее обозначения метафору-термин «огонь». «Огонь» в его элегиях принадлежал самому лирическому герою, решительно отличавшемуся от героя «унылой элегии», родоначальником которой был сам Жуковский и которая под пером его последователей уже начинала превращаться в канон. Элегический герой Давыдова страстен, а не уныл и не мечтателен, и роль его — действие, а не медитация. Поэтому на него не распространяются и те этические и эстетические запреты, которыми ограничена сфера чувств и поведение «унылого» элегического героя. Ему доступна ревность и желание мести; он не спиритуалистичен, а скорее чувствен. Когда Пушкин в стихотворении «Мечтателю» (1818) объявит войну концепции «унылого» элегического героя, он прежде всего поставит под сомнение подлинность его чувства и противопоставит ему давыдовского героя. Истинная любовь — не «тихое уныние», а «страшное безумие», «бешенство бесплодного желанья». Строка из VIII элегии Давыдова осмысляется здесь как формула романтической концепции любви.
Пушкин признавался, что уже в молодости под влиянием Давыдова стал писать «круче» и «приноравливаться» к его «оборотам»[1160]. «Кручение стиха» — тоже своеобразная формула, которой Пушкин определял поэтику давыдовских элегий. При этом он имел в виду вовсе не гусарскую «грубость», которая в элегиях полностью отсутствует, а их экспрессивный рисунок. Упомянутая нами превосходная VIII элегия очень показательна в этом отношении. Поэтический синтаксис этой элегии не «элегичен» — в том смысле, в каком это слово употребляла формирующаяся теория жанра, — он принадлежит скорее ораторскому периоду. Для элегий Давыдова характерен зачин-обращение, личное или внеличное:
Возьмите меч — я недостоин брани! Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен! (<Элегия I>) О ты, смущенная присутствием моим, Спокойся: я бегу в пределы отдаленны. (<Элегия VI>) Нет! полно пробегать с улыбкою любви Перстами легкими цевницу золотую… (<Элегия VII>) О пощади! — Зачем волшебство ласк и слов… (<Элегия VIII>)Здесь не просто поэтический прием — здесь стилевой ключ. Элегия строится на вопросительной или восклицательной интонации. Это заметил Пушкин, — когда в «Андрее Шенье» он заставит заговорить элегического поэта:
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный, Ты, слово, звук пустой… —он словно станет варьировать интонационно-синтаксический рисунок IX элегии Давыдова:
Погибните навек, мечты предрассуждений, И ты, причина заблуждений, Чад упоительный и славы, и побед!Но вернемся к «Элегии VIII». Ораторская интонация нарастает; лирическая тема «возлюбленной» строится на анафорических повторах. Портрет ее возникает отраженно, в восхищенном созерцании. В нем нет никаких описаний, ни одной конкретно узнаваемой черты — как развевающиеся по ветру волосы героини батюшковской «Тавриды», — в нем говорит чистая эмоция.
…Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокий, Зачем скользит небережно покров С плеч белых и груди высокой? О пощади!..Повтор, еще подчеркнутый паузой переноса, кольцеобразно замыкает тему «возлюбленной». Возникает вторая тема — «любовника»; она вступает в свои права в следующих строках, где, совершенно так же, как в первом четверостишии, лирическая эмоция нарастает, нагнетается уже средствами лексики — беспорядочно, на первый взгляд, нагромождаемыми однородными сказуемыми, словно поэт мучительно ищет единственного точного и всеохватывающего слова. Но это иллюзия: хаос здесь мнимый. Он точно выверен и рассчитан. Глаголы, призванные передать состояние героя, не тождественны по значению — они играют тончайшими смысловыми оттенками:
…я гибну без того, Я замираю, я немею При легком шорохе прихода твоего; Я, звуку слов твоих внимая, цепенею…Создается экспрессивное поле, в следующих строках еще повышающее свое напряжение:
Но ты вошла — и дрожь любви, И смерть, и жизнь, и бешенство желанья Бегут по вспыхнувшей крови, И разрывается дыханье!Этот эмоциональный гиперболизм станет затем особенностью любовной лирики 1830-х годов. Стихи Давыдова предвосхищали и поэтический «хмель» Языкова, и метафорическую экстатичность «байронистов» лермонтовского поколения, и эротику Бенедиктова. Но у Давыдова ценностные и эмоциональные ореолы слова не поглощают его логического значения, как это нередко будет случаться в поэзии 30-х годов: экспрессивность стиха умеряется требованием «гармонической точности»[1161].
Элегии Давыдова ждала своеобразная судьба. Их поэтические открытия сказались не ко времени в эпоху господства «унылой элегии». Последняя в 1810-е годы была продуктивным жанром, из которого предстояло вырасти аналитической элегии Баратынского. В 30-е же годы Давыдов отказывается от этого жанра и смотрит на свои элегии как на стихи «старинной выделки». Он не сумел сам оценить своего новаторства, но очень ясно ощущал генеалогию своих стихов.
Дело в том, что корни давыдовской элегии уходили еще в доромантический период. Она создавалась не после «унылой элегии», а параллельно с ней, и ее «строительным материалом» была «легкая поэзия», анакреонтика, послание, промежуточные жанровые формы типа стансов и «песен». Поэтому-то жанровые каноны новой, преромантической элегии и не оказали воздействия на Давыдова: он прошел мимо них. В эпоху, когда русская поэзия культивировала героя шиллеровских «Идеалов» или «Падения листьев» Мильвуа, его героем продолжал оставаться элегический либертин, обрисованный в стихах Парни. Он сохранил в своей элегии и то, против чего боролись элегики новой формации: сложное переплетение стилистических и модальных планов — от гнева до лирической жалобы и иронии, от патетики до просторечия. Поэтому источники и аналоги его элегиям обнаруживаются иногда за пределами элегического жанра.
Как и ранее, он более всего близок к Батюшкову, многие стихи которого знает, вероятно, до печати. В элегии VII есть след воздействия батюшковского «отрывка» «Воспоминания»:
Я именем твоим летел под знамя брани Искать иль славы, иль конца; В минуты страшные чистейши сердца дани Тебе я приносил на Марсовых полях…Эти стихи еще не были напечатаны, когда Давыдов писал:
О Лиза! сколько раз на Марсовых полях, Среди грозы боев, я, презирая страх, С воспламененною душою Тебя, как бога, призывал…Он переводит девятую элегию Парни, как будто следуя по пятам за Батюшковым, и оказывается ближе к нему, чем к оригиналу:
Нет, нет! явлюсь опять, но как посланник мщенья, Но как каратель преступленья…У Батюшкова, в том же 1816 году:
Нет, в лютой ревности карая преступленье, Явлюсь, как бледное в полуночь привиденье…Или в «Элегии VII» Давыдова:
Никто не окропит холодный труп слезой, И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!Это парафраза батюшковского «Веселого часа»:
…Ничьей слезой Забвенный прах не окропится…Еще более интересно, что в его элегиях оживают структурные принципы любовных стихов Карамзина, некогда прочитанных им в «Аонидах», — «К неверной», «К верной», «Послание к женщинам», «Отставка», — эти стихи, объединенные темой любви и измены, он хорошо помнил и иной раз сознательно перефразировал (см. примечание к стих. «Ответ на вызов написать стихи…»). Они уже вовсе не были «элегиями» в понимании первого десятилетия XIX века: они допускали рассуждение, сентенцию, прозаизм, иронию — все то, что исключила новая элегия и что сохранил Давыдов. В «Отставке» Карамзина мы находим уже знакомый нам случай метафорического использования профессиональной военной лексики, — такой же, как в давыдовском «Неужто думаете вы…» (кстати, в первой публикации названном «Отставка», а во второй — «Неверной»). В «Послании к женщинам» мы без труда обнаружим почти «давыдовские» патетические монологи, с вопросительными и восклицательными интонациями, с широким эмоциональным диапазоном:
Когда познаешь ты приятность вольной страсти? Когда в тебе любовь сердца соединит, Не тяжкая рука жестокой, лютой власти? Когда не гнусный страж, не крепость мрачных стен, Но верность красоте хранительницей будет?Это все очень близко II элегии. А вот — в том же послании — темы и интонационный строй элегии VII:
О вы, для коих я хотел врагов разить, Не сделавших мне зла! хотел воинской славой Почтение людей, отличность заслужить…Эту связь, видимо, и ощущал Давыдов, когда причислял свои элегии к галантной поэзии предшествующего столетия. Но он переоценивал значение их родословной, ибо сами стихи принадлежали уже новой эпохе.
Военная карьера Давыдова практически оканчивается в начале 1820-х годов. В 1819 году он женится на С. Н. Чирковой («выходит замуж», как острит Федор Толстой) и живет в Москве и под Москвой, числясь в длительных отпусках. Его неприязнь к военной бюрократии отлично известна в столице; к тому же с юных лет он пользуется репутацией неблагонадежного. В 1822–1824 годах Ермолов несколько раз просит о переводе его на Кавказскую пограничную линию, о чем хлопочут Закревский и Волконский, но на все ходатайства следует отказ. «Нет нам удачи с Денисом, — пишет Закревскому обиженный Ермолов, — и больно видеть, что неосторожность и некоторые шалости в молодости могут навсегда заграждать путь человеку способному»[1162]. В 1823 году Давыдов окончательно выходит в отставку.
В эти годы расширяются его литературные связи. Имя его окружено ореолом легенды; реальный облик проецируется на его стихи. Молодой М. П. Погодин, встретивший его у А. В. Всеволожского, записывает в дневник: «Огонь! — с каким жаром говорил он о поэзии, о Пушкине, Жуковском.
В молодости только можно писать стихи, надобно гроза, буря, надобно, чтоб било нашу лодку отовсюду <…> Теперь я в пристани, на якоре. Теперь не до стихов! Как восхищался Байроном, рассказывал места из него <…> Негодует на Жуковского, зачем он только переводит. — Нет воображения. <…> Говорил о своем дневнике, биографии и пр. Огонь, огонь»[1163]. Этот стилизованный портрет романтического поэта отчасти сознательно создавался самим Давыдовым.
Он легко и свободно сходится с литературной молодежью; А. А. Бестужев и Грибоедов попадают под его обаяние. В 1824 году он буквально засыпает Закревского просьбами об облегчении участи Баратынского и вместе с Жуковским и А. Тургеневым добивается наконец почти недостижимой цели; освободить опального поэта от солдатской лямки, выхлопотав ему офицерский чин и вожделенную отставку. С этого времени начинается постоянное литературное общение Давыдова и Баратынского.
Стихов в эти годы он, по-видимому, вообще не пишет и работает только над военными сочинениями: выпускает «Опыт теории партизанских действий» (1821, 1822) и публикует в «Московском телеграфе» «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825). Однако он пишет свою автобиографию — ту самую, о которой упоминал Погодин и которая была в ранней редакции готова уже в 1821 году.
Здесь, в Москве или в подмосковной, застает Давыдова известие о восстании 14 декабря. Как он принял это известие, мы не знаем. С отъездом в Москву прервались его личные контакты с членами южных обществ, и еще в 1822 году, получив стереотипное требование подписки о неучастии в масонских ложах, он с возмущением написал Закревскому, что эта «форма» для него «неприлична», так как он не был и не будет ни в масонах, ни в каких других тайных обществах[1164]. Следствие над декабристами обнаружило непричастность Давыдова к заговору, но, несмотря на это, у нового правительства он пользовался симпатиями, быть может, еще меньшими, нежели у прежнего. Неприязнь была взаимной. В «Анекдотах о разных лицах…», писанных Давыдовым для себя, рассеяно множество рассказов, рисующих Николая I в крайне невыгодном свете, — рассказов о давнем недоброжелательстве императора к кумиру Давыдова — Ермолову, о бессмысленной педантической жестокости к участникам восстания, о страхе, испытанном им 14 декабря… Хотя следствие не коснулось самого Давыдова, оно затронуло его ближайший дружеский и родственный круг — М. Ф. Орлова, В. Л. Давыдова, семью Раевских, Грибоедова, а Вяземский и Баратынский, с которыми он был тесно связан в Москве, находились в глухой оппозиции к новому режиму.
Тем не менее Давыдов рассчитывает на перемены и начинает хлопотать о возвращении на службу. Успех означал бы для него гражданскую реабилитацию. В первых числах августа 1826 года, в дни коронационных торжеств, он был принят императором и обласкан. Николай поступил с Давыдовым почти так же, как месяцем позже — с Пушкиным: он стремился нейтрализовать и привлечь на службу лучшие силы прежней оппозиции. Вместе с тем здесь был и более близкий, прагматический расчет: представление Давыдова роковым образом совпало с началом русско-персидской войны.
Николай I отправил Давыдова на Кавказскую линию, к Ермолову, сделав то, чего Ермолов и Давыдов тщетно добивались от Александра I в течение двух лет. Но устранение Ермолова было уже предрешено императором: несколькими днями ранее на линию был отправлен генерал И. Ф. Паскевич, формально в качестве помощника, подчиненного Ермолову, фактически — как его преемник, с особыми полномочиями.
15 августа Давыдов выехал на Кавказ, «со стесненным сердцем» и обливаясь слезами, как признавался он потом в «Воспоминаниях о 1826 годе»[1165]. Несмотря на его бодрые заявления в письмах к Закревскому, что он готов «грянуть» и что «надо по крайней мере еще лет пять и две или три войны, тогда только уломают бурку крутые горки»[1166], осуществление его мечты о «войнишке» оказалось для него полной неожиданностью. Он был не слишком молод, не вполне здоров, он отправлялся в места, охваченные эпидемией, оставляя детей и беременную жену. Его письма жене с дороги выдают его душевную депрессию[1167]. Часть пути он совершает вместе с Грибоедовым, только что освобожденным из-под ареста; их разговоры, несомненно, касаются событий 14 декабря и судьбы, ожидающей Ермолова с приездом Паскевича.
Все эти обстоятельства подготовили тот надлом, который пережил Давыдов в 1826–1827 годах и который прямо отразился в его поэтическом творчестве. Современные свидетельства очень выразительно рисуют нам начавшееся сразу после приезда Паскевича резкое обострение отношений между генералами и атмосферу доносов, наушничества и тайных интриг, которая окружила Давыдова в сентябре 1826 года. Ноты разочарования звучат в дневнике Н. Н. Муравьева: легендарный партизан не оправдывает своей славы — он слаб, нерешителен, не очень храбр, изнежен и капризен[1168]. В этих характеристиках сказывалась, конечно, и личность мемуариста — педантического службиста с гипертрофированным семейным самолюбием. Но они — свидетельство из «ермоловского лагеря», и Давыдов в них узнаваем. Он растерян, как растерян и сам Ермолов, подозревавший всех, временами даже Муравьева и Давыдова. От всесильного некогда проконсула Кавказа постепенно отворачиваются друзья и преданные подчиненные — и его охватывает страх: страх перед возможными неудачами, гневом императора, кознями Паскевича. Когда он говорит о неизвестности, его ожидающей, голос его дрожит, он плачет. Это не просто индивидуальные черты поведения Ермолова или Давыдова — это социально-психологическая атмосфера 1826 года с ее подавленностью и всеобщим страхом. Она прямо отражается в стихах Давыдова 1826–1827 годов: в «Полусолдате», в «Партизане», где ясно слышатся нотки психологического диссонанса. Здесь биографические мотивы вырастают до социального обобщения.
Сам Давыдов был одним из немногих, кто сохранил верность опальному генералу и кто провожал его, когда тот, подав прошение об отставке и получив ее, отправился «инвалидом» в свое имение, в апреле 1827 года. Сопровождавший их А. С. Гангеблов, поручик Измайловского полка, член Северного общества, служивший под надзором после десятимесячного заключения в Петропавловской крепости, сохранил в своих воспоминаниях выразительный эпизод: Давыдов обратил на него ласковое внимание лишь после того, как узнал его историю[1169].
Давыдов покинул Кавказ почти сразу же вслед за Ермоловым, отнюдь не улучшив, а, напротив, ухудшив свою репутацию в глазах властей. Паскевич поступил с ним по испытанному способу: он медленно, но неуклонно устранял его от дел, пока Давыдов не подал в отставку. «Я увидел, что меня хотят спровадить, — писал он Закревскому 10 августа 1827 года, — и просился прочь, это приняли с восхищением от неимения ко мне доверенности. <…> Я уехал, но несправедливость сия так потрясла всю нравственную систему мою, что я занемог, и серьезно…»[1170]
С этого времени в его стихи входит тема «гонителей» и «гонимых».
Он пишет «Бородинское поле» (1829) — одну из лучших русских исторических элегий 20-х годов, полную ностальгии по «гомерическому», героическому прошлому, эмблемой которого становятся имена Багратиона, Раевского и Ермолова, что звучало уже как прямой вызов. Вслед за тем он упоминает о себе, их соратнике, чью судьбу «попрали сильные…». Идея выражена в тексте прямо и недвусмысленно и не нуждается в специальном объяснении, — она почти та же, что в лермонтовском «Бородине». Менее очевидно для современного читателя художественное новаторство «Бородинского поля».
Чтобы оценить его по достоинству, следует иметь в виду, что «рустическая элегия», живописующая патриархальное сельское уединение, была в 1820-е годы живым жанром и что его поэтические темы и ценностные характеристики были предопределены в ней еще знаменитым вторым эподом Горация «Beatus ille…» — о счастливой судьбе земледельца, возделывающего наследственное поле. В 1807 году в бою при Прейсиш-Эйлау Давыдов вспоминал «Тибуллову элегию „О блаженстве домоседа“». Здесь определялись поэтические темы и образы с устойчивой системой коннотаций (сопутствующих значений): «покой» — мир, благоденствие, природа, семейные радости; «война» — убийство, смерть, жестокость. В IX элегии (1818) сам Давыдов находится в пределах этого круга понятий:
В уединении спокойный домосед И мирный семьянин, не постыжусь порою Поднять смиренный плуг солдатскою рукою…Но уже в 1824–1825 годах, в период первой отставки, в его письмах кристаллизуется остро контрастная словесная тема «солдата-хлебопашца» (письмо А. А. Бестужеву, 18 февраля 1824 года). Она достигает своего апогея в двух письмах к А. И. Якубовичу: «тяжело было снести то равнодушие, с каким оттолкнули меня в толпу хлебопашцев» (14 марта 1825). В следующем письме он с восхищением пишет о «богатырских и великодушных» деяниях Якубовича, «несущих на себе отпечаток чего-то гомерического, веющих запахом времен поэтических, ныне столь плоских и прозаических»[1171]. Итак, определяется новая система коннотаций: «война» — подвиги, поэзия, деятельность; «покой» — бездействие, угасание, будничная проза. Именно эта система поэтических представлений объясняет, почему Давыдов в 1829 году нарушает свое поэтическое безмолвие посланием к Е. Зайцевскому, — не к Пушкину, не к Вяземскому, не к Баратынскому, но к поэту очень ограниченного таланта, к тому же лично ему вовсе неизвестному. Герой-воин и одновременно стихотворец для Давыдова — символическое воплощение поэзии в «плоские и прозаические» времена. «Земледелец-гусар» стихов 1829 года — жертва века, оксюморонное сочетание, аномалия. Эта поэтическая концепция, решительно противостоящая традиционной, и развита в «Бородинском поле»:
Счастливцы горделивы Невольным пахарем влекут меня на нивы.Крошечная эпитафия «На смерть N.N.», относящаяся к тому же 1829 году, довершает картину. Она считалась всегда посвященной Ермолову, но реалии ее, кажется, указывают на другое лицо. В 1829 году умер Н. Н. Раевский. С его смертью для Давыдова уходила в прошлое целая эпоха.
Смерть Раевского стала событием общественным — и почти символическим. М. Ф. Орлов, «государственный преступник», пощаженный Николаем по ходатайству брата и безвыездно заключенный в своем имении, откликнулся на нее «Некрологией», изданной анонимно (1829); Пушкин немедленно отрецензировал ее в «Литературной газете» (1830). «Желательно, — замечал он, — чтобы то же перо описало пространнее подвиги и приватную жизнь героя и добродетельного человека»[1172]. Именно эта концепция, очень характерная для декабристских социально-этических представлений (подлинным героем может быть только добродетельный человек), легла в основу «Замечаний на некрологию Н. Н. Раевского», написанных Давыдовым в 1830-м и изданных отдельной брошюрой в 1832 году. Здесь содержалась апология гражданских добродетелей Раевского, приобретавшего под пером Давыдова черты «Агриколы, или Эпаминонда, или Сципиона», воина-философа, равнодушного к славе и почестям и со стоическим мужеством переносившего удары судьбы. О трагедии Раевского он говорит подробно и прозрачно; читатель 1830-х годов, воспитанный на аллюзионной литературе, мог безошибочно подставить конкретные факты: арест двух зятьев — М. Орлова и С. Волконского, отъезд в Сибирь любимой дочери, смерть маленького внука; подозрения и наговоры, окружившие его самого и сыновей. Этот-то человек вырастал под пером Давыдова в символическую фигуру древнего римлянина, противопоставленного «смрадной» современности, «коснеющей в тесной, себялюбивой расчетливости»[1173]. Когда Давыдов неосторожно показал рукопись Я. И. де Санглену, некогда главе тайной полиции, тот «откровенно заметил ему, что много либеральных, неуместных идей, печатание которых опасно». Так рассказывал де Санглен Николаю I и получил заверение императора, что и сам он не верит Давыдову, «которого выгнал Паскевич из армии»[1174]. Это происходило в 1830 году; Давыдов дал всей истории широкую огласку; он жаловался Закревскому, начальнику московской полиции А. А. Волкову, своему старинному знакомому, на добровольный шпионаж де Санглена; возникла официальная переписка, которая лишь вредила Давыдову в глазах высшей власти[1175]. Тем не менее он в 1832 году печатает свои «Замечания» и одновременно включает в свой сборник эпитафию «N. N.», прямо направленную против гонителей героя.
В 1831 году он делает еще одну — и последнюю — попытку напомнить о себе как боевом генерале: добивается командования отдельным отрядом в кампании 1830–1831 годов и участвует в нескольких упорных сражениях. На этот раз правительство считает нужным наградить его: он получает чин генерал-лейтенанта и орден святого Владимира 2-й степени. Из войны он выносит еще укрепившуюся неприязнь к российской военной бюрократии, к старому своему знакомцу И. И. Дибичу и старому врагу — великому князю Константину Павловичу, о чем он прямо написал в своих записках, дав почти гротескный портрет того и другого.
Начинался последний период его литературного творчества. В конце 1820-х годов Давыдов живет в своем именин Маза Симбирской губернии Сызранского уезда, по временам наезжая в Пензу, в Саратов. Деля свое время между хозяйственными делами, травлей волков по пороше и визитами к соседям-помещикам — Сабуровым, Бекетовым, Столыпиным, он обращается к поэзии как к жизненной необходимости. «Мне необходима поэзия, — пишет он Вяземскому, — хотя без рифм и без стоп, она величественна, роскошна на поле сражения, — изгнали меня оттуда, так пригнали к красоте женской, к воспоминаниям эпических наших войн, опасностей, славы, к злобе на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню. От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображение воспаляется — и я опять поэт!»[1176]
В 1828 году он печатает свою биографию, над которой работал уже несколько лет. Биография была манифестом романтического жизнестроения. Взятая вне своего эстетического качества, просто как очерк жизни и деятельности, она производила впечатление безудержного хвастовства, и так ее и восприняли многие современники. Давыдов должен был прибегнуть к наивной мистификации, распустив слух, что она написана другим лицом. Конечно, биография была актом самоутверждения, — но утверждал себя Давыдов прежде всего в качестве «поэтического лица». Отсюда характерная особенность его жизнеописания; вехами жизненного поприща выступают на равных правах смертельно опасные сражения, мирные договоры, «мазурка до упаду», любовные увлечения, кутежи и сочинение мадригала. «При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов», он перевел Делилеву басню «La Rose et l’Etourneau»… Все эти эпизоды почти равновелики, ибо они интегрированы единой личностью — «романтической натурой». Именно эту автоконцепцию Давыдова принимает из его рук Белинский и делает инструментом очень точного и тонкого анализа его поэтического творчества.
В тех же эстетических категориях Давыдов оценивает социальный быт и исторических личностей. Суворов и Наполеон для него — «поэты и витии действия», подобно тому как Пиндар и Мирабо — «полководцы слова». Еще в «Опыте теории партизанских действий» он говорил о «поэзии» партизанской войны; теперь он противопоставлял «расчетливому уму» и методическому маневрированию — «порыв непонятный, неизъяснимый, мгновенный, как электрическая искра»[1177]. Это не просто эстетика, это романтическая эстетика, и она глубоко укореняется даже в историческом мышлении Давыдова. Свои военно-исторические труды он также готов представить как плод вдохновения, противопоставив их трудам «мозаических кропателей».
Вместе с тем Давыдов нашел способ манифестировать и свою социальную позицию. Она сказалась в эпиграмматической субъективности оценок; так, рискованным и острым каламбуром он свел старые счеты с генералом Винценгероде. Когда он вторично напечатал свой очерк в качестве предисловия к сборнику своих стихотворений, В. Д. Комовский проницательно писал Языкову: «Видели ли вы стихотворения Давыдова? Жизнеописание особенно примечательно; говорят, оно написано Ермоловым. Если так, то это доказывает, что оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придираться, и которая, если бы она была у вас, ограничивалась словом, — уже переходит в литературу; перестает брезгать ею или, что то же, становится грамотною»[1178].
Теперь — в конце 1820-х годов — Давыдов отказывается от своей прежней позиции поэта, «презревшего печать». Обнародование своих сочинений становится для него единственно реальной формой социального бытия. Естественно, он выбирает для этого издание литературного круга, к которому он уже принадлежал, — «Литературную газету» Пушкина, Дельвига, Вяземского; когда позднее пушкинский круг собирается во вновь организованной «Библиотеке для чтения», Давыдов тоже посылает сюда стихи и статьи. Он порывает с «Библиотекой», когда из нее уходят его литературные соратники, и по тем же причинам: его не удовлетворяет ни «торговая словесность», ни редакторское самоуправство Сенковского. С возникновением пушкинского «Современника» (1836) в числе участников журнала оказывается и Давыдов.
В эти годы как никогда укрепляется его контакт с Пушкиным, за которым он признает безусловно роль главы русской литературы. Гибель Пушкина потрясла его и исторгла у него гневно-пренебрежительные строчки о литературных врагах поэта: «Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнию, и смертью парит над ними?»[1179] Отзыв характерен: за ним стоит все та же, знакомая нам, всеохватывающая эстетическая концепция «Поэта», воплощением которой становится Пушкин — и как личность, и как творец.
И едва ли не то же мироощущение становится психологической основой сближения Давыдова с Языковым, чему способствовало, впрочем, и довольно близкое соседство их по имениям. Со стихами Языкова он был знаком еще в 1824 году — их пересылал ему через Вяземского Бестужев. В 1826–1827 годах он возит с собою подаренный ему список «Песни короля Регнера» — и в те же годы цитирует Ф. И. Виницкому стихи из обращенного к Языкову пушкинского послания, где содержалась характеристика его поэзии:
Она не хладной льется влагой, Но пенится хмельною брагой, и т. д.Его, несомненно, привлекала экспрессия языковского стиха, в которой он видел родство с духом своей собственной поэзии, и он прямо называет стихи, близкие ему по поэтическому содержанию, — «Песню короля Регнера», «Кубок», «Поэту»: «В Москве этой зимою я впервые прочел пиесу вашу „Поэту“, ту, которая поставлена первою в стихотворениях ваших, — я ахнул. Что за язык! что за поэзия! что за возвышенность чувств — это очарование! а „Кубок“? Что мои хмельные стихи против этих? Сивуха пред шампанским»[1180].
В «Поэте» была развернута романтическая концепция поэтической личности, подобная той, на которой настаивал сам Давыдов. Родство обнаруживалось и за пределами собственно стихотворного языка. Когда Языков и Давыдов впервые встретились — это произошло на «мальчишнике» у Пушкина, в Москве, 17 февраля 1831 года, — тяготение оказалось обоюдным. В двух посланиях к Давыдову — «Давным-давно люблю я страстно Созданья вольные твои…» (1832) и особенно «Жизни баловень счастливый…» (1835) — Языков, словно угадав невысказанное желание адресата, создал его стилизованный романтический портрет. Послание Языкова осталось одним из лучших стихотворений, посвященных Давыдову. Пушкин, читая его, прослезился. Портретная формула: «…боец черно-кудрявый С белым локоном на лбу» — стала компонентом легенды, и Давыдов заботился о том, чтобы ей соответствовать. Когда-то определяющим элементом его внешнего облика были усы (он не шутя отказывался от назначений, исключавших ношение усов); сейчас он называет серебристый хохолок своим «flamme de génie» (пламенем гения)[1181], — происходит своего рода эстетическая перекодировка самой внешности.
К этому времени он успел уже выпустить в свет свой первый сборник — «Стихотворения Дениса Давыдова» (1832) — и готовил второе, уже более полное собрание.
Сборник 1832 года находился как бы на переломе Давыдовского творчества. Подобно сборнику, замышлявшемуся в конце 1810-х годов и так и оставшемуся в виде рукописной тетради, он открывался книгой элегий. Но среди элегий Давыдов производит строгий, даже слишком строгий отбор: теперь они его не удовлетворяют «старинной выделкой» — и, вероятнее всего, самой жанровой принадлежностью. Когда в 1829 году его постигают новые увлечения, давшие пищу серии любовных стихов, он избирает иные жанровые формы. «Душеньку» — одно из лучших своих любовных стихотворений этого времени — он определяет подчеркнуто перифрастически: «полуода, полуэлегия, полу-черт знает что», «полуэлегические, полуанакреонтические куплеты». Здесь против всех правил и традиций смешаны воедино «ода» (высокий жанр), «элегия» (средний), «куплеты» (едва ли не низкий). Индивидуальное творчество Давыдова идет в русле жанровых исканий 1830-х годов, в которые он сам вложил свою лепту: ему близки теперь романс, песня, поэтический фрагмент. Он, конечно, не отказывается полностью от традиционных форм, даже от элегических, но деформирует их почти до неузнаваемости. Интересно следить, как он движется от замкнутых поэтических структур к более свободным: так, уже «Элегия IX» содержит эллипсис — намеренный пропуск текста, обозначенный точками; это не неоконченность, как нередко считали, а сознательный поэтический прием, такой же, как в «Осени» Пушкина, — и его затем Давыдов будет практиковать, обрывая текст на нерифмующемся стихе и оканчивая двумя строчками точек. Его последний любовный «цикл», адресованный Е. Д. Золотаревой, за небольшим исключением, представляет собою редчайший в русской поэзии жанровый и стилистический эксперимент.
Роман Давыдова с Е. Д. Золотаревой начинается в 1833 году, и тогда же Давыдов пишет Вяземскому, что в нем вновь забил заглохший источник поэзии. Он сообщает о новых и новых стихах, им написанных, — но, за небольшим исключением, все эти стихи — крошечные лирические миниатюры, иногда из четырех строк. Здесь поэтический принцип, который мы вправе связывать с общей эстетической ориентацией Давыдова в тридцатые годы. Отрывок, фрагмент, мгновенная поэтическая вспышка, несущая на себе печать импровизации, непосредственное самоизлияние души — все это ближе всего соотвеетствует концепции «поэтической натуры». Ранняя декларация: «…где есть любовь прямая, Там стихи не говорят!..» — реализуется в поэтическом творчестве. Излишне напоминать, что все эти импровизации правились затем совершенно так же, как ранние элегии, и что на них равным образом распространялось требование коллективной критики. С необыкновенным искусством Давыдов имитировал поэтический дилетантизм, безыскусственность[1182] — и отдавал эти стихи в печать, делая исключение лишь для самых интимных, которые могли бы вызвать нежелательную реакцию в семье. Поэтический язык этих миниатюр значительно отличается от прежнего языка давыдовских элегий: в них уменьшается удельный вес поэтической перифразы и увеличивается роль заключительной афористической формулы. Нередко говорят об оживлении в них просторечной стихии «гусарских» стихов Давыдова, — и это верно; но просторечие в них не стилистическая доминанта, а лишь один из элементов стилевого сплава, в котором находят себе место и элегический язык, и язык анакреонтической поэзии, и, наконец, язык стилизации. Они ориентированы то на романс (для пения), то на фольклорный текст («На голос известной русской песни»). Наконец, Давыдов культивирует и точное, внеметафорическое, назывное слово, втягивая его в еле уловимую стилевую атмосферу, создаваемую как вербальными — словесными, смысловыми, — так и вневербальными средствами: ритмическим рисунком, поэтическим синтаксисом. Все эти тенденции, как в фокусе, сосредоточиваются в его маленьком шедевре — восьмистишии «Я помню — глубоко…».
«Я помню — глубоко…» — элегия, принявшая романсно-песенную форму. Элегическому жанру принадлежит лирическая ситуация — воспоминание о прошедшей любви, монологический характер повествования, временная соотнесенность экспозиции и концовки: первая — радостное прошлое, вторая — печальное настоящее. Но элегии нужны символические, традиционные и потому легко узнаваемые формы лирического опосредования, — например, элегический пейзаж. Иначе она лишится единства тона — непременного условия ее поэтики. Именно это и происходит у Давыдова. Зоркость глаза лирического героя, описанная в первом четверостишии, — для элегии непозволительная конкретизация и профанация духовного содержания. Здесь такое описание занимает половину стихотворения; тема «зоркости» реализуется в пространственной перспективе средствами эпического гиперболизма: «и степь обнимал широко, широко». Возникающий как бы ненароком пейзаж слегка окрашен народно-поэтическими ассоциациями. Это входит в замысел. Стихи пишутся амфибрахием, — этот размер употреблялся при стилизации народной песни. Удвоение наречий, обозначающее высокую степень качества, также принадлежит песенному языку. В самом построении стихотворения обнаруживаются черты песенной поэтики: «скачок» от «зорких глаз» к духовной драме, от внешнего к внутреннему, от физического к психическому сродни тому, что в народной песне Пушкин называл «лестницей чувств», а современные фольклористы — «ступенчатым сужением образа». Но Давыдов не стилизует песню: он создает ее стилевую атмосферу. Песня окрашивает легкими рефлексами лирический монолог, который от этого теряет черты элегической жалобы, и образ героя, который перестает быть «унылым». Напротив, это «удалец», только недавно переживавший расцвет физических сил.
Накопленная в первом четверостишии лирическая энергия разрешается в концовке резким контрастом:
Но, зоркие очи, Потухли и вы…Элегическая тема «утраты молодости», переданная языком песни, где «зоркие» — постоянный эпитет, «очи» — не поэтизм, а народнопоэтическая лексика, прямое обращение — традиционный фольклорный прием. «Потухшие очи» — признак старости. Однако в контексте стихотворения этот мотив — ложный, потому что первые строки связаны с последующими причинно-следственной связью. Молодость, сила утрачены потому, что утрачена любовь:
Я выглядел вас на деву любви, Я выплакал вас в бессонные ночи!Эта поразительная по своей силе концовка лишена всяких поэтических тропов, кроме, быть может, одного, заключенного во внутренней форме слова: «выглядел» — исчерпал в созерцании до слепоты — смелый неологизм, основанный на безукоризненном чувстве языка. Концовка сводит воедино все лирические мотивы предшествующих строк; построенная как точный параллелизм, на однородных синтаксических конструкциях, она выделяет и подчеркивает два центральных слова — «выглядел» и «выплакал», в которых как бы сконцентрировалось содержание я эмоциональная энергия стихотворения. После каждого из них — резкая пауза, придающая особый драматизм интонации. Давыдов соединил в длинной строке две строчки двустопного амфибрахия с мужской и женской рифмой; произошло стяжение — пропуск слога. В 1830-е годы это был почти уникальный по смелости стиховой эксперимент.
В позднем творчестве Давыдова мы не раз встречаемся с поэтическими экспериментами, различными по характеру и литературной установке. Конечно, они возникают на фоне традиции. Но и в жанровом, и в стилистическом отношениях его лирика 1830-х годов представляет собою гораздо более пеструю и многообразную картину, чем во все предшествующие периоды. В его последнем сборнике, вышедшем уже посмертно, мы встречаемся и с опытом циклизации разновременных стихов — явлением, чрезвычайно характерным именно для тридцатых годов, когда на смену группировке стихотворений по жанровому признаку приходит идея их объединения, по внутренним связям; так было и у Пушкина в последний период его творчества[1183].
Посмертный сборник Давыдова (1840) явился как бы итогом этой литературной работы.
Сборник 1832 года — «Стихотворения Дениса Давыдова» — не получил сколько-нибудь широкого общественного резонанса. Давыдов относил равнодушие публики и критики за счет «кружкового» характера своих стихов. Однако когда А. Ф. Смирдин в 1836 году предложил ему издать собрание сочинений, он принял это предложение, и к началу 1837 года у него уже была готова рукопись «Сочинений в стихах и прозе», первую часть которых составляют «Стихотворения». В этой первой части Давыдов и произвел маленькую литературную революцию, настолько необычную и непривычную, что последующим исследователям его творчества она иногда представлялась композиционным хаосом. Между тем она была закономерным следствием его изменившихся эстетических установок.
Давыдов решительно отказался от традиционного жанрового разделения: «элегии», «мелкие стихотворения», на котором был основан сборник 1832 года. Он понял, что структура книги может быть лирической биографией[1184]. Он составлял поэму своей жизни, в центре которой стояло «одно из самых поэтических лиц русской армии». Автобиография в начале книги была ее ключом.
«Договоры» начинали этот огромный новый «цикл». Мы говорили уже о двойственной жанровой природе «Договоров», совместивших черты элегии и сатиры. Давыдов редактирует стихотворение так, чтобы элегическое начало было приглушено, а ироническое, сатирическое, «гусарское» вышло на передний план, — и даже разъясняет замысел в специальном примечании. Но примечание содержало долю лукавства и мистификации. Элегия не исчезла вовсе, она лишь была завуалирована и скрыта за защитной маской иронии. Лирический герой постарел на тридцать лет («Увы! не сединой сердца обворожаешь!») — и едва ли не приобрел тем самым новые биографические черты. Во всяком случае, «Договоры» явились исходным пунктом лирической автобиографии — апологией «ветерана», «землепашца» на лоне природы. Далее начинала развертываться его предыстория.
Два послания к Бурцову. «Решительный вечер гусара». «Партизан». «Песня» («Я люблю кровавый бой…»), «Песня старого гусара». «Гусарская исповедь»… Это вехи жизненного и духовного пути — тщательно продуманная и выношенная концепция, где кульминацией является 1812 год, а далее — спад, новое и чуждое время, в котором один «старый гусар» сохраняет память о прошлом и верность прошлому.
На грани этого тематического цикла стоят «Полусолдат» и «Челобитная» — вынужденный конец воинской биографии. Но далее открывается новая ипостась личности поэта — любовь.
Введение в эту «главу» — «Гусар», старые и в целом не слишком удачные стихи, получающие здесь значение декларации. Вторая декларация — уже не в ироническом, а в серьезном регистре — «Возьмите меч…», бывшая «Элегия I». Некогда Давыдов создавал единую «книгу элегий» из стихов, обращенных по меньшей мере к трем адресатам; сейчас книга элегий распалась; из нее включено в сборник только пять; зато в «главу» вошли стихи, адресованные и Золотаревой, и Кушкиной. Все они образуют единый лирический сюжет, начинающийся темой любовных надежд, мучений и счастья: «Жестокий друг», «Вальс», «О пощади!..», «Душенька». «Речка» обозначает конец мажорной темы. Появляется нарастающая диссонансная нота: сначала ветрености возлюбленной (стихи к Аглае Давыдовой: «Если б боги милосердия…»), затем измены; она достигает своей кульминации в трагическом «Я помню — глубоко…». Но уже в пределах ее начинает слабо звучать другая тема: «выздоровления», преодоления кризиса; она выходит на поверхность в ироническом «Неужто думаете вы…» и разрешается в оптимистических анакреонтических стихах: в «Мудрости», в «Болтуне красноречивом…». Эта «глава» завершается эпиграммами, надписями и «Поэтической женщиной». Из этой тональности выпадает эпитафия «На смерть N. N.». Она начинает новую тему, полную социального пессимизма.
«Бородинское поле». «Зайцевскому». «Листок». Гонения, забвение, странствия, «прозаический век».
Последним стихотворением книжки становится «Современная песня».
Денис Давыдов создавал социальную концепцию собственной личности.
Есть своя закономерность в том, что и литературный путь Давыдова закончился «Современной песней» — памфлетом на Чаадаева и «западников», имевшим успех скандала. Резкость этого выступления вызвала реакцию в московских литературных кругах; «Современная песня» появилась в печати уже после смерти Давыдова, когда правительственные репрессии настигли Чаадаева и «Телескоп», где было напечатано «Философическое письмо». Чаадаевская католическая историософия, с ее пессимистическим взглядом на национальное историческое прошлое и будущее, почти не имела сторонников, но все ее потенциальные оппоненты — Пушкин, Вяземский, Баратынский, А. Тургенев — считали неуместным полемизировать с человеком, навлекшим на себя кары официальной николаевской России. Исключением были Ф. Ф. Вигель, давний ненавистник Чаадаева, публично обвинивший его в антипатриотизме, да М. Н. Загоскин, сторонник идеи «официальной народности», выступивший с памфлетом «Недовольные». Все это в создавшихся условиях звучало как прямой донос и так и расценивалось.
Своим стихотворением Давыдов примкнул именно к этому охранительному лагерю, и Вигель в своих позднейших мемуарах рассматривал «Современную песню» как выступление единомышленника. А. И. Тургенев, прочитав ее, высказывал Вяземскому свое возмущение. Нужно признать, что для этого были основания. Нотки официального патриотизма явственно звучат в давыдовском памфлете; «демагоги» западнических кружков, обрисованные в нарочито карикатурных тонах, представлены как жалкие сколки с измельчавших западных либералов, решительно чуждые здоровым началам российского социального организма.
«Современная песня» — критика либерализма «справа», и она, несомненно, показывала рост консервативных и даже охранительных начал в мировоззрении Давыдова. Сквозь призму этих стихов и воспоминаний людей, общавшихся с Давыдовым в его последние годы, прежний «поэт-партизан» рисуется в малопривлекательном виде: степной помещик, опустившийся, отставший от интеллектуальных интересов времени, пристрастившийся к вину — уже не в поэтическом, а в совершенно бытовом смысле, погрязший в семье, хозяйстве, псовой охоте… Эта картина не совсем верна и уж во всяком случае одностороння.
У нас есть основания предполагать, что с чаадаевской исторической концепцией Давыдов познакомился еще в начале 1830-х годов, когда в пушкинском кругу стало известно недавно написанное первое «философическое письмо». События 1830–1831 годов ускорили размежевание общественно-литературных сил; в эти годы обозначаются первоначальные абрисы будущей «западнической» и «славянофильской» концепций. В «Записках о 1831 годе…» Давыдов включился в спор и занял в нем своеобразную позицию. Его представления об историческом пути России отнюдь не совпадали с официозными, выраженными в известной формуле Уварова; они отличались тем самым социальным скептицизмом, который он исповедовал десятью годами ранее и который со временем приобрел ярко выраженный пессимистический колорит. Как и прежде, политическая свобода остается для него «небесной манной», но теперь он убежден, что для нее не пришло историческое время: современное общество погрязло в себялюбии и эгоизме, в пустых аналитических прениях (об этом менее чем через десять лет будет писать Лермонтов в «Думе») и им в жертву принесло «пользу, благосостояние и свободу народов». И ранее народное благо было жертвой честолюбия либо гражданского, либо военного; разница в том, что ныне Наполеон — «этот умственный феномен веков и мира, этот ослепительный метеор, облеченный в очарование высочайшей поэзии», — заменен «девяностолетним дитятей» Лафайетом, а «гомерического, баснословного, грандиозного размера битвы, с отпечатком гениальных соображений» — «площадною свалкою черни в лохмотьях»[1185]. Мы без труда узнаем здесь не только идею, но и самую фразеологию «Современной песни», в начале которой появляется неназванный Наполеон — «огромный человек, Расточитель славы»; ему противопоставлены «мошки да букашки» деградировавшего века. Панорама «героев времени», включающая и издавна вызывавшего у Давыдова неприязнь Чаадаева — «маленького аббатика» в салонах «старых барынь», есть лишь конкретизация этой общей идеи, — и Давыдов не забывает отметить, что либералы нового времени отнюдь не следуют своим принципам в собственном жизненном поведении:
А глядишь: наш Мирабо Старого Гаврило За измятое жабо Хлещет в ус да в рыло…Здесь говорит человек, когда-то с негодованием писавший о владельцах «белых негров» и еще в 1834 году рассказывавший Вяземскому, как гусарский майор Копиш, кормивший своих крестьян в голодный год, удостоился от соседей прозвания «бунтовщика» и «посягателя на спокойствие государства»[1186].
Все это объясняет, почему «Современная песня» была с одобрением встречена «Отечественными записками», вовсе не склонными сочувствовать памфлетам на западнические кружки, и почему в числе давыдовских карикатур появился сам Ф. Ф. Вигель, конечно никак о том не подозревавший.
Консерватизм «Современной песни» был либерализмом 1820-х годов, пережившим себя. Наступала новая эпоха; она выдвигала новые общественные силы, которые Давыдов уже не смог понять и принять.
В 1837 году, в двадцатипятилетие Бородинского сражения, он начинает хлопотать о перенесении на Бородинское поле праха Багратиона, чтобы похоронить его у сооружавшегося Бородинского памятника. Дело тянулось полтора года; 6 апреля 1839 года Давыдов получил наконец уведомление, что он назначен конвоировать останки своего командира с Киевским гусарским полком. Он приготовил надгробную надпись.
Ему не суждено было совершить этот «поход», с таким нетерпением им ожидаемый. 22 апреля 1839 года он скончался от апоплексического удара. Его погребли в Ново-Девичьем монастыре, в тот самый день, когда в Москву въехал кортеж с гробницей Багратиона.
Антон Дельвиг — литератор[1187]
Антон Антонович Дельвиг был одной из самых примечательных фигур в русской литературе пушкинской эпохи. Не обладая ни гениальностью Пушкина, ни выдающимися дарованиями Батюшкова или Баратынского, он тем не менее оставил свой след и в истории русской поэзии, в истории критики и издательского дела, а личность его была неотъемлема от литературной жизни 1820–1830-х гг. Осознание его подлинной (роли в литературе, богатой блестящими именами, приходило с течением времени: так, ближайшему поколению она была не вполне понятна, и даже первый биограф его, В. П. Гаевский, с любовью и тщанием собиравший материалы для его жизнеописания, рассматривал их скорее как подсобные для будущей полной биографии Пушкина[1188]. Только в наше время Дельвиг стал изучаться как самостоятельный и оригинальный поэт[1189].
Творчество Дельвига нелегко для понимания. Оно нуждается в исторической перспективе, в которой только и могут быть оценены его литературные открытия. Но понять его, осмыслить его внутреннюю логику и закономерности, почувствовать особенности его поэтического языка — значит во многом приблизиться к пониманию эпохи, давшей человечеству Пушкина. Тот, кто решится на эту работу, будет сторицей вознагражден: перед ним раскроются художественные и — шире — духовные ценности, которые были сменены другими, но не умерли и не исчезли и постоянно напоминают о себе нашему эстетическому сознанию — хотя бы тогда, когда мы слушаем романсы Глинки, Даргомыжского, Алябьева, или М. Яковлева на слова Дельвига — «Соловей», «Когда, душа, просилась ты…» и др.
По отцу Дельвиг принадлежал к старинному эстляндскому баронскому роду, совершенно оскудевшему задолго до его рождения; семья жила на жалованье отца, плац-майора в Москве, а потом окружного генерала внутренней стражи в Витебске; за матерью его было крошечное имение в Тульской губернии. Будущий поэт родился в Москве 6 августа 1798 г.; начальное образование получил в частном пансионе. Родители добивались определения его в только что организованный Царскосельский лицей и пригласили учителя. Учитель этот, литератор А. Д. Боровков, отвез мальчика в Петербург. 19 октября 1811 г. начался лицейский период жизни Дельвига, под знаком которого протекли едва ли не все его юношеские и даже зрелые годы.
Мы располагаем сейчас довольно большим числом свидетельств о «лицейском» Дельвиге. В табели за 1812 г., составленной из рапортов преподавателей, имя его стоит на двадцать шестом месте — и на четвертом от конца. Учителя почти единодушно отказывают ему в способностях, а многие — и в прилежании и, может быть, не без оснований: Пушкин, ближайший и любимый его друг, вспоминал, что способности Дельвига развивались медленно, и что до четырнадцати лет «он не знал ни одного иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке»[1190]. «Мешкотность», флегматичность Дельвига обращала на себя всеобщее внимание; она оставляла его лишь тогда, когда он шалил или резвился; в нем открывалась тогда насмешливость и даже дерзость: «…человек <…> веселого, шутливого нрава», «один из лучших остряков», — писал о нем однокашник его Илличевский[1191]. Большинство товарищей вспоминало, однако, о нем как о записном ленивце, более всего любящем поспать; эта репутация, отнюдь не лишенная оснований, отразилась и в лицейских куплетах и в пушкинских «Пирующих студентах». Нужно иметь в виду при этом, что в стихах Дельвига «лень» и «сон» — более поэтические, чем бытовые понятия: темы эти были широко распространены в анакреонтической и горацианской лирике и постоянно встречаются, например, у Батюшкова и в лицейских стихах Пушкина.
«Любовь к поэзии пробудилась в нем рано, — вспоминал Пушкин. — Он знал почти наизусть „Собрание русских стихотворений“, изданное Жуковским. С Державиным он не расставался». Он читает — жадно и бессистемно, большей частью во время занятий, преимущественно русские книги, — и за четыре года приобретает репутацию едва ли не лучшего знатока русской литературы среди лицеистов. В 1816 г. директор Лицея Энгельгардт замечает, что Дельвигу свойственно «какое-то воинствующее отстаивание красот русской литературы»[1192]. Первые известные нам его стихи — патриотическая стилизация народной песни по случаю занятия Москвы Наполеоном (1812) и оды. Эти ранние стихи очень слабы даже технически, — много слабее, чем у его товарищей.
Война 1812 г. пробудила национальное самосознание и дала новый импульс русской литературе. В нее хлынул поток общественных и эстетических идей, опиравшихся на широкую европейскую просветительскую традицию. Поэзия Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Д. Давыдова была преддверием романтического движения, и она решительно захватила литературную авансцену и заставила померкнуть старые кумиры — даже Державина. Литературная жизнь Лицея развивалась под знаком новых веяний.
Юный Дельвиг был непосредственным и ближайшим ее участником. Он постоянный сотрудник рукописных лицейских журналов, а с 1814 г. его стихи начинают появляться в печати. Его формирование как поэта идет стремительно. То, что написано им в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, стоит на уровне профессиональной поэзии. И Пушкин, и Илличевский в упомянутом уже отзыве называли стихи «К Диону», «К Лилете», где, по словам Пушкина, «заметно необыкновенное чувство гармонии и <…> классической стройности».
«Гармония», «классическая стройность» — категории эстетики Батюшкова и Жуковского. Но поэтическая традиция здесь иная.
Пушкин вспоминал, что первыми опытами Дельвига в стихотворстве были подражания Горацию, которого он изучал в классе под руководством профессора Н. Ф. Кошанского.
Кошанский научил Дельвига понимать латинские тексты, но не мог научить понимать поэзию. Кошанский был «классик», к поэтическим опытам лицеистов относился с предубеждением, и Дельвиг написал пародию на его стихи — «На смерть кучера Агафона». Когда Дельвиг говорил, что «языку богов» он учился «у Кошанского» — это также была пародия. М. Л. Яковлев, однокашник Дельвига, свидетельствовал: «Дельвиг вовсе не Кошанскому обязан привязанностью к классической словесности, а товарищу своему Кюхельбекеру»[1193]. С Кюхельбекером же Дельвиг читает немецких поэтов: Бюргера, Клопштока, Шиллера и Гельти. В его лицейских стихах есть следы интереса и к Э. фон Клейсту, и к М. Клаудиусу.
То, что приверженец национальных начал в литературе подражает Горацию и заинтересован более всего немецкой поэзией, — неожиданно лишь на первый взгляд.
Поэты, которых читали Дельвиг и Кюхельбекер — Клопшток и его ученики и последователи, принадлежавшие, как Гельти и Клаудиус, к «геттингенскому поэтическому союзу» или родственные ему, как Бюргер, — были как раз борцами за национальное искусство и бунтарями против классических норм. Они открывали дорогу романтическому движению. Одной из особенностей их творчества было обращение к античности, в частности к античной метрике, как к средству избежать нивелирующей, вненациональной классической традиции, которую связывали прежде всего с влиянием французской поэзии.
Шиллер, как и Гете, воплотил в своем творчестве дух этой переходной эпохи.
Дельвиг и Кюхельбекер обращаются к Клопштоку и «геттингенцам» как раз в тот период, когда в русской литературе начинается «спор о гекзаметре» и о путях перевода «Илиады», — спор, проведший размежевание между «классиками» — сторонниками александрийского стиха — и новым поколением поэтов, требовавшим приближения к формам подлинной античной поэзии. Через несколько лет Кюхельбекер с молодым задором заявит публично, что обновление русской литературы придет через освобождение от «правил» литературы французской, и вспомнят Востокова, переведшего Горация мерой подлинника, Гнедича и Жуковского. «Примявши образцами своими великих гениев, в недавнее времена прославивших Германию», Жуковский «дал <…> германический дух русскому языку, ближайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и независимому»[1194].
Это пишется в 1817 г.; через несколько лет Кюхельбекер будет требовать освобождения русской поэзии от пут «германского владычества», — но то уже будет в иную поэтическую эпоху. Сейчас и Кюхельбекер, и Дельвиг рассматривают «германский» и национальный русский элемент как внутренне родственные.
Дельвиг, по совету Жуковского, упорно занимается немецким языкам. Кюхельбекер пишет по-немецки не дошедшую до нас книгу о древней русской поэзии, стремясь познакомить Европу со «Словом о полку Игореве», сборником Кирши Данилова и народными песнями.
Дельвиг пишет рецензию на эту книгу (так и не вышедшую) и печатает ее в журнале «Российский музеум» (1815).
В 1817 г. Дельвиг и Плетнев с восхищением читают слабые стихи Востокова. В том же году Кюхельбекер пропагандирует в Благородном пансионе востоковский «Опыт о русском стихосложении».
И отсюда же удивительное сходство стихов Дельвига и Кюхельбекера в первые послелицейские годы, — сходство жанровое, образное, метрическое. Оба пишут «горацианские оды», элегии античным элегическим дистихом, гекзаметрические послания, дифирамбы; оба насыщают свои стихи античными мифологическими и историческими ассоциациями. И даже избирают сходные темы. Так, Дельвиг пишет «Видение», где имитирует античную метрику, и посвящает его Кюхельбекеру, у которого тоже есть «Видение» и «Призрак»; Последнее стихотворение варьирует те же мотивы, что и «Видение» Дельвига. Многое приходит к обоим поэтам от их образцов: так тема исчезающего призрака возлюбленной была популярна у «геттингенцев» (ср. «Die Erscheinung», 1781, или «Die Träume», 1774, гр. Фридриха Леопольда Штольберга). Но заимствованные образы и темы порой изменяются до неузнаваемости. Так происходит с сюжетом идиллии Гельти «Костер в лесу», на основе которой выросла впоследствии одна из лучших русских идиллий Дельвига «Отставной солдат».
Новая русская поэзия осваивала опыт европейского преромантизма, включая его в культурный фонд национальной русской литературы.
Дельвиг окончил Лицей в 1817 г. и вынужден был искать средства к существованию. Он служит в Департаменте горных и соляных дел, в Министерстве финансов и наконец в 1821 г. обосновывается в Публичной библиотеке, где начальниками его были И. А. Крылов и А. Н. Оленин. Служебные занятия его не слишком привлекают; большая доля времени его проходит в литературных общениях.
Конец 1810-х гг. — период литературных кружков и обществ. Лицейские поэты также сформировали кружок, оказавший затем мощное влияние на всю литературную жизнь. В него входили Дельвиг, Кюхельбекер и Пушкин.
Дельвиг был первым, кто гласно предсказал Пушкину блестящую будущность. Его стихи «Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии…», 1815) и в особенности «На смерть Державина» (1816) декларативно указывали на Пушкина как на преемника Державина, — то есть на главу современной поэзии. Подобно «арзамасцам», участники кружка адресуют друг другу послания; культ дружбы, составлявший в эти годы своего рода литературную тему, здесь приобретает специфические черты: поэтизируется именно лицейская дружба, союз поэтов-единомышленников. Эти формулы — «союз поэтов», «любимцы вечных муз», «святое братство» — возникают в лицейских посланиях и становятся своеобразным знаком связи, за которым реакционерам чудилось нечто вроде масонской ложи. Адресаты посланий, носящие реальные имена, вместе с тем обобщены. Это не «поэты», а «Поэты» с прописной буквы, пророки, страдальцы, противопоставленные «безумной толпе» и презираемые ею, бросающие свой вызов року и судьбе. Самая поэзия рассматривается как жертвенное служение. Поэтому приобщение к ней есть своего рода акт посвящения. О нем постоянно упоминают в стихах: так, Дельвиг называет Кюхельбекера своим «вожатым» в поэтический мир («К Кюхельбекеру», 1817) и гордится тем, что «первый <…> услышал пенье» Пушкина («К Языкову», 1822), — но это отнюдь не только литературный мотив. Когда в Петербург приезжает Баратынский, за мальчишескую шалость исключенный из Пажеского корпуса с запрещением служить иначе как солдатом, Дельвиг берет его под свое покровительство. Они поселяются вместе (это происходит в 1819 г.), ведут веселую, полунищенскую богемную жизнь, и Дельвиг оказывается первым, кто приобщил будущего поэта к творчеству; без ведома Баратынского он посылает в печать его ранние стихи. «Союз поэтов» приобретает нового члена.
«Союз поэтов» был очень характерным явлением в кружковом литературном быту 1810-х гг. Он не был оформленным объединением и включал очень разных поэтов, тем не менее ощущавших свой кружок как некую общность — личностную, психологическую, литературную, социальную. В последнем отношении этот кружок составлял как бы периферию будущего декабризма. И Дельвиг, и Баратынский (не говоря уже о Кюхельбекере) находятся почти в открытой оппозиции к режиму последних лет александровского царствования — к аракчеевщине, официальному мистицизму, цензурной политике. Дух религиозного и политического вольномыслия пронизывает стихи Дельвига начала 1820-х гг. — от «Подражания Беранже» до послания «Петербургским цензорам». О «глупых» и «очень опасных <…> разговорах» Дельвига с беспокойством упоминал Энгельгардт; по некоторым косвенным признакам можно предположить, что Дельвиг склонялся иной раз к весьма радикальным взглядам[1195]. Имя его мы находим в числе участников целого ряда преддекабристских и связанных с будущим декабризмом обществ: еще в Лицее он посещает вместе с В. Д. Вольховским и Кюхельбекером «Священную артель»; он участвует в «Зеленой лампе», известной в биографии Пушкина; наконец, он заседает в масонской ложе «Избранного Михаила», через которую прошли многие из будущих декабристских деятелей[1196].
Все это определило его позицию в двух больших петербургских литературных обществах: «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» («Михайловское» или «Измайловское») и «Вольном обществе любителей российской словесности», называемом иногда «ученой республикой».
В первое из них Дельвиг был принят в 1818 г. Это было общество под председательством известного баснописца А. Е. Измайлова, где задавали тон литераторы старшего поколения, традиционалисты и рационалисты.
Первым стихотворением Дельвига, прочитанным для избрания, было «На смерть Державина». Через месяц он уже сам читает «К Пушкину»; еще через два месяца Кюхельбекер выступает со своим «Посланием к Пушкину». Вся эта кампания, утверждавшая литературный авторитет главы лицейского кружка, почти неизвестного широкой публике, предшествовала приему в общество самого Пушкина. В день же его избрания (18 августа 1818 г.) Кюхельбекер читает «Послание к Дельвигу и Пушкину» — апологию «тройственного союза» «питомцев, баловней и Феба, и природы». Это был почти вызов, литературная «агрессия» группы новых поэтов, только что покинувших лицейские стены.
Не довольствуясь публичными выступлениями, они несли свою эстетику и психологию за кулисы общества, в домашний кружок Софьи Дмитриевны Пономаревой, где безраздельно царили А. Е. Измайлов, платонически влюбленный в хозяйку, идиллик В. И. Панаев, Орест Сомов, впоследствии автор трактата «О романтической поэзии» и ближайший сотрудник Дельвига, а в те годы — защитник просветительского нормативизма. Назревавшее литературное столкновение осложнялось личным.
Салон Пономаревой был одним из самых значительных и самых демократических дружеских литературных объединений 1820-х гг. Здесь бывали почти все знаменитости петербургского литературного мира, привлекаемые более всего любезностью, образованностью и неотразимым обаянием хозяйки. Появление молодежи — Дельвига, Баратынского и других было встречено старшим поколением весьма неодобрительно, тем более что бесцеремонные пришельцы явно завладевали вниманием капризной и непостоянной Софьи Дмитриевны. Дельвиг, несомненно, пережил сильное увлечение и, по некоторым сведениям, пользовался какое-то время взаимностью. След этого чувства остался в ряде его стихов, в том числе в нескольких сонетах, посвященных Пономаревой. Выбор этой формы характерен: в начале 1820-х гг. сонет (не вполне законно) воспринимался как жанр романтической поэзии.
Все это — и личное, и литературное поведение «Союза поэтов» — подготовило «журнальную войну», начавшуюся в 1820 г. на страницах Измайловского журнала «Благонамеренный».
Нам нет необходимости прослеживать подробно эту полемику, которая была неоднократно исследована[1197], но важно уловить ее принципиальный смысл. Она началась выступлением О. Сомова против Жуковского. Сомов возражал против «германского» метафорического языка с позиций рационалистических нормативных поэтик. С этой точки зрения, поэтический язык не может отличаться принципиально от языка прозы. Ревизии подвергается аллегоризм, «туманность» символической образности, ассоциативные ряды, возникающие поверх логических значений.
Все это было свойственно и поэзии Дельвига, развивавшейся под воздействием Жуковского и питавшейся теми же истоками. Поэтому «Видение» Дельвига сразу же становится мишенью критических нападок; его обвиняли в «мистицизме». Мистицизму Дельвиг был решительно чужд, и речь шла не о мировоззрении, а о поэтике. Подобным же образом Воейков критиковал «Руслана и Людмилу» Пушкина.
Второй не менее важный упрек касался горацианского и батюшковского гедонизма. «Союз поэтов» обвиняли в посягательстве на нравственность, воспевании оргий и сладострастия. Этот упрек, как известно, адресовали и Пушкину. Возникла даже полемическая кличка «вакхические поэты».
Культ земных радостей, эротические мотивы действительно были свойственны и раннему Баратынскому, и Дельвигу. Это было литературным выражением преромантического, — а затем и романтического мироощущения, где жизненная полнота, почти языческое переживание жизни было едва ли не непременным свойством поэта. Отсюда и обращение Дельвига к таким напряженно лирическим формам, как дифирамб. Все это воспринималось антагонистами как бунт — литературный, моральный и даже социальный.
Полемика, породившая множество пародий, литературных памфлетов, эпиграмм, сыграла значительную роль в становлении русской романтической поэзии. В литературе определялись линии размежевания. В быту эта борьба не всегда разводила полемистов окончательно: так, благодушный Измайлов сохранял и к Дельвигу, и к Кюхельбекеру некоторое доброжелательство.
Тем не менее «союз поэтов» мало-помалу покидает «Михайловское» общество и охотнее посещает второе, «ученую республику», где председателем был Ф. Н. Глинка и где концентрировались более значительные литературные силы. Уже в 1820 г. Дельвиг — активный член этого Общества, в котором примыкает к левому крылу. Он был одним из тех, кто выступил за низложение главы «правой» партии В. Н. Каразина. Ему, конечно, не было известно о тайных доносах Каразина правительству на Пушкина и лицеистов; не мог он знать и того, что Каразин в одном из них цитировал стихотворение Кюхельбекера «Поэты», обращенное к нему, Дельвигу, и находил в нем тайный политический смысл:
Так! Не умрет и наш союз, Свободный, радостный и гордый…Но, и не зная о тайной деятельности Каразина, Дельвиг ясно ощущает свою враждебность его социальным и эстетическим позициям и понимает, что выступление против него — общественный акт. И стихи Кюхельбекера были обращены к Дельвигу не случайно: они были связаны с его одой «Поэт», где утверждалась независимость творчества от властей земных и небесных. Эта ода цензурой пропущена не была.
«Каразинская история» происходит накануне высылки Пушкина из Петербурга — первой политической репрессии, постигшей «союз поэтов». Левая группа «ученой республики» выступает в защиту Пушкина. Дельвиг, Ф. Глинка, А. Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер оказываются в одном лагере.
Из этого лагеря выходят потом самые крупные литераторы декабризма. Дельвиг связан с ними и лично, и литературно. Рылеева он сам же и предложил в члены Общества. В 1823–1824 гг. он участвует в «Полярной звезде».
Связи не означали, однако, единомыслия. Дельвигу были чужды и революционные программы общественного переустройства, и открыто публицистическая гражданская литература. Когда из «левого крыла» Общества выделилась радикальная декабристская группа, Дельвиг к ней не примкнул.
В 1823 г. Бестужев жаловался, что в Обществе образовались группировки. Группа Дельвига, Плетнева, Гнедича и Глинки обособилась.
Это размежевание объяснялось не столько политическими причинами, сколько тем, что в 1824 г. Дельвиг начинает собирать свой собственный альманах «Северные цветы», силою вещей вступивший в конкуренцию с «Полярной звездой».
Мы мало знаем о деятельности Дельвига в преддекабристские годы.
Его литературные связи расширились — и тому способствовала работа «альманашника». Он посещает Карамзиных, кружок Воейкова, слепого Козлова; близок с Жуковским и Гнедичем, хорош с Крыловым, налаживает контакты и с Вяземским, и с московскими литераторами. Альманах его становится своего рода организующим центром для петербургской и московской литературы.
«Союз поэтов» существует духовно, но физически разобщен: Пушкин в ссылке, Баратынский служит унтер-офицером в Финляндии, Кюхельбекер странствует и наконец обосновывается в Москве. Пересмотрев свою литературную программу, Кюхельбекер в поисках национальных начал в поэзии отверг прежний «германизм» и элегическую школу, обратившись к традициям архаистической «Беседы».
Процесс переоценки ценностей коснулся и Дельвига. Можно думать, что уже в 1822–1823 гг. в его сознании возникают контуры каких-то больших драматических и лиро-эпических замыслов. Захваченный общим интересом к театру, он переводит акт «Медеи» Лонжпьера и небольшой отрывок из «Маккавеев» А. Гиро. Он выбирает классические трагедии, но такие, в которых брезжат темы и мотивы, подхваченные затем романтиками. В «Маккавеях» его, по-видимому, привлекает и тираноборческая идея. Он лелеет мысль о романтической поэме. Тем не менее ему так и не удается отойти от малых лирических форм: основными жанрами его творчества оказываются идиллия, литературная песня и «антология».
В двадцатые годы XIX в. понятие «антология» применялось главным образом к небольшим лирическим стихам, любовным или описательным, ориентированным на античную эпиграмму периода эллинизма. Интерес к этой жанровой форме, создавшей свою, особую поэтику, близкую к элегической, был характерен для европейского преромантизма. К ней обращались Гете и Шиллер, ее убежденным поклонником и пропагандистом был И. Г. Гердер. В русской литературе обращение к антологической лирике было шагом весьма значительным, который сделал Батюшков и почти одновременно Пушкин. Это был отход от представления об античной культуре как о вневременном эталоне к пониманию ее исторической и художественной определенности. Открытие того непреложного для нас факта, что человек иной культурной эпохи мыслил и чувствовал в иных, отличных от современности, формах и что эти формы обладают своей эстетической самоценностью, и было в существе своем тем, что мы называем историзмом. Но признать этот факт теоретически было легче, чем дать ему художественное воплощение.
Пушкин восхищался идиллиями Дельвига за необыкновенное «чутье изящного», с которым он угадал дух греческой поэзии — «эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях!» (XI, 98). Это определение очень точно выражает сущность именно «антологической поэзии». Гармоническая уравновешенность, скульптурная пластичность образов — все это характерно для дельвиговских «подражаний древним». «Скульптурность» — не совсем метафора: существовал особый тип греческой антологической эпиграммы, представлявшей собою надписи к произведениям пластического и живописного искусства.
Нет сомнения, что связи Дельвига с русскими художниками и художественными критиками (Пушкин называл его «художников друг и советник») не прошли даром для его поэтического творчества. Так, идиллия «Изобретение ваяния» (а может быть, и «Друзья») писалась для «Журнала изящных искусств» В. И. Григоровича, где помещались только стихи, связанные так или иначе с областью скульптуры или живописи. Антологическая и идиллическая лирика Дельвига оказываются близки друг к другу, однако не только по происхождению: они исходят из единого понимания человеческого характера эпохи античности. Это отнюдь не только исторический интерес. Дельвиг решает проблему, которой была занята русская литература с XVIII в. вплоть до Льва Толстого: проблему «естественного человека». Его условный аркадский мир — это мир, как бы заново открываемый естественным сознанием, наивным и гармоничным. В нем есть все: и всегубящее время, и неразделенная любовь, и смерть, — но есть и любовь счастливая, и дружба, и наслаждение, и они-то движут людьми в этом идиллическом обществе. Это мир чувственный, а не интеллектуальный и более языческий, чем христианский. В этом, между прочим, отличие Дельвига от популярного в 1820-е гг. сентиментального идиллика В. И. Панаева, у которого идиллический мир абстрактен и соотнесен с некими внеисторическими, идеальными нормами морали.
И из тех же общих эстетических принципов исходил Дельвиг в своих «русских песнях». Его не раз упрекали в «литературности», отсутствии подлинной народности. Но Дельвиг не имитировал народную песню. Он подходил к русской народной культуре как к своеобразному аналогу античной культуры и пытался проникнуть в ее духовный и художественный мир. Этого не делал никто из русских поэтов до Дельвига, и мало кто делал после него. Еще при жизни Дельвига ему пытались противопоставить А. Ф. Мерзлякова — автора широко популярных «русских песен», как поэта, ближе связанного со стихией народной жизни. Может быть, это было и так, — но песни Мерзлякова отстоят от подлинной народной поэзии дальше, чем песни Дельвига. Дельвиг сумел уловить те черты фольклорной поэтики, мимо которых прошла письменная литература его времени: атмосферу, созданную не прямо, а опосредствованно («суггестивность»), сдержанность и силу чувства, характерный символизм скупой образности. В народных песнях он искал национального характера и понимал его притом как характер «наивный» и патриархальный. Это была своеобразная «антология», — но на русском национальном материале.
Даже литературные противники Дельвига не могли не признать достоинств его «русских песен», — а сторонники, в частности декабристские литераторы, склонны были считать их лучшей частью его наследия.
Разгром восстания декабристов, резко изменивший соотношение сил в русском обществе и литературе, не затронул Дельвига формально. Он не был членом тайных обществ, вряд ли знал об их существовании и не разделял декабристских программ. В первых последекабрьских письмах его звучит резкое осуждение заговора. Однако как раз эти декларации более всего и подозрительны. Дельвиг был крайне обеспокоен судьбой своих друзей и знакомых и знал, что письма перлюстрируются. У него были все основания бояться и за себя, и за адресатов писем — Баратынского и Пушкина, — и, наконец, за свою только что появившуюся семью. Он женился за две недели до 14 декабря на Софье Михайловне Салтыковой, пережив короткий, но бурный роман, и наслаждался наступившими месяцами семейного счастья. Подтверждая свою лояльность, а заодно и лояльность своих друзей, он рассчитывал, конечно, не на них, а на сторонний глаз в III отделении. В разговорах своих он очень осторожен и избегает политических тем.
Разрозненные и косвенные данные позволяют судить, однако, о тяжелой внутренней драме, пережитой им в 1825–1826 гг. Он был одним из немногих, кто пришел в день казни, 13 июля, к кронверку Петропавловской крепости, чтобы молча проститься с осужденными. Быть может, его рассказы отразились потом в пушкинских рисунках, изображающих казненных. И он не прервал связи с заключенными: он переписывался с Кюхельбекером — тайно, через третьих лиц, и получал от него рукописи; он писал ссыльному Ф. Н. Глинке. В «Северных цветах», а потом в «Литературной газете» он печатал анонимно Кюхельбекера, Н. и А. Бестужевых, Рылеева, А. Одоевского. Его стихи на 19 октября 1826 г. («Снова, други, в братский круг») прямо перекликаются с пушкинским посланием в Сибирь — так же как и некогда написанная им лицейская песня, — «Шесть лет промчалось, как мечтанье». Из нее Пушкин взял слова «Храните гордое терпенье» — один из девизов лицейского братства.
В собственном же его творчестве нарастает драматическая нота. В идиллии «Конец золотого века» Дельвиг показал разрушение аркадского мира. Городская цивилизация принесла с собою «железный век» с его нравами и понятиями, и наивно-патриархальный моральный уклад рухнул под его напором. Это были те же идеи и те же проблемы, к которым с разных сторон и на разной глубине подходили Пушкин в «Скупом рыцаре» и в «Пиковой даме» и Баратынский в «Последнем поэте».
В художественном отношении Дельвиг решился на эксперимент большой смелости: он внес в идиллию трагический конфликт, прямо ориентируясь на сцену самоубийства Офелии в «Гамлете». Вообще проблемы трагедии все более занимают Дельвига в последние годы. Еще в 1819 г. он побуждал Пушкина обратиться к этому роду поэзии. Когда появилась пушкинская «Полтава», он говорил прямо, что сюжет тяготеет к драматической форме. Он с особым вниманием рецензирует исторические драмы, даже слабые («Василия Шуйского» юного Н. Станкевича), анализируя исторические характеры. Его рецензия на «Бориса Годунова», оставшаяся неоконченной, обещала разрастись в целое исследование. И сам он замышляет историческую и социальную трагедию, ориентированную на шекспировскую поэтику.
Это драматическое (и соответственно драматургическое) начало ощущается и в его поздних песнях, и в идиллии «Отставной солдат» (1829), где он пытается создать народный исторический характер, раскрывая его в кульминационный момент Отечественной войны 1812 г.
Все эти творческие замыслы идут рядом с издательской деятельностью.
«Северные цветы» после 1825 г. становятся единственным русским альманахом, объединяющим литературные силы, а дом Дельвига — своего рода центром столичной литературы. Ближайшие помощники его — П. А. Плетнев, а затем и О. М. Сомов, превратившийся из противника в сотрудника, а из сотрудника — в друга и «домашнего человека» Дельвига. Помимо Жуковского, Вяземского, И. И. Козлова, Баратынского, Пушкина, Гнедича, Ф. Глинки, Языкова — прежнего ядра участников альманаха, здесь печатаются теперь и молодые московские литераторы из кружка «любомудров» — Веневитинов, Погодин, Шевырев и следующее поколение лицеистов и пансионеров, которых привлекает к себе Дельвиг: А. Подолинский, М. Деларю. В 1831 г. в альманах приходит и молодой Гоголь. Кружок Дельвига функционирует как литературное общество. О его внутреннем быте вспоминают А. И. Дельвиг, А. П. Керн, Е. Ф. Розен. Литература входит в него естественно и органично; ее не культивируют специально, как это нередко бывало в великосветских аристократических салонах типа салона З. Волконской. Молодое поколение, отнюдь не смотревшее на Дельвига как на мэтра, тем не менее признавало за ним права поэтического арбитра, и Дельвиг естественно взял на себя роль «патриарха» и наставника литературной молодежи.
В 1828 г. в Петербург возвращается Пушкин и сразу же входит в дель-виговский круг на правах одного из идеологических руководителей.
К этому времени «Северные цветы» уже настолько обеспечены литературным материалом, что возникают предпосылки для издания газеты.
1 января 1830 г. выходит первый номер «Литературной газеты» под формальным редакторством Дельвига. Фактически политику ее на первых ворах определяли Пушкин, Дельвиг и Вяземский. Уже с первого номера «Литературная газета» приобрела вынужденно полемический характер. Еще в «Северных цветах» была начата полемика, с одной стороны, против Булгарина, с другой — против литературно-эстетических концепций «Московского вестника». «Литературная газета» не могла остаться в стороне от уже начавшейся борьбы. Когда в первом номере в анонимной заметке, принадлежавшей Пушкину, газета декларировала свой кружковый характер, объявив, что она издается «не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могущих по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов»[1198], возражения посыпались как из рога изобилия. Собственно, эта статья своим вызывающим максимализмом дала мощный толчок обвинениям в «литературном аристократизме», элитарности, пренебрежении читателем. Такого рода упреки исходили от «Северной пчелы» Булгарина и Греча и от «Московского телеграфа» Н. Полевого.
Почти все статьи Дельвига в «Литературной газете» так или иначе связаны с начавшейся вслед за тем полемикой, имевшей как общественный, так и эстетический смысл. Сущность этой полемики, проясненная, в частности, в исследованиях о Пушкине[1199], для современного читателя во многом уже ускользает: в ней важно улавливать не только акценты и детали, ушедшие вместе с эпохой, но и исторические оттенки понятий, которыми пользовались полемисты, и социальные и эстетические концепции, стоявшие за этими понятиями.
И Булгарин, и Полевой — каждый по своим особым причинам — нападали на «аристократизм» пушкинского круга и апеллировали к «публике», то есть к широкому демократическому читателю. Это была буржуазно-демократическая литературная программа, которой принадлежало, казалось бы, историческое будущее. Сложность ситуации заключалась в том, что Полевой в отличие от Булгарина тяготел к буржуазному радикализму и искал в России «третьего сословия», на которое он мог бы опереться в борьбе с дворянством, утратившим, как ему казалось, свою ведущую роль в социальной и культурной сфере.
Буржуазный радикал Полевой и буржуазный конформист Булгарин вступили в тактический союз против общего врага — «литературной аристократии»: Пушкина, Жуковского, Вяземского, Дельвига, Баратынского и их идейных предшественников, к которым Полевой причислял, в частности, Карамзина.
Отсюда — нападки на развращенность и социальное бесплодие «высшего света», которому противопоставлялись энергичные, нравственно устойчивые и талантливые люди «среднего класса»; отсюда и полемический пафос «Истории русского народа» Полевого, создававшейся в противовес «Истории Государства Российского».
В этой критике дворянства были несомненные позитивные черты. Но в целом в конкретных условиях Российской империи 1830-х гг. эта, на первый взгляд, столь прогрессивная литературно-общественная позиция приобретала — не только у Булгарина, но и у Полевого — ярко выраженный консервативный смысл.
В тридцатые годы в России продолжался период дворянской революционности. Дворяне вышли на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. Дворяне создали важнейшие идеологические документы декабристского движения. Они оказались наследниками буржуазно-демократических идей 1789 г., ибо «третье сословие» в России еще не успело развиться.
Пушкин улавливал особенности социальной жизни России, когда утверждал (с нашей точки зрения, не вполне справедливо), что именно дворяне, лишенные своих поместий, и «составляют у нас род третьего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного»[1200]. Он думал при этом о себе, о князе Вяземском с его номинальным княжеством, и о нищем бароне Дельвиге.
Реальное же «третье сословие» в 1820–1830-е гг. в России было как раз хранителем косных, патриархальных, консервативных устоев и в политической, и в моральной, и в интеллектуальной сфере. На него опиралось и правительство в своей борьбе с политическим вольнодумством и религиозным скептицизмом. «Самодержавие, православие, народность» — эта официальная правительственная формула была понятна и близка не культурной элите, а именно среднему грамотному читателю, который составлял основную массу подписчиков «Северной пчелы» и «Московского телеграфа» и к литературным исканиям Пушкина и Баратынского был невосприимчив.
Чтобы воспитать читателя с необходимым для этого философским, социальным, эстетическим кругозором, нужна была журнальная трибуна и литературная критика. Но к 1830 г. — к моменту появления «Литературной газеты» — «Северная пчела» и «Московский телеграф» были полновластными хозяевами читательских вкусов: они предлагали каждый свою, а иногда и общую шкалу социальных и эстетических ценностей и по этой шкале оценивали современную литературу.
Газета Дельвига начинает борьбу за читателя с разрушения «коммерческой эстетики».
Если читать подряд критические статьи Дельвига, вероятно, может показаться странным экзотический выбор книг для рецензирования. «Берлинские привидения» псевдо-Радклиф, «Послание Выпивалина к водке и бутылке…» Ф. Улегова, «Новейшее собрание романсов и песен» и подобный же песенник под названием «Северный певец…». Но этот выбор целенаправлен. Все это — «массовая культура» (пользуясь современным термином), «мелкотравчатая» литература для малообразованного читателя, нижний пласт «коммерческой словесности». Его популярность — показатель, с одной стороны, культурного уровня общества и, с другой — уровня самой «литературной промышленности». Это первые и уродливые проявления буржуазного предпринимательства в литературе. Издатель «Северных цветов» Дельвиг не мог возражать против того, чтобы книга становилась товаром, но он был против экспансии коммерции в область духовной культуры.
С этой точки зрения он оценивает и творчество Булгарина. И «нравственно-сатирический», и исторический роман Булгарина был обращен как раз к «средним классам» и ориентирован на их социальные и моральные представления и на их литературные вкусы. Булгарин модернизировал ту область литературы, на которой они были воспитаны: авантюрный роман и «роман тайн», где центр тяжести лежит на фабуле, а не на характере; где бытовая сфера понимается не как форма исторического бытия народа, а как иллюстрация общей моралистической идеи; где воспитательная роль произведения достигается не логикой характеров и событий, а прямым публицистическим комментарием автора — и где поэтому происходит четкое разделение на персонажей положительных и отрицательных.
В эпоху формирования романтической прозы и зарождения реалистической эстетики Булгарин воскрешал просветительский и преромантический роман XVIII в. в его наиболее эпигонских образцах. Но именно этот роман был понятен и популярен, ибо был эстетически привычен и не содержал никаких открытий, отпугивающих обывателя.
Анализ этого типа литературы, где социальный и эстетический консерватизм шли рука об руку, Дельвиг дал в статьях о «Димитрии Самозванце» Булгарина, комедии «Классик и романтик» К. Масальского и в полемических заметках об «Иване Выжигине». Вероятно, более всего его занимает то, что мы назвали бы сейчас идеей историзма. Он требует от литературы исторических характеров, изображения исторического быта и вскрытия движущих пружин исторического процесса. Этим пафосом литературно-исторического исследования проникнуты и статьи о трагедии «Василий Шуйский» Николая Станкевича и о переводе «Карла Смелого» В. Скотта — писателя, которого Дельвиг противопоставляет Булгарину. И в самом подходе к теме, и в частных суждениях Дельвиг иной раз оказывается удивительно близок к Пушкину; когда он начинает говорить о Борисе Годунове и в особенности о характере Шуйского, его рассуждения почти буквально совпадают с пушкинскими черновыми набросками. Это общность точки зрения, по-видимому возникавшей в устном общении; многие суждения и даже фразеологические обороты дельвиговских статей были повторены в статьях Пушкина.
Другим направлением критической деятельности Дельвига стала борьба с эпигонством внутри собственного литературного лагеря.
Дельвиг был сторонником конструктивной, «научающей» критики. Когда дело касалось молодых поэтов и их первых произведений, его суд был обычно мягок, но всегда нелицеприятен, как вспоминал Н. М. Коншин. Эта определенность критического приговора заставила сначала А. И. Подолинского, а потом и Е. Ф. Розена прервать связи с кружком; первый считал даже, что Дельвиг увидел в нем своего рода конкурента Пушкина и попытался уничтожить его литературно. Но дело было в ином.
Романтическая поэзия, и в особенности поэма 1830-х гг., испытывала воздействие «неистовой словесности». Она все более порывала с теми принципами стихотворного лиро-эпического рассказа, которые установились в поэме Пушкина и Баратынского, где сюжет и характер развивались по закону необходимости и имели ясно прочерченную логику движения. В 1830-е гг. поэтов меньше интересует развитие характера: он лишь раскрывается в кульминационные моменты страсти и страдания. Внешняя событийная сторона произведения теряет автономность; она предопределяет не характер, а именно эти кульминационные сцены. При такой концепции поэмы основная роль в фабуле принадлежит случаю. Случайное убийство брата, любимой жены; случайный повод к ревности — все эти элементы «неистовой поэтики» были решительно отвергнуты Дельвигом в рецензиях на «Нищего» Подолинского, на «Рождение Иоанна Грозного» Е. Розена, на «Разбойника» М. Покровского. И здесь Дельвиг тоже выступал единомышленником Пушкина.
Он предостерегал молодых поэтов против «поспешности» и требовал уважения к литературному цеху. Пренебрежение к традиции, установка на читательскую популярность, на немедленный, хотя бы и скоропреходящий успех, а в области художественного творчества — мелодраматизм и стилистическая «языковая небрежность» — все это было для него прямым следствием «коммерческого века», когда «публика» навязывает писателю свои этические и эстетические нормы. Во всех этих грехах он упрекал и Полевого, хотя тот, не в пример Булгарину, ориентировался не ва устаревшие, а, напротив, на новейшие литературные образцы, порожденные, в частности, новой романтической волной во французской литературе.
Критические схватки продолжались, однако недолго: в ноябре 1830 г. «Литературная газета» была закрыта.
Власти уже давно присматривались к ее выступлениям. В августе 1830 г., в разгар полемики с Полевым и Булгариным, Дельвиг поместил эаметку «Новые выходки противу так называемой литературной нашей аристократии…», написанную им совместно с Пушкиным. В заметке содержалась аналогия между социальной борьбой 1830-х гг. в России и общественным брожением кануна 1789 г. «Литературная газета» прибегла к политической дискредитации противников, которые пользовались поддержкой правительства.
Это был этически не безукоризненный, а тактически — самоубийственный полемический ход.
Бенкендорф вызвал к себе Дельвига. Издатель «Литературной газеты» держался невозмутимо и ссылался на законодательство, запрещающее преследовать редактора за пропущенные цензурой статьи. Формально он был прав, но шеф III отделения прямо заявил ему, что законы существуют не для начальства, а для подчиненных.
В конце октября за помещение четверостишия, посвященного жертвам Июльской революции (1830), Дельвиг снова был вызван в кабинет шефа жандармов. Бенкендорф был разъярен. Он был убежден, что кружок Дельвига собирает людей, настроенных против правительства, и что руководят им сам Дельвиг, Пушкин и Вяземский, которых он пообещал «упрятать в Сибирь».
Бенкендорф прямо ссылался на Булгарина как на источник своей информации. Но дело было не только в тайных доносах. Конечно, ни Дельвиг, ни Пушкин не были главами противоправительственных кружков, — но их газета решительно не хотела, а точнее, не могла идти в фарватере николаевской идеологической политики. Весь дух дельвиговского кружка, сформировавшегося в период общественного и литературного оживления 1810-х гг., противостоял требованиям «усердия и служения», всеобщему конформизму и официальной эстетике. Пережив эпоху декабризма, он сохранил воспоминания о ней, он остался оазисом «вольнодумства» в обществе, искоренявшем вольнодумство, и поэтому каждую минуту оказывался чреват крамолой.
Независимое поведение Дельвига лишь еще сильнее укрепило Бенкендорфа в его мнении.
Репрессии против «Литературной газеты» вызвали, однако, в обществе нежелательную для правительства реакцию. Дельвигу сочувствовали и влиятельные лица, — например управлявший Министерством юстиции Д. Н. Блудов. Бенкендорф вынужден был принести извинения за резкость и разрешить газету, но уже с другим формальным редактором. Им стал О. М. Сомов.
Нервное потрясение, испытанное Дельвигом, было велико, и долгое время держался слух, что выговоры Бенкендорфа приблизили его раннюю кончину. Слух, вероятно, был не лишен основания. Дельвиг был болен давно; каждый год легкая простуда надолго укладывала его в постель, и выздоравливал он все труднее. Душевные травмы были непосильным испытанием для ослабленного и изнуренного организма.
И семейная жизнь, так счастливо начатая, через несколько лет повернулась к Дельвигу своей теневой стороной. Софья Михайловна не могла и не хотела противостоять новым увлечениям.
Случайная простуда, которой Дельвиг не придавал значения, после нескольких дней болезни свела его в могилу 14 (26) января 1831 г.
Со смертью Дельвига распался его кружок и ушел в прошлое «союз поэтов». Наступала новая эпоха — «гоголевский период русской литературы», где ведущей стала проза, а не поэзия, и альманахи сменились журналами.
И творчество, и литературная жизнь Дельвига остались памятником эстетических идей и литературного быта предшествующей, пушкинской эпохи — золотого века русской поэзии. В этом их историческая ограниченность, но в этом же и их непреходящая культурная ценность.
Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг. (Разыскания)[1201]
«Русский Мицкевич» — одна из центральных тем русско-польских литературных взаимоотношений, и совершенно естественно стремление исследователей сосредоточиться прежде всего на ее вершинных точках. Проблеме «Пушкин и Мицкевич», в меньшей степени — «Лермонтов и Мицкевич» посвящена уже обширная литература. Значительно меньше изучена среда, создававшая предпосылки для почти беспрецедентной популярности, которой пользовалось имя польского поэта в русской литературе и русском обществе 1820-х гг., — популярности, совпавшей со временем пребывания Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге.
Эта среда, включавшая большие и малые имена, порождала поток переводов и вариаций на темы из Мицкевича, она создавала мемуарно-биог-рафические версии, которые приходится учитывать в научной биографии поэта; из нее выходили друзья и случайные знакомые Мицкевича, оставлявшие в его жизни тот или иной след. Вместе с тем она не была пассивно воспринимающим субстратом; не только стихи 1824–1829 гг., но и более поздние произведения, созданные вне России (наиболее очевидный пример — Отрывки из III части «Дзядов»), во многом основаны на впечатлениях русской общественной, литературной жизни и повседневного быта.
Предлагаемые читателю заметки — попытка литературно-исторического комментария к некоторым текстам Мицкевича и эпизодам их восприятия и интерпретации. Две из них представляют собой биографии двух совершенно забытых и едва известных по имени переводчиков и популяризаторов Мицкевича. Как нам представляется, восстановление таких биографий имеет не только исторический интерес. Они дают нам материал для суждений как о воспринимающей среде, так и об эволюции принципов перевода, о причинах и характере усвоения оригинала, — т. е. в конечном счете помогают уяснить тенденции историко-литературного процесса в целом. В иных случаях они расширяют и уточняют наши сведения о круге общения самого Мицкевича и намечают пути к открытию еще не выявленных его знакомств.
Следующая заметка — о происхождении строфы знаменитого перевода Пушкина из Мицкевича — также имеет непосредственное отношение к теме, обозначенной в заглавии. Даже когда речь идет о переводе одного великого писателя другим, иной раз приходится учитывать опосредующие звенья, неожиданные периферийные воздействия, осложняющие процесс двусторонних отношений и объясняющие некоторые особенности художественного результата. И наконец, последние этюды — попытка уловить в «русских эпизодах» III части «Дзядов» следы конкретных впечатлений и литературных контактов Мицкевича. Это делалось неоднократно и очень авторитетными исследователями, но внимание их было направлено главным образом на центральные, определяющие линии его русских связей. Мы же пытались, опираясь на уже найденное, несколько прокорректировать сложившиеся точки зрения или расширить сопоставительный материал за счет параллелей, сколько нам известно, не попадавших в поле зрения исследователей.
I. Ранние переводчики «Фариса»
Среди первых переводчиков «Фариса» — стихотворения, по своему значению для русской литературы уступающего разве только циклу «Крымских сонетов», — библиографические справочники называют П. Г. Сиянова и П. П. Манассеина.
Об этих поэтах мы тщетно стали бы искать сколько-нибудь подробных биографических сведений, хотя их имена изредка мелькают на дальней периферии декабристской литературы. Их переводы также не стали заметным литературным явлением и были заслонены появившимися почти одновременно превосходным переводом «Фариса», принадлежавшим В. Н. Щастному, — однако, как нам представляется, они не лишены интереса как факт художественного восприятия и даже художественной интерпретации подлинника и в истории эволюции переводческих принципов заняли свое, пусть и очень скромное, место.
1
Из двух интересующих нас сейчас переводов перевод Сиянова появился вторым. Мы начнем, однако, с него, ибо генетически он принадлежит более ранней стадии освоения подлинника, как и сам Сиянов представляет более раннюю литературную генерацию. Первые стихи Павла Гавриловича Сиянова появляются в печати в 1810 г.: в это время он печатает в «Русском вестнике» С. Н. Глинки «Хор при открытии Ярославского Демидовского училища»[1202]. Двумя годами позднее, с началом Отечественной войны, он вступает в организованный гр. М. А. Дмитриевым-Мамоновым полк «бессмертных гусар», о чем впоследствии любил вспоминать[1203]. О литературной его деятельности в годы войны с Наполеоном никаких сведений нет, да и позднее, до конца 1820-х гг., имя его не встречается в основных литературных журналах. По-видимому, военная служба занимала его полностью. В 1826 г. мы находим упоминание о нем в числе прибывших на Кавказские минеральные воды: здесь значится ротмистр П. Г. Сиянов, старший адъютант 2-й Уланской поселенной дивизии Борисоглебского уланского полка, из Чугуева[1204]. По некоторым признакам можно, однако, заключить, что он следит за литературной жизнью и, вероятно, ищет знакомства с литераторами: на водах он встречается с известной поэтессой А. П. Буниной и вписывает ей в альбом стихи, датированные 30 июня 1826 г[1205].
В следующем году имя его попадает в официальную переписку, — и притом в весьма симптоматичном контексте. 9 января 1827 г. ректор Харьковского университета И. Я. Кронеберг упоминает Сиянова в письменном объяснении по поводу обнаруженных у студентов противоправительственных стихов: «Место, из которого студенты наши получили какие-либо подобного рода сочинения, есть Военное Чугуевское поселение, ибо я, истребляя подобные сочинения, не оставлял узнавать, откуда они были получены, и всегда слышал, что или от офицера Сиянова (написавшего, как было слышно, и пасквиль под названием „Булевар“), или от разжалованного в солдаты Дорохова (имеющего переписку с Александром Пушкиным и покровительствуемого самим Вансовичем (бригадным командиром, начавшим дело о „зловредных сочинениях“. — В. В.), который позволяет ему жить очень часто в Харькове), или из домов, в коих вышеупомянутые Сиянов и Дорохов бывают»[1206]. И репутация Сиянова, и его дружеские связи предстают в этом документе достаточно выразительно. Гусар мамоновского полка, офицер Чугуевского военного поселения, бунтовавшего в аракчеевские времена, он явно принадлежит к достаточно вольнодумной, хотя вряд ли осознанно оппозиционной армейской среде. Сатира «Булевар», приписанная ему, — конечно, факт литературной репутации. Еще в 1810-е гг., как вспоминал Вяземский, «Москва промышляла подобными сатирическими проделками, например под заглавием „Тверской бульвар“, „Пресненские пруды“ и так далее. Обыкновенно и стихи и шутки, хотя и с притязаниями на злостность, были довольно пресны»[1207]. Это была низовая литература, о которой писал пушкинский Белкин: «К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, имен но: Опасного соседа, Критику на Московский Бульвар, на Пр<есненские> пруды и т. под.»[1208]; впрочем, традиция такого рода «городских сатир» дала темы и профессиональной литературе, например юношескому стихотворению Лермонтова «Булевар»[1209]. Такие сатирические панорамы легко наполнялись и политическим содержанием; так, в 1811 г. предметом внимания властей стали стихи «на булевар», автором которых называли чиновника П. Мяснова[1210]. А. Н. Креницын, товарищ Баратынского по Пажескому корпусу, стяжал себе известность рукописной сатирой «Панский бульвар», в которой «едко высмеивал высокопоставленных особ»; по преданию, ему грозили «большие неприятности»[1211]. По сведениям Кронеберга (возможно, и не слишком достоверным), Сиянов принадлежал к этому кругу армейских поэтов-сатириков.
Знакомство его с Руфином Дороховым как будто подтверждает это впечатление. Знаменитый бреттер, приятель Пушкина и позднее Лермонтова, многократно разжалованный за неукротимый нрав и буйные выходки, демонстрировавший свое равнодушие к литературе, был тем не менее поэтом и в 1830-е гг. печатался в «Молве» и «Сыне отечества»; ему принадлежит, между прочим, один из переводов стихотворения Гюго «А une fem-me», ставшего несколькими годами позднее предметом шумной цензурной истории. О ней упоминал в своем дневнике Пушкин, и он же сохранил в своих бумагах перевод Дорохова[1212]. Взаимная приязнь его (как затем и Лермонтова) с Дороховым, конечно, поддерживалась и литературными интересами последнего.
История с «возмутительными стихами» не имела серьезных последствий ни для Дорохова, ни для Сиянова. По расследовании оказалось, что в данном случае они к распространению стихов не причастны; 14 августа генерал С. С. Стрекалов доносил из Харькова, что «ротмистр Сиянов находится ныне в С.-П<етeр>бурге старшим адъютантом Главного штаба его величества по военному поселению, а рядовой Дорохов отправлен на службу в Грузию и объяснений от них не отобрано»[1213].
По-видимому, Сиянов недолго оставался в Петербурге. Существует его автобиографическое послание «Е…фу И…чу М…ну», в котором он жалуется на превратности судьбы, сообщая о себе адресату совершенно бытовые сведения: «шестнадцать лет» проносив «уланскую шапку», он «в тридцать лет» на беду свою подал в отставку и заперся в деревне, где жил чуть что не впроголодь, испытывая к тому же притеснения от соседей-помещиков и судейских чиновников; ныне же, заявляет он, он полон решимости вернуться к прежнему «ремеслу» воина[1214]. Известно, что он принял участие в персидской кампании 1826–1828 гг., где сблизился с Л. С. Пушкиным; их приятельские отношения продолжались и позднее. Л. Н. Павлищев передает забавный анекдот об их совместных — впрочем, умеренных — кутежах, во время которых, по словам Сиянова, он сам переставал пить шампанское, когда начинал «рассказывать собутыльникам о французской кампании», а Лев Сергеевич прекращал поглощать ром, говоря о персидской, — в этом Сиянов усматривал единственную разницу между собой и своим приятелем[1215].
С окончанием персидской кампании, в 1829 г., имя Сиянова всплывает в печати. С начала года он находится в Вологде — и оттуда посылает стихи в московские журналы[1216]. По-видимому, в 1830 г. он появляется в Петербурге. Он занимает место на периферии литературной жизни и очень редко печатается в авторитетных изданиях, находя приют в периодике второго и третьего ряда, испытывавшей недостаток в сотрудниках; он участвует в «Дамском журнале», в «Бабочке» В. С. Филимонова, в «Северном Меркурии» М. А. Бестужева-Рюмина, но более всего в изданиях Воейкова, который становится его основным литературным покровителем[1217]. Когда Воейков и Рюмин, начавшие взаимными комплиментами, вступили в литературную ссору, Сиянов не остался в стороне: он попытался опубликовать в «Колокольчике» В. Н. Олина памфлетную (а скорее, пасквильную) басню «Спорь до слез, а об заклад не бейся» с не слишком удачным армейским каламбуром: «Бес ту же в день и ночь, как зюзя, тянет водку»; петербургская цензура запретила этот стих как «личность», однако Сиянов умудрился напечатать свою басню без купюр в московской «Молве»[1218].
По периодике 1830-х гг. мы можем установить и круг его литературных и дружеских связей. По-видимому, у него были достаточно теплые отношения с Е. Ф. Розеном; в феврале 1831 г. Розен писал Воейкову, что получил от Сиянова письмо и собирается отвечать ему с графом Толстым. Этот «граф Толстой» — вероятно, Д. Н. Толстой-Знаменский, автор предназначавшейся для «Северных цветов» и запрещенной цензурой статьи «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина»; видимо, ему же принадлежало и стихотворение «Листок из альбома П. Г. Сиянова», напечатанное Воейковым в 1832 г. с подписью в оглавлении: «Соч. Гр. Д. Т-ова»[1219]. В другом письме Розен просил Воейкова отправить Сиянову посылку[1220]. Это не единственный и даже не самый важный след их связей: Сиянов участвовал в изданной Розеном «Альционе на 1831 год», а в следующем выпуске альманаха Розен поместил свое прощальное стихотворение, также написанное в альбом Сиянову[1221]. Эти «листки из альбома Сиянова» Воейков систематически печатал в 1831 г., когда владелец альбома уезжал из столицы в действующую армию в Польшу. В числе авторов стихотворных посвящений: П. Г. Волков, приятель Толстого-Знаменского, и неудачливый издатель и заурядный поэт, участвовавший, впрочем, и в «Северных цветах», А. Н. Глебов, В. И. Карлгоф, Б. М. Федоров, В. Н. Щастный, В. Е. Вердеревский, П. П. Манассеин — обычный круг участников воейковских «Прибавлений»[1222]. Очерчиваемый ими портрет адресата посланий — портрет «гусара» давыдовского покроя, воина-поэта, преданного дружбе, любви и вину.
Среди авторов посвящений мы находим людей, непосредственно связанных с польской литературой. Это В. Н. Щастный — знакомый Мицкевича, переводчик «Фариса» с авторской рукописи — и П. П. Манассеин, о котором далее у нас пойдет речь. Было бы соблазнительно усмотреть в этих литературных общениях причину обращения Сиянова к поэзии Мицкевича, однако такому предположению противоречит хронология: как мы помним, перевод «Фариса» был напечатан им еще в 1829 г. и прислан из Вологды. Дело, по-видимому, обстояло прямо противоположным образом: перевод «Фариса», наряду с другими стихами, сблизил Сиянова с петербургскими ценителями польской поэзии.
Совершенно понятно, почему этот перевод был напечатан в «Московском телеграфе» и именно в 1829 г., по свежим следам появления оригинала и через полгода после отъезда Мицкевича из России. Н. А. Полевой считал «Фариса» шедевром европейского значения и спешил познакомить с ним читателей журнала; любопытно, однако, что он публикует перевод Сиянова после появления двух других, несомненно лучшего качества. Может быть — и скорее всего — он просто не располагал другим; поэтический отдел его журнала находился в это время на невысоком уровне. Труднее решить, что именно привлекло в «Фарисе» самого Сиянова; ни в одновременно появившихся, ни в более поздних его стихах нет следов специального интереса к Мицкевичу, и «Фарис» — единственный известный нам его перевод из этого поэта. Может быть, здесь сыграл свою роль чисто внешний интерес к теме: поэта-гусара, потом улана, будущего автора «Досугов кавалериста» привлекло единственное в своем роде описание бешеной скачки наездника, бросающего вызов судьбе. Не исключено, что сказались и восточные впечатления Сиянова, только что прошедшего персидскую кампанию. Наконец, он мог слышать о Мицкевиче и от Л. С. Пушкина и получать импульсы от чтения журналов: «Сын отечества и Северный архив» к октябрю 1829 г. уже дважды печатал переводы «Фариса» — один прозаический, подстрочный, второй поэтический (П. П. Манассеина), а в апреле 1829 г. в петербургском альманахе «Подснежник» появился и перевод Щастного.
Сиянов знал оба стихотворных перевода — и в двух местах не уберегся от подражания (действительно, удачным фрагментам). Он следовал Щастному в описании безмолвия пустыни:
Здесь природа в сладком сне, И не слышен ей от века Шум походки человека; Здесь стихии в тишине Дремлют, пробуда не зная: Так блуждающих зверей Ненапуганная стая, Не видавшая людей, Не бежит от их очей[1223].У Щастного:
Здесь природа, в крепком сне Погруженная от века, Стоп не слышит человека; Спят стихии в тишине. Так вечернею прохладой Средь Иемена степей Ненапуганных зверей Спит кочующее стадо[1224].Все это не могло быть прямо подсказано подлинником. В другом случае он перефразирует Манассеина:
Куда он, бешеный, летит? Там в жажде грудь его изноет; Там дождь студеный не омоет Покрытых пылию ланит!У Манассеина:
Куда, безумец, мчится он? Там в жажде грудь его изноет, Там дождь тот прах с чела не смоет, Которым будет занесен…[1225]От предшественников Сиянова отличает умеренность стилистической позиции. Конечно, он ощущает поэтическое — и в первую очередь метрическое — богатство оригинала и пытается передать его сменой разнометрических фрагментов: мы находим у него четырех-, пяти— и шестистопный ямб, четырехстопный хорей, трехстопный амфибрахий, четырехстопный дактиль. Он применяет стяжения в дактилях, создавая подобие паузника:
Слышу, кричал он, будут мне трупы: Всадник и конь его, оба вы глупы! Всадник в пустыне ищет пути, Пастбища ищет конь белоногий…При всем том он стремится выдержать метрическую однородность фрагментов. В лексическом отношении он следует за подлинником, «перелагая», а не ища стилистического эквивалента, как это позволял себе Щастный. Стихи Сиянова перестают звучать как «перевод» лишь там, где он попадает на готовые формулы русской элегической и романсной традиции, как это мы видели в приведенных отрывках. Поэтическое слово его неточно, но это не сознательная неточность лермонтовской «импровизационной» поэзии — это недостаточное владение языком элегической школы, вялость эпигонского слова, неспособного передать энергию и динамику подлинного текста. При этом перевод Сиянова — не «бездарные стихи»: они вполне на уровне массовой послепушкинской поэзии, отличавшейся довольно высоким уровнем поэтической техники. Но этого-то и было недостаточно, чтобы переводить «Фариса», требовавшего особых поэтических средств. Перевод Сиянова, рядовой и быстро забытый, оказывается для нас весьма поучительным в историко-литературном смысле! Литературная деятельность Сиянова достигает наибольшей интенсивности в варшавский период его биографии[1226]. С мая 1831 г. здесь же, в Варшаве, находится и Л. С. Пушкин, штабс-капитан финляндского драгунского полка, в декабре 1832 г. вышедший в отставку и до осени 1833 г. остававшийся в польской столице. Некоторое время оба приятеля живут вместе, на одной квартире с Н. И. Павлищевым, мужем сестры Пушкина. К сожалению, у нас слишком мало сведений о быте этой варшавской русской колонии, давшей целый ряд литературных и научных трудов, связанных с историей и культурой Польши; мы знаем, однако, что к ней в разное время примыкали А. Я. Корсак, поэт, приятель Глинки, осевший в Варшаве; В. Ф. Ширков, другой знакомец композитора; уже упоминавшийся П. П. Манассеин и др. Н. И. Павлищев, обосновавшись в Варшаве, принялся за серьезное изучение польской истории и культуры и впоследствии стал автором обширных исторических сочинений; уже в интересующий нас период в его доме была специальная библиотека полонистического уклона. От сына Павлищева и О. С. Павлищевой (Пушкиной) и идут сведения о варшавских годах Сиянова; в своей «семейной хронике» он приводил отрывок из письма Ольги Сергеевны к мужу от 10 сентября 1831 г. с ироническим отзывом Пушкина о сияновских стихах. «Показала я брату, — пишет она, — присланные тобою патриотические солдатские песни Ширкова и Сиянова на знаменитый штурм; стихи, не в обиду будь этим храбрым двум воинам сказано, незавидны. Брат прочел, рассмеялся и сказал: „изящного тут мало, но все же стихи остроумны, а главное, „в них русский дух и Русью пахнет“, кто во что горазд“. Посылает он этим пиитам сердечный поклон и очень рад, что Лев остановился вместе с Сияновым у тебя. Не вдохновился ли и он музой своего приятеля?»[1227].
На сведения Л. Н. Павлищева полагаться нужно с большой осторожностью; он родился только в 1834 г. и рассказывал по преданиям и документам семейного архива, с которыми обращался более чем свободно. Письмо, которое он приводит, если и существовало, то никак не могло относиться к 1831 г.: нам известно подлинное письмо О. С. Павлищевой мужу от 10 сентября этого года — с совершенно иным содержанием. Никаких упоминаний о Сиянове в известных нам ее письмах вообще нет; о стихах Ширкова она действительно пишет мужу 6 октября 1831 г.: «…незавидные, нечего сказать, особенно при Ж<уковского> и брата стихах»[1228]. Не исключена, впрочем, возможность, что письмо относится к 1832 г.: в сентябре этого года Ольга Сергеевна готовилась к отъезду в Варшаву, куда прибыла в начале октября и встретилась с Л. С. Пушкиным и А. Н. Вульфом[1229]. Л. Н. Павлищев рассказывал, что Пушкин, Сиянов и Вульф оставались в Варшаве до глубокой осени[1230]; по пометам под стихами Сиянова мы знаем, что он был в польской столице еще и в сентябре 1833 г. Он состоял при графе И. О. Витте для особых поручений в чине майора, и к нему обращался Денис Давыдов в поисках материалов по истории восстания 1831 г. Сиянов выполнил его просьбу, хотя и не без труда[1231].
Здесь же, в Варшаве, Сиянов издал в 1832 г. сборник под названием «Досуги кавалериста»; в него вошел и перевод «Фариса».
Его имя мелькнуло еще один раз — в воспоминаниях В. П. Бурнашева, встречавшего его в обществе Воейкова, по-видимому, в 1830-м или 1831 г.; Бу рн ашев называл его «жандармским капитаном» и сообщал, что Сиянов «ухаживал» за хозяином, так как тот был в хороших отношениях с его начальником Дубельтом[1232]. Трудно сказать, насколько это верно: в воспоминаниях Бурнашева встречаются и прямые выдумки.
В 1839 г. С. П. Победоносцев, писавший под псевдонимом «Сергей Неутральный», в «письме к редактору» «Литературных прибавлений» — тогда уже А. А. Краевскому — замечал: «П. Г. Сианов <так!>, которого стишки иногда попадались в книжках „Сына отечества“ за старые годы, кажется, вовсе оставил занятия литературные»[1233]. По-видимому, он был прав; в конце 1830-х — начале 1840-х гг. имя Сиянова почти не встречается в печати; впрочем, в 1843 г. в «Маяке» появляется его басня[1234]. По адрес-календарям мы знаем, что в это время он служит директором Люблинской губернской гимназии Варшавского учебного округа в чине коллежского советника; в 1847 г. следы его теряются окончательно[1235].
Это все, что мы можем добавить к замечанию Победоносцева, который, оставя Сиянова, перешел к воспоминаниям о другом переводчике «Фариса» — П. П. Манассеине. Его биография займет теперь наше внимание.
2
Если имя Сиянова почти вовсе исчезло из поля зрения историков литературы, то Манассеину повезло больше — главным образом, из-за его знакомства с Кюхельбекером. Но и здесь даже наиболее внимательные и точные комментаторы не могут сообщить о нем почти ничего в дополнение к тому, что содержится в дневниках и письмах Кюхльбекера.
Петр Петрович Манассеин принадлежал к старинному роду костромских дворян, переселившихся в Казанскую губернию. Отец его, капитан Казанского гарнизона, затем лаишевский уездный предводитель дворянства, имел дочь и десятерых сыновей, одним из которых был интересующий нас сейчас Петр Петрович, учившийся в Главном инженерном училище в Петербурге и в 1824 г. выпущенный из нижнего офицерского класса прапорщиком во 2-й пионерный батальон[1236]. Среди однокашников его по училищу были люди, причастные как к литературе, так и к декабристскому движению, — таким был, например, В. Г. Политковский, вступивший затем в тайное содружество, объединившееся вокруг заключенного в Тирасполе В. Ф. Раевского, и беседовавший с ним на разные темы, в том числе и литературные[1237].
2-й пионерный батальон стоял в Динабурге[1238]. Эта окраинная крепость, где шли фортификационные работы, после 14 декабря 1825 г. была также и местом ссылки. 7 октября 1827 г. здесь появился Александр Ардалионович Шишков, приятель Пушкина и племянник адмирала Шишкова. Он был арестован за сочинение «в дерзком, злобном и даже возмутительном духе» эпиграммы «Когда мятежные народы…»; его допрашивали, признали виновным и отослали под надзор в Принца Вильгельма прусского полк, входивший в состав 1-й сводной пионерной (с 1829 г. — 1-й саперной) бригады, куда входил и 2-й пионерный батальон. Шишков и Манассеин стали сослуживцами.
Почти одновременно, в октябре 1827 г., в Динабургскую крепость был переведен «государственный преступник» В. К. Кюхельбекер.
Шишков и Кюхельбекер были знакомы еще в 1816–1817 гг., когда Кюхельбекер был лицеистом, а Шишков служил в Гренадерском имп. австрийского полку, расквартированном в Царском Селе. Вторично они встретились в 1821 г. в Тифлисе; через Шишкова Кюхельбекер отправлял письмо Пушкину, которое, однако, тот не сумел передать: письмо это было отобрано у него в 1827 г. при аресте и до нас не дошло[1239].
С этим кружком поэтов, близко знакомых Пушкину, Манассеин устанавливает довольно тесную связь. В письмах и дневнике Кюхельбекер упоминает его имя. Через Манассеина он осуществляет — или рассчитывает осуществить переписку с Петербургом. Он пишет Дельвигу 18 ноября 1830 г.: «Если можешь, напиши мне на имя Манассеина <…> податель мне письмо доставит не скоро, зато верно»[1240]. Беря на себя такие поручения, Манассеин, связанный к тому же воинской дисциплиной, рисковал очень многим, — как, впрочем, и Кюхельбекер, который мог передать письмо лишь через очень близкого и надежного человека. Через два с половиной года, 29 июня 1833 г., он вспоминает в дневнике «любезных именинников» и в их числе «П. П. М.» — конечно, своего динабургского приятеля[1241]. О Манассеине он упоминает в письме Пушкину от 20 октября 1830 г.: «У меня здесь нет судей: Манассеин уехал, да и судить-то ему не под стать»[1242]. Важно здесь, что и Дельвигу, и Пушкину Кюхельбекер называет имя без всяких пояснений, как хорошо им знакомое. Можно предполагать, что знакомство это было личным, а не заочным; во всяком случае, стихи Манассеина появляются в альманахах Е. Ф. Розена и Н. М. Коншина, в том числе в «Царском Селе», изданном при непосредственном участии Дельвига. Манассеин печатает здесь «Ад и рай магометов» — с той же самой формулой «восточной клятвы» («Клянуся ночи темнотой…» и т. д.), которая была введена в русский литературный обиход пушкинскими «Подражаниями корану» и затем повторена в цикле «Подражаний корану» А. Г. Ротчева, приятеля Шишкова и адресата его послания, одновременно с ним подвергшегося политическому надзору. Стихи были, несомненно, отражением ориентальных интересов всего динабургского кружка — прежде всего Кюхельбекера и Шишкова[1243].
Ориентализм сочетался здесь с повышенным вниманием к новейшей польской поэзии. А. Рыпинский, будущий поэт и фольклорист, учившийся в те годы в Динабургской школе прапорщиков, вспоминал позднее, как он и его товарищи бегали из школы, чтобы навестить Кюхельбекера и помочь ему в работе над трагедией «Шуйские». Одним из этих товарищей был Тадеуш Скржидлевский; известно его любопытнейшее письмо к Кюхельбекеру, где он сообщал узнику о литературных новостях Петербурга — о Пушкине, Дельвиге, о Мицкевиче.
Понятно, что и Рыпинский, и Скржидлевский с упоением разыскивают и читают все, что выходит из-под пера Мицкевича или Ходзьки, — это их родная литература, переживающая свое национальное возрождение. Но дело было в том, что и Кюхельбекер, и Шишков читали польских поэтов с не меньшим энтузиазмом. Первый принимается здесь, в Динабурге, изучать польский язык; в письмах его мелькают польские имена: Немце-вич, Одынец, Мицкевич. «Одынца я прочел одну балладу: „Лунатик“, которая мне очень полюбилась; я ее, быть может, переведу»[1244]. И почти то же самое пишет из Динабурга А. А. Шишков. «…Зная хорошо польский язык, читаю все, что писали и пишут наши одноплеменцы», — сообщает он Аксакову 28 октября 1829 г. и обещает доставить для журнала «Галатея» обозрение польской литературы и несколько сцен из трагедии «Лжедимитрий»[1245]. В Динабурге Шишков переводит «Песнь вайделоты. (Из „Конрада Валленрода“ Мицкевича)», которую анонимно публикует в московском альманахе[1246].
Дружеский кружок работает словно по единому плану: Кюхельбекер тоже пишет трагедию и вставляет в нее перевод из исторических песен Немцевича, — в этом-то и помогают ему молодые поляки из Динабургской школы прапорщиков.
Неудивительно, что в письме Скржидлевского упомянуто несколько имен, объединенных этой общностью интересов: Кюхельбекер, Шишков — и Манассеин. И здесь же названа литературная новинка — «Фарис», занимавшая всех членов кружка: «П. П. Манасеина перевод „Фариса“ ближе всех. Щастного теперь читаю в „Подснежнике“ — где вот 3 сцены „Ижорского“, — только мне кажется, что-то пропущено…»[1247].
Скржидлевский спешит поделиться впечатлениями; он цитирует начало перевода Щастного как пример удачных стихов, — но к стихам Манассеина у него явно более личное отношение, хотя, по совести, он не может поставить их выше других как произведение искусства. Его перевод — прямое порождение кружка. Он делается по свежим следам появления подлинника, хотя, быть может, Манассеин и учитывает только что напечатанный в «Сыне отечества и Северном архиве» прозаический подстрочник. Под публикацией помета: «Мая 30 дня. К<репость> Динабург»[1248]. Название перевода указывает, что он делался даже не с вновь вышедшего собрания стихотворений Мицкевича, а с текста альманаха «Мелителе», по-видимому добытого польскими энтузиастами. Дело в том, что подзаголовок «Арабская повесть», сохраненный Манассеиным, существовал только в альманашной публикации «Фариса» и уже в петербургском издании был заменен на «Касыда в честь эмира Таджуль Фехра»[1249].
Вероятно, члены кружка знали перевод Манассеина еще до печати и ревниво относились к его достоинствам. В 1834 г. Кюхельбекер записывал в дневнике: «В „Фарисе“ переведенном Манасеиным, несколько очевидных опечаток: такое небрежение к труду молодого поэта, сверх того, поэта с дарованием, со стороны гг. издателей „Сына отечества“ истинно непростительно»[1250].
Заинтересованное и в то же время сдержанно поощрительное отношение к опытам Манассеина в этих замечаниях — то же, что и в письмах Кюхельбекера и Скржидлевского. «Поэт с дарованием», хотя, конечно, не «судья» тому же «Ижорскому» Кюхельбекера; перевод его «ближе всех» (хотя, быть может, и не выше в поэтическом смысле). Эти оценки точны. Переводя «Фариса», Манассеин подчинил себя подлиннику еще в большей мере, чем Сиянов, не говоря уже о Щастном. Он непроизвольно стремится к эквилинеарности, т. е. к практическому осуществлению принципов, которым осознанно следовал другой переводчик Мицкевича — М. П. Вронченко и которые, как справедливо заметил современный исследователь, «вели к переводческому буквализму со всеми присущими этому методу пороками»[1251]. И достоинства, и недостатки его подхода к переводу довольно выразительно показывает фрагмент, о котором мы уже упоминали в связи с «Фарисом» Сиянова: монолог Коршуна. Подлинник здесь провоцирует на буквальную передачу: и лексически, и синтаксически он почти дословно может быть передан русскими стихами.
Czuję — krakaі — zapach trupi, Jezdiec gіupi, rumak gіupi. Jezdiec w piaskach szuka drogi, Szuka paszy biaіonogi.Так — почти буквально — переводит Манассеин:
Чую, — каркал, — будут трупы. Глупый конь и всадник глупый, Всадник ищет там дороги, Ищет паствы белоногий…Щастный, для которого польский был почти вторым родным языком, именно здесь прошел мимо соблазнов буквальной передачи, пожертвовав выразительным параллелизмом второй строки:
Чую, — каркнул, — мертвеца: Вот несутся два глупца — Всадник ищет здесь дороги, Ищет корма белоногий…Щастный передает смысловой оттенок первой строки. Мицкевич сделал к ней примечание: «На Востоке есть поверье, что хищные птицы предчувствуют смерть человека».
«Czuję < ...> zapach trupi» — не означает «предчувствую добычу (трупы)», что получается при буквальном переводе Манассеина (и что было повторено у Сиянова), — но именно «предчувствую их смерть», «чую мертвеца». Щастный сумел избежать и двусмысленности архаизма «паства», подсказанного оригиналом Манассеину. Зато в следующих строках —
Jezdcze, koniu, pusta praca, Kto tu zaszedі, nie powraca, —Манассеин явно выигрывает по сравнению со своим предшественником:
Всадник, конь, напрасен труд! Кто зашел — остался тут!У Щастного здесь смысловой пересказ с бедной рифмой, хотя также с попыткой сохранить разговорное просторечие:
Из пустыни сей песков Вам не вынести голов.Далее поэтическое перевыражение вновь начинает торжествовать над «точным переводом». У Мицкевича следующие стихи, при всей их прозрачности, включают в себе известную переводческую трудность — они требуют владения емкой поэтической фразеологией:
Ро tych drogach wiatr się błąka Unosząc z sobą swe ślady Nie dla koni jest ta łąka, Ona tylko pasie gady.Манассеин выходит из испытания с честью. Фразеология его затрудняет, но он, по крайней мере, ощущает энергию лаконизма и игры контрастами и параллелизмами в оригинальном тексте и вводит народнопоэтические формулы:
Только вихорь там по воле Мчится и свой след метет; Не коням пастись в том поле, Гадов, змей оно пасет.
Щастный опирается на уже сложившуюся поэтическую культуру 1820-х гг.:
Только ветер здесь витает, Унося свой зыбкий след. Гады лишь она питает, В ней для коней пастбищ нет.Это, конечно, лучше как русские стихи; в тексте Манассеина ощущается «перевод».
Последняя формула обоими переводчиками передана буквально:
Tylko trupy ł u nocują, Tylko sępy tu koczują. Только трупы там ночуют, Только коршуны кочуют. (Манассеин) Только трупы здесь ночуют, Только коршуны кочуют. (Щастный)За Манассеиным не стояла та поэтическая школа, которую прошли поэты более близкого пушкинского окружения, и он обладал хотя и несомненным, но очень небольшим индивидуальным дарованием. Отсюда, между прочим, и его невнимание к семантическим оттенкам и культурным ассоциациям, облекающим традиционные формулы, к которым он прибегает; так, явно неуместна была формула из Жуковского, которой он пытался передать поэтический мотив разлуки в «Сне» Мицкевича:
Мне не минуть с тобой разлуки! Но если, верная любви, Не хочешь множить сердца муки, — Про розно быть не говори!В оригинальном тексте здесь просто: «I rozstając się nie mów o rozstaniu!». Иной раз ему недоставало и поэтической техники, что очень сказывалось, когда он пытался передать сложный метроритмический рисунок «Фариса». Поэтому его «Фарис» и не стал явлением переводческого искусства и тем более — русской поэзии, как это произошло с «Фарисом» Щастного, — и первые же читатели дали ему достаточно объективную оценку. Исторический интерес его, однако, выше, чем абсолютная эстетическая ценность, — и выше, чем историческое значение «Фариса» Сиянова.
Перевод Манассеина отвечал на эстетические запросы «динабургского кружка». Молодой поэт обратился к произведению, в котором произошел «западно-восточный синтез» или даже «польско-восточный синтез»: польский поэт, привлекший особое внимание русских романтиков, предстал — еще раз после «Крымских сонетов» — в одеждах арабского Востока, дав мощный толчок развитию уже зарождавшейся русской ориентальной поэзии. И второе обстоятельство: его подход к переводу «Фариса» оказался довольно близок к тем переводческим принципам, которые исповедовал, в частности, Кюхельбекер, бывший в Динабурге его поэтическим наставником. Именно они легли в основу переводов и теоретических суждений Кюхельбекера о Шекспире, складывающихся в то самое время, когда создается перевод Манассеина. Уже в 1828 г. он декларирует в письме к Ю. К. Глинке принцип близости к подлиннику, вплоть до эквилинеарности перевода, — и придерживается его в собственной практике, вплоть до середины 1830-х гг., когда постепенно начинает подвергать его ревизии[1252]. Без сомнения, не случайно, что именно Кюхельбекеру Скржидлевский хвалил точность перевода Манассеина: это было как раз то, чего ждал от переводчика его наставник.
Существуют косвенные свидетельства того, что Кюхельбекер в Динабурге читал «Фариса» с пристальным вниманием. В 1-м явлении III действия 1-й части «Ижорского» в «Хоре русалок» есть прямая парафраза из русских переводов касыды — из того места, на которое уже нам пришлось обращать внимание:
Здесь и днем глухая ночь; Не был слышен здесь от века Стук секиры дровосека; Зверь бежит отселе прочь…[1253]Ср. у Щастного:
Здесь природа, в крепком сне Погруженная от века. Стоп не слышит человека; Спят стихии в тишине.У Сиянова:
Так блуждающих зверей Ненапуганная стая, Не видавшая людей, Не бежит or их очей.Может быть, в основе парафразы лежит и подлинный текст:
Tu natura snem ujęta Nigdy ludzkich stop nie słyszy, Tu żywioły drzęmią w ciszy Jak niepłoszone zwierzęta, Których stado nie ucieka Widząc pierwsza twarz człowieka.Первую часть «Ижорского» Кюхельбекер послал Дельвигу 18 ноября 1830 г.; несколько ранее, 20 октября, он просил Пушкина сообщить ему свое мнение о мистерии (по-видимому, об опубликованной части) и упоминал об отъезде Манассеина и Шишкова[1254].
Шишков еще в марте 1830 г. был отправлен в Тверь; Манассеин некоторое время оставался в Динабурге. 2 сентября этого года помечен его перевод «Сна» Мицкевича[1255]. Как явствует из письма Кюхельбекера, в октябре его уже в крепости не было; в ноябре же началось восстание в Варшаве, и 2-й пионерный батальон переводят в Царство Польское. Манассеин продолжает писать стихи; по датам и пометам о месте написания мы можем отчасти судить о его передвижениях, а читая их в хронологической последовательности — следить за сменой его настроений. За 1831 г. стихов очень мало, что и естественно, и они отличаются сгущенной мрачностью колорита. Даже когда он выбирает для перевода «Молитву во время битвы» Т. Кернера —
Меч извлекли не из блага земного, Кровь льется в защиту нам края святого, —он делает это, кажется, из-за последних строк, с их мужественным, но почти безнадежным трагизмом:
Гром смертоносный на мне ль разразится. Кровь ли потоком из ран заструится, — Боже мой, боже, покровом будь мне! Боже, взываю к тебе![1256]Эти стихи переводил в свое время Кюхельбекер; его перевод был напечатан под инициалом «К» в «Календаре муз» на 1826 г. Манассеин мог знать и почти наверное знал его; нужно думать, что Кюхельбекер не скрыл от него своего авторства. Последняя строка приведенного нами отрывка — едва ли не реминисценция; у Кюхельбекера заключительная строфа начинается стихом «Вождь мой! взываю к тебе!»[1257].
Война предстает Манассеину не в героическом ореоле, но в своей жуткой обыденности и жестокости:
Ты лети, лети скорей, От кровавых сих полей, Жаворонок резвый, нежный! С песнью сладкою стремглав С неба на поле упав, Ты не цвет найдешь подснежный, Не пушистую траву… Здесь оторванные руки, Там пробитую главу Или раненого муки…[1258]Все это совершенно необычно и неожиданно на фоне официальных славословий победам Паскевича и той почти одической героико-оптимистической тональности, какая свойственна почти всем стихам о польской кампании 1830–1831 гг. Безвестный поэт и армейский офицер оказывался независим от официозной трактовки военных событий, — и эти умонастроения, конечно, были воспитаны его динабургским окружением.
Из помет под стихами явствует, что в октябре 1831 г. он был в Варшаве. Н. Н. Селифонтов сообщал, что Манассеин находился там в качестве адъютанта генерала Дена и умер в 1831 г[1259]. Ту же дату смерти называл и Н. Агафонов; по его сведениям, поэт умер холостым в Варшаве в чине штабс-ка-питана[1260]. M. Максимович указывал только на последний — штабс-капитанский — чин[1261]. В этих сообщениях неверно одно: Манассеин умер не в 1831 г., а позже — и, по-видимому, не в Варшаве.
В Варшаве он вновь попадает в литературную среду — в ту самую русскую «культурную колонию», о которой мы говорили уже в очерке о Сиянове и куда входили Павлищев и Лев Пушкин. Для знакомца Кюхельбекера, А. А. Шишкова и, вероятно, Дельвига эта среда не могла быть вполне чуждой, — но, кажется, наиболее тесные отношения у него установились именно с Сияновым; во всяком случае, он адресует Сиянову два послания. Первое из них, написанное 15 октября 1831 г., указывает и на литературное общение:
Скажи, почто ты, мой поэт, Меня извлек из онеменья?.. Во мне погас луч вдохновенья, Как в тучах утренний рассвет, И я смотрю на божий свет Без горести, без умиленья! — Под шум сей жизни боевой Я сладко спал — как средь могилы; К чему ж будить меня, мой милый? Ответа ль ждешь на голос свой? Вотще! — Как камень гробовой, Я звук издам глухой, унылый…[1262]По-видимому, в Варшаве он возвращается и к переводам и вариациям на темы из славянских литератур. Сохранилась его «Славянская песня», датированная 24 ноября 1831 г., в которой сквозит то же пессимистическое мировосприятие, что и в послании Сиянову; трагизм описываемой ситуации еще подчеркнут эпической бесстрастностью тона:
В дубраве дремучей Сидела чета; Упал дуб могучий, — И гробом взята Младая чета! Обоих убило! И к счастию их; Никто над могилой Не плакал по них: Обоих убило![1263]В сентябре 1833 г. его уже нет в Варшаве — «Песнь саперов», написанная в это время, имеет помету: «Лагерь при кр. Модлине»[1264].
Теперь, в 1832–1834 гг., он начинает публиковать свои новые и старые стихи, посылая их в воейковские «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“», где постоянно печатался и Сиянов. Среди них был и динабургский перевод «Сна» Мицкевича. В 1833 г. в «Молве» появляется перевод «Альпухарской баллады» из «Конрада Валленрода», подписанный «П. М.». Этот перевод считается тоже принадлежащим Манассеину, что вполне возможно, хотя твердых данных и нет; упоминая о нем, польский исследователь замечает, что он заслуживает внимания лишь как последний фрагмент из «Валленрода», который появился в России в период относительно свободной публикации сочинений Мицкевича[1265]. Последний раз, насколько нам известно, сочинения Манассеина появляются в печати в 1834 г.: несколько стихотворений он помещает в «Литературных прибавлениях…»[1266] и отдает в «Библиотеку для чтения» небольшой очерк «Поездка в Кокенгаузен» — по материалам еще динабургских впечатлений. Он был верен своему скептическому и пессимистическому взгляду на историю человеческих обществ: развалины средневекового замка на берегу Двины, в ста двадцати верстах от Динабурга, вызывают у него исторические воспоминания о бесконечной цепи войн, опустошительных набегов, варварских жестокостей, предательств и измен; как контраст под его пером возникают описания диких и величественных пейзажей. Вероятно, «Валленрод» и «Гpaжина» Мицкевича в значительной мере питали тот интерес к польскому и литовскому средневековью, который ощущается в исторических экскурсах очерка; что же касается польской литературы нового времени, то здесь интерес превратился в прочное и устойчивое тяготение. Мы знаем об этом из упомянутой уже нами мемуарной заметки «Сергея Неутрального» — С. П. Победоносцева, знавшего Манассеина лично, и его воспоминания остаются по сие время единственным и совершенно забытым свидетельством о последних годах этого примечательного литератора:
«В 1837 году холера похитила Петра Петровича Манассеина, писателя с дарованием <…> участвовавшего некогда в „Сыне отечества“ и позже в других журналах. В последний раз поместил он в „Библиотеке для чтения“ за 1834 год свою „Поездку в Кокенгаузен“ (1834 г., № 7, IV, стр. 203), и то уступая просьбам товарищей, для которых с руинами замка Кокенгаузен связано было много приятных воспоминаний о стоянке в Лифляндии. Манассеин писал более для себя и не любил печатать, отговариваясь всегда тем, что предпочитает поверять свои чувства избранным. Он был поэтом по сердцу и по чувству и любил открывать и то и другое только искренним друзьям своим. Мне удавалось навещать его во время их зимней стоянки в глуши Польши, среди лесов подлясских. Сколько раз перед пылавшим камином, за чашкою ароматического чая, в дыме сигары слушал я его произведения, из которых большая часть отличалась искусством, дышала умом и особенно чувством. После него осталось много бумаг и в числе их прекрасный перевод басен Красицкого и сочинений Мицкевича и Одыньца. Не знаю, согласятся ли родственники покойного когда-нибудь выдать их в свет. Ни сказал ли я слишком много о Манассеине?.. Если так, то виню непритворное мое чувство любви и уважения к покойному. Да будет мир его праху!»[1267]
Этим кратким, но выразительным воспоминанием о Манассеине мы и закончим его по неизбежности скудную биографию, имеющую, однако, право на наше внимание, — биографию человека, прикоснувшегося к польской поэзии в русском декабристском окружении, в непосредственном контакте с польской культурной средой, пронесшего привязанность к ней сквозь испытания военных лет и затем сделавшего ее частью своей интимной духовной жизни, ревниво оберегаемой от постороннего глаза. «Поэт в душе», не выносящий на суд «толпы» свои сокровенные творения, это тип подлинного поэта, как его понимал поздний, уже становящийся эпигонским, романтизм; но мало кто из романтиков этого поколения осуществлял свои декларации на практике. Манассеин сделал это, но лишил историю русско-польских культурных связей, быть может, скромного, но заслуживающего внимания поэтического вклада, — впрочем оставив ей в качестве залога по крайней мере свое имя.
II. Строфа «Воеводы»
Исследователи темы «Пушкин и Мицкевич» уже давно обратили внимание на своего рода парадокс, поддающийся лишь гипотетическому объяснению. Он касается строфы «Воеводы».
Известно, что оригиналы двух баллад Мицкевича, переведенных Пушкиным в 1833 г., «Три Будрыса» («Trzech Budrysуw») и «Засада» («Czaty») — последняя и была озаглавлена у Пушкина «Воевода», — написаны одной и той же строфой, впервые введенной Мицкевичем в польскую поэзию[1268]. Эта строфа (получившая название «мицкевичевой»), ее происхождение, семантика и метроритмическое качество хороши изучены. Мицкевич написал обе баллады анапестами; первый и третий стих каждого четверостишия представляют собою два полустишия двустопного анапеста, связанных внутренней рифмой; четыре стиха — трехстопный анапест. Генетически эта строфа восходит к балладе Жуковского «Замок Смальгольм» — и соответственно к оригиналу В. Скотта, с модификациями, зависящими от особенностей польского стихосложения. В «Будрысе» Пушкин очень точно воспроизвел эту строфу, вплоть до женских рифм, естественных именно для польского стиха, — существенным качеством строфы Жуковского была сплошная мужская рифма.
С «Воеводой» дело обстояло иначе. «Мицкевичева строфа» была впервые испробована как раз в оригинале этой баллады — «Czaty». Для Пушкина хронология появления двух его исходных текстов не имела значения; он познакомился с ними одновременно и одновременно же начал переводить обе баллады; автографы их датированы одним днем — 28 октября 1833 г. Можно было бы ожидать, что и в «Воеводе» он воспользуется строфическим нововведением Мицкевича, но как раз этого не происходит. Мы можем лишь гадать, почему Пушкин резко изменил строфику. Не исключено, что две соотносившиеся друг с другом баллады ощущались им как разнящиеся по своему национальному колориту. «Три Будрыса» в оригинале имели подзаголовок «Литовская баллада», сохраненный и в первоначальном тексте русского перевода. «Засада» была определена Мицкевичем как «украинская баллада», но Пушкин, очевидно, не ощутил в ней специфически украинского колорита и изменил при печатании «украинская» на «польская». В строфе этой «польской баллады» Пушкин сохранил последовательность рифм, но при соблюдении правила альтернанса (мужское окончание в стихах 3 и 6); анапесты оригинала он заменил четырехстопным хореем, полустишия катренов Мицкевича превратил в самостоятельные стихи и написал своего «Воеводу» шестистишиями по схеме: ААвССв. Связь со строфикой оригинала (А + А − В − С + С − В) здесь может быть уловлена, но на слух она практически неощутима.
Строфа «Воеводы» зарегистрирована в творчестве Пушкина еще однажды — в незаконченном стихотворении «Рифма» (1828)[1269], однако генетической связи здесь нет. В «Воеводе» стих призван подчеркнуть фольклорную окраску баллады — задание, совершенно чуждое «Рифме». Между тем черновики стихотворения показывают, что строфа «Воеводы» сложилась сразу же, и это наводит на мысль, что в поэтическом сознании Пушкина уже была ее модель как строфы «балладной» и «фольклорной». Это предположение может быть подтверждено, если мы обратимся к более ранним периодам пушкинского творчества.
Среди стихотворений, особенно популярных в поэтическом репертуаре лицеистов, была баллада Дельвига «Поляк», написанная, по-видимому, в 1815 г., к которому относятся первые о ней упоминания. Сюжет баллады весьма еще наивный и несовершенный — отнесен к событиям 1812 г., когда польские части входили в состав наполеоновской армии; соответственно герой баллады — противник русских и является в негативном освещении; кульминацией сюжета оказывается его попытка овладеть спящей русской «девой» и гибель от руки неожиданно вернувшегося жениха — русского офицера. Общее признание, которое получила эта баллада в лицейском поэтическом кружке, впрочем, как можно думать, объяснялось не только ее патриотическим сюжетом, но и непосредственно литературным заданием; она была наиболее заметной попыткой освоения балладного жанра с ориентацией на фольклор. А. Д. Илличевский упоминал ее в письме к П. Н. Фуссу, который слышал о ней и хотел иметь текст: «Теперь, может быть, в эту минуту ты посылаешь ко мне „Дмитрия Донского“, а я к тебе желаемую тобою балладу, подивись проницательству дружбы — вопреки тебе самому я узнал, чего ты хочешь; это не Козак, а Поляк, баллада нашего барона Дельвига», «У нас есть баллада и Козак, сочинение А. Пушкина, — добавлял Илличевский в примечании. — Mais: on ne peut désirer се qu’on ne connait pas. Voltaire, Zaire» («но: нельзя желать того, чего не знаешь. Вольтер. Заира»)[1270]. Заметим ассоциацию между двумя произведениями: она вскоре нам понадобится.
В послании Пушкина «К Галичу» (1815) упоминается, видимо, та же баллада Дельвига:
Наш Дельвиг, наш поэт, Несет свою балладу…[1271]Связь между двумя «балладами» — «Козаком» Пушкина и «Поляком» Дельвига представляется несомненной. «Козак» датируется 1814 г.; в 1815 г. он был опубликован. Дельвиг зависел от Пушкина; оба поэта разрабатывали одну сюжетную схему, но с разным наполнением и разными героями: воин (у Пушкина «друг», у Дельвига «враг») ищет ночлега в избушке, хозяйка которой — одинокая «девица-краса» (одно и то же определение в обоих текстах); на просьбу о ночлеге девушка отвечает отказом. У Пушкина:
Нет, к мужчине молодому Страшно подойти, Страшно выйти мне из дому, Коню дать воды[1272].У Дельвига:
Сжалься надо мной, служивый! Девица ему в ответ, — Мать моя, отец убиты, Здесь одна я без защиты Страшно двери отпереть[1273].В обоих случаях этот отказ — ложная задержка действия; за ним следует настояние:
Верь, коханочка, пустое; Ложный страх отбрось! Тратишь время золотое, Милая, небось!У Пушкина козак предлагает девушке свою любовь и счастье с ним в «дальнем краю»; девушка соглашается и уезжает с козаком; идиллическая концовка, впрочем, иронически снимается в заключительных строках:
Дружку друг любил, Был ей верен две недели, В третью изменил.У Дельвига ложная задержка образует завязку: девица, склонившись на просьбы, отворяет дверь; «поляк» пьет за ее здоровье и будущее счастье и засыпает, сломленный усталостью; лишь ночью, видя уснувшую девушку, он поддается соблазну и готов уже посягнуть на ее честь, но в этот момент его настигает мщение. Нужно сказать, что оно художественно мало мотивировано. Самый образ «поляка» решен отнюдь не как образ злодея, напротив: «враг» силою вещей, он испытывает своеобразное сочувствие, чтобы не сказать симпатию, к слабой и беспомощной хозяйке, и лишь необычность ситуации пробуждает в нем чувственное влечение. Мы могли бы говорить о художественной концепции, осложняющей и смягчающей образ традиционного «соблазнителя», если бы речь не шла о раннем, полудетском произведении. Однако о некоторых обозначившихся принципах изображения говорить уже можно. Они более всего сказываются в обрисовке центрального героя и у Дельвига, и у Пушкина. «Хват Денис» в «Козаке» как будто указывает на «гусаров» Дениса Давыдова, однако самый облик «козака» — это не облик «гусара» давыдовских «песен», а скорее условно-эпический тип удальца с чертами западнорусского этноса, даже с польскими элементами в одежде и речи:
Черна шапка на бекрене, Весь жупан в пыли. Пистолеты при колене, Сабля до земли. Верь, коханочка, пустое…В ранней редакции баллада имела подзаголовок «Подражание малороссийскому», и исследователи улавливали черты соприкосновения ее с украинским песенным фольклором, а также с литературными имитациями типа песни «Iхав козак за Дунай» в «опере-водевиле» А. А. Шаховского «Козак-стихотворец»[1274]. Нечто подобное происходит и в «Поляке» Дельвига, где также введен культурно-этнический знак: «И под мокрой епанчою задремал он над ковшом»; «Сняв большую рукавицу…». Но более всего фольклорный колорит подчеркнут здесь средствами речевой характеристики, а также всем ритмико-синтаксическим строем повествования, включая и строфическую организацию.
Именно здесь начинает обнаруживаться сходство ранней баллады Дельвига и позднего пушкинского шедевра.
Строфа «Воеводы» — это строфа «Поляка», в которую добавлен первый (или второй) рифмующий стих. «Поляк» написан пятистишиями четырехстопного хорея со схемой рифмовки АвССв — строфический эксперимент по аналогии с «балладными формами немецкого происхождения», где практиковались и нерифмующиеся стихи[1275]. У Дельвига эта строфа оказывается неожиданно удобной для синтаксических параллелизмов в самых разнообразных вариациях — характерный фольклорный прием, едва ли не основная художественная находка «Поляка»:
Кто там? — всадника спросила Робко девица-краса. «Эй, пусти в избу погреться, Буря свищет, дождик льется, Тьмой покрыты небеса».Или — параллелизм поговорочных речений, имитирующих грубоватое просторечие:
Что красавице бояться? Ведь поляк не людоед! Стойла конь не искусает, Сбруя стопку не сломает, Стол под ранцем не падет.Сравним в «Воеводе»:
Подступили осторожно. «Пан мой, целить мне не можно, — Бедный хлопец прошептал. — Ветер что ли; плачут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи, Порох в полку не попал».Здесь — довольно близкая аналогия обоим приведенным выше отрывкам из «Поляка». Со вторым пушкинский текст роднит установка на передачу иноязычной речи, причем «простонародной». Можно думать, что у Дельвига не случайно появились фразеологизмы, созданные по моделям русских поговорочных речений, но с совершенно иной, не русской (и несколько искусственной) системой образности. Пушкин в «Воеводе» решает ту же задачу с виртуозным искусством: он вводит обозначения, индикаторы польской речи — «пан мой», «целить мне не можно», «плачут очи» в пределах русской стилистической нормы[1276], — путь, еще неизвестный Дельвигу в 1815 г. Но аналогия должна быть продолжена: сходство строф «Поляка» и «Воеводы» в интонационно-синтаксическом рисунке и функциональном назначении композиционных элементов. Первое четверостишие (у Дельвига — трехстишие), синтаксически свободное, составляет своего рода экспозицию; последующие стихи дают троичную параллель с градацией; третий член ее — замыкающая, последняя строка, на которую падает основная семантическая нагрузка. Любопытно, что в приведенных примерах параллель образуют и полустишия предпоследней строки; стих распадается на две синтагмы, тяготеющие к изоморфности. Синтаксические особенности лицейской баллады Дельвига на «польскую тему» словно предвосхищали балладу Мицкевича, написанную почти через полтора десятилетия. Параллельные сочетания оказались в стихах Дельвига своего рода стилистической доминантой — и то же самое мы видим в пушкинском переводе. Когда Пушкин усовершенствовал строфику, преобразовав пятистишия в шестистишия, он получил возможности еще большего разнообразия в варьировании параллелизмов — и любопытно, что в этом отношении он оказался ближе к Дельвигу, чем к оригиналу Мицкевича. В «Засаде» концентрация изоморфных конструкций меньше, чем в «Воеводе», и полустишия далеко не всегда образуют параллелизм. Сравним:
Панна плачет и тоскует, Он колени ей целует, А сквозь ветви те глядят; Ружья наземь опустили, По патрону откусили, Вбили шомполом заряд.у Мицкевича:
Ona jeszcze nie słucha, on jej szepce do ucha Nowe skargi czy nowe zaklęcia: Aż wzruszona, zemdlona, opu ścila ramiona I schyliła się w hego objęcia. Wojewoda z kozakiem przyklękneli za krzakiem I dobyli z zapasa naboje, I odcięli zębami, i przybili stęflami Prochu garść i grankulek we dwoje.Пушкин как бы сжимает, конспектирует сцену, освобождаясь от побочных деталей, и делает это с помощью «стремительного движения коротких, нераспространенных предложений, состоящих только из главных членов», т. е. тех форм поэтического сказа, которые В. В. Виноградов с полным основанием считал одной из важных особенностей стихотворного синтаксиса позднего Пушкина[1277]. Но иллюзия стремительного движения не обязательно связана с сокращением исходного текста. Концовка пушкинской баллады показывает это совершении ясно: в ней две строки Мицкевича развернуты в более детализированную картину, занимающую целую строфу.
Kozak odwiódł, wycelił, nie czekajac wystrelił I ugodził w sam łeb — wojewody.У Пушкина:
Выстрел по саду раздался, Хлопец пана не дождался; Воевода закричал, Воевода пошатнулся… Хлопец, видно, промахнулся: Прямо в лоб ему попал.В пушкинской концовке — игра синтаксическими и семантическими параллелями, антитезами, контрастными сопоставлениями, на фоне которых особенно ясно выступает замыкающая роль заключительного стиха. Возможности для нее открывала найденная поэтом строфа, первый абрис которой обозначился в лицейской балладе Дельвига. «Польская баллада» 1815 г. оказалась исходным материалом для «польской» — уже не метафорически, а буквально — баллады зрелого Пушкина. Вряд ли здесь действовал сознательный выбор или целенаправленные воспоминания о Дельвиге, хотя нам известно, что в поздние годы Пушкин постоянно обращается к памяти ближайшего из своих друзей, — скорее мы имеем дело с работой поэтического подсознания, нерегулируемым ходом ассоциаций, когда литературные модели и аналоги возникают на периферии художественного сознания, питая собой литературные шедевры.
III. Заметки на полях «Дзядов»
I. Еще раз об источниках «были» ксендза Петра
Стихи 574–583 сцены VIII третьей части «Дзядов» заключают в себе первую из пророческих притч ксендза Петра, обращенную к Сенатору и Пеликану и рассказанную в связи со смертью доктора, пораженного божьей карой. Она повествует о путниках, устроившихся на ночлег под стеной в селенье. «Ангел божий» ночью является находящемуся среди них убийце и предупреждает его, что стена должна обвалиться. Убийца был самый свирепый среди всех, но он спасен, в то время как обрушившаяся стена убила других. Сложив руки, он благодарил бога за то, что ему сохранена жизнь, но божий ангел, встав перед ним, вещал: «Ты, преступник, не избегнешь большей кары, но погибнешь публичней и позорней, чем они» («…lecz ostatni najgіo niej, najhaniebniej zginiesz»).
Источник этой «были» был установлен проф. С. Пигонем еще в 1932 г. Им была эпиграмма Паллада (авторство иногда оспаривается), вошедшая в Палатинскую антологию (Anthologia Palatina, IX, 378)[1278]; исследователь указал и на польский перевод ее, сделанный Ф. Карпинским и включенный в издание его сочинений 1806 г. Карпинский не знал греческого языка и пользовался каким-то французским или немецким посредником. С. Пигонь предполагал, что Мицкевич мог найти текст в сочинениях Карпинского и затем обратиться к греческому подлиннику, к которому в одном месте «были» он приближается больше, чем к переложению Карпинского (ср. ст. 7: «Bogu dziekowal, że mu ocalono zdrowie», у Карпинского: «Ten przed ludźmi chwali sie, że jest niebu drogi, — Jak go na coś wiekszego zachowuja bogi»). Карпинским Мицкевич интересовался и в 1827 г. поместил его некролог в «Московском телеграфе»[1279]. ем не менее сам автор гипотезы, по-видимому, ощущал искусственность этих допущений и в своем комментарии к новому изданию Мицкевича осторожно сослался на средневековые притчи как на возможный источник сюжета, никак не конкретизируя, впрочем, своего утверждения[1280].
Между тем старое наблюдение С. Пигоня, конечно, верно; что же касается посредника, то он был, вероятно, не польский, а русский. Это был перевод Д. В. Дашкова «Отсроченная казнь», очень близкий к подлиннику и помещенный в том же самом «Московском телеграфе», в котором накануне была напечатана статья Мицкевича о Карпинском. Приведем этот текст.
ОТСРОЧЕННАЯ КАЗНЬ
(Паллад)
Ветхую стену опорой избрав, повествуют, убийца Сну предавался; но вдруг Сарапис взорам предстал, Гибель ему прорицая: «О ты, здесь лежащий небрежно, Встань, для покоя спеши лучшего места искать!» В ужасе оный отпрянул. И вслед за бегущим мгновенно Ветхое зданье, валясь, долу обрушилось все. Радостно жертву богам спасенный приносит за благость, Мня, что на гнусных убийц оным приятно взирать! Сарапис снова ему в ночном явился виденьи, Грозно вешая: «Тебе ль благости ждать от богов! Ныне ты мною спасен; но смерти избегнул безбедной: Скоро позорную жизнь кончишь, злодей, на кресте!»[1281]Легко заметить, что Мицкевич переработал эпиграмму в духе старинной притчи, лишив ее античного колорита; антологическая эпиграмма вряд ли была уместна в устах ксендза Петра. Что касается знакомства поэта с приведенным текстом, то в нем трудно сомневаться. Он входил в подборку «Цветы, выбранные из греческой анфологии», к которой издатель «Телеграфа» привлекал внимание читателей специальным примечанием, отсылая их к «Северным цветам на 1825 год», где была напечатана первая подборка «надписей», и выражая благодарность «просвещенному переводчику». Примечание прямо провоцировало интерес читателей к анониму, чье имя не было секретом в литературных кругах. Мицкевич, сближение которого с Полевыми и их журналом в 1827 г. достигает апогея[1282], в это время уже свободно владея русским языком[1283], конечно, познакомился с подборкой и получил сведения о «просвещенном переводчике». Помимо Полевого у Мицкевича в это время были и другие знакомые, которые могли информировать его о литературной деятельности Дашкова, уже почти оставленной им во имя государственной службы, — П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев, позднее Жуковский и Дельвиг. В парижской лекции о русской литературе 25 января 1842 г. Мицкевич рассказывал о пародийной похвале Дашкова Хвостову, произнесенной на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 14 марта 1812 г., повлекшей за собою исключение Дашкова из числа членов[1284]. Речь эта была опубликована только в 1861 г., Мицкевич черпал свои сведения из устных источников. Быть может, ему была известна и цензурная история дашковского перевода из Паллада, который не был напечатан в свое время в «Северных цветах» из-за придирок цензора А. С. Бирукова[1285].
2. Замерзший на плацу
«Смотр войска» («Przegląd wojską») — одна из наиболее резких инвектив Мицкевича против александровского и николаевского военно-полицейского государства — построен на реалиях, с большим трудом поддающихся идентификации. Нет сомнения, что в основе страшных сцен, составляющих изнанку блестящего парада, лежат какие-то устные рассказы, преображенные затем фантазией художника и сатирика. При этом степень аутентичности их может быть различна, как и их хронологическая приуроченность.
Мы можем указать с большой степенью вероятности на источник по крайней мере одной из таких сцен — именно той, которая очерчена в стихах 370–371: «Те замерзли, стоя как столбы, перед фронтом, указывая полкам дорогу и цель движения». Она, по-видимому, восходит к рассказу Н. И. Греча о церемонии панихиды по герцогу Виртембергскому, которую устроил Павел I в 1798 г. Греч был свидетелем этой церемонии, совершавшейся «в жестокое зимнее время» в католической церкви, на пути к которой вдоль Невского проспекта «стояла фронтом вся гвардия». «Павел разъезжал верхом, надуваясь и пыхтя по своему обычаю. Великие князья Александр и Константин <…> в семеновском и измайловском мундирах бегали на морозе перед церковью, стараясь согреться. Один полицейский офицер стоял на краю площадки, во фронте. Вдруг подали сигнал. Все поспешили к местам. Раздалась музыка, ружейные выстрелы, пушечная пальба. Потом войска прошли церемониальным маршем. Все утихло; площадь опустела. Один только этот полицейский стоял на месте. К нему подошел другой, коснулся его, и он упал на снег: несчастный замерз!»[1286].
Помимо близости центрального ядра рассказа, совпадают и детали экспозиции: в «Смотре войска» так же пустеет площадь, остаются только жертвы императорского парада («Wszystscy odeszli: widze i aktory. Na placu pustym, samotnym zostało Dwadzieście trupów…»).
Какова вероятность того, что Мицкевич услышал этот рассказ из уст самого очевидца — Н. И. Греча? Сведения об общении его с Гречем единичны, если говорить о документальных свидетельствах. Однако в 1827–1828 гг. Мицкевич постоянно посещает дом Булгарина, у которого собирается вся петербургская польская колония. Греч же в это время связан с Булгариным самыми тесными узами — личными и литературными. Весной 1828 г. Кс. Полевой наносит визит Булгарину и застает в его кабинете, который в это время занимает В. А. Ушаков, Мицкевича, Грибоедова и Греча[1287]. В одну из таких встреч и мог Мицкевич услышать рассказ, который затем нашел себе место в «Дзядах».
3. «Дзяды» и «Прогулка в Академию художеств» Батюшкова
Все исследователи «Дзядов» и пушкинского «Медного всадника» упоминают «Прогулку в Академию художеств» Батюшкова как важный элемент литературного фона обоих произведений.
Н. В. Измайлов, перепечатывая текст этой статьи в приложениях к своему изданию «Медного всадника», отмечал: «Известное значение для изображения в поэме Пушкина памятника Петру и для спора о нем Пушкина с Мицкевичем имеет <…> отрывок статьи Батюшкова, посвященный сопоставлению двух античных конных статуй — консула Бальбуса и императора Марка Аврелия — с монументом Петра, двух коней римских монументов с фальконетовым конем»[1288].
Нарочитая неопределенность формулировки объясняется тем, что вопрос о значении статьи Батюшкова для Мицкевича все же остается не вполне ясным.
В. Ледницкий считал, что Мицкевичу были известны особенности замысла Фальконе, непосредственно соотносившиеся с эстетической борьбой ХVIII в. Фальконе намеренно противопоставил художественную концепцию своего монумента — всадник с простертой вперед рукой, скачущий на вздыбленном коне, — спокойной уравновешенности античного образа. Это была борьба талантливого скульптора против «официальной, традиционной» эстетики, нашедшая свое выражение в сочинениях и переписке Фальконе («Lettre à un е espèce d’aveugle», «Observations sur la statue de Marc Aurèle» — в первом томе сочинений Фальконе 1781 г.) и письмах Дидро. Те и другие, как полагал исследователь, могли быть известны Мицкевичу. Статую же Марка Аврелия он видел еще в Петербурге; гипсовый слепок ее стоял в Академии художеств. В этой связи В. Ледницкий и вспомнил батюшковскую «Прогулку», где содержалось сравнение статуй. Конь на памятнике Бальбуса, согласно Батюшкову, «не весьма статен, короток, высок на ногах, шея толстая, голова с выпуклыми щеками, поворот ушей неприятный. То же самое заметил в другой зале, у славного коня Марка Аврелия. Художники новейшие с большим искусством изображают коней. У нас перед глазами фальконетово произведение, сей чудесный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостию мысли, сказал мне, указывая на коня Фальконетова: „Он скачет, как Россия!“»[1289]. Другие исследователи шли в русле тех же проблем, что и В. Ледницкий. Так, Ю. Кляйнер, автор фундаментальной монографии о Мицкевиче и специальной статьи о Мицкевиче и Фальконе, касался существа «спора» Мицкевича с Фальконе, т. е. причин, по которым польский поэт отверг его памятник и предпочел статую Марка Аврелия. Кляйнер проницательно заметил, что апология гуманиста, добродетельного человека на троне — это позиция просветителя XVIII в., которой отдали дань, в частности, декабристы. Можно добавить к этому, что скакун, укрощенный рукою гуманного правителя, — характернейший образ просветительской литературы. Вопрос об аналогах и источниках Ю. Кляйнера в данном случае интересовал мало; еще в старой своей статье «Мицкевич и Фальконе» (1926) он высказывал мысль, позднее развитую В. Ледницким: Мицкевичу была известна устная традиция, сохранявшая еще пыл старых эстетических полемик; знал ли он статью Фальконе — остается неизвестным[1290]. Столь же непосредственно с концепцией самой скульптуры соотносил текст Мицкевича и В. Кубацкий[1291].
Между тем посредничество статьи Батюшкова в ознакомлении Мицкевича с этой эстетической дискуссией не только наиболее вероятно, но и существенно важно. «Опыты» Батюшкова Мицкевич хорошо знал и очень ценил; в своих парижских лекциях он цитировал стихи Батюшкова по-русски как классические образцы поэтического стиля[1292]. Нужно думать, что в 1827–1828 гг. «Прогулка в Академию художеств» попала в поле зрения Мицкевича. Во время пребывания его в Петербурге новинкой была очередная осенняя выставка в Академии художеств; он был окружен польскими и русскими художниками, в том числе и воспитанниками Академии; его среду составляли и любители искусств, вроде Дельвига, и журналисты, выступавшие в качестве обозревателей академических выставок, как Булгарин; наконец, он посещает дом президента Академии художеств А. Н. Оленина, в котором и зародилась эстетическая основа батюшковской статьи. «Прогулка в Академию художеств» была своеобразным манифестом идей оленинского кружка, и самое сопоставление памятника Фальконе с античным образцом, — конечно, опиравшееся и на сочинения самого скульптора, — было вполне в духе исторических и эстетических штудий, которыми был занят салон Оленина.
Все эти соображения подкрепляются очевидной взаимозависимостью художественных и мемуарных свидетельств. В «Памятнике Петру Великому» содержится не только сопоставление двух конных статуй — древней и новой, но и аллегорическое толкование Фальконетова коня как изображения исторических судеб России. На этом толковании построен весь отрывок Мицкевича, и оно же вызвало к жизни реплику Вяземского, сказанную Пушкину и Мицкевичу, когда они втроем проходили мимо памятника: «…этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед»[1293]. И поэтический текст Мицкевича, и, скорее всего, замечание Вяземского (отлично знавшего батюшковскую статью) имеют диалогическую природу; Вяземский парадоксально уточняет привычный образ («скачет, как Россия»). Мицкевич полемизирует, и — почти нет сомнения — совершенно сознательно. Оба мотива «Прогулки…» Батюшкова — сопоставление статуй и аллегория судеб государства — повторены, но с обратным знаком, в соответствии с общей концепцией «Памятника Петру Великому»: «чудесный конь, живой, пламенный» (восприятие Батюшкова) для Мицкевича — воплощение губительного самодержавного волюнтаризма; спокойная, лишенная эффектной стати лошадь Марка Аврелия оказывается у него скакуном, укрощенным рукой мудрого и гуманного правителя. Это даже не столько полемика, сколько переинтерпретация: место эстетического толкования занимает социально-философское и политическое, при сохранении общего тематического контура. Далее развивается реплика Вяземского — и совершенно таким же образом: «поднял на дыбы», т. е. потерял способность управлять взбесившимся скакуном на самом краю пропасти. «Уже бешеный конь вскинул вверх копыта, царь его не удерживает, конь грызет удила, вот-вот он упадет и разлетится вдребезги» (ст. 50–62). В «Медном всаднике» будут учтены «точки зрения» уже не двух, а трех собеседников: Батюшкова («скачет, как Россия»), Вяземского (не скачет вперед, а поднят на дыбы) и самого Мицкевича.
А в сем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта?Это батюшковский конь, «живой, пламенный» и скачущий вперед.
О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной Россию поднял на дыбы?Это развитие — с полемическими коррективами — и замечания Вяземского, и концепции Мицкевича; «точка зрения» Батюшкова выступает как корректирующее начало (конь скачет вперед; он не одолел всадника, а остановлен им «над самой бездной»). «Чужое слово» и чужие «точки зрения» присутствуют здесь в снятом виде. Но, быть может, самое показательное — то, что «Прогулка в Академию художеств» отражается прямыми реминисценциями во вступлении к «Медному всаднику» с апофеозом Петербурга, — и это, с нашей точки зрения, оказывается довольно сильным дополнительным аргументом в пользу предположения, что статья Батюшкова была одной из отправных точек для «Памятника Петру Великому», концепция которого зарождалась в каких-то своих чертах уже при личном общении Пушкина и Мицкевича в 1828 г.[1294]
4. «Водопад тирании»
Символическая художественная тема снега и льда, безлюдной белой пустыни — одна из сквозных в «Отрывке из III части „Дзядов“». На ней построена «Дорога в Россию», где впервые намечается образ скованного льдом моря. Ветер беснуется в снежных полях, море снега («morze śniegów»), взметенное вихрем, поднимается со своего ложа и снова падает, как будто внезапно окаменело («jakby nagle skameniałe»), огромной белой безжизненной массой. Над этими стихами (44–47) Мицкевич работал особенно тщательно; в ранней редакции лавина снега («fala śniegów») сравнивалась с окаменевшим морем («jak gdyby morze skameniałe»)[1295]. По этим пространствам летит повозка изгнанника. Это отдаленная вариация мотивов знаменитой 10-й элегии из III книги «Tristia» Овидия. «Лед» и «снег», окружающие поэта, у Овидия тоже особая, символическая пейзажная тема[1296] — и так же связанная с темой чужбины, враждебной ссыльному; в этой элегии мы находим и упоминание о Борее, оледеняющем снег, так что он делается вечным («Nix iacet, et iactam ne sol pluviaeque resolvant, Indurat Boreas perpetuamque facit» — ст. 13–14), и классический образ скованного льдом моря («Vidimus irrigen-tem glacie consistere pontum…» — ст. 36 и след.). Ассоциации приходили естественно и, конечно, поддерживались общением с Пушкиным, для которого Овидий был особой биографически-художественной темой; вспомним, что как раз в период их первоначального знакомства выходят из печати «Цыганы» (1827) — поэма, которую Мицкевич считал выдающимся произведением[1297], а несколько ранее (1826) — «Стихотворения Александра Пушкина», где было перепечатано послание «К Овидию». И в «Цыганах», и в послании Пушкин опирался на упомянутые нами стихи из 10-й «печальной элегии»; отрывок об Овидии, кстати, был до выхода отдельного издания «Цыган» опубликован в «Северных цветах на 1826 год».
Трудно сказать, бывал ли Овидий предметом литературных бесед двух поэтов-изгнанников, посетивших почти одни и те же места юга России, поблизости от предполагаемого места ссылки и захоронения Овидия[1298]. Уже одни биографические аналогии делают такое предположение вполне вероятным. Добавим к этому, что и Пушкин, и Мицкевич специально интересовались Овидием и как поэтом, и как исторической личностью; Мицкевич, как известно, хорошо знал элегии римского поэта в подлиннике и переводил их, намереваясь вместе с Ежовским издать антологию латинских классиков на польском языке[1299].
Любопытно вместе с тем, что у Пушкина и Мицкевича «зимние мотивы» Овидия получают диаметрально противоположную художественную интерпретацию. Пушкин как бы оспаривает их, становясь на иную точку зрения. Южная зима у него увидена глазами северянина; для Овидия это — суровый север, где вынужден жить он, человек юга. В послании «К Овидию» подчеркнута субъективность пейзажа «Скорбных элегий»; в «Цыганах» эта субъективность становится характерологической чертой Овидия («чужого человека»), а разница «точек зрения» художественно реализована в рассказе цыгана об Овидии[1300]. Мицкевич гиперболизирует исходную картину зимы; из той же субъективности вырастает символический пейзажный образ. Как и в случае с Батюшковым, единая исходная тема продуцирует два противостоящих друг другу варианта разработки. Здесь это, конечно, не «полемика» в точном смысле слова; это разность художественных и концептуальных установок, приводящая и к различным результатам.
Между тем образ замерзшей воды, поразивший воображение Овидия резким контрастом между обычным агрегатным состоянием аморфного, подвижного, текучего вещества и новым состоянием, когда внешняя недобрая сила лишила его привычных свойств, движения и как бы самой жизни, продолжал варьироваться в художественном сознании автора «Дзядов». Он уходил своими истоками еще в метафорический язык «Крымских сонетов», где впервые обозначился «классический оксюморон» «сухой океан»; в специальном исследовании В. Кубацкий проследил движение этой метафоры в мировой поэзии начиная с античности[1301]. В сонете же «Вид гор из степей Козлова» мы находим и первоначальную кристаллизацию образа «оледенелого моря» («morze lodu») — того самого, который с новым художественным смыслом появился в вариантах «Дороги в Россию».
Нет сомнения, что и в этом случае в поле зрения Мицкевича была целая традиция поэтического словоупотребления, включавшая и русские образцы. «Замерзшее море» (в модификации: море с волнами, что придает образу новый оттенок выразительности) есть в швейцарских сценах «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина; описывая ледники Гриндельвальда, Карамзин замечает: «Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг превратились в лед; но могу сказать, что это сравнение прекрасно и справедливо и что сей путешественник или писатель имел пиитическое воображение»[1302]. «Письма русского путешественника» Мицкевич знал, но задержалось ли его внимание на этом месте — неизвестно.
Существовал, впрочем, еще одни литературный аналог этой сцены, который мог быть известен Мицкевичу, — «Ухабы. Обозы» из «Зимних карикатур» Вяземского. Стихи эти были напечатаны в «Деннице» М. А. Максимовича в 1831 г., однако написаны они зимой 1827–1828 гг., во время поездки Вяземского по Пензенской губернии. Сразу же после приезда в Москву Вяземский возобновил общение с Мицкевичем, которое продолжилось и в Петербурге; в мае — июне 1828 г. оно достигает наибольшей интенсивности. Вполне вероятно, что Вяземский рассказал ему о впечатлениях своего путешествия в мороз и метель по занесенной снегом степи; они отразились на страницах его записной книжки и в стихах, где есть точки соприкосновения с «Дорогой в Россию»:
День светит; вдруг не видно зги, Вдруг ветер налетел размахом, Степь поднялася мокрым прахом И завивается в круги. («Метель»)Это довольно близко к описанию снежного моря, поднятого вихрем. В другом месте — в «Ухабах» — находим развитие карамзинского образа:
Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья, Какой свирепый ураган Стоячей качкою, волнами без движенья Изрыл сей снежный океан?Далее возникает образ, навеянный «Крымскими сонетами» Мицкевича:
Кибитка-ладия шатается, ныряет, То вглубь ударится со скользкой крутизны, То дыбом на хребет замерзнувшей волны Ее насильственно кидает («Ухабы, Обозы»)[1303]Заметим, что Вяземский дал в свое время прозаический перевод «Аккерманских степей» с этим образом: «Вплывая на простор сухого океана, колесница ныряет в зелени и, как лодка, зыблется среди шумящих нив…».
Но, как мы видели, и мотив ледяных волн также присутствовал у Мицкевича: «Не Алла ли поднял оледенелое море»[1304].
У Вяземского произошло переключение в иную образную сферу: метафоры южного пейзажа стали характеристикой севера. Если наше предположение, что Мицкевич знал эти стихи, верно, то он получил обратно то, что Вяземский взял от него, — но вместе получил и художественный импульс для новой картины.
В «Отрывке из III части „Дзядов“» мы находим интересующий нас образ еще раз и в новой, наиболее экспрессивной модификации — уже не моря, но водопада, схваченного льдом. Он оказывается непосредственно связан с другим, уже известным нам образом — взнесенного над бездной коня.
Od wieku stoi, skacze, lecz nie spada, Iako lecąca z granitów kaskada, Gdy ścieta mrozem nad przepaścia zwiśnie — Lecz skoro słońce swobody zablyśnie I wiatr zachodni ogrzeje te państwa, I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa? (III, 63–68)(«Вечно стоит <конь>, скачет, но не падает. Подобно летящему с гранитов водопаду, Который, скованный морозом, повис над пропастью — Но скоро заблестит солнце свободы, И западный ветер согреет те государства, — и что станется тогда с водопадом тирании?»).
Ю. Кляйнер высказал предположение, что это уподобление может восходить к «картинке» в «Полярной звезде на 1824 год» — иллюстрации к «Водопаду» Державина, где изображен рыцарь на фоне водяного каскада[1305]. Но ни «Водопад», ни иллюстрация не содержат самого существенного — изображения водопада, скованного льдом. В. Ледницкий склонен был усматривать источник образа в стихах Тютчева «14-ое декабря 1825», где говорится о вековых льдах, которые не смогла растопить «скудная» кровь жертв[1306], но знакомство Мицкевича с этими стихами проблематично — и, кроме всего прочего, в них есть «лед», но нет «водопада».
Между тем существует стихотворение, в котором есть как раз искомый нами образ, организующий все художественное целое. Это «Надпись» Баратынского, адресатом которой долгое время без больших оснований считали Грибоедова:
Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем жизни нет; Но как на нем былых страстей Еще заметен след! Так ярый ток, оледенев, Над бездною висит, Утратив прежний грозный рев, Храня движенья вид[1307].Строчка Мицкевича «…kaskada, Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie» производит впечатление прямого перевода строк 5–6.
Знакомство Мицкевича с этим стихотворением вполне вероятно. Оно было напечатано впервые в «Северных цветах на 1826 год» (где был и упоминавшийся выше отрывок из «Цыган»), а затем вошло в раздел «Смесь» сборника «Стихотворения Евгения Баратынского», изданного Н. Полевым в Москве в 1827 г. Как раз на протяжении 1826–1827 гг. происходит личное знакомство Мицкевича и Баратынского и укрепляются их литературные контакты; они видятся в Москве — у Полевых, в салоне Зинаиды Волконской. Стихи Баратынского 1828 г. «Не подражай: своеобразен гений…», вызванные появлением «Конрада Валленрода», очень выразительное свидетельство того пиетета, с которым русский поэт относился к творчеству Мицкевича. Материалы, опубликованные в последнее время Ю. Малишевским, расширяют уже известную нам картину и дополняют ее новыми данными; из них следует, что личность и поэзия Баратынского также были предметом особого внимания в ближайшем литературном кругу Мицкевича[1308].
Мы можем поэтому предполагать с большой степенью вероятности, что Мицкевич был в курсе затянувшейся истории издания «Стихотворений Евгения Баратынского» и, скорее всего, получил его в подарок сразу по выходе. Уже при беглом просмотре он мог убедиться, что художественный мотив северного, финского водопада, низвергающегося с гранитных скал, принадлежит к числу сквозных автобиографических мотивов сборника, представляя собой вариант доминирующей пейзажной картины. Ср. в элегии «Финляндия», открывающей сборник:
В свои расселины вы приняли певца. Граниты финские, граниты вековые, Земли ледяного венца Богатыри сторожевые. (с. 5)Любопытная вариация этой элегии — у Бестужева-Марлинского («Финляндия», 1829), с той же темой «водопада»:
Я видел вас, граниты вековые, Финляндии угрюмое чело… Там силой вод пробитые громады Задвинули порогом пенный ад, И в бездну их крутятся водопады, Гремучие, как воющий набат; Им вторит гул, жилец пещеры дальней, Как тяжкий млат по адской наковальне.Далее Бестужев вводит тему «наводнения»:
Я видел вас! Бушующее море Вздымалося в губительный потоп И, мощное, в неодолимом споре, Дробилося о крепость ваших стоп…Было бы соблазнительно усмотреть отзвуки этого стихотворения в «Олешкевиче», где есть некоторые совпадающие детали (например, тема ударов молота, сопровождающих наводнение), — но оно было напечатано в «Сыне отечества» анонимно уже после отъезда Мицкевича из Петербурга[1309]. Мы не знаем, попало ли оно в поле зрения Мицкевича и получил ли он сведения об авторе, о котором вспоминал уже за границей в стихотворении «Русским друзьям». Интересующий же нас образ мог быть и вариацией строк державинского «Водопада»:
Стук слышен млатов по ветрам, Визг пил и стон мехов подъемных.Вернемся, однако, к сборнику Баратынского. Второе стихотворение в нем — «Водопад» — продолжает «финскую тему»:
Шуми, шуми, с крутой вершины, Не умолкай, поток седой!.. Как очарованный, стою Над дымной бездною твоею… (с. 7)Существенно, что все эти стихи имплицируют тему преследования и изгнанничества, которая наполнялась для Мицкевича, знавшего биографию Баратынского, совершенно конкретным содержанием. Ассоциация с «тиранией» возникала естественно.
В «Буре» (заканчивающей первую книгу «Элегий») Баратынский намечает тему бунта волн.
Вторая книга завершается «Отъездом», где мотив изгнанничества дан экс-плиционно и вновь наложен на пейзажную картину с упоминанием водопада:
В воображеньи край изгнанья Последует за мной: И камней мшистые громады, И вид полей нагих, И вековые водопады, И шум yгрюмый их! (с. 28)Раздел «Смесь» вновь возвращает читателя к теме Финляндии и изгнанничества. Он открывается «Посланием к барону Дельвигу»:
И вкруг меня скалы суровы, И воды чуждые шумят у ног моих, И на ногах моих оковы. (с. 46)Все эти стихи для внимательного читателя сборника составляли своего рода контекст с обширным кругом внутритекстовых и внетекстовых ассоциаций, в котором читалась образная система интересующей нас «Надписи», уже не наполненной прямым автобиографическим смыслом[1310]. Заметим, что образ оледеневшего водопада в литературном кругу Баратынского возник задолго до его «финских» стихов. Так, в стихотворении Дельвига «К Лилете (зимой)», относящемся, видимо, еще к периоду Лицея и неизданном, неизвестном Мицкевичу, но несомненно известном Баратынскому, читаем:
Грустный, стою над рекой, смотрю на угрюмую сосну, Вслушиваюсь в водопад; но он во льдинах висит, Грозной зимой пригвожденный к диким безмолвным гранитам…[1311]В «Надписи» («Взгляни на лик холодный сей…») образ получил новое семантическое наполнение. В стихах Мицкевича он реципировал целый круг новых ассоциативных значений и превратился в символическое или, скорее, аллегорическое обозначение того комплекса образов и идей, которые организовали художественное целое «русских сцен» — III части «Дзядов»[1312]. Он включился в центральную художественную тему «зимы», предстающую в разнообразных модификациях: снег, сплошь покрывший мертвые равнины («Дорога в Россию»), лед, сковавший реку («Олешкевич»), и т. д. Семантика образа корреспондирует с заключительным пророчеством в «Олешкевиче», о котором мы мельком упомянули выше: «Я слышу — там! вихри уже подняли головы Из полярных льдов, словно морские чудовища, Уже сделали себе крылья из грозовых туч, Воссели на волны, сняли их оковы; я слышу! уже морская пучина разнуздана, Брыкается и грызет ледяные удила, уже поднимает влажную шею до облаков; Уже… Еще одна, [только] одна сдерживает [ее] цепь; скоро ее раскуют, — я слышу удары молотов…» (ст. 133–141). Здесь имплицирована художественная тема освобождающегося коня; эксплицитно дана тема освобождающейся стихии. В концовке «Памятника Петра Великого» — обратные отношения: остановленный конь и остановленный поток; то и иное — искусственно, и пророчество Олешкевича, намечающее грядущую катастрофу, которая ждет скованную деспотизмом Россию, в конечном счете заложено и в «Памятнике…», только здесь освобождение должна принести не стихия, а западный ветер (также аллегория!), несущий «тепло свободы». Политическая концепция (неприемлемая ни для Пушкина, ни для Баратынского) здесь очевидна; менее очевидна, хотя также несомненна контрастная игра динамическими и статическими образами, создающими оппозицию: зима, мороз, лед — угнетение, деспотизм, омертвляющее, статическое начало; с другой стороны, волны, ветер, солнце — свобода, революция, динамика, стремление, жизнь. Скованный льдом водопад в этой системе поэтических понятий приобретает особую выразительность: здесь воедино слиты статика и динамика, потенциальное стремление и реальное омертвление, причем сиюминутная реальность чревата надеждой на освобождение. Любопытно, что на ином уровне поэтического обобщения эта система поэтических представлений будет воспринята и Пушкиным, хотя и с иной семантикой, — достаточно напомнить известную работу Р. Якобсона, где мотив «оживающей статуи», в частности в «Медном всаднике», исследован с точки зрения оппозиций динамики и статики[1313].
Что же касается образа, непосредственно восходящего к стихам Баратынского, то он был замечен русскими поэтами и существовал в литературном сознании довольно долго. Его вариацию мы находим, например, в письме Лермонтова С. А. Бахметевой, написанном из Петербурга в августе 1832 г.: «И пришла буря, и прошла буря; и океан замерз, но замерз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но на самом деле мертвее, чем когда-нибудь»[1314]. В этом письме — прямая парафраза известной уже нам строки Баратынского «храня движенья вид», отнесенная к другому в генетическом и функциональном отношении образу, о котором нам также пришлось уже упоминать. В историко-стилистическом смысле эта перекличка Лермонтова и Мицкевича любопытна, в частности потому, что не стоит одиноко: исследователями уже отмечались случаи творческих соприкосновений поэтов, отправлявшихся от общих литературных источников[1315].
Будем работать в стол — благо, опыта не занимать[1316]
С ведущим научным сотрудником Пушкинского Дома беседует Наталья Иванова-Гладильщикова
— Вадим Эразмович, сейчас возникла парадоксальная ситуация: все как будто разрешено, в том числе и в сфере интеллектуальной, а книгоиздание замирает (или вымирает?), филология шагнула назад, в допечатную эпоху. В вашей совместной с М. И. Гиллельсоном книге «Сквозь „умственные плотины“» шла речь о преградах, которые ставились на путях просвещения, но его не сокрушили. Сейчас плотины сметены, ничто не мешает, а мы, похоже, сели на мель…
— Это требует особого размышления. Даже вопрос о цензуре не столь уж прост. Пушкин, всю жизнь страдавший от цензуры, в то же время говорил о невозможности и недопустимости абсолютной свободы печати, потому что необходимо пресекать диффамацию, клевету, порнографию, распространение заведомо антисоциальных слухов, — печатный станок сильнее артиллерийского снаряда. Здесь приходится вспомнить ядовитое замечание Марка Твена: до сих пор все думают о том, чтобы оградить свободу печати, а неплохо было бы подумать о том, чтобы оградить…
— …свободу от печати?
— Безусловно. Это вопрос о допустимых пределах любой власти, будь то законодательная, исполнительная, судебная или власть четвертая — власть печати. Требуется некоторое их равновесие, в противном случае страдает свобода. Попытки подчинить печать государственному диктату не могут не вызвать протеста, но, к сожалению, и в печати дезинформация, бьющая в глаза необъективность стали едва ли не нормой.
Кстати, свобода печати сама по себе еще недостаточна ни для стимулирования культуры, ни даже для свободы мнений. Тут нужен определенный уровень цивилизованности общества. Сегодня же появляются кастовые, групповые органы печати, с сектантской нетерпимостью исключающие всякую свободу мнений. В таких условиях в периоды резкой поляризации общества обычно растет потребность в изданиях, где высказывались бы люди, не принадлежащие ни к какой группе. Чаще всего именно они являются носителями культуры.
Есть и другая сторона вопроса. Дух демократизма создает предпосылки для развития культуры, но самое культуру он создать не может: она живет по своим имманентным законам. Мы знаем периоды культурного расцвета при авторитарных и даже деспотических режимах. Пушкинская эпоха в России вовсе не была отмечена торжеством демократии. Бывают и парадоксальные явления. У нас в период сильного внешнего давления на литературу создались культурные кружки с очень большим полем интеллектуального напряжения. Под воздействием извне они обнаруживали свои скрытые силы. Как только давление упало, в разреженном воздухе они уже не смогли работать. Наша литература всегда была социально ориентированной, она брала на себя функции социологии, философии, политики и религии. Сейчас литературе понадобились свои, только ей присущие ориентиры. Эстетические критерии выходят на первый план. Литературе предстоят суровые испытания: она держит теперь экзамен на то, чтобы называться литературой. Так, между прочим, было у нас в последние десятилетия прошлого века в поэзии. А с наступлением Серебряного века публицистике, эстетической и религиозной проповеди, даже самой благородной по намерениям, уже стало невозможно притворяться поэзией: критика, наиболее просвещенная часть читателей сразу же распознавали мундир чужого ведомства. Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Владислав Ходасевич, Ахматова, Мандельштам, да чаще всего и Блок осмысляли мир в специфически поэтических категориях. Ходасевич, скажем, мог писать стихи о русском ямбе как об отдельной, особой и самодостаточной проблеме. Литературе нужна обостренная аналитическая мысль, ей недостаточно стать на чью-либо сторону, ей необходимо выработать собственный голос и погрузиться в тот культурный пласт, из которого она может выбрать все, что ей нужно, и — создавать ценности даже в «башне из слоновой кости».
— Тут бы самое время филологам сосредоточиться на филологии. Но ситуация катастрофическая: книги по истории литературы, ее теории просто не выходят. А то, что появляется в провинции, — остатки прежней роскоши.
— Будучи недавно в Москве, я увидел, что в крупнейшем книжном магазине отдел литературоведения просто ликвидирован. Это результат отсутствия культурной политики. Любое уважающее себя общество в период катаклизмов берет культуру под защиту. У меня на полке стоит 3-й том полного собрания сочинений Жуковского, изданного в 1918 году. Заметим, что Жуковский не революционный поэт, а монархист, консерватор. На обороте титульного листа — разъяснение комиссариата народного просвещения за подписью П. И. Лебедева-Полянского: в период книжного голода, наступившего в стране, ни за какие деньги нельзя достать хорошую книгу; поэтому комиссариат, не дожидаясь окончания уже ведущейся работы по пересмотру текстов сочинений классиков (а из нее выросла почти вся наша текстология), приступает к изданию со старых матриц собрания сочинений Толстого (15 томов), Жуковского (3 тома), Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского (12 томов), Кольцова, Ключевского… Гражданская война, разруха, голод, бумаги нет. Разве у нас сейчас 18-й год? Простите, но транспорт ходит, голода пока нет, а приличная книга — редкость. Более того, в стране есть и бумага, работают типографии, которые тиражами 200–300 тысяч печатают тонны той вульгарщины, которой завалены книжные магазины и все лотки Москвы и Петербурга. Мне пришлось бывать в Америке. Такого рода книжонки не продаются в центральных магазинах, для них существуют толкучки и закоулки и еще специальные порномагазины.
— Недавно в «Независимой газете» появилась статья Андрея Немзера «Об издательских делах», где он пишет о необходимости твердой и продуманной политики в области культуры, о контроле государства над выполнением ГОСУДАРСТВЕННЫМИ издательствами своих планов. Иначе они начинают просто обслуживать рынок. А через несколько дней в «Аргументах и фактах» я читаю интервью Михаила Полторанина, который утверждает, что 4 тысячи независимых издательств России выпускают самую интересную литературу. А государственные издательства (интервьюер предлагает их чуть ли не распустить, как «слабые колхозы») в конкурентной борьбе должны определить свое будущее. Министр печати ратует за полное прекращение государственного контроля в издательском деле.
— Декларативно заявленное полное отсутствие культурной стратегии чрезвычайно опасно для судеб всего общества. Подобная точка зрения может быть завтра перенесена, скажем, на государственный Эрмитаж. Пусть конкурирует с частными фирмами, торгующими на улицах. Да Эрмитаж не может с ними конкурировать, он будет тут же скуплен за доллары теми, кому это нужно! Будущий историк возьмет «Книжное обозрение» и, посмотрев, что у нас выходило в разные годы, сделает один-единственный вывод: высшего расцвета книжное дело и литературные свободы достигли в 1991 году. С 1992 года произошел полный культурный распад, а читающая Россия в это время состояла из подростков с задержанным умственным развитием. Кто-то сведущий мог бы объяснить министру печати, что почти все выпускаемое сегодня — это книги не созданные, а перепечатанные, и очень часто на таком чудовищном уровне, на каком в эпоху застоя не позволяли себе работать районные газеты в глубинке. В Москве я собирался купить репринт Корана, но не сделал этого. Оказалось, что в тексте остались сноски на соответствующие страницы комментария, которого, однако, я не обнаружил. Чистой воды халтура.
— Видимо, необходимы значительные вливания в культуру, в книгоиздание в частности. Тут без дотаций не обойтись. Ведь культура и рынок — две вещи несовместные?
— Не о дотациях нужно говорить. Я еще не видел полного текста принятых Верховным Советом Основ законодательства о культуре. Будем надеяться на нечто более кардинальное. Давайте подумаем: разве, например, армия получает дотации? Нет, расходы на нее — в числе фундаментальных статей бюджета любого государства, иначе оно не сможет существовать. Тяжелая промышленность, транспорт, властные структуры — то, что обеспечивает жизнедеятельность государства — разве дотируются? Так вот культура — это тоже одно из необходимых условий существования общества. Конечно, на все можно закрыть глаза и даже на это. Но тогда через несколько лет у нас будет оруэлловское общество на демократической основе. Культурная сфера формирует личность с ее ценностными ориента-циями, в том числе мировоззренческими и социальными. Она приучает человека размышлять. Рыночная же культура, лежащая на лотках, приучает потреблять. Она формирует общество пассивное и невыбирающее, культурно-гомогенное, которое является мечтой любого тоталитарного государства. А как вы думаете, за кого проголосует это общество на очередных выборах? За того, кто подносит ему самые примитивные, биологически понятные лозунги. Демократия подпишет собственный смертный приговор, и очень скоро, в ближайшие 10–15 лет. Более того, возможность ее возрождения исчезнет надолго.
Сейчас многие говорят о гибели культуры. Но ведь культура-то не погибнет. Не ее жаль. Государства погибали, а культуры воскрешались, потому что это самое прочное, что есть в человеческой цивилизации. Так было с культурой уничтоженного Древнего Рима, когда на века она замерла, а потом воскресла и стала выдвигаться как основная эстетическая и интеллектуальная ценность. Так вот: жаль не культуру, а жаль те поколения, которым придется ее для себя открывать заново. Но именно эти поколения и произнесут свой суд над нашим обществом и над нашим временем. Этот суд будет куда строже того, которым мы судим недавнее 70-летнее прошлое. Он будет жестче еще и потому, что генерация новых политиков взяла на себя тяжелую историческую миссию сделать шаги вперед. Если окажется, что это шаги назад, можно догадаться, в каком пантеоне будут висеть их портреты.
Когда мы говорим о воздействии на человека огромного культурного слоя, крайне важно сказать, что он помогает выработать аналитичность мышления, способность анализировать не только прошлое, но и настоящее. Человечество аккумулирует исторический опыт и его осмысляет. Когда оно перестает его осмыслять, оно падает в бездну варварства. Об этом — мудрый фильм-притча A. Рехвиашвили «Путь домой». Рассеянный после битв и исторических испытаний народ возвращается домой. У него есть шанс вернуться до тех пор, пока жив хоть один человек, способный прочесть книгу. Книгу его вождей. Последняя сцена удивительна: книга попадает в руки к очередному вождю, и он держит ее вверх ногами. Читать он уже не умеет.
Хочется вспомнить об идее покаяния, о которой говорили Д. С. Лихачев и другие. Она имеет отнюдь не религиозный смысл. Покаяние — это умение проанализировать самого себя, умение понять свою историческую правоту и неправоту. До тех пор, пока мы этого не осознаем, пути домой у нас не будет. Но я, пожалуй, не стал бы бездумно повторять знаменитую сейчас формулу: зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? А зачем нужна дорога, если она ведет только к храму? Нужны дороги, которые ведут и к храму, и не к храму, чтобы человек сознательно выбирал себе любую. В свое время я равнодушно проходил мимо книжных витрин, наполненных атеистической литературой. На каждой книжке было написано: «Есть ли бог?». И не было ни одного шанса, чтобы хоть в одной из них был положительный ответ. Поэтому и покупать их не хотелось.
Теперь же, проходя мимо тех же витрин с книгами «Есть ли Бог?», я знаю, что ответ будет заведомо положительным. И мне это точно так же не интересно. Интересно почувствовать напряжение мысли человека, который доказывает, а не подтверждает цитатами заранее известные ему тезисы. В этом разница между культурой и некультурой, мыслью и безмыслием и между цивилизованным обществом и варварским.
— Между демократическим и тоталитарным?
— Несомненно. Любое общество, которое хочет ввести единомыслие, — варварское. И тоталитаризм бывает демократическим, а бывает авторитарным. Но я не хочу ни того, ни другого.
— Когда вы говорили о томах Жуковского, выходивших в голодном 1918 году, я вспомнила и об устных формах общения филологов, литераторов, существовавших в те времена, когда печатный станок работал ограниченно, — о Московском, а потом Пражском лингвистическом кружке, о рукописных окнах РОСТА.
— Формы эти есть и сейчас. Недавно я вернулся из подмосковного Остафьева, где выступал на конференции, приуроченной к 200-летию со дня рождения Вяземского. Ранее там же и в Москве прошла конференция, посвященная юбилею Карамзина. По ее материалам было подготовлено несколько сборников — это редчайшие неизданные материалы, в том числе и добытые за рубежом. Так вот, они не выйдут.
— Тем не менее ученые, выступавшие там, находят себе аудиторию — узкий круг заинтересованных слушателей. А как быть студентам-филологам, которые теперь лишены возможности прийти в библиотеку и взять сборник докладов, сделанных на этих конференциях?
— Пожалуй, сегодня возможности студента все это изучать ничтожны. Слава Богу, что до 1991 года культура развивалась по восходящей и что библиотеки пока еще не освобождены от государственного надзора! Хотя, кто знает, может быть, скоро им предложат выставить на улицу лотки с книгами и конкурировать с уличными торговцами на общих основаниях.
Итак, студент не найдет в библиотеке остафьевского сборника, а среди докладчиков на конференции были блестящие молодые филологи, наши самые квалифицированные специалисты по первой половине XIX века. Многие из них — авторы еще одной не увидевшей свет книги: «Арзамас». Это подготовленный на великолепном уровне весь комплекс документов, связанных с целой эпохой, формировавшей Пушкина. Книга делалась как осуществление литературного завещания Гиллельсона; она была набрана, подписана в печать в издательстве «Художественная литература». И дело на этом кончилось.
Посмотрим, может быть, что-нибудь удастся издать, привлекая заинтересованных филологов Запада. Но ведь все это — наша культура, книги делались в России и для России. К нашему национальному стыду, сами мы уже не имеем возможности поддерживать свою культуру — то единственное, что мы можем представить на Западе в качестве самостоятельной ценности.
— Кстати, о Западе, точнее — ближнем зарубежье… Как вы оцениваете позицию Российской академии наук, отказавшейся рассматривать кандидатуру Ю. М. Лотмана для избрания его в свои члены, объясняя это тем, что он житель Эстонии? Хотя после прекращения деятельности союзной академии все академики, проживавшие в бывших республиках, автоматически стали членами Российской академии.
— 170 лет назад Александр Тургенев сказал о Российской академии: вот вся история и приговор нашей академии — Карамзин не был ее членом.
— Какую опасность для нас представляет обрыв культурных связей, существовавших в СССР?
— Когда я слышу торжествующие крики о падении империи, то всегда задаю себе один вопрос: кто это говорит — Ганди, поднимающий флаг независимой Индии, или вандал на развалинах Рима? Боюсь, что голос вандала слышнее. Что такое человек, потерявший империю? Ведь он был немножко рабом и немножко императором. Не знаю, перестал ли он быть рабом, но императором — перестал. Именно это лежит в основе ностальгии по империи. А еще — ощущение общего культурного пространства, разрезать которое решительно невозможно. Выбросьте из русской культуры Грузию и горские народы, и вы лишитесь шедевров Лермонтова и Льва Толстого. Повесть «Хаджи-Мурат» — одна из самых высоких вершин русской классики — не могла быть создана, если бы русский писатель не проник с любовью и уважением в психологию, казалось бы, чужого ему народа. А выбросьте русскую культуру из грузинской — и лишитесь Ильи Чавчавадзе и Николоза Бараташвили. Я прекрасно помню овации, которые устраивались грузинскому театру в Москве и Ленинграде, помню очереди в кинотеатрах на грузинские фильмы, поразившие нас тогда. Русская аудитория всегда была самой благодарной для восприятия других культур. Как нас тянуло в Прибалтику, как не хотелось уходить из литовского леса (именно потому, что он был не похож на наш). Вам не приходилось бывать в Самарканде? Это было одно из самых сильных эстетических потрясений, какие мне пришлось испытать. Для русских Самарканд — воплощение Востока. Причем в совершенно специфической, неповторимой форме — среднеазиатского Востока. Это неотъемлемая часть нашего культурного сознания, но ведь и Средняя Азия знает, что мы, может быть, лучшие ее ценители. Ибо на фоне Мекки Самарканд померкнет. А у нас другой Мекки нет.
Мне кажется, если создать специальную газету, которая собирала бы культурные ценности бывшего Союза, она будет с сочувствием принята в любом из этих регионов. Газета просветительского толка, восстанавливающая органически сложившееся культурное пространство; не только для узкого круга ценителей, а для всех, живущих в ближнем зарубежье, практически неотделимом от нас.
— Но которое может быть отделено волевым усилием?
— Волевым усилием можно отделить даже русскую провинцию. Но от этого связи все равно не разорвутся. Кстати, если откуда-то и придет культурное восстановление, то не в последнюю очередь из нашей провинции. Здесь еще осталось уважительное отношение к своим святыням. Это не маргинальная психология. Будучи недавно в Тарханах, я имел случай в этом убедиться. Лермонтовский музей — предмет гордости. Это — свое. И уж тут не будут ломать деревья, как в Подмосковье.
— Вадим Эразмович, когда полгода назад я позвонила вам и просила ответить на вопросы нашего «Филологического корпуса»: над чем вы работаете и что читаете? — вы сказали, что работаете исключительно над академическим собранием Пушкина. Как бы вы ответили сегодня?
— И сегодня продолжаю эту работу. Выпускаем первый пробный типовой том — лицейская лирика с заново проверенными текстами, переработанным комментарием, с приложением старой, но не утратившей своего значения работы Цявловского. Книга должна выйти в будущем году, потому что на нее получены специальные субсидии. Что будет дальше — трудно сказать. Вообще этот год «знаменательный»: не вышло ни одной книги Пушкина. Хотя нет — «Тень Баркова»! Ну, а что будет в подлинно знаменательном 1999 году — можно только гадать. Но Пушкинский Дом работает.
Лично у меня в издательствах лежит более 50 печатных листов подготовленных и написанных текстов, но никакой надежды на их выход нет.
Продолжается работа с «Российской энциклопедией» над Словарем русских писателей XIX века. Это грандиозное издание. Первый том уже вышел, второй набран, а третий ушел в типографию. Первый том, увидевший свет несколько лет, назад готовился еще во времена Брежнева, но без малейшей конъюнктуры. Поэтому у него практически не было шансов на издание — том включил статьи обо всех писателях-эмигрантах первого поколения. Тем не менее авторы (и известные уже ученые, и совсем юные тогда филологи, едва со студенческой скамьи, и подлинные подвижники — коллектив редакции литературы и языка, и редколлегия, куда вхожу и я) работали так, словно дело шло об обычном издании. Нужно сказать, что нас тогда очень поддержал назначенный главным редактором словаря П. А. Николаев. И когда цензурные барьеры пали, нам не пришлось переделывать книгу. Этим мы вправе гордиться.
А что я читаю? В основном то, что необходимо для моей работы. И только уехав на 10 дней в Тарханы, имел редкую возможность читать для собственного удовольствия. Наслаждался ранее мне не известным Гайто Газдановым. Пожалуй, такой прозы я не читал уже много лет.
— И все-таки как работать, когда книги не выходят?
— Не знаю… Книга имеет духовную ипостась и ипостась материальную. Что касается духовной, интеллектуальной, то она не пропадет. Литература сделалась рукописной, как говорил Пушкин, в период цензурного террора. Ну, может быть, мы дождемся того уровня цивилизации, при котором это будет востребовано. Сейчас же, видимо, нужно продолжать работать в меру наших способностей.
— Работа в стол?
— Конечно. Продолжать работать в стол, как это привычно было российскому обществу. Благо, тут не занимать опыта. Ну, а там видно будет.
М. Горбачев как феномен культуры[1317]
«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно»[1318].
Это — цитата из выступления председателя Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова на пресс-конференции в Дели, которую мы приводим по газетному отчету. Ее подчеркнуто полемическая форма, может быть, рассчитанная на эпатирование собравшихся журналистов, обнажает те содержательные элементы, которые постепенно становятся общим местом в статьях о бывшем президенте Союза: представитель правящей партийной верхушки начал реформы, побуждаемый необходимостью сохранить основы «системы», мощные социальные силы, приведенные им в движение, вырвались из-под контроля и оттеснили, а затем и вытолкнули нерешительных, колеблющихся сторонников косметических полуреформ. Так начался новый этап уже демократической революции, приведшей к падению «системы», закономерному распаду коммунистической «империи» и появлению новых, подлинно демократических лидеров.
С теми или иными вариациями эта схема прослеживается и в специальных социологических (в том числе и зарубежных) статьях, и в массовой пропаганде в периодической печати. В нее очень удобно вписываются фигура Михаила Горбачева и конкретные имена политиков, занимающих сейчас верхушку социальной пирамиды.
Концептуальная основа этой схемы совершенно прозрачна: это официально утверждавшаяся в 1930–1970 годы философия общественного развития, заимствованная новыми идеологами почти без изменений. Когда-то Энгельс упрекал Гегеля в том, что его система ограничила его диалектику: завершением саморазвития абсолютного духа оказалось современное Гегелю немецкое государство и его, Гегеля, философия. Между тем именно это противоречие определило характер идеологизированных исторических концепций, о которых идет речь, в том числе, кстати, и концепцию «Краткого курса истории ВКП(б)». Эволюция общества рассматривалась как линейный прогресс, доминирующим началом которого является революционное движение, также идущее по восходящей линии. Отсюда и своеобразный исторический фатализм, очень удобный для пропагандистских целей: вся предшествующая социальная и культурная история имела значение лишь как предыстория и обоснование исторической легитимности правящих социальных групп; в прошлом искали то, что с неизбежностью подготавливало их приход к власти. Отсюда требование «классового подхода» как основного критерия оценки прошлого: в нем актуализируются лишь те идеи или события, которые соответствуют идеологии правящей группы; остальное отбрасывается или переинтерпретируется в желаемом направлении. Примеры общеизвестны; в официальной русской культурной истории долгое время обходились без Карамзина, Достоевского, религиозной и консервативной философии XIX–XX столетий, «серебряного века»… Что же касается «неканонических» исторических личностей, то их культурное и социальное поведение представало как история ошибок, то преодолеваемых, то усугубляемых, а эволюция — как постепенное отставание от прогрессивных идей времени. Такова концепция эволюции Плеханова в «Кратком курсе…»: на II съезде РСДРП он «шел вместе с Лениным»; затем «дал меньшевикам запугать себя угрозой раскола. Он решил во что бы то ни стало „помириться“ с меньшевиками. К меньшевикам Плеханова тянул груз его прежних оппортунистических ошибок. Из примиренца к оппортунистам-меньшевикам Плеханов вскоре сам стал меньшевиком»[1319]. Здесь лишь нужно заменить «меньшевиков» на «партократов» и «Плеханова» на «Горбачева», чтобы получить широко пропагандируемую концепцию деятельности последнего.
Между тем здесь неверна самая модель.
* * *
Попытаемся наметить иную систему взаимоотношений, — также неизбежно грубую и ограниченную, но небесполезную в методическом отношении. Исходной точкой отсчета здесь будет не личность, а общество. В оценке деятельности личности принято почему-то исходить из презумпции правоты общественного суда как выражения «мнения народного» (в ранней русской историографии, например, у Карамзина, «народным мнением» иногда даже верифицировались исторические источники). Между тем «народное мнение» устанавливается не сразу и отнюдь не всегда тождественно мнению конкретного, исторически локального общества. В оценке крупных деятелей это последнее почти всегда ошибается, ибо не может сразу принять экстраординарное явление, порывающее с обыденным сознанием. В этом смысле степень популярности очень часто обратно пропорциональна исторической и культурной значительности; популизм же всегда апеллирует именно к массовому сознанию. В истории культуры, в том числе и русской культуры, примеры тому весьма многочисленны; достаточно вспомнить резкое падение популярности позднего Пушкина. Пушкин же дал поэтическое (и вместе социально-психологическое) осмысление разительного факта этого рода: трагической судьбы Барклая де Толли, чей спасительный военный план был осужден обществом как «измена»:
«Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шел один ты с мыслию великой, И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою»[1320].
Для Пушкина этот факт был показателем низкого уровня культурного самосознания современного общества, о чем он писал неоднократно, — подробнее всего в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «…Наша общественная жизнь — грустная вещь»; в ней царит «равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине», «циничное презрение к человеческой мысли и достоинству»[1321]. Именно этот взгляд на общество в целом приводил его к убеждению, что в России «правительство всегда… впереди на поприще образованности и просвещения» и что «народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно»[1322].
Он сделал попытку описать феномен «полупросвещения», которым, по его мысли, страдает и значительная часть образованного общества. «Невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему…»[1323].
Тридцатью годами позднее, в середине шестидесятых годов, в эпоху значительно большей демократизации общества, с бесконечно возросшей ролью общественного мнения, Некрасов с беспощадностью обрушивался на массовое, уже политизированное, сознание. «У нас неуважение к уму Сильней неуважения к закону» — записывает он в черновых набросках «Медвежьей охоты», — а в тексте вкладывает в уста представителю культурной генерации «сороковых годов» целую инвективу против «русского общественного мненья», отмечая в нем прежде всего коллективную агрессивность («на нем предательства печать И непонятного злорадства»). С «преданиями рабства» связывал он практику единодушных апофеозов победителей и столь же единодушных осуждений «неудач», которые в его изображении предстают почти как проявления стадного инстинкта:
«Сперва — сторонников полки, Восторг почти России целой, Потом — усталость; наконец Все настороже, все в тревоге, И покидается боец Почти один на полдороге…»
Его изображение «постыдных оргий» преследования играет памфлетными красками: общество «сторожит неудачу» с каким-то «зловещим тактом» и находит удовольствие самоутверждения в коллективных «облавах»:
«Как мы вертим хвостом лукаво, Как мы уходим величаво В скорлупку пошлости своей! Как негодуем, как клевещем, Как ретроградам рукоплещем, Как выдаем своих друзей! Какие слышатся аккорды в постыдной оргии тогда» и т. д.[1324]
Эти примеры выбраны почти наудачу, из разных эпох эволюции общественной психологии русского девятнадцатого века. Свидетельства подобного рода можно умножить во много раз, пока не создастся целостная картина русского общества глазами лучших его представителей. При этом было бы непростительной наивностью полагать, что все эти негативные стороны свойственны только русскому массовому сознанию. Знаменитая книга Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», вышедшая в 1929 году и глубоко поразившая европейскую мысль, описывала сущностные черты европейца XX столетия почти в тех же категориях. Дон Ортега писал о «человеке-массе», вкладывая в это понятие не столько социальный, сколько культурологический смысл; он анализировал самый феномен «массового сознания» — не производящего, а воспроизводящего заимствованные мыслительные стереотипы, нетерпимого к чужому мнению, агрессивного и претендующего на абсолютную истину и на всеобщее господство. Продукт цивилизации, «человек-масса» был, согласно Ортеге, носителем современного варварства. Философа обвиняли в аристократическом высокомерии, — но здесь было или лукавство, или непонимание, ибо он имел в виду не сельского или городского труженика, а политика и идеолога, навязывающего всему обществу нормы своего мышления и поведения. В большевизме и фашизме он видел крайние полюсы активности «человека-массы», подчинившего себе весь европейский мир.
Мы можем теперь вернуться к исходному пункту наших рассуждений и произвести мыслительный эксперимент, представив себе историческое лицо в этой среде, в ее системе ценностей, с ее критериями нравственных, исторических, культурологических оценок. Чем значительнее это лицо, тем естественнее ждать его отторжения в силу своего рода социальной ксенофобии, присущей описанному сознанию. Отторжение будет проходить, по-видимому, в весьма агрессивных формах, предполагающих как вариант полное отрицание за критикуемым каких-либо заслуг. Исторические обоснования критики будут скорее всего опираться на концепции линейного прогресса, ибо основной точкой отсчета для «человека-массы» является он сам, — и потому он непоколебимо убежден в «прогрессивности» именно тех сил, которые вывели его на социальный верх.
Иными словами, он почти неизбежно продуцирует ту самую концепцию, которая сейчас является наиболее распространенным объяснением политической судьбы Горбачева.
* * *
«Массовое сознание», как его определяли Ортега-и-Гассет и русские наблюдатели от Чаадаева до Чернышевского и далее, есть, конечно, абстракция, пользоваться которой можно только в ограниченных пределах. Тем не менее без учета его нельзя понять социальных репутаций культурных и общественных деятелей; репутации же эти далеко не всегда тождественны их объективной исторической роли. Здесь возникает неизбежно и проблема культурных генераций, каждая из которых вырабатывает и свои варианты индивидуального поведения, и свои типы их общественного осмысления. Феномен взаимного непонимания поколений был с позиций просветительского сознания описан еще Грибоедовым в «Горе от ума»; в шестидесятые годы XIX века он предстал социальным наблюдателям как взаимоотношения «отцов и детей». Историческое сознание, утверждая свои принципы, все более подвергало ревизии просветительскую метафизическую оценочность и дидактизм, заставляя признать, что мировоззрение «отцов» не есть отклонение от естественных норм существования общества, как иной раз склонны считать «дети», — но некоторая внутренне целостная система, способная вызвать у потомков нечто вроде ностальгического чувства. Так, М. О. Гершензон, историк и философ, полностью принадлежавший эпохе «философского Ренессанса» начала XX века, заканчивал свой блестящий этюд о «грибоедовской Москве» сравнением «века нынешнего и века минувшего», находя неожиданно в последнем и некие утраченные потом позитивные черты.
Это рефлектирующее культурное сознание всегда таило в себе источник скрытой, а иногда и явной оппозиции тоталитарным и абсолютистским формам правления, и потому при абсолютных монархиях и диктатурах власть предпочитала опираться именно на массовое сознание, поощряя и пропагандируя официозные сочинения «для народа». Осознанной государственной культурной политикой воспитание массового сознания стало у нас в эпоху Сталина.
Апогея этот процесс достиг после войны, в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Смысл идеологических кампаний против писателей, ученых, деятелей искусства заключался в уничтожении культурной элиты — потенциального источника инакомыслия — и замене ее «человеком-массой». Власти нужно было культурно-гомогенное общество, мыслящее заданными стереотипами. Искусство, наука должны были утратить свою герметичность и стать «понятными народу». Создалась целая генерация писателей, ученых и художников, производивших суррогаты для массового потребления. «Лысенковщина» была лишь одним, хотя, может быть, самым ярким эпизодом этого процесса, носившего тотальный характер.
Последствия его были для культуры не менее губительны, чем прямое физическое уничтожение ее деятелей. Суррогаты по цепной реакции в свою очередь порождали суррогаты же, ибо ничего иного они произвести не могли. Самая шкала интеллектуальных ценностей менялась, и менялся способ, механизм художественного и научного мышления.
Характерной чертой нового механизма было мышление полярными противоположностями, в том числе и проверенными стереотипами, слегка подновленными: «свои» — «чужие». «Кто не с нами, тот против нас». Вся культура, наука, политика разделяется на два «лагеря», «фронта»; демаркационная линия режет надвое все многообразие явлений между полюсами. Возникают формулы «сакральные» и «профанные». Сакральные — «народ», «прогресс», «демократия», «социализм», «партийность». Эти формулы не анализируются: они нерасчленимы. За ними закреплен эмоционально-ценностный ореол, почти поглощающий их реальный смысл. Профанные формулы — «буржуазный», «реакционный», «безыдейный» (формула совершенно бессмысленна, если не учитывать, что под «идеей» понимается только идея, официально признанная, — и отсутствие таковой есть основание к общественному осуждению: отсюда не только охранительный, но и «рекомендательный», побудительный характер «руководства искусством»). Сакральная формула высшего порядка — «политика». Слова «политическая ошибка» — преддверие идеологических репрессий. «Политика» доминирует в сознании и не имеет себе альтернатив. «Социология» — вредная ересь, предполагающая, что общество живет по своим законам, отличным от тех, что предписаны политикой.
Естественно, что такое сознание — изначала метафизично. Законы диалектики изучаются («диалектика» входит в число сакральных формул), но применение их в мыслительной практике явно нежелательно. «Догматика», напротив, — профанная формула, но она-то и определяет тип мышления, которое очень сродни религиозному сознанию. Так, студента пятидесятых годов могли исключить из учебного заведения, если он не изучил Маркса, но его и могли уволить с работы, если бы он вздумал в своей деятельности руководствоваться марксовой теорией стоимости.
Мы отнюдь не пишем памфлета, — мы пытаемся лишь обозначить, очень грубо и схематично, те черты мифологического сознания советского времени, которые были лишь вариантом «массовидного сознания», присущего и всему европейскому миру, о чем писал Ортега-и-Гассет.
В конкретном своем воплощении они принимали бесконечно более сложные формы, накладываясь на те черты общественного сознания, которые сложились органически на протяжении веков. Так, идея социального равенства, выразившаяся в многочисленных социалистических учениях (религиозных, утопических и т. д.), является реальностью общественного сознания; такой же реальностью являются исторически присущие определенным слоям русского общества (хотя бы в реликтовой форме) патриар-халистические и даже патерналистские черты, религиозное мироощущение — и с другой стороны, религиозный индифферентизм; традиционное уважение к армии как институту, персонификация власти, с которой иногда (например, в Отечественную войну) сложно связывалось чувство патриотизма и национального достоинства. «За Родину, за Сталина!» генетически связано со старым «За веру, царя и Отечество!» и очень часто становилось символической формулой вовсе не официозного содержания. Иными словами, официальное «воспитание масс» оказывалось в ряде случаев эффективным и устойчивым именно потому, что оно не отторгалось исторически сложившейся традицией, подобно тому как праздники языческого земледельческого календаря обеспечивали многовековую жизнь возникшим на их основе христианским праздникам.
И попытки его рационалистической критики, принимающей нередко предельно элементарные формы («хомо советикус»), потому очень напоминают бесплодные усилия «антирелигиозников» 1920-х годов уничтожить религию с позиций «здравого смысла». Общим для обоих подходов является и понятийный аппарат, и оценочно-дидактический подход к истории, в высшей степени характерный именно для массового сознания.
Это сознание стало претерпевать глубокие внутренние изменения уже в пятидесятые годы, когда началась сознательная деятельность М. С. Горбачева.
* * *
Михаил Сергеевич Горбачев принадлежит к поколению «шестидесятников». Официальная справка в словаре дает нам даты: родился в 1931 году, в 1955 окончил юридический факультет Московского университета, в 1952 году, двадцати одного года, вступил в партию. Пережившие это время помнят, какой удар нанесло оно по казалось бы устоявшимся официально утвержденным догматам: вначале истерически нагнетаемая кампания против «врагов народа», «сионистов», «убийц в белых халатах»; через несколько месяцев неожиданная смерть Сталина и падение Берии. Вчерашние убийцы оказались невинными жертвами; вчерашний незыблемый оплот государства — «врагом народа». Выступление Хрущева на XX съезде КПСС, реабилитация уцелевших узников ГУЛАГа, начало знаменитой «оттепели» бросало ретроспективный свет на целый исторический период, подводя общественное мнение к переоценке самых его идеологических, политических, правовых основ; как сказалось это на мировоззрении студента-юриста, которому предстояло стать политическим деятелем мирового масштаба, — об этом может знать только он сам, но мы вряд ли ошибемся, предполагая, что именно в начале пятидесятых годов нужно искать истоки его ментальности. «Шестидесятники» — люди потрясенного культурного сознания — открывали для себя диалектику исторических явлений и лиц, — ту диалектику, которую не вмещает массовая психология. Уже для оценки деятельности Хрущева оказывалось недостаточно оппозиции «черного» и «белого». Исторические противоречия представали наглядно как органический закон, распространявшийся на все явления без исключений; они откладывались в индивидуальном сознании как закон анализа и самоанализа. Во время беседы в редакции «Литературной газеты» в июле 1992 года М. С. Горбачев вспоминал, что его плану реформ предшествовало осмысление вместе с интеллигенцией «того мира, в котором мы оказались». «Это было общее познание и самопознание, хотя болезненное, трудное. Моя позиция была такая: попытаться в стране с многовековой историей провести реформы, не прибегая к насилию, не объявляя ни одной из сторон вражеской. Оппонирующей — да. Конкурирующей — на здоровье. Но не враждебной»[1325].
Эта цитата — своего рода символ веры демократического сознания, органически управляющего поведением. Для него не существует полярных противоположностей, — и этим определяется, между прочим, его отношение к своему прошлому. «Человек-масса» (не говорим сейчас о демагогах, умело им манипулирующих) либо не поступается ничем, либо отрекается от прошлого легко и безоглядно, ссылаясь на то, что был кем-то обманут. Он оперирует противопоставлениями; «Ленин — Николай II»: левая часть плюс, правая — минус, или напротив, левая минус, правая плюс. «Сакральные» и «профанные» формулы остаются, они просто меняются местами. Аналитическое мышление отрицает сам принцип формульности. Для Горбачева понятия «партия», «социализм» — не символические обобщения негативных сторон исторической жизни, а некие ее реалии, взятые в движении и исторической перспективе, в которой могло меняться самое содержание этих категорий. Для него невозможен поэтому примитивно оценочный подход к прошлому, — подход периода 1949–1950-х годов, который движет мышлением многих его оппонентов. Это и есть психологическая и интеллектуальная основа «центризма» — идеологии современного культурного сознания — и вовсе не случайно окружение Горбачева собрало самые значительные интеллектуальные силы страны, причем преимущественно гуманитарной ориентации.
Но такое сознание, изначала предполагающее неизбежную ограниченность любого общественного акта, неизбежно должно критически оценивать и самого себя, — и именно это мы видим в деятельности Горбачева. Никто мужественнее его не «признавал свои ошибки»; по некоторым его выступлениям можно предполагать, что он скептически относится к самой возможности безусловно правильных решений в политике. В разговоре с Г. Киссинджером в 1989 году он заметил: «Знать, что неправильно, относительно легко. Знать, что правильно, как оказалось, исключительно сложно»[1326]. «Правильное решение» — это оптимальный из нескольких возможных вариантов, наиболее вероятное решение задачи с несколькими неизвестными. Нет сомнения, что многое из того, что принято сейчас считать «ошибками», «непоследовательностью» Горбачева — это фантомы, попытки описать одно сознание в категориях другого, — именно в категориях традиционного «полярного» мышления. «Ошибки», конечно, у него были, — но скорее всего не там, где их обычно ищут; найти же их суждено, видимо, лишь будущему историку, если Бог пошлет нам таких.
Одна из особенностей этих мнимых ошибок — перенесение центра тяжести с политики на социологию и с непосредственного акта на его дальние последствия. Эта особенность присуща историческому мышлению, которое было рождено ревизией метафизической догматики. Так происходило в начале XIX века, когда Французская революция потрясла стройную систему просветительской философии, и «из равновесья диких сил» родилась диалектика и историзм романтического движения. Историческая концепция Карамзина учитывала закон движения и его результат, и уже ретроспективно оценивала самый акт. Современникам это казалось парадоксами: они не могли понять, почему историк не требует немедленного уничтожения крепостного права, которое сам же считает абсолютным злом, и доказывает органичность русской монархии, которую не считает абсолютным благом.
Учетом дальних последствий исторического события была продиктована позиция Горбачева в сложнейшем вопросе о единстве Союза. Но здесь важно восстановить канву событий, ибо последующие колебания политической атмосферы вызвали к жизни миф о Горбачеве как о виновнике распада Союза, — миф, созданный в расчете именно на массовое сознание и по его моделям и поддерживаемый политиками иной раз прямо противоположных ориентаций. «Я думаю, что выдающаяся роль Горбачева как раз и проявилась в развале Советского Союза» (Р. Хасбулатов)[1327]. «Горбачев попадет в историю так же, как Герострат. Человек, способствовавший развалу великого государства, способствовавший дестабилизации обстановки в мире…» (В. Алкснис)[1328]. Между тем как раз позиция Горбачева в ситуации, где мощные дезинтеграционные процессы почти уже не сдерживались слабыми тенденциями к интеграции, очень ярко высвечивает тот культурный тип поведения, который управлял его деятельностью и включал в себя нечто гораздо большее, чем политический прагматизм: в частности, как мы уже сказали, осознание дальних последствий политического акта.
* * *
«С самого начала перестройки, — писал М. С. Горбачев в послании участникам встречи в Алма-Ате по созданию Содружества Независимых Государств 18 декабря 1991 года, то есть уже тогда, когда „ново-огаревский процесс“ был разрушен — мы шаг за шагом шли к тому, чтобы все республики обрели полную независимость. Но я все время настаивал на том, что нельзя допустить распада страны. Таково было и есть мое понимание воли народов, выраженной на референдуме, — как их стремление к независимости при сохранении целостности исторического союза. Эта мысль и это беспокойство лежали к основе моей формулы о „Союзе Суверенных Государств“, которая первоначально встретила вашу поддержку». «Уверен, — писал он далее, — что у всех, кто не заражен национализмом и сепаратизмом, а это сотни миллионов, неизбежно возникнет чувство утраты „большой Родины“. А когда практически начнется процесс государственного, административного и прочего размежевания, определение условий гражданства, это затронет очень многих самым непосредственным образом — в быту, на производстве, в человеческих связях»[1329].
По газетам и журналам ближайших последующих месяцев можно было бы проследить, как этим прогнозам «массовое сознание» пыталось противопоставить представление о коммунистической империи — средоточии абсолютного зла. «Плач по империи» рассматривался как реликт «имперского мышления» или, в лучшем случае, как инертность сознания, не желающего считаться с историческими peaлиями, и приблизительно в том же освещении представала позиция Горбачева. Эволюция его образа от «носителя имперского сознания» до «разрушителя великого государства» — одна из поразительных метаморфоз социальной репутации, ставшая возможной именно потому, что его прогнозы стали подтверждаться очень скоро. Напомним, справедливости ради, что против распада Союза как экономической и культурной общности возражали многие политики и деятели культуры (такова с самого начала была, например, позиция А. А. Собчака), — те же из них, кто видел в нем историческую или политическую неизбежность, лично переживали его как драму. Об этом писал, в частности, А. Бовин[1330]. Очень показательно в этом отношении признание Г. Померанца, предрекавшего «распад империи» еще в 1970–1980-е годы: «…все же, когда империя развалилась, мне стало больно. Я спрашивал многих знакомых, что они чувствуют. Им тоже было больно, но они стеснялись об этом говорить. Как-то нелиберально. Я не стесняюсь… И не только за живых людей тревога. Больно за некоторое историческое существо, которого больше не будет, за империю как культуру»[1331].
Это отнюдь не «великороссийская» и не «великодержавная» точка зрения. В превосходном интервью Гранта Матевосяна («Всегда и вечно») она выражена почти с парадоксальной бескомпромиссностью: «Самая большая потеря — это потеря гражданином Армении статуса человека Империи. Потеря имперской, в лучшем смысле этого слова, поддержки и имперского начала, носителем коего всегда была Россия. Имперского человека мы потеряли. Высокого человека, великого человека, укрепленного человека… И я берусь утверждать, что армяне, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней, — это более высокие, более мужественные и, как это ни парадоксально, более свободные армяне, чем те, которых освободили ныне от „имперского ига“. Ведь это в 70-е годы прошлого века под крылом России вызрела и вновь состоялась армянская государственность. В армянской культуре появилась целая плеяда выдающихся людей. В прозе, в поэзии, в историографии, — всюду и везде, даже в политических партиях эти люди были. И так могло быть „всегда и вечно“… Поэтому повторю: самая большая потеря — это потеря нами гражданства Великой державы»[1332].
Социологические опросы в Москве констатируют «усиливающуюся ностальгию по СССР». Сегодня 69 процентов москвичей сожалеют о распаде Союза[1333].
Политики, вовсе не принадлежавшие к числу сторонников Горбачева, анализируя эту ситуацию, иногда ссылаются на неоднократно выраженное им мнение. «Повторю мысль непопулярного ныне руководителя, — писал Р. Абдулатипов, — но тем не менее не ставшую от этого менее актуальной: мы все настолько связаны, что любой разрыв принесет неисчислимые страдания десяткам и десяткам миллионов людей… Думаю, что с каждым днем все большее число членов общества, политиков это все осознает»[1334].
«Ново-огаревский процесс» пытался найти оптимальное соотношение между двумя разнонаправленными тенденциями: к дезинтеграции, суверенизации и интеграции. В позиции, занятой Президентом, ярко сказались характерные черты рефлектирующего культурного сознания: понимание исторической закономерности той и другой, органическое неприятие насилия как средства разрешения этого противоречия; уже отмеченное предвидение побочных следствий политических акций и, наконец — что очень важно — признание первенствующей роли общества в решении своей собственной судьбы. Политик должен учитывать общественные настроения, даже если они продиктованы общественными предрассудками или неполным пониманием событий. В этом также, на наш взгляд, сказывается характерное для части «шестидесятничества» критическое отношение к сциентизму и технократическим общественным концепциям. «Нам нужно, чтобы люди поняли необходимость выбора. Иначе, если мы снова начнем загонять людей в счастливую жизнь, как загоняли в коллективизацию или в индустриализацию, ничего из этого не получится. Опять смотрим на народ, как на стадо, которым управляют пастухи, пусть сегодня они и называются демократами? Для меня это неприемлемо…»[1335].
Августовский заговор 1991 года и последовавшие за тем события: провал политической авантюры ГКЧП, возвращение М. С. Горбачева в Москву, минское совещание руководителей России, Украины и Белоруссии и образование на нем СНГ с денонсацией союзного договора 1922 года резко изменили течение событий. В «Заявлении Президента СССР», опубликованном 11 декабря 1991 года, М. С. Горбачев выражал несогласие с тем, что «судьба многонационального государства „определена волей руководителей трех республик“, — без участия населения и его представительных органов, с непонятной „скоропалительностью“, и в тот самый момент, „когда в парламентах республик обсуждается проект Договора о Союзе Суверенных Государств, разработанный Государственным Советом СССР“»[1336]. Верный себе, он отметил, однако, и позитивные моменты соглашения — участие Украины, не проявлявшей активности в договорном процессе, стремление создать единое экономическое пространство, наладить культурное и научное сотрудничество и т. д.
Реакция не замедлила последовать. В том же номере «Известий», где было напечатано «Заявление», помещена подборка высказываний зарубежных комментаторов. «Президент игнорирует политические реалии». «Горбачев бросает вызов „Славянскому Союзу“». «Готовя почву для предстоящего столкновения с Россией, Украиной и Беларусью, кремлевский лидер поставил под сомнение законность образования Содружества Независимых Государств»… «Горбачев… все еще считает, что Союз ни в коем случае не следовало бы распускать, как будто „тюрьму народов“ — СССР можно было бы без всякого насилия спасти от распада»[1337].
Политизированное «массовое сознание» готово было перешагнуть через принципы конституционности и демократизма, чтобы утвердить то, что оно считало незыблемо правильным.
Между тем «кремлевский лидер» стремился как раз избежать «предстоящего столкновения». Когда парламенты трех республик утвердили минское соглашение (на пресс-конференции сразу же после возвращения из Беловежской Пущи С. Шушкевич сказал, что не сомневается в результатах голосования: «у нас люди разумные, хотя решать им…»[1338]); когда в декабре в Алма-Ате к трем славянским государствам присоединились и другие, — Президент не только не сделал попыток помешать новому, еще хрупкому союзу, но попытался помочь ему своим политическим опытом. Он направил Алма-Атинскому совещанию письмо, которое мы уже цитировали, позднее он вспоминал о многочасовых совещаниях во время «передачи дел», о подготовке серии указов, «как все должно идти от Союза к Содружеству и России»[1339].
В своей прощальной речи, обращенной к гражданам уже не существовавшего Союза ССР, он сказал о принципиальных соображениях, по которым он не видит для себя места в государственных структурах нового объединения.
Горбачев оставил пост президента так, как это делает подлинно цивилизованный политик, не согласный с возобладавшим политическим курсом, но оставляющий за обществом право выбора.
Уход его и форма, в которой он осуществился, произвели сильное впечатление на общество и вызвали довольно широкий резонанс в печати. Сочувствие экс-Президенту было почти всеобщим; самые противники признавали, что он ушел достойно и готовы были согласиться, что недооценивали его. Но это была скорее симпатия к личности, в трудный период своей биографии оказавшейся на этической высоте; мало кто заметил, что именно уход Горбачева ярко высветил особенности представленного им типа культурного сознания. Люди этого типа легче других отказываются от власти, ибо на шкале их ценностей она не занимает первого места; личность, сформированная псевдокультурой «массы», теряет вместе с властью все. Редко говоря о себе, Горбачев, однако, в свое время пытался напомнить оппонентам, что однажды уже отказался от почти неограниченной власти Генерального секретаря ЦК КПСС. Для массового сознания это феномен почти необъяснимый; оно сошлось на том, что у него не было иного выхода. Он открыл возможности для своей собственной критики (которая перешла в личные оскорбления, когда критики почувствовали, что это ничем им не грозит). Он отказался от легких средств укрепить свою популярность и словно намеренно демонстрировал свою приверженность идеям, дискредитируемым массовой пропагандой (например, идее «социалистического выбора»). За всем этим стояла необыкновенная внутренняя устойчивость — не только личности, но и культурно-психологического типа, и самая «непоследовательность» Горбачева как Президента, его постоянные поиски общественных компромиссов были органической особенностью рефлектирующего, релятивистского культурного сознания. Между тем в эпоху поляризации социальных сил, когда требуется четкий выбор между «да» и «нет», черным и белым, сакральным и профанным, не может быть популярен мыслитель; это время людей «прямого действия». Феномен популярности, как уже сказано, не может быть понят исторически правильно без анализа среды, формирующей эту популярность, с ее настроениями, предрассудками, психологическими мотивациями. Среда же все более обнаруживает и свою гетерогенность, и резкую контрастность в интеллектуальном, общественном, культурном отношениях.
В ней соседствуют политический экстремизм и общественная аппатия, уже, по наблюдениям социологов, породившая ностальгию по временам стагнации.
В ней уживаются широкая популярность мистических учений, на которых паразитируют знахарство и шарлатанство, и подчеркнутый сциентизм и технократические представления об обществе.
В ней воскрешаются элитарные культурные ценности «серебряного века» и потоком разливается массовая культура в своих самых вульгарных, бульварных формах и в масштабах, неведомых ни одному цивилизованному государству.
Будущему историку, который, надо надеяться, застанет период относительной стабилизации, предстоит решить, какие тенденции «обогнали» курс Горбачева — конструктивные, как принято сейчас считать, или деструктивные, и какому мышлению он противостоял — действительно ли «новому» или старому, сменившему политические цвета. И был ли конец эпохи его политического лидерства действительно победой демократических сил или трагическим эпизодом в эволюции общества, упустившего свой исторический шанс?
Сентябрь 1992.Продолжение спора (О стихотворениях Пушкина «На Александра I» и «Ты и я»)[1340]
Текстология и идеология
В № 2 журнала «Звезда» за 1998 год помещена статья Л. С. Салямона «Пушкин: „Эпиграмму припишут мне…“». По поводу эпиграммы «На Александра I» и послания «Ты и я».
Статья эта требует специального разбора по нескольким причинам. Прежде всего, она принадлежит автору, имя которого известно в научном мире; не будучи филологом по своей основной профессии, Л. С. Салямон с 1960-х годов занимается проблемами психологии художественного творчества и напечатал несколько специальных пушкиноведческих статей.
Вторая причина в том, что статья отражает очень характерные новейшие тенденции реидеологизации Пушкина.
Как и его предшественники на идеологическом поприще, автор убежден, что «старое пушкиноведение» (официальное, буржуазное, либеральное, советское) искажало биографию и творчество поэта и только в наше (посткоммунистическое) время настал момент истины. При этом «методологи» разных генераций и ориентаций с завидным постоянством заимствуют у своих идеологических противников не только подход к предмету, но и самые формулы, меняя лишь опорные понятия или оценочные «плюсы» на «минусы». Так, у Л. С. Салямона читаем: «…Огульное охаивание Александра I (полное и неоправданное отрицание его заслуг) вместе с обилием ошибочных характеристик императора в инвективе „Воспитанный под барабаном…“, которая не имеет автографа и источник сведений о которой недостаточно надежен, не позволяет считать ее произведением Пушки-на»[1341]. «Включение эпиграммы и послания, о которых идет речь, в корпус пушкинских произведений есть симптом антимонархических настроений интеллигенции еще в конце прошлого века. Позже более строгий анализ, наверное, мог бы изменить к ним отношение. Но после 1917 г. идеологический диктат неразборчиво фиксировал и реальное, и мнимое пушкинское слово, если оно разило самодержавие или самодержцев. Видимо, по этой причине оба произведения и прижились в современных изданиях».
Эта «презумпция виновности» распространяется на одно из самых выдающихся достижений пушкиноведения XX века — 16-томное академическое собрание сочинений Пушкина. С заботливостью, достойной лучшего применения, отмечаются неточности в историографических справках, в описаниях копий и т. п. Они сопровождаются ремарками типа «неверно», «непонятно, зачем…», «почему исчезло исходное заглавие стиха… не поясняется». «Произвол замены глагола „дремал“ на „дрожал“ (речь идет о строках „Под Австерлицем он бежал, / В двенадцатом году дрожал“ в стих. „Воспитанный под барабаном…“ — В. В.) остается произволом, даже под академической маской „конъектурного чтения“, оправданного лишь для неясного или безусловно ошибочного чтения. Замену ввел в 1880 г. П. А. Ефремов, и она осталась по сей день» (с. 207).
Оговоримся сразу же: критического анализа и в необходимых случаях пересмотра требует любая научная работа, в том числе и академическое издание. «Пушкинского канона», на отсутствие которого сетует вслед за М. Л. Гофманом Л. С. Салямон, нет и быть не может. Понятие «канона» — сошлемся здесь на мнение Б. В. Томашевского — принадлежит не науке, а разве догматическому богословию. По этой-то причине от издания к изданию меняются тексты и самый корпус, с появлением новых данных и совершенствованием методики изучения пересматриваются прежние текстологические решения, датировки и т. п.
Все это — норма, а не аномалия.
Когда Л. С. Салямон предлагает фактические уточнения и дополнения, он делает полезную и необходимую работу. Когда он уличает предшественников в чуть что не преднамеренных отступлениях от принципов научного анализа, его собственная позиция становится весьма шаткой. Да, в академическом издании многое «непонятно» и «не объясняется, почему», — но причины этого должны быть известны каждому его критику. Не редакторы его, а власти, движимые вненаучными соображениями (в том числе и соображениями «правильной методологии»), виновны в том, что из томов был исключен весь научный аппарат, с обоснованиями источников текста, датировок, обширным историческим, историко-литературным, реальным комментарием. Каким он был — показывает VII том с драматическими произведениями, вышедший в 1935 г., ранее всего издания и невольно сыгравший фатальную роль в его дальнейшей судьбе. Полный текст примечаний к тому I был набран и набор рассыпан; единственный экземпляр корректуры, сохраненный М. А. и Т. Г. Цявловскими, был положен в основу комментария первого тома нового академического издания (этот том в виде «пробного» был издан в 1994 г. как «Лирика лицейских лет (1813–1817)»).
Но именно это обстоятельство требует от критика академического издания особой осмотрительности и компетентности — он обязан понять то, что «непонятно», и объяснить то, что «не объясняется». Иными словами, он должен самостоятельно восстановить ход мысли и доказательств комментатора, приведших его к конечному выводу, который и сформулирован в примечаниях. Без этого его возражения и сомнения будут простыми любительскими экзерсисами.
Пример поспешной и необдуманной критики — грозная инвектива против «вопиющего» «редакторского произвола», процитированная нами выше.
Нам придется еще не раз сталкиваться с ошибочными интерпретациями и неосновательными источниковедческими заключениями в разбираемой статье. Но в ней есть и несколько важных наблюдений, которые должны быть учтены научным пушкиноведением. И здесь мы подходим к третьей — и едва ли не самой главной — причине, по которой нужен ее критический анализ; он должен выделить ту позитивную часть, которая не закрывает, а открывает дальнейшие перспективы изучения.
«Приписано Пушкину»
Вывод Л. С. Салямона о непринадлежности Пушкину эпиграммы «Воспитанный под барабаном» и стихотворения «Ты и я» следует сразу же отвергнуть.
Объяснимся.
Принадлежность Пушкину стихов, не имеющих автографа, удостоверяется копиями. Только в копиях сохранилось большинство ранних лицейских опытов и наиболее значительные образцы его политической лирики; копии же позволяют восстановить не дошедшие до нас редакции. Разумеется, копии различаются по степени достоверности; они вовсе не обязательно непосредственно восходят к пушкинскому автографу и могут содержать привнесенные переписчиками чтения и приписывать Пушкину чужие стихи. Такая псевдопушкиниана довольно значительна по объему и далеко не всегда порождается политическими установками собирателей пушкинских стихов; она включает тексты самого разнообразного содержания.
Нам известны рукописные сборники с пушкинскими стихами, вышедшие из близкой Пушкину литературной и бытовой среды, например, из среды лицейской. Иногда они дают нам наиболее точный и достоверный текст, как так называемая тетрадь Никитенко со стихами лицейских поэтов или альбом А. М. Горчакова, просмотренный и исправленный Пушкиным. Нужно иметь в виду, однако, что ошибки встречаются даже в самых авторитетных по происхождению копиях. Так, в тетради Никитенко «Застольная песня» Дельвига приписана Пушкину. Альбом Горчакова содержит четверостишие «Всегда так будет, как бывало», в которое Пушкин внес поправку, а затем зачеркнул. Естественно было предположить, что поправка авторская, а зачеркивание означает, что Пушкин не хотел распространять стихотворение. Оно попало в академическое издание и пере-печатывалось во всех авторитетных собраниях сочинений Пушкина, пока наконец Т. Г. Цявловская не установила подлинного автора. Им оказался плодовитый, но малоталантливый поэт 1820-х годов Б. М. Федоров.
Итак, копии и сборники копий пушкинских стихов требуют каждый раз анализа и критической проверки. Работа по их изучению ведется десятилетиями, но далека от завершения, и возможны новые уточнения и изменения, как в корпусе пушкинских стихов, так и в их тексте. «Пушкинского канона», как мы сказали, не может быть.
При всем том сопоставление источников позволило выделить группу наиболее авторитетных из них, где процент ошибок в чтениях и атрибуциях меньше, чем в остальных; это так называемые тетради Н. А. Долгорукова, Н. С. Тихонравова, П. Я. Дашкова, И. В. Помяловского, В. Ф. Щербакова и некоторые другие[1342]. Наличие в них одного и того же текста, приписанного Пушкину, позволяет утверждать его авторство с большой степенью вероятности — с той же или почти с той же, с какой мы приписываем Пушкину десятки лицейских стихотворений и политические стихи, такие как послание «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Сказки. No ё l» («Ура! в Россию скачет…») и пр.
Стихотворение «Ты и я» имеется в сборниках Долгорукова, Тихонравова, Дашкова, Гаевского, Лонгинова-Полторацкого, Ефремова. Л. С. Салямон оставляет в стороне вопрос об авторитетности этих копий, указывая лишь общее их число, и сосредоточивается лишь на одной из них — копии в тетради Лонгинова-Полторацкого, сообщая читателю, что Лонгинов был реакционер, жесткий цензор и автор непристойных стихов «не для дам»; что он включал в свой сборник и псевдопушкинские стихи и вполне мог придумать фривольное стихотворение «Ты и я». Правда, в этом случае становится труднообъяснимой его помета: «Непонятно, к кому относится эта циничная пьеса» (с. 211). По-видимому, Лонгинов на этот раз мистифицировал самого себя.
«Критика источника» не имеет ничего общего с дискредитацией изготовителя копии, хотя в популярной литературе одно часто подменяется другим. Мы знаем случаи, когда первоклассные источники оказывались в руках заведомого фальсификатора, и напротив — когда коллекционер с безупречной репутацией хранил у себя явно недоброкачественный материал. Важна здесь биография копии, а не биография владельца.
В том же случае, когда они корреспондируют и взаимно дополняют друг друга, мы можем говорить о степени авторитетности источника, почти не рискуя ошибиться. Именно так произошло с источником текста эпиграммы «На Александра I» («Воспитанный под барабаном»), которую М. И. Семевский нашел в одном из альбомов в Тригорском, получил от А. Н. Вульфа подтверждения, что он лично неоднократно слышал ее из уст Пушкина, и напечатал как пушкинскую в своем очерке «Поездка в Тригорское» в «Русском вестнике» в 1869 г. Этот-то текст, приведенный в академическом издании, стал предметом критики Л. С. Салямона: он усомнился в атрибуции Вульфа (на том основании, что Вульф мог в старости и ошибиться или слышать от Пушкина чужую эпиграмму), подверг критике расшифровку
«Наш Z***» (так было у Семевского) как «наш царь» и привел доказательства, что эпиграмма вообще не относится к Александру I. Уже высказав все эти соображения, он ознакомился с копией эпиграммы, рукой, скорее всего, Анны Николаевны Вульф (ПД, ф. 244, оп. 4, № 73), кстати, указанной в числе источников текста в академическом издании. Здесь эпиграмма не имела подписи и называлась «Послужной список», а строка 2-я в ней прямо читалась «Наш царь лихим был капитаном».
Ознакомление с этим важнейшим списком зачеркивало все предшествующие рассуждения, подозрения и научные и идеологические инвективы в адрес академического издания и оставляло один вопрос: почему он не был взят в качестве основного текста? Ведь совершенно очевидно, что у Семевского был в руках либо он, либо идентичный список, в котором он, может быть, по условиям публикации, опустил не существенное для него заглавие и заменил прозрачным инициалом «Z***» слово «царь», которое никакая цензура не пропустила бы в 1869 г. в общем журнале. Но совершенно неожиданным образом и уже с безнадежным упорством Л. С. Салямон пытается бороться с опровергающим его материалом. Он ставит вопрос, почему эпиграмма не подписана именем Пушкина и почему она известна только в списках и памяти Вульфов?
Отвечаем: потому, что Пушкин был выслан под полицейский, родственный и духовный надзор, а с 1826 г. — начала политических процессов об «Андрее Шенье» и о «Гавриилиаде» — должен был тщательным образом скрывать свое авторство в отношении политических стихов и эпиграмм. То же делали и его друзья. В Михайловском ближайшей дружеской, бытовой и литературной средой Пушкина было семейство Осиповых — Вульф, озабоченных судьбой Пушкина не меньше, чем он сам. В этом кругу Пушкин вел и политические разговоры; еще в 1827 г. он говорил Вульфу, что намерен написать историю Александра I «пером Курбского», ожесточенного противника Ивана Грозного. Вульф был в курсе замыслов побега Пушкина из ссылки — планов, о которых он и в поздние годы никому не рассказывал. Что же удивительного в том, что Анета Вульф не подписала имя Пушкина под скопированными ею острыми политическими стихами и приняла меры, чтобы они не распространились далее? Чьи интересы она должна была соблюдать? Последующих исследователей? Бошняка? III отделения?
Из наблюдений Л. С. Салямона о малой распространенности эпиграммы следует иной вывод, на наш взгляд, более существенный. Эпиграмма была написана тогда, когда среда ее распространения сузилась до предела, до семьи Осиповых — Вульф, — иначе говоря, никак не в 1823-м, а не ранее середины августа 1824 г., когда Пушкин прибыл в Михайловское и началось его тесное общение с Алексеем Вульфом. После 19 ноября 1825 г. — времени смерти Александра I — она уже теряла смысл.
И еще один вполне законный вопрос, к которому прямо подошел Л. С. Салямон: почему академическое издание не положило в основу текста список А. Н. Вульф с названием «Послужной список» и чтением второй строки «Наш царь лихим был капитаном», предпочтя ему печатную публикацию, вероятнее всего, отцензурованную? Ведь список этот был учтен среди источников текста и даже получил шифр: ф. 244, оп. 4, № 73.
Есть некоторые основания думать, что этого списка не было в руках у редакторов издания. Его привез из Тригорского Б. Л. Модзалевский в 1902 г. и хранил в своем собрании до момента своей смерти, в 1929 г., после чего он перешел к его сыну, также известному пушкинисту, Л. Б. Модзалевскому. По-видимому, он был не востребован, ибо самый текст эпиграммы был к этому времени хорошо известен по публикации Семевского, а разночтения не казались столь существенными, чтобы повлиять на основной текст. Л. Б. Модзалевский скончался в 1948 г., когда стихотворение уже было напечатано в первом полутоме II тома издания; когда же после его смерти его архив поступил в Пушкинский Дом, список Вульф мог быть учтен уже только во втором полутоме, с разночтениями и комментариями. Это предположение, конечно, — но гораздо более вероятное, чем предумышленное сокрытие текста; подобные пропуски и огрехи довольно обычны в изданиях такого объема и трудоемкости.
Во всяком случае, сейчас, после разысканий Л. С. Салямона, это не только можно, но и нужно исправить. Эпиграмма должна называться «Послужной список» и печататься по списку А. Вульф (с конъектурой Ефремова). Что же касается «пересмотра» комментария к ней, то о нем пойдет речь особо.
Художественный текст и «историческая истина»
Как мы попытались показать, личность владельца копий в подавляющем большинстве случаев ничего не говорит о качестве самой копии, кроме тех случаев, когда она позволяет установить ее генеалогию, среду, из которой она вышла. Именно так произошло со списком эпиграммы на Александра I, которую мы теперь вслед за Л. С. Салямоном будем называть «Послужной список». Следующий этап анализа — попытка решить, насколько приписываемый Пушкину текст вписывается в общий контекст пушкинского творчества, противоречит или соответствует его общественным взглядам, поэтическим и стилистическим принципам. Напомним, что есть случаи, когда атрибутирование производится по совокупности только этих признаков, так как отсутствуют и автограф, и копия. Так атрибутированы Пушкину критические статьи в «Литературной газете» — отсылаем читателя к превосходной работе В. В. Виноградова, впервые напечатанной в 1941 г. и вошедшей затем в его книгу «Проблема авторства и теория стилей» (1961).
С сопоставления «Послужного списка» с другими высказываниями Пушкина об Александре I и начинает Л. С. Салямон свою работу по атетезе (отведению авторства) Пушкина. Он выписывает все, что говорил Пушкин об Александре (таких текстов, по его подсчетам, оказалось около 30), и приступает к их верификации путем сравнения с работами Ключевского, Шильдера, вел. кн. Николая Михайловича и современными свидетельствами как эталоном «исторической правды». В результате возникает заключение, что Пушкин нигде не допускает «исторической неправды», что хотя он и «не любил царя», но всегда отдавал должное его заслугам.
Если поставить своей целью выстроить полностью искаженную историческую картину, то лучшего пути к ней трудно и представить. Все эти «тридцать произведений» можно сопоставлять друг с другом только при общности времени написания, установки, близости контекста и единстве жанра. Нельзя сопоставлять «Сказки. Noël» и официальное письмо на высочайшее имя. Нельзя ставить рядом строчку из т. н. «X главы „Онегина“» «Нечаянно пригретый славой» и строки из «Медного всадника» «Покойный царь еще Россией / Со славой правил» или «Воображаемый разговор…» с одой «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году».
Все эти произведения написаны в разное время, с разными задачами и целями, и упоминания в них Александра I имеют разные функции и никак не рассчитаны на то, чтобы быть целостной и исторически объективной характеристикой.
Это относится не только к Александру I: с той же картиной мы встретимся, пытаясь определить отношение Пушкина к Наполеону, Екатерине II, Пугачеву; к поэтам-современникам: Державину, Батюшкову.
Важно не то, был ли прав Пушкин, с точки зрения современного историка, а то, что и почему он хотел сказать. Важна его, а не наша, историческая и художественная концепция образа.
Прекрасной иллюстрацией к сказанному выше может служить анализ «Послужного списка», который предлагает Л. С. Салямон, — это «огульное охаивание», «полное и неоправданное отрицание заслуг» Александра I.
Эпиграммы пишутся именно для «огульного охаивания», а не для позитивной оценки с указанием на отдельные недостатки. Эпиграмма Пушкина на Воронцова не отдает должного его либеральным взглядам и заслугам в строительстве Одессы. Эпиграмма на Ф. Толстого умалчивает о его дружбе с Вяземским и Д. Давыдовым.
«Милостью Божией Цари и Императоры Всероссийские не имели послужных списков…» (с. 208) — иронизирует Л. С. Салямон над заглавием. Эту иронию можно было бы оставить без внимания, так как во 2-м стихе списка стоит «Наш царь…». Но она показывает, что критик не понял самого существа эпиграммы, где царь представлен именно в роли заурядного чиновника, «капитана», переведшегося в статскую службу, получив при переводе чин коллежского асессора. В формулярном списке отмечаются воинские заслуги в сражениях; вот они: «под Австерлицем он бежал, / В двенадцатом году дрожал». «„Лихости“ в нем тоже не было», — пишет Л. С. Салямон (с. 205). Конечно, не было, — но об этом и говорит эпиграмма. «Лихой» — эпитет насквозь ироничный. «Лихие капитаны» не бегут и не дрожат в сражениях, а те, которые это делают, становятся «фрунтовыми профессорами». «Фрунт» — это не армейские дела, как допускает Л. С. Салямон, а именно «парады и военные смотры», на которые с таким сарказмом нападал Денис Давыдов в стихах и в прозе (в «Старых гусарах» прежние пили водку и геройствовали в сраженьях, новые — «маршируют на паркете»).
Отсюда — резкий сарказм в эпитете «герой» («Но фрунт герою надоел»). Нет необходимости пояснять, почему Александр I назван «коллежским асессором / По части иностранных дел»: в последние годы дипломатические поездки занимали почти все его время. Этим мотивом начинается «No ё l»: «Ура! в Россию скачет / Кочующий деспот».
Если не требовать от эпиграммы того, чего она не может дать по самому своему жанровому существу, то придется признать, что ни в содержании своем, ни в поэтике она не противоречит всему остальному эпиграмматическому творчеству Пушкина. Как мы помним, М. А. Цявловский принял в 4-м стихе эпиграммы «Воспитанный под барабаном…» конъектуру Ефремова «В двенадцатом году дрожал» вместо «дремал», как стояло в исходном списке. Изучивший сотни копий пушкинских стихов, Цявловский прекрасно знал их типовые ошибки. Одна из наиболее характерных — смешение графически близких написаний. Прочесть «дремал» вместо «дрожал» очень легко, в особенности при копировании с неразборчивого текста, может быть, автографа. С другой стороны, в стихах Пушкина приблизительная рифма «бежал — дремал» очень маловероятна, если не вовсе невозможна. Учитывал Цявловский и то, что в руках Ефремова были очень авторитетные копии, на которые он не всегда точно ссылался. Приняв конъектуру Ефремова и оговорив ее в примечаниях, текстолог поступил совершенно правильно, а критик не сумел этого понять.
Итак, в «решительном пересмотре» комментария к эпиграмме «Воспитанный под барабаном…» («Послужной список») нет никакой необходимости, — хотя необходимо уточнить выбранный источник текста.
«Решительному пересмотру» — и здесь мы подходим ко второму позитивному и плодотворному наблюдению Л. С. Салямона — подлежит комментарий к стихотворению «Ты и я». Точнее было бы сказать, что оно нуждается во внимательном прочтении и объяснении, потому что развернутого комментария к нему по сие время нет.
«Ты и я»
«Ты и я» традиционно также считается сатирой на Александра I.
Из историографической справки, приведенной Л. С. Салямоном и дополняющей академическое издание, следует, что такое понимание стихотворения возникло не сразу и утверждалось постепенно и поначалу без всякой уверенности. М. Н. Лонгинов вообще отказался от поисков адресата. В публикации Н. П. Огарева в «Русской потаенной литературе XIX столетия» (Лондон, 1861) оно носило название «К Ъ…», в копиях — «Ты и я», «К…», «К…». В 1903 г. П. А. Ефремов в своем издании (Т. 1. С. 235) озаглавил его «На Ал. П.» — «На Александра Павловича». В примечаниях к однотомнику лицейских стихов под ред. В. Я. Брюсова прямо утверждалось: «…„Ты“ — это император Александр; „я“ — сам поэт» (С. 132).
Гипотеза эта была принята далеко не сразу и не всеми. В собрании сочинений Пушкина в 9-ти томах, выпущенном издательством «Academia» в 1935 г., под редакцией Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского она не учтена; в примечании к стихотворению обозначена лишь его предположительная дата — 1819 г[1343]. В том же году выходит издание «Избранной лирики» Пушкина под редакцией Д. Д. Благого, где она высказана в примечании, — и сразу же встречает энергичное возражение Н. Л. Степанова: «…К стихотворению „Ты и я“ Благой делает весьма лаконичную сноску: „„Ты“ — Александр I“ (С. 48). Эта догадка никак не может быть отнесена к числу бесспорных и, нуждаясь в дальнейшей аргументации и обсуждении, совершенно не уместна на страницах массового издания»[1344].
В следующем году «догадка» попала в научное издание; М. А. Цявловский ввел ее в свой комментарий к шеститомнику, выпущенному тем же издательством «Academia». Формулировка была осторожной: «Есть основания предполагать, что адресат стихотворения — Александр I»[1345].
Если бы сохранились комментарии готовившегося в это время второго тома 16-томного академического издания, эти «основания», без сомнения, были бы представлены читателю. Но, как мы уже говорили, их нет, а второй том вышел в свет уже в послевоенное время, в 1947 году. Чтобы хоть как-то восполнить отсутствовавшие пояснения имен и исторических и литературных реалий, они были введены в именной указатель. Там, против имени «Александр I» была указана и страница 130, где напечатано «Ты и я» и «ты» было расшифровано как имя императора. Датировка осталась предположительной и более широкой — от июня 1817 г. (времени окончания Пушкиным Лицея) до марта 1820 г. — кануна высылки Пушкина из Петербурга.
Все это мало походит на уступку «идеологическому диктату», а говорит скорее о трудностях интерпретации.
Специального исследования об этом стихотворении не было, и даже упоминается оно в пушкиноведческих работах крайне редко. Комментарий к нему в авторитетных массовых изданиях, повторяя версию об Александре уже в утвердительной форме, создает впечатление решенной проблемы: «Направлено против Александра I»[1346], «Сатира на Александра I»[1347]. Неизменной остается и дата: 1817–1820 гг[1348].
Единственной попыткой дать обоснование этой версии были три страницы в статье В. А. Сайтанова «Прощание с царем», где было высказано несколько важных замечаний.
В. А. Сайтанов не сомневался, что «Ты и я» — сатира на Александра, который «назван „прозаиком“ в качестве автора манифестов войн 1812–1815 гг. и указов». Он сопоставил это стихотворение со стансами Вольтера «Королю Прусскому по поводу фарфорового бюста, изображающего автора, выполненного в Берлине и присланного его величеством в январе 1775 года» (Au roi de Prussie… 1775). Он развил мысль (подсказанную Д. Д. Благим), что «ироническое послание» Вольтера, где проводилась параллель между философом Эпиктетом и философом на троне Марком Аврелием (читай: Вольтером и Фридрихом II), «видимо, явилось образцом» для аналогичной же параллели между царем и поэтом в пушкинском стихотворении. В. А. Сайтанов попытался и локализовать стихотворение во времени, отнеся его к 1819 году. Основанием служили текстовые параллели с посланием Пушкина «N. N.» (Энгельгардту) 1819 г. «Строка „Я как смерть и тощ и бледен…“ рисует тот же облик, это и начало стансов Энгельгардту. „Я ускользнул от Эскулапа / Худой, обритый, но живой“. Тут же находим сходное описание жилища поэта: ср. „чердак“, где поэт проводит дни „на соломе“, и „Мой угол тесный и простой“. Наконец, в концовке послания Энгельгардту неожиданно возникает „главная тема стихотворения „Ты и я“ — тема царя“, небесного и земного, о котором поэт готов вести со своим собеседником вольные разговоры»[1349].
Оспаривая существующее понимание стихотворения, Л. С. Салямон ссылается на его общее содержание, которое он видит в «сословной зависти бедного поэта к богатому вельможе» (C. 211–212). Завидовать богатству царя уже само по себе нелепо, замечает он; кроме того, этот порок был Пушкину вовсе не свойствен и заклеймен в «Моцарте и Сальери». Противоречат образу Александра и некоторые детали стихотворения, например, строка «С грозным деспотизма взором»: Александр отличался как раз внешней лояльностью и вежливостью; о его «кротком взоре» постоянно вспоминали современники. Непонятно, наконец, почему он «прозаик».
Так представляются позиции спорящих сторон в настоящее время. Попытаемся оценить их аргументы — но для этого вначале бросим взгляд на все стихотворение в целом. Неверно, конечно, что тема его — зависть бедного-поэта к богатству и что Пушкин («Я») не мог написать такое, ибо осуждал зависть. Став на эту точку зрения, попробуем найти поэта пушкинского времени, который бы оправдывал зависть и декларативно признавался в ней. Скорее всего, мы придем к заключению, что эти стихи вообще не имеют автора.
Это отнюдь не парадокс и не полемический ход. Любая подстановка конкретного лица на место «Я» и «Ты» грозит обессмыслить текст, если читать его целиком, а не по отдельным строчкам. Тема стихотворения — контрастное и иронически-озорное противопоставление неслыханной роскоши «Ты» и полной нищеты «Я», завершающееся пародийной антитезой запора богача и поноса бедняка и мягкого коленкора и жесткой оды Хвостова, употребляемых для единой цели. Эти сцены играют в общем эмоциональном рисунке стихотворения гораздо большую роль, нежели ей обычно отводится; на них лежит сильный смысловой акцент, ибо они составляют концовку, эпиграмматическую «пуанту» стихотворения. Строки «Окружен рабов толпой, / С грозным деспотизма взором» полностью пародийны, ибо нельзя грозно повелевать, сидя на судне. Ирония окрашивает все стихотворение, распространяясь не только на «Ты», но и на «Я». Именно поэтому параллель между ним и стансами Вольтера Фридриху II представляется искусственной, ибо стансы Вольтера, вопреки мнению В. А. Сайтанова, не содержат в себе ни малейшей иронии, напротив — это тонкая похвала новому Марку Аврелию, ответный жест старого поэта на столь же галантный жест Фридриха. Сразу же скажем, что не менее искусственными кажутся нам и сопоставления «Ты и я» с посланием Энгельгардту 1819 г., где «худоба» и болезненность поэта проистекают не от нищеты, а от болезни, и, выздоровевший, он спешит вернуться к друзьям и чувственным и интеллектуальным наслаждениям. «Угол тесный и простой», как мы попытаемся показать далее, также отнюдь не тождествен «чердаку» в «Ты и я». Все это мотивы функционально разные, если не прямо противоположные, и даже внешнее их сходство остается весьма проблематичным. Явной натяжкой выглядит и ссылка на указы и манифесты в объяснение того, почему Александр I «прозаик», — недоуменный вопрос Л. С. Салямона остается в силе. Но самое главное — то, что в тексте стихотворения нет ни одной конкретной черты, позволяющей идентифицировать с Александром адресата «сатиры»; ни одного политического обвинения, которое Пушкин — хотя бы и несправедливо — адресовал ему; за пределами же текста существуют лишь позднейшие догадки, не подкрепленные ни одним доводом. Первый признак сатиры «на лицо» — узнаваемость объекта; без этого она лишается смысла. Ни одной сатиры Пушкина на Александра, где «лицо» было бы зашифровано до неузнаваемости, мы не знаем.
Итак, не убеждаясь аргументами Л. С. Салямона, мы должны принять его конечный вывод: у нас нет оснований считать «Ты и я» сатирой, направленной на Александра I, — и пока такие основания не появятся (например, в виде авторитетных свидетельств современников), вопрос этот должен быть снят. Но тогда заново возникает другой вопрос: о том, как толковать это стихотворение.
Мотивы и темы. «Бедный поэт»
Ни «Ты», ни «Я» стихотворения, как мы уже сказали, не имеют персональной определенности. «Ты» — это не Александр I, «Я» — не Александр Пушкин. Вариации названий и подзаголовков в копиях типа «К ***» говорят лишь о том, что читательское сознание, как это постоянно бывает, стремится к буквальному истолкованию текста и поискам конкретных лиц, якобы за ним стоящих. Между тем конкретизация «Ты» и «Я» дана самим Пушкиным во второй строке: «Ты прозаик, я поэт».
Параллель проводится не между «прозаиком» царем и «поэтом» Пушкиным, а между богатым Прозаиком и бедным Поэтом.
То, что противопоставление Прозаика и Поэта существовало в художественном сознании Пушкина и составляло для него особую, специальную тему, показывает его стихотворение «Прозаик и Поэт», датируемое обычно 1825 г., — стихотворение, также во многом загадочное, к которому мы еще вернемся.
«Бедный поэт» и «богатый прозаик» — центральные мотивы, организующие стихотворение. Они реализованы в системе более частных оппозиций: дворец — чердак, пресыщение — голод, наконец, гротескная оппозиция «запора» и «поноса», подчеркивающая социальную разницу представителей двух родственных профессий неожиданным, смешным и озорным способом. Этот набор мотивов — все, чем мы располагаем, — и вслед за В. А. Сайтановым мы вынуждены сосредоточиться на нем и попытаться найти для него оптимальную точку прикрепления в системе координат пушкинского творчества. Этими поисками мы и займемся и начнем с первого же и основного мотива — «бедного поэта».
Бедность поэтов была одной из самых распространенных литературных тем уже в XVIII веке.
Она подкреплялась многочисленными историческими примерами, начиная с нищего Гомера. В «Письмах русского путешественника» Карамзин упоминал о судьбе С. Бетлера, автора «славного Годибраса». «Двор и король хвалили поэму, но автор умер с голоду»[1350]. «Голод свел в могилу безвестного Мальфилатра», — писал в своей сатире «Восемнадцатый век» Никола Жильбер.
Сам Жильбер был символом поэтической бедности и несчастий. Именно ему принадлежала формула «Бедный поэт», «Несчастный поэт», «Le poète malheureux» — так называлась его элегия, получившая в России особую известность и отразившаяся, между прочим, в элегии Ленского в «Онегине». Легенда о Жильбере, подхваченная затем романтиками, приписывала ему смерть в нищете в состоянии безумия. В 1802 г. выходит целая книжка Бен де Сен-Виктора «Великие поэты-несчастливцы» с биографиями Тассо, Камоэнса, Мильтона, Ж.-Б. Руссо и других поэтов, умерших в бедности, вплоть до Жильбера и Мальфилатра. Ее почти сразу же начинают переводить на русский язык: в 1807 г. журнал «Минерва» печатает из нее несколько глав. Одновременно «Любитель словесности» Н. Ф. Остолопова помещает «Список бедных авторов», а «Вестник Европы» переводит из А. Коцебу статью «О бедности поэтов», — где, впрочем, были приведены и противоположные примеры[1351].
Все это было в поэтическом сознании Пушкина еще в Лицее. В одном из самых ранних его стихотворений — «К другу стихотворцу» (1814) — мы находим эти темы; некоторые детали описания и выбор имен (ср. упоминание Ж.-Б. Руссо) как будто свидетельствуют о знакомстве юного поэта с компиляцией Бен де Сен-Виктора. Но Пушкин дополняет список и именем русского поэта:
Не так, любезный друг, писатели богаты; Судьбой им не даны ни мраморны палаты, Ни чистым золотом набиты сундуки: Лачужка под землей, высоки чердаки — Вот пышны их дворцы, великолепны залы. Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы; Катится мимо них Фортуны колесо; Родился наг и наг вступает в гроб Руссо; Камоэнс с нищими постелю разделяет; Костров на чердаке безвестно умирает, Руками чуждыми могиле предан он. Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон[1352].Здесь уже намечены некоторые из поэтических мотивов, которые через несколько лет выйдут на передний план в «Ты и я», — например, оппозиция «пышные хоромы — убогий чердак».
Описание убогого чердака, где обитает поэт, — особый поэтический мотив. Оно было хорошо известно русским поэтам, и в том числе лицеисту Пушкину по посланию Ж.-Б. Грессе «Обитель» (La Chartreuse), которое варьировал Батюшков в знаменитых «Моих пенатах», а вслед за ним и молодой Пушкин в нескольких лицейских посланиях, в том числе в «Городке». Эта часть послания Грессе — около сотни строк — как мы увидим, очень преобразовалась под пером Батюшкова и Пушкина. В оригинале оно все проникнуто иронией, доходящей до сарказма. Стихи о богах и героях рождаются под крышей пятого этажа, в жилище, напоминающем скорее птичье гнездо, нежели приют человека, в этой подоблачной гробнице, где гуляют «братья Борея»; автор послания трудится над ним, закутавшись, подобно лапландцу, при писке полчища крыс под звуки кошачьего концерта. Единственную мебель в этой комнатке непонятной конфигурации составляют почти безногий стол и шесть растрепанных соломинок, прикрепленных к двум ветхим жердям. Эта-то «обитель» и оказывается убежищем поэтической свободы. У Батюшкова и Пушкина акцент стоит на этой семантике мотива; «стул ветхий и трехногий / О изодранным сукном» в «Моих пенатах» символизирует не «бедность», а «презрение к роскоши». Отсюда, между прочим, и «угол тесный и простой» в пушкинском послании к Энгельгардту — с тем же значением.
«Чердак поэта» может превращаться в узилище. Так происходит в «Веселости» Д. О. Баранова — стихотворении, несомненно, переводном, якобы написанном в якобинской тюрьме. Оно было напечатано в «Любителе словесности» в 1806 г. — почти одновременно со списком бедных поэтов, включено Жуковским в «Собрание русских стихотворений…» 1811 г. и пользовалось известностью вплоть до конца 1820-х годов; ему подражал юноша Лермонтов. Ситуация здесь иная, но мотив функционально очень близок к «Обители» Грессе:
Вот хлеба мой кусок и кружка вот с водою… Вот стол мой! он не чист, червями поистравлен, Но может быть на нем обед всегда поставлен. А стул мой, под собой три ножки лишь храня, Хотя шатается, но держит он меня[1353].Стихи эти, без сомнения, были знакомы Пушкину, еще в Лицее внимательно изучившему «Собрание русских стихотворений» Жуковского. Когда бы ни было написано стихотворение «Ты и я», к моменту его создания в художественной памяти Пушкина существовал тип иронического описания жилища «бедного поэта», не в эстетизирующем варианте «Моих пенатов», а в деэстетизированном, включавшем и «грубые», натуралистические детали. Любопытно, что мальчик Лермонтов, перерабатывая «Веселость» Баранова, как раз их и сохраняет, совпадая в них с неизвестным ему пушкинским стихотворением:
Хлеб черствый буду есть И воду пить гнилую… (Веселый час, 1829)Ср. в «Ты и я»:
Я же с черствого куска, От воды гнилой и пресной… (Акад. II. С. 1072; вариант копии Гербеля.)Нужны были лишь условия, чтобы потенциально существующий мотив стал художественной реальностью.
Михайловские письма
Такие условия складываются в Михайловском в 1825 году. Вчитываясь внимательно в пушкинскую переписку этого времени, мы можем уловить в ней почти все темы стихотворения «Ты и я».
Зимой 1824–1825 гг. им овладевает какая-то веселая и озорная злость. Он почти не пишет лирических стихов и жалуется Вяземскому, что «не лезут» (письмо от 25 января 1825 г. — Акад. XIII. С. 135). Зато он пишет эпиграммы. В том же письме он разбирает «эпиграмматические» стихи Вяземского «Черта местности» и вспоминает о Ж.-Б. Руссо, чьи «похабные эпиграммы стократ выше од и гимнов», и прилагает свои.
Через три дня, не дожидаясь ответа, Пушкин пишет Вяземскому новое письмо, вдогонку; он спрашивает, напечатан ли Хвостов в новом журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф», которым усердно занимался и Вяземский. «Что за прелесть его послание! достойно лучших его времен. А то он было сделался посредственным, как В<асилий> Л<львович>, Ив<анчин> — Писарев — и проч. <…> Милый, теперь одни глупости могут еще развлечь и рассмешить меня» (28 января 1825 г. — XIII, 137).
Так в Михайловских письмах возрождается тема «хвостовианы».
Граф Дмитрий Иванович Хвостов был излюбленной мишенью «арзамасских» сатириков и пародистов. Его притчи (в первом издании 1802 года, позднее исправленном) считались образцом «галиматьи», комических алогизмов, стилистической и звуковой какофонии. Притча «Два голубя», персонаж которой «разгрыз зубами узелки» сети, была буквально притчей во языцех.
Вяземский в 1813–1817 гг. написал целый цикл очень удачных пародийных басен «в духе Хвостова».
От Хвостова ждали именно «галиматьи» и разочаровывались, получая стихи на обычном поэтическом уровне. В 1823–1824 гг. ожидания стали оправдываться. 26 октября 1823 г. А. И. Тургенев сообщал Вяземскому почти пушкинскими словами; «Читал ли „Родовой ковш“ графа Хвостова? <…> Он опять становится прелестен»[1354]. За «Родовым ковшом» последовало «Послание к NN о наводнении Петрополя, бывшем 1824 г. 7-го ноября» — то самое, о котором пишет Пушкин и которое он упомянет затем в «Медном всаднике» как «бессмертные стихи».
«Одни глупости могут еще рассмешить и развлечь меня». Из четырех с лишним десятков законченных им в 1825 году стихотворений более половины — шуточных и эпиграмматических. Ему жаль, что написанные ранее эпиграммы не смогут войти в готовящийся сборник «Стихотворения Александра Пушкина»: «их всех около 50 и все оригинальные» (Вяземскому, март-апрель 1825 г. — XIII, 160). «Есть предположение, что он намеревался объединить их в особый сборник, в дополнение к печатному»[1355].
Все это имело если не прямое, то косвенное отношение к весьма важному эстетическому спору, который он — в те же месяцы и даже дни — ведет с Рылеевым и Бестужевым по поводу только что вышедшей первой главы «Онегина».
Этот спор давно и хорошо описан; известно, что декабристы — оппоненты Пушкина — не могли принять главного героя и самого «предмета» романа в стихах. В предисловии к первой главе Пушкин упоминал о «дальновидных критиках», которые «станут осуждать <…> антипоэтический характер главного лица», как будто предугадывая возражения Бестужева и Рылеева; он заявлял, что первая глава есть «шуточное описание нравов» и «напоминает Беппо, шуточное произведение мрачного Байрона» (VI, 638).
Бестужев и Рылеев настаивали, что подобные герой и тема могут быть предметом лишь сатирического изображения и что первая глава «Онегина», во всяком случае, ниже и «Кавказского пленника», и «Бахчисарайского фонтана».
Пушкин возражал: ужели Бестужев хочет «изгнать все легкое и веселое из области поэзии? куда же денутся сатиры и комедии?» — и далее перечисляет то, что «нужно будет уничтожить» в этом случае: «„Неистового Роланда“ Ариосто, „Гудибраса“ С. Бетлера, „Pucelle“ — „Орлеанскую девственницу“ Вольтера, „Вер-Вера“ Грессе, „Ренике-фукс“ — „Рейнекелиса“ Гете и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова etc. etc. etc. etc. Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии…» (письмо Рылееву от 25 января 1825 г. — ХIII, 134). Рылеев соглашался нехотя; Бестужев же продолжил полемику в длинном письме от 9 марта: «Что свет можно описывать в поэтических формах, — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? <…> Ты схватил петербургский свет, но ты не проник в него» и т. д. (XIII, 149). Он требовал от Пушкина сатиры, подобной байроновской[1356].
Пушкин отвечал, что он и не помышлял о сатире и что самое слово «сатирический» не должно бы находиться в предисловии. «У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатиры» (письмо Бестужеву 24 марта 1825 г. — XIII, 155). Но самые требования критиков уже начинали раздражать его. В письме его брату Льву от 14 марта мы находим загадочную фразу, насколько нам известно, нигде не объясненную: «У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос Сижу один во компании и тому под.» (XIII, 152).
Это — саркастическая реплика на только что полученное письмо Бестужева, где от Онегина требуются «поэтические формы» «помимо стихов». И противопоставление «поэзии» и «прозы» здесь не риторическая фигура.
Через три месяца в руках Пушкина окажется «Войнаровский» Рылеева с посвящением Бестужеву:
Как Аполлонов строгий сын, Ты не увидишь в них искусства: Зато найдешь живые чувства: Я не Поэт, а Гражданин[1357].Это была декларация приоритета общественной идеи перед поэтической формой, намечавшаяся уже в письмах Бестужева. Пушкин сообщал Вяземскому, что Дельвиг «уморительно сердится» на эти стихи, и предлагал ему пародировать их: «Я не поэт, а дворянин» (письмо 10 августа 1825 г. — XIII, 204). Уже в старости Вяземский вспоминал, что Пушкин «очень смеялся» над ними. «Несмотря на свой либерализм, он говорил, что если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же он хочет просто гражданствовать, то пиши прозою»[1358].
В письмах 1825 года начинает кристаллизоваться тема «прозаик и поэт». Она прямо выходит на поверхность в «Прозаике и поэте»:
О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь: Ее с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу! (II, 444).Это стихи 1825 года. К сожалению, мы не можем датировать их точнее — и потому не знаем ни адресата, ни повода их создания. Но даже не будучи удовлетворительно истолкованы, они показывают нам, что оппозиция «прозаик — поэт» получила художественное оформление и что в этой оппозиции первенство отдано поэту как носителю творческого начала, прозаику недоступного. В иной форме, но эта же мысль предстанет в стихотворении «Ты и я».
«Физиологизмы» Пушкина
Гиперболическая гротескно-сатирическая роскошь «прозаика», как и предельная «бедность поэта» имеют аналоги в мировой литературе.
Прежде всего это, конечно, «Пир Трималхиона» из «Сатирикона», приписываемого Петронию Арбитру. Книгу эту Пушкин знал, по-видимому, уже в Лицее по французским переводам; в библиотеке его было двухтомное французское издание 1694 г. «Le Satyre de Petrone…» с приложением латинского оригинала[1359]. Трималхион, ублажая своих гостей неслыханными яствами, произносит специальный монолог о необходимости «отдавать долг природе» сразу же, как природа этого потребует, для чего у него готовы все приспособления.
В банях раб носит за ним серебряный ночной горшок, в который он и удовлетворяет свою надобность; омытого и надушенного, его вытирают не полотном, а простынями из мягчайшей шерсти[1360]. Все эти детали могли всплыть в памяти Пушкина как раз в Михайловском, когда он перечитывал «Анналы» Тацита и специально заинтересовался фигурой Петрония, впоследствии сделав его героем «Повести из римской жизни».
Но если сатирическая традиция могла подсказать ему отдельные детали, то центральная тема — противопоставление запора богача и поноса «бедного поэта» — возникла иначе. Как и другие, прослеженные нами, она кристаллизовалась постепенно в переписке с Вяземским.
В первой половине 1825 г. Пушкин пишет «Оду в честь его сият<ель-ства> гр<афа> Дм<итрия> Ив<ановича> Хвостова» — одну из самых блестящих своих пародий, имитирующих «хвостовский стиль».
В оду «в духе Хвостова» Пушкин включил пародии на обновителей оды — Кюхельбекера, Рылеева, а также на И. И. Дмитриева, с которым у него были свои литературные счеты[1361]. Но основным адресатом ее были все же не принципиальные литературные противники, а сам Хвостов, сквозной идеей пародии — комическое сопоставление Хвостова с только что погибшим Байроном — игра в духе прежних арзамасских буффонад, и Пушкин спешит переписать эти стихи и отправить их Вяземскому — признанному мэтру арзамасской «хвостовианы».
Вяземский не сразу получил эти стихи. Лето он провел не в Москве, а в Ревеле на морских купаниях, откуда писал длинные письма, полные забавной и парадоксальной эпистолярной болтовни. Одно из его писем — к жене от 15 июля — должно остановить наше внимание. Оно содержит рассуждение о действии желудка, напоминающем работу человеческого рассудка; сильный рассудок переваривает жизненные впечатления, превращая их «в хорошее, сочное, здоровое г<…>»; «оно лучший, необходимый результат нашей жизни, эссенция всего нашего дня, вернейшая ртуть нашего телесного барометра. Человек больной, человек озабоченный, человек беспокойный, порочный, слишком скорый не имеет хорошего испражнения, а человек нехорошо испражняющийся никуда не годится». «Жаль, что нет при тебе Александра Пушкина, — заканчивал Вяземский свои философические выкладки. — Он умел бы оценить это письмо, а тебе писать все равно, что метать бисер перед свиньею»[1362].
В письме заключалось зерно пародийного замысла, и когда Вяземский, вернувшись в Москву и Остафьево, получил оду в честь Хвостова, он осуществил свое желание сообщить его Пушкину. 16–18 октября 1825 г. он посылает ему письмо, где варьирует эту тему «мыслительного навоза». Оно начинается стихами:
Ты сам Хвостова подражатель, Красот его любостяжатель, Вот мой, его, твой, наш навоз! Ум хорошо, а два так лучше, Зад хорошо, а три так гуще, И к славе тянется наш воз. (XIII, 238)Некоторые места в этом письме не вполне понятны и не получили объяснения. Очевидно — это следует и из него, и из последующих писем — Вяземский прислал Пушкину какие-то свои стихи о Хвостове, написанные им в дороге, и в этих стихах была та тема «поэтического навоза», которая наметилась уже в его ревельском письме к жене — том самом, которое он так стремился показать Пушкину. Вероятно, стихи были пародийны, — и Вяземский соотносил их с пушкинской одой (о ней идет речь в строках «Ты сам Хвостова подражатель…»). Стихов этих мы не знаем; вероятно, они были приложены к письму на отдельном листке и не сохранились. Шестистишие, начинавшее письмо, было своего рода сопроводительным текстом.
Около 7 ноября Пушкин пишет Вяземскому, что стихи доставили ему величайшее удовольствие. «<…> С тех пор как я в Михайловском, я только два раза хохотал; при разборе новой пиитики басен (статья Вяземского „Жуковский. Пушкин. О новой пиитике басен“. — В. В.) и при посвящении г<…>у г<…>а твоего». И он подхватывает тему «поэтического поноса»:
В глуши, измучась жизнью постной, Изнемогая животом, Я не парю — сижу орлом И болен праздностью поносной.Этот фейерверк каламбурных двусмысленностей — еще один выпад против одописцев. «Парит орлом» — одический поэт; «сидеть орлом» — удел обуреваемого поносом. «Поносная праздность» — одновременно и «позорная».
Что же касается первой строки — это преображенная биографическая реалия. Конечно, «измучась жизнью постной» — гипербола; в Михайловском Пушкин вовсе не голодал. Но подобные же гиперболы мы находим и в раздраженных его письмах этого времени, где он жалуется на безденежье, на контрафакции и беспечность брата Льва, грозящие оставить его без куска хлеба. «<…> Эдак с голоду умру <…>» (брату, от 7 апреля 1825 г. — XIII, 161). «…Год прошел, а у меня ни полушки <…> Словом мне нужны деньги или удавиться» (брату, 28 июля 1825 г. — ХIII, 194).
Нужен был еще один шаг, чтобы спроецировать на себя литературный облик «бедного поэта»:
Я же с черствого куска, От воды сырой и пресной Сажен за сто с чердака За нуждой бегу известной. («Ты и я»)Последняя строка также подготовлена цепью каламбуров в шуточном послании к Вяземскому:
Бумаги берегу запас, Натугу вдохновенья чуждый. Хожу я редко на Парнас И только за большою нуждой.В заключении возникает фигура Хвостова — основного героя переписки:
Но твой затейливый навоз Приятно мне щекотит нос; Хвостова он напоминает, Отца зубастых голубей, И дух мой снова призывает Ко испражненью прежних дней. (XIII, 239)Это — контекст «жесткой оды Хвостова» в «Ты и я».
Итак, почти все мотивы и темы, составляющие в совокупности это достаточно сложное для истолкования стихотворение, сходятся, как в едином фокусе, в пушкинской переписке 1825 г. Они интегрируются в единое целое, скорее всего, осенью этого года, когда в стихах, включенных в письма, появляются прямые словесные переклички с «Ты и я». «Бедный поэт», противопоставленный «богатому прозаику», — эта центральная контрастная пара влечет за собой целый ряд противопоставлений, о которых у нас уже шла речь,
Но это и все, что может нам дать мотивный анализ. Не имея творческой истории стихотворения, не зная импульса, вызвавшего его к жизни, мы не можем истолковать его до конца. Так, мы не знаем, что именно заставило Пушкина сделать «прозаика» подобием «русского Трималхиона», но должны еще раз предупредить об опасности конкретного, тем более биографического истолкования мотива. «Богатых прозаиков» в России не было — во всяком случае, к 1825 году. Пушкин это отлично знал и еще летом 1825 года писал Рылееву: «Не должно русских писателей судить как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас гр<аф> Хв< остов > прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и, я поэт — но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав» (письмо от второй половины июня — августа 1825 г. — XIII, 219). Как и «поэт», «прозаик» в стихотворении — условно-литературный персонаж, «не-поэт», «антипоэт», носитель прагматического, материального, «прозаического» начала, — именно на этом значении слова «проза» Пушкин постоянно играет в своих письмах.
«Ты и я» — не памфлет, хотя и «сатира» в том смысле, в каком это слово можно применить, например, к «Сатирикону» Петрония. В ней ясно проявляется игровое, пародийное начало, восходящее ко времени «Арзамаса», соединенное с теми элементами народной, «раблезианской» смеховой культуры, которое было описано в работах М. М. Бахтина как поэтика материально-телесного низа. Эта авторская установка на пародийную, травестирующую игру отличает «Ты и я» от «Прозаика и поэта», где просматривается конкретный полемический адрес, который сейчас от нас ускользает. Он вышел на поверхность в одном примечательном эпизоде, который, как представляется, имеет некоторое отношение к нашей теме.
Мемуар Вяземского
Этот эпизод, уже однажды бывший предметом внимания пушкиноведов, был рассказан Вяземским в поздней (1875 г.) приписке к статье «Цыганы, поэма Пушкина». Вяземский вспоминал, что некоторые замечания его о поэме не понравились Пушкину своим учительским тоном и «слишком прозаическим взглядом» и что ответом на них была эпиграмма «Прозаик и поэт». «Пушкин однажды спрашивает меня в упор, — продолжает Вяземский, — может ли он напечатать следующую эпиграмму:
О чем, прозаик, ты хлопочешь?Полагая, что вопрос его относится до цензуры, отвечаю, что не предвижу никакого со стороны ее препятствия. Между тем замечаю, что при этих словах моих лицо его вдруг вспыхнуло и озарилось краскою, обычною в нем приметою какого-нибудь смущения или внутреннего сознания неловкости положения своего. <…> Уже после смерти Пушкина как-то припомнилась мне вся эта сцена; <…> я понял, что этот прозаик — я, что Пушкин, легко оскорблявшийся, оскорбился некоторыми заметками в моей статье и, наконец, хотел узнать от меня, не оскорблюсь ли я сам напечатанием эпиграммы, которая сорвалась с пера его против меня. Досада его, что я, в невинности своей, не понял нападения, бросила в жар лицо его»[1363].
Н. О. Лернер впервые обратил внимание на то, что этот рассказ противоречит хронологии событий. «Прозаик и поэт» напечатан впервые в декабре 1826 г. — в № 1 «Московского вестника» на 1827 г., статья же о «Цыганах» закончена лишь 5 мая 1827 г.[1364] Добавим к этому, что и по содержанию эпиграмма трудно согласуется с ним.
Более вероятным кажется другое объяснение.
Пушкин писал вовсе не против Вяземского, но боялся, что Вяземский примет «прозаика» на свой счет. Нечто подобное уже случилось в 1825 году, когда Пушкин отдал ему для «Телеграфа» эпиграмму «Приятелям». Вяземский изменил ее заглавие на «Журнальным благоприятелям» и объяснял потом Пушкину, что так ему казалось осторожнее: «…у тебя приятелей много и могли бы попасть не впопад» (письмо от 7 июня 1825 г. — XIII, 181). Пушкин перепечатал текст у Булгарина с примечанием, что в «Телеграфе» он опубликован неточно; Полевой обиделся и доказывал свою правоту ссылкой на доставленную ему рукопись. Пушкин вынужден был объясниться, что не хотел обидеть Полевого, что послал исправление в «Пчелу», а не в «Телеграф», потому что почта идет в Москву несносно долго, — и нехотя извинял вмешательство Вяземского, хотя и стоял на своем: «…ты не напрасно прибавил журнальным, а я недаром отозвался» (письмо от начала июля 1825 г. — XIII, 186). Спустя пятьдесят лет эта размолвка могла выпасть из памяти Вяземского и подмениться другой, возможно, более существенной; он, вероятно, не придал значения и тому обстоятельству, что в 1825 г. Пушкин в особенности был заинтересован прозой Вяземского и что сам он, не лишенный мнительности, жаловался Пушкину, что «совсем отвык от стихов». «Я говорю как на иностранном языке: можно угадать мысли и чувства, но нет для слушателей увлечения красноречия. Не так ли? Признайся!» (письмо от 4 августа 1825 г. — XIII, 201). Может быть, имея в виду эти колебания и сомнения, Пушкин через полтора месяца включает в свое письмо Вяземскому шуточно-комплиментарное послание «Сатирик и поэт любовный» — об их поэтическом братстве (XIII, 231).
Он не мог противопоставлять свою «поэзию» «прозе» Вяземского, но мог подозревать, что Вяземский сделает это сам. Тогда эпиграмма становится злой и даже злорадной. И дополнительные акценты она получала в том противопоставлении бедного поэта и антипоэтического богача, которое, как мы предполагаем, было написано за год до разговора о «Прозаике и поэте». Но об этом мы можем только гадать.
IV СТАТЬИ ДЛЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ «Русские писатели, 1800–1917»
Подолинский Андрей Иванович
ПОДОЛИНСКИЙ Андрей Иванович [1(13).7.1806, Киев — ночь на 4(16).1.1886, там же], поэт. Из дворян; отец — Иван Наумович (1777–1852), председатель Киевской палаты уголовного суда, автор неизданных воспоминаний о киевском административном быте конца XVIII в.[1365] Воспитывался в киевском пансионе «немца Графа»; с апреля 1821 — в Благородном пансионе при Петербургском университете[1366]. Первые литературные опыты П. были начаты еще в Киеве, отчасти под влиянием преподавателя А. Ф. Фурмана, знакомившего учеников с современной поэзией (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, И. А. Крылов); продолжались в Благородном пансионе, где П. написал «две-три повести в стихах и несколько мелких стихотворений»[1367]. Литературное общение юноши П. ограничено пансионским кругом разных выпусков (А. Я. Римский-Корсак, М. И. Глинка, А. Н. Струговщиков); знаком он и с А. Д. Илличевским; сближается с будущим историком Н. Г. Устряловым. Способности П. были замечены пансионскими учителями, более всего В. И. Кречетовым. В конце июля 1824, окончив пансион (с чином 10 класса), П. уезжает в Киев; 4 августа 1824, на пути, в Чернигове, случайно встречается с А. С. Пушкиным, ехавшим из Одессы в михайловскую ссылку[1368]; в том же году получает место секретаря при директоре Почтового департамента Н. Д. Жулковском; при нем «занимался и по Библейскому обществу». Служба не мешала поэтическим занятиям П., однако его опыты, как и прежде, не выходят за пределы тесного дружеского кружка.
Наиболее ранние известные нам сочинения П. относятся к 1827; среди них — неоконченная повесть «Змей. Киевская быль»[1369]; ретроспективно оценивая повесть, П. отмечал простоту рассказа, близкого к идиллическому, и сочетание стихотворного и прозаического повествования, что, не вполне основательно, считал своим открытием[1370]. «Змей» обычно рассматривается как попытка юноши П. отделить себя от «школы Жуковского», травестировав его балладную фантастику (необъяснимое, таинственное оказывается в повести остроумными проделками героя), однако в этом П., вплоть до парафраз, следует «Руслану и Людмиле»: снижение фантастики у него — литературный прием, а не заявленная литературная позиция.
Первое получившее резонанс сочинение П. — ориентальная повесть в стихах «Див и Пери» (СПб., 1827), восходящая к «Лалла Рук» Т. Мура и испытавшая сильное влияние поэмы «Пери и Ангел» Жуковского (1821). Тема пробужденного покаяния и искупленного греха, заявленная в повести, связывает «Дива и Пери» с творчеством И. И. Козлова и с русской традицией байронической поэмы. Подобно Козлову, П. прибегает к поэтическому языку повышенной лирической экспрессивности, к внесюжетным отступлениям, несущим преимущественно эмоциональную нагрузку и создающим впечатление поэтической импровизации. Экспрессия создается и сгущением ориентального колорита; вслед за Муром П. насыщает свою поэму экзотическими «восточными» реалиями, именами, топонимами.
«Див и Пери» был издан Кречетовым со своим предисловием[1371] и сразу замечен критикой. Рецензенты «Московского вестника» отмечали прямое подражание Муру (<И. С. Мальцов> — 1827, № 15) и отсутствие оригинальности в замысле (<С. П. Шевырёв> — 1828, № 1). Н. А. Полевой, напротив, находил в молодом поэте «дарование могущественное»[1372]. Более сдержан — в целом одобрительный отзыв Е. А. Баратынского[1373]. Положительной была и реакция Пушкина, который не вспомнил о случайном знакомстве и, по свидетельству П., вначале приписывал «Дива и Пери» «разным известным поэтам»; при встрече же «имел любезность насказать» П. «много лестного»[1374]. По-видимому, мнение Пушкина передавала и «Северная пчела» как «выгодный отзыв» о стихах поэмы «одного из отличнейших наших поэтов»[1375].
Успех печатного дебюта П. ввел его в литературные круги. 25 августа 1827 А. А. Ивановский сообщил Подолинскому в Киев, что Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, О. М. Сомов, А. А. Дельвиг и сам Пушкин стремятся с ним познакомиться[1376]; Ивановский же взял у П. стихи для своего альманаха «Альбом северных муз… на 1828 г.» (СПб.; «Жребий поэта», «На развалинах Десятинной церкви в Киеве» и др.) и для «Северных цветов» Дельвига на 1828 [СПб.; «Фирдоуси», «Стансы» («Куда судьба меня зовет…»)]. По возвращении в Петербург осенью 1827 П. расширяет литературные связи: он сближается, в частности, с В. Н. Щастным, поэтом кружка Дельвига и знакомцем А. Мицкевича[1377]. На вечере у Щастного П. был представлен Мицкевичу.
По воспоминаниям П., он посещал Мицкевича в Петербурге «всегда с удовольствием» и пользовался его расположением; Мицкевич «весьма сочувственно» относился к стихам П., выделяя среди них балладу «Предвещание» («Кто бросился в Волхов с крутых берегов?»[1378]). В 1828 П. встречался с Мицкевичем в кружке Дельвига: позднее, в Киеве, в 1831, П. устанавливает дружеские отношения с другим знакомым и переводчиком Мицкевича Ю. И. Познанским, посвятившим ему свой перевод сонета Мицкевича «К Лауре» (дата: «Киев, 10 февраля 1831»). Ответ П. — «Любовь он пел, печалью вдохновленный», написанный в тот же день, свидетельствует о сочувствии П. драматической судьбе Мицкевича уже в период польского восстания[1379]. В 1838 в журнале «Tygodnik Literacki» (№ 32) был помещен положительный отзыв о П. и перевод на польский язык отрывка из поэмы «Смерть Пери»[1380]; П. предполагал, без достаточных оснований, что перевод мог быть сделан Мицкевичем[1381].
После возвращения Дельвига из командировки в Харьков (7 окт. 1828) П. становится постоянным посетителем его дома, участником «Северных цветов» (СПб.) (на 1829: «Сирота», «Два странника»; на 1830: «Противоположности», «Гурия» и др.) и «Литературной газеты» («Отвержение» — 1830, 16 апреля). В январе или феврале 1829 происходит его вторичная встреча и знакомство с Пушкиным, с которым он затем общается у Дельвига; по воспоминаниям А. П. Керн (которой он был, по-видимому увлечен), П. занимал «видное место» среди «второстепенных писателей», группировавшихся вокруг Дельвига, и Пушкин «восхищался» «многими его стихами», в т. ч. адресованными Керн: «Портретом» и окончанием стих. «К*** (Везде преследовать готова…)»[1382]; на первое он сочинил шутливую пародию. В своем лирическом творчестве П. следует пушкинской традиции, не внося в нее сколько-нибудь существенных изменений и художественных открытий, не достигая высокой степени владения стихом и поэтической речью; в поисках мелодизации и гармонизации он обращается к разнообразным жанровым (баллада, романс, «мелодия»), строфическим и метроритмическим формам, делая попытки отступления от классических метров.
С начала 1829 обозначаются расхождения П. с кружком Дельвига; его новая поэма «Борский» (СПб., 1829) и в особенности «Нищий» (СПб., 1830) были приняты холодно в пушкинском кругу и восторженно — в изданиях литературных противников Пушкина. Оба произведения — вариант русской «байронической поэмы» с типом конфликта, тяготеющим к «неистовой словесности» 1830-х гг. Движущим началом поведения героев является любовь, представленная как экзальтированная страсть; источник конфликта заключается не в логике характеров, а во внешних и во многом случайных обстоятельствах. Отсюда — определяющая роль случая в сюжете обеих поэм, построенных на мотиве «убийства по ошибке», т. е. в сущности на немотивированной катастрофе, что будет характерно для «массовой продукции» 1830-х гг.[1383]; однако отдельные места в поэмах — описательные, воспоминания героя, а также касающиеся моментальных срезов психологических состояний — отличает художественное правдоподобие и лирическую экспрессивность (ряд найденных П. формул и ритмико-синтаксиче-ских конструкций был воспринят ранним М. Ю. Лермонтовым[1384]).
П. дал «Борского» на отзыв Дельвигу в уже процензурованном виде (цензурное разрешение 3 янв. 1829), что было жестом несогласия с его литературной опекой над молодыми поэтами; в письме Баратынскому от конца марта 1829 Дельвиг раздраженно замечал, что П. «при легкости писать гладкие стихи, тяжело глуп, пуст и важно самолюбив» (Дельвиг, с. 335). В конце января 1829 С. П. Шевырёв, встретивший П. у Дельвигов («это мальчик, вздутый здешними панегиристами и Полевыми»), передает М. П. Погодину слова Пушкина: «Полевой от имени человечества благодарил Подол. <инского> за „Дива и Пери“, теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за „Борского“»[1385].
С апологетическим откликом выступил С. Е. Раич, призвавший молодых поэтов «учиться поэтическому языку у г. Подолинского, как некоторые учились до сих пор у Жуковского, Батюшкова и Пушкина»[1386]. В «Северных цветах на 1830 г.» Сомов, также отметив «прекрасные, свободные и звучные стихи», критически оценил «содержание» (слабость завязки, неоригинальность ситуаций — с. 73). Отрицательный отзыв принадлежал Н. И. Надеждину, отвергавшему «байроническую поэму» в целом[1387].
На «Нищего» Дельвиг дал уничтожающий — уже печатный — отзыв[1388], вскрывающий психологическую и сюжетную немотивированность поэмы, отнюдь не искупаемую благозвучными «стихами без мыслей»; полемически направленный против журнальных апологетов П., он выражал эстетическую позицию пушкинского кружка (ср. отзыв Пушкина, не находившего у П., как и у М. Д. Деларю, «ни капли творчества, а много искусства», — письмо П. А. Плетнёву от 14 апреля 1831[1389]. Рецензия Дельвига была неожиданностью для П.: позднее он правильно уловил в ней дидактические цели и намерение ответить на преждевременные и преувеличенные похвалы; вместе с тем он усматривал в ней и уязвленное самолюбие «мэтра» и «ревность» к славе Пушкина[1390].
Такое убеждение поддерживалось в нем и полемическими инсинуациями М. А. Бестужева-Рюмина, прозрачно намекавшего на конкуренцию П. с Пушкиным в издаваемой им газете «Северный Меркурий» [см. его фельетон «Сплетница» (1830, № 49–50), антикритику на разбор в «Литературной газете» поэмы «Нищий» (1830, 2 апреля), а также ее подробный хвалебный разбор (1830, 24 марта — 4 апреля)]; но еще до выхода поэма была анонсирована Бестужевым-Рюминым (читавшим ее в рукописи) как значительное явление словесности (там же, 1830, 28 февраля). Тем не менее, «Нищий» был почти единодушно отвергнут критикой разных направлений как подражание известным образцам[1391].
Рецензия на «Нищего» привела к разрыву П. с пушкинским кружком; он написал эпиграмму на «Литературную газету» («Не для большого ты числа…»), повторив имевшие хождение обвинения в кастовости и «аристократизме». Особенно тесные отношения установились с бароном Е. Ф. Розеном; как и П., Розен отошел в это время от дельвиговского круга и был заинтересован в сотрудничестве П., творчество которого высоко ценил[1392]. К этому времени относится работа над незавершенной исторической поэмой «Глинский» (1830)[1393]; и балладами на исторические и фольклорные (или стилизованные под народные предание) сюжеты, преимущественно связанные с Украиной; баллады эти — «Девичь-гора» («Есть курган над Днепром»)[1394], «Разлив Днепра» («Блистателен, роскошен и могуч»)[1395], «Предвещание»[1396] — отмечались критикой как особенно удачные и являются художественно весьма значительной частью наследия П.
В 1830–31 П. печатается в «Северном Меркурии» [в т. ч. «Отрывки из неоконченной поэмы» (1830, № 15 и 17) и журнале «Гирлянда» (оба издания Бестужева-Рюмина)]; отдельные стихотворения появляются в «Северной пчеле» (1830, 27 февраля), «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“» (1831–33; преимущественно перепечатки) и петербургских альманахах: «Невский альманах» на 1829–32 гг., «Подснежник на 1830 г.», «Комета Белы…» на 1833 г., «Альциона…» на 1831–32 гг. барона Розена.
Новый период биографии П. начинается с отъездом из Петербурга (в конце 1830 или самом начале 1831 — до смерти Дельвига 14 января) в Киев, а затем в Одессу, где он служил по почтовому ведомству (1833 — помощник почт-инспектора 7 почтового округа Новороссийского края, надворный советник; 1840 — камер-юнкер, 1843 — окружной почт-инспектор 7 почтового округа, статский советник, камергер; в 1846 — действительный статский советник). П. входит в литературные круги Киева и Одессы (М. П. Розберг, М. В. Юзефович, Познанский; позднее был связан с молодым Я. П. Полонским), участвует в «Одесском альманахе» (1831, 1839–40 гг.), «Литературных листках» (Одесса, 1833), «Киевлянине» 1840–41 гг. (кн. 1–2) и посылает стихи в петербургские журналы: «Библиотеку для чтения» («Отчужденный» — 1836, т. 18; «Дружба» — 1838, т. 30), «Современник», а также в альманахи («Утренняя заря», 1839–43). В «Современнике» (1837, т. 7) появилось стихотворение П. «Переезд через Яйлу», написанное под впечатлением гибели Пушкина, известие о которой застало поэта во время поездки по Крыму, и с большой поэтической силой отразившей горечь утраты.
В «Библиотеке для чтения» (1837, т. 21) П. печатает также ориентальную поэму «Смерть Пери» (1834–36; отдельное издание — СПб., 1837); правка в тексте, сделанная, как полагал П., О. И. Сенковским, вызвала негодование П. и отход от журнала. «Смерть Пери» — наиболее значительное произведение П. 1830-х гг. Основная идея восходит к «Смерти ангела» Жан Поля (И. П. Ф. Рихтера); восточный колорит, по признанию П., отчасти был вызван опасением цензурных придирок[1397], однако поэма прямо перекликалась с ранним «Дивом и Пери» как по теме, так и по центральной идее искупления греха: Пери из сострадания приняла человеческий облик, а через него — муки и страдания земной любви, чем и искупила свой грех. Мотив запретной любви духа (ангела, демона) к смертному получает в поэме тщательную разработку в двух планах: романтико-психологическую и мистериальную (ср. «Любовь ангелов» Мура, «Элоа» А. де Виньи); у П., как нередко в русской романтической литературе (ср. «Демон» Лермонтова), этот мотив развивался в форме «восточной повести». Аллегоризм, дидактизм поэмы («Что мне ныне прелесть рая! / Жизнь прекраснее земная, / Если пламенной душой / Ты поделишься со мной»), «сцены на небесах» сочетаются с экзотизмом пейзажей и «восточной» эротикой, П. экпериментирует со стихом, меняя метрику и создавая сложный метроритмический рисунок.
В том же 1837 П. издает «Повести и мелкие стихотворения» (ч. 1–2, СПб.), вызвавшие негативный отклик В. К. Кюхельбекера («отсутствие истинной поэзии»), по этому сборнику он определил П. как «русского Маттисона», подчеркнув его связь с элегической школой[1398]. При всем том и для Кюхельбекера П. остается «человеком старой пушкинской школы», сохраняющим «уважение к языку и стихосложению» в «век гениальных пачкунов типа А. В. Тимофеева и Е. Бернета»[1399].
В 1838 П. женился на княжне Марии Сергеевне Кудашевой (ум. 1901, Париж), дочери херсонского помещика (ей посвящены стихи «К***» — «Как воздух родины в стране чужой и дальной», 1841 и «К*» — «Среди молитвы умиленной», 1856). На протяжении 1840–50-х его поэтическая деятельность идет на спад; некоторое оживление ее было вызвано Крымской войной, когда П. написал несколько патриотических стихотворений («Отрывок» — «Он сказал, наш враг лукавый», 1853; «Союзникам»[1400] — 1855). В 1860 Устрялов издает «Сочинения А. И. Подолинского» (ч. 1–2, СПб.), включившее и неизданные стихи. Выход их был встречен резко отрицательной рецензией Н. А. Добролюбова, оценившего «Сочинения» как глубокий анахронизм («Современник», 1860, № 4). После 1860 П. перестает выступать в печати; выйдя в отставку в конце 1850-х, он поселяется в своем имении Ярославка Звенигородского уезда Киевской губернии, занимаясь семьей и хозяйством (увлечением его было садоводство и ботаника); после 1863 ежегодно проводит несколько месяцев в Киеве, где учится сын. Он сохранил свои «прежние понятия о поэзии» и «признавал себя неуместным при овладевшем уже нашею литературою грубо-реальном направлении» (письмо к М. И. Семевскому от 8 марта 1884 — РС, 1886, № 7. С. 198). Романтическое неприятие нового века как времени утилитаризма и торгашества, органически враждебного поэзии и духовным началам, отразились в его стихах как непосредственно («Мечтатель», 1839), так и появлением мотивов одиночества, бесцельности жизненного пути, угасания поэтической энергии. Общая позиция П. в это время умеренно-либеральна; в «Будущем преда-нии»[1401] он резко выступает против защитников крепостного права [ср. также его стих. «Бывшим тургеневским крепостным»[1402], получившее общественный резонанс]. Терпимость к чуждым ему, в т. ч. радикально-демократическим, теориям сказалась в подходе к воспитанию сына Сергея.
Сергей Подолинский (1850–91) сблизился с М. П. Драгомановым и стал позднее одним из видных деятелей украинского революционно-демократического движения, печатался в нелегальной печати (в т. ч. в журнале «Вперед!» П. Л. Лаврова), издавал брошюры под различными псевдонимами: «Про бiдность. Размова 1» ([Вiдень], 1875), «Про хлiборобство. 1. Про те як наша земля стала не наша» ([Женева], 1877), «життьа j здоровjа льудеi на Украjiнi» ([Женева], 1878) и др.; см. также: «Парова машина. Казка…» ([Вiдень], 1875), «Труд человека и его отношение к распределению энергии» («Слово», 1880, № 4/5).
В то же время П. решительно не приемлет революционизирующих тенденций в обществе и литературе, нигилизма, критики Пушкина Д. И. Писаревым, «хохломанов-демагогов» (намек на украинофильство Драгоманова), обманывающих, по мнению П., народ под видом защиты его интересов («Деятели», 1862; опубликовано 1885). Политическая поэзия П. венчается сатирой «Бангряновидная заря»[1403] с изображением революционного движения 1870–80-х гг. в виде восстания адских сил. Последние годы жизни П. были омрачены семейной трагедией: политической эмиграцией (в 1877), а затем психическим заболеванием сына, жена П. была вынуждена уехать в Кламар (близ Парижа) для ухода за больным (см. стихотворение «Мать», опубликовано 1884). В эти годы у П. достигают апогея настроения глубокого личного и социального пессимизма, находящие выражение в серии лирических миниатюр, которые он пишет с начала 1860-х («Гляжу я на все хладнокровно», 1861; «Я знаю, дух от тела отлетит», 1871; «Не верим мы ни в рай, ни в ад», 1879; «Безнадежность», 1882); посылая стихи последних лет М. И. Семевскому, П. писал, что это «не напускное стихотворство, а отзвук совершенной безнадежности»[1404]. В одном из лучших стихотворений позднего творчества — «Сквозь грез мечтательного мира»[1405] этот пессимизм принимает глобальные формы неприятия бессмысленного и бесчеловечного миропорядка.
Весной 1884 с П. устанавливает связь Семевский, издатель «Русской старины», и публикует полученные от него неизданные стихотворения и биографические материалы. В том же году П. ненадолго выезжает во Францию к жене и сыну, но возвращается из-за болезни («застарелый грудной катар»)[1406] и психологической невозможности переменить обстановку; последний год жизни проводит в Киеве.
Издания: [Стихотворения, автобиография]. — Русская старина, 1885, № 1; Гербель Н. В. Русские поэты в биографиях и образцах, 3-е изд., СПб., 1888; Козлов И., Подолинский А., Стихотворения, Л., 1936 (БПмс; изд. подготовили Ц. Вольпе и Е. Купреянова; последняя автор сопроводит. ст. о П.); Поэты 1820–1830-х годов: т. 2, Л., 1972 (БПбс; биогр. справка и прим. В. С. Киселева-Сергенина); Нищий. — В кн.: Русская романтическая поэма, М., 1985; [Восп.]. По поводу статьи г. В. Б<урнашева> «Мое знакомство с Воейковым в 1830 г.». — В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. Вступ. ст. В. Э. Вацуро. Сост. и примеч. В. Э. Вацуро и др., М., 1985, II.
Литература: Дельвиг А. А., Сочинения, Л., 1986 (ук.; изд. подг. В. Э. Вацуро); Белинский В. Г., Полное собрание сочинений, т. 1–13, М.-Л., 1953–59 (изд. ИРЛИ; т. 13 — указатели, в т. ч. указатель имен), (ук.); Жуковский В. А., Дневники, СПб., 1903. С. 363; Кюхельбекер В. К., Путешествие. Дневник. Статьи. Изд. Подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак, Л., 1979 (ук.); Добролюбов Н. А. Собрание сочинений в 9 тт., М.-Л., 1961–64 (в т. 9 указатели ко всем томам) (ук.); Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений, т. 1–16, М., 1939–53 (в т. 16 ук. имен), III, 142–46, 165–69; Надеждин Н. И., Литературная критика. Эстетика, М., 1972. С. 67–78 (ук.; изд. подг. Ю. В. Манном); Киевский С. <Бердяев С. А.>, Последний из пушкинской плеяды. — «Русский вестник», 1886, № 1; Миллер О. Ф., Памяти Подолинского. — «Русская старина», 1886, № 2; Тиняков А. А. И. Подолинский. — Исторический вестник, 1916, № 1; Пушкин. Исследования и материалы, т. 1–12, М.-Л., 1956–86, т. 6. С. 70–75 (ст. Р. В. Иезуитовой); Зисельман Е. И., IX ямб О. Барбье в России (Из истории русского стихотворного перевода) — Ученые записки Свердловского пединститута, сб. 149, 1971; Вацуро В. Э., Северные цветы. История альманаха Дельвига — Пушкина, М., 1978.(1, ук.); Литературное наследство, т. 16/18, с. 703–04; т. 43/44, с. 73, 216, 293, 404, 432, 459, 654, 690, 742; т. 53/54, 56, 58 (ук.); Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVI в. — 1-я пол. XIX в.). — Литературное наследство, т. 91, М., 1982 (ук.).
Некрологи: «Исторический вестник», 1886, № 2; «Нива», 1886, № 6; Новое время, 1886, 5 (17) янв. Языков, в. 6; ср. Языков, в. 8, с. 148; Русский биографический словарь. Изд. под наблюдением председателя императорского об-ва А. А. Половцева, т. 1–25, П.-М., 1896–1918; История русской литературы 19 века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой, М.-Л., 1962; Краткая литературная энциклопедия, т. 1–8, 9 (доп. и ук. имен), М., 1962–78; Лермонтовская энциклопедия, М., 1981; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Словарь-справочник, Л., 1975.
Архивы: РГБ, ф. 232; ИРЛИ, ф. 134, оп. 5, № 198 (2 письма Е. А. и В. И. Драшусовым, 1836, 1839 г.); ф. 14, № 58 (9 писем Н. Г. Устрялову, 1856, 1870 г.), 171, № 22 (письмо В. П. Гаевскому, 1884 г.) [справка Н. А. Хохловой]; РГАЛИ, ф. 1134; РГИА, ф. 1653 (С. А. и С. С. Подолинских).
Розен Егор Федорович
РОЗЕН Егор (Георгий) Федорович, барон [16(28).12.1800, Ревель — 23.(26).3.1860, Петербург], поэт, драматург, критик. Выходец из остзейской семьи; родной язык — немецкий. Получил домашнее образование, преимущественно классическое: пополняя его чтением, приобрел широкие сведения в истории, философии (древней и новой, до И. Канта и И. Фихте), античной и западно-европейской (особенно немецкой) литературах. Любимейшими его поэтами были Вергилий и Гораций; в юности писал латинские стихи. В 1819 поступил в Елизаветградский гусарский полк корнетом и начал усиленно изучать русский язык и литературу; в письме к Ф. Н. Глинке (1829) вспоминал: «ревностное изучение труднейшего языка для меня услаждалось таинственною красотою Ваших произведений» (Поэты 1820–1830, I, 551). Служа на Дону и Волге, проникся интересом и симпатией к русскому народному быту. С 1825 в московских журналах появляются его стихи, отражающие, в частности, литературные впечатления от «Кавказского пленника» А. С. Пушкина и «Эды» Е. А. Баратынского: «Черкешенка Пушкина»[1407], «Дева гор»[1408], «К певцу Эды»[1409]. В 1827–28 в Москве знакомится с кругом любомудров и печатается в «Московском вестнике»: «Лето жизни» (1827, № 24; 2-я редакция — журнал «Гирлянда», 1831, № 2).
В литературных кругах отношение к Р. было поощрительным и отчасти снисходительным, как к даровитому, но все же чужеязычному поэту; так, В. П. Титов именует его «германо-русским пиитой»[1410]; позднее Шевырёв свидетельствовал, что «Московский вестник» «неохотно помещал его стихотворения»[1411]; в 1829 О. М. Сомов, сообщая ссыльному Глинке, что Р. «подает большие поэтические надежды: вы бы подивились, слушая его остзейское коверкание русских слов в разговоре и чтении; но в поэзии его язык чист, и промахов встречается очень мало»[1412]. В рецензии на первые отдельные публикации Р.: «Три стихотворения» (М., 1828), «Дева семи ангелов и Тайна» (СПб., 1829) Сомов хвалил замысел, язык и стихи («последние тем замечательнее», что Р. «уже в совершенных летах начал заниматься русским языком» и преодолел его трудности «весьма счастливо»[1413]).
Выйдя в 1828 в отставку и обосновавшись в Петербурге, Р. в феврале 1829 через Шевырёва знакомится с Пушкиным и входит в круг А. А. Дельвига; печатается в «Северных Цветах» и «Литературной газете»: «Упрек», «Элегия», «Гелиос» (1830, 30 июня, 20 июля, 18 окт.). Его стихи находят поддержку у П. А. Вяземского («замечательное дарование»[1414]) и у Пушкина: по воспоминаниям Р., он настойчиво рекомендовал ему заниматься лирической поэзией, отмечая как раз те тенденции его творчества, которые не совпадали с его собственными; так в связи со стихотворением «Три символа» (альманах «Альциона» на 1833) он говорил Р., что тот «живо напоминает Шиллера, не будучи подражателем»[1415]. Р. точно уловил особенность литературные позиции Пушкина, в начале 1830-х гг. более всего опасавшегося эпигонства (ср. его критические отзывы о М. Д. Деларю и А. И. Подолинском) и извинявшего стилистические несовершенства оригинальных поэтов. Лирика Р. тяготеет к немецкой преромантической поэзии; восприняв учение Ф. Шиллера о независимости эстетических категорий от нравственных, Р., однако, не избавился от морализма и дидактического аллегоризма. Поэтика стихов Р. предвосхищает романтическую лирику 1830-х гг. (в т. ч. В. Г. Бенедиктова, которого, наряду с Подолинским, он высоко ценил): их отличает тот же декламационно-риторический характер, сочетание разнородных лексических сфер, наклонность к словесно-образному каламбуру («Тоска по юности»[1416], «Мертвая красавица» — альманах «Царское Село» на 1830). Р. разрабатывает популярные в 1830-е гг. мотивы и темы, в т. ч.: безумия поэта — «Видение Тасса»[1417], «естественного человека», скованного узами «света» и цивилизации — «Пастуший рог в Петербурге»[1418]. Его стихи перегружены историческими реалиями и ассоциациями — от древнего мира до Средневековья; его попытка создать моралистическую балладу на темы прибалтийской истории («Казнь отца в сыне»; «Эсты под Беверином» — «Альциона» на 1833) оказывается малоудачной. В 1828–29 систематически выступает в ревельской газете «Эстона» («Esthona»), публикуя переводы на немецком из Пушкина (стихи «Бахчисарайский фонтан», сцены из «Бориса Годунова»), Дельвига, И. И. Козлова, а также перевод статьи И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина». Одновременно обращается к опыту оригинальных образцов романтической поэмы байронического типа, с религиозно-моралистическим, психологическим («Дева семи ангелов», «Тайна») и историческим содержанием.
Особое место в творчестве Р. занимает русская фольклорная тема; отвергая «простонародность» (характерно его противопоставление подлинным фольклорным песням песен Дельвига как образца «народного», возвысившего до искусства), Р., однако, ищет в русском крестьянстве патриархальных нравов, христианских чувств и смирения, а также этических понятий и представлений, близких естественным началам человеческого общества. Он стремится создать «русскую идиллию» («Родник»[1419]), стилизует народную песню, пишет «народные рассказы» в стихах («Домовой. Новоселье», СПб., 1833).
Критический отзыв Дельвига на поэму Р. «Рождение Иоанна Грозного» (СПб., 1830)[1420] стал причиной их разрыва «после очень близких отношений» (Дельвиг А. И., Полвека русской жизни, М.-Л., 1930, т. 1, с. 55). В это время Р. печатается в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» (1831–32, в т. ч. анонимно и под пародийным псевдонимом «Ксенократ Луговой», прозрачно намекающим на Кс. Полевого[1421]), «Сев. Меркурии» и «Гирлянде» (1831), «С.-Петербургском вестнике» (1831), выступает как издатель альманахов «Царское Село» (1830; совместно с Н. М. Коншиным), «Альциона» (1831–33), где помимо стихов помещает и прозу [«Константин Левен», 1831; «Очистительная жертва», 1832; «Зеркало старушки», 1833; некоторые произведения под псевдонимом «Колыванов» (см.: письмо Подолинскому 22 января 1832 — РГБ, ф. 232, к. 3, № 32)]. Расхождение с пушкинским кругом было недолговременным; сразу после смерти Дельвига Р. поместил в «Литературную газету» стихотворение «тени друга» со скорбно-покаянными нотами («Простираю к небесам / Примирительную руку!» — 1831, 1 мая).
С самим Пушкиным у Р. установились тесные отношения. В 1830–1831 он перевел на немецкий язык, помимо его стихов, сцену из «Бориса Годунова» с рукописи издания: (напечатана в «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands», 1834, № 1; сцена перепечатана в переводе А. Савицкого с изложением сопроводительной статьи Р.[1422], опубликовав в переводе и оригинале и пушкинские фрагменты, не вошедшие в печатный текст[1423].
(По сообщению Р., перевод заслужил «восторженную благодарность» Пушкина и «хвалу Жуковского». В отличие от большинства критиков, сдержанно принявших трагедию Пушкина, Р. оценивал ее как шедевр, «творец коего во времена Петрарки и Тасса был бы удостоен торжественного в Капитолии коронования» (письмо к Шевырёву 19 июля 1831[1424]). Восторженное отношение к «Борису Годунову» выразилось и в рецензии Р. на 3-ю часть «Стихотворений А. Пушкина», где он также отметил как особое достижение поэта трагедию «Моцарт и Сальери» и «Сказку о царе Салтане»[1425]; в рецензии же на «Историю Пугачева» очень высоко оценил метод Пушкина-историка[1426]. Со своей стороны, Пушкин дал для «Альционы» «Пир во время чумы» и намеревался при переиздании «Бориса Годунова» написать теоретическое предисловие в форме письма к Р. К Пушкину Р. сохранял постоянную литературную и личную привязанность.
Другие его литературные взаимоотношения отличались крайней сложностью и неустойчивостью, что в немалой степени объяснялось его болезненным самолюбием. По воспоминаниям В. П. Бурнашева, в начале 1830-х гг. он «постоянно воевал» с Н. А. Полевым, с которым ранее сотрудничал (ср. статью Р. «Нечто о „Телеграфе“»[1427]), настороженно относился к Ф. В. Булгарину, которого, однако, отделял от Н. И. Греча[1428]. В начале 1834 порвал едва завязавшиеся связи с О. И. Сенковским, поставившим Н. В. Кукольникова «несравненно выше» в отзыве на трагедию Р. «Россия и Баторий»[1429].
В 1831 возвратился на военную службу и состоял при дежурстве Главного штаба при П. А. Клейнмихеле (до 1834). Материальная неустроенность заставляет, однако, искать литературного заработка в самых разнообразных, подчас враждующих изданиях: у А. Ф. Воейкова и одновременно в «Северной Пчеле» и «Сыне отечества» Греча и Булгарина, где в 1832–35 печатал сцены из нескольких трагедий: «Россия и Баторий» (отдельное издание: СПб., 1833), «Петр Басманов» (отдельное издание: СПб., 1835), «Дочь Иоанна III» (отдельное издание: СПб., 1836; ее считал своим лучшим драматическим произведением[1430]). В 1841 задумал трагедию о Петре I и царевиче Алексее[1431].
Исторические трагедии — центральная часть литературного наследия Р. Все они посвящены эпохе становления русской государственности (XV–XVII вв.) как времени трагических конфликтов и трагических характеров, наделенных чертами органической двойственности: так, Иван Грозный — «муж крайностей, величественный грешник», «и свет, и тьма, и благ, и зол избранник»; Курбский — «светлый муж с темною судьбою», воплощение этических добродетелей и русский патриот и одновременно изменник, поднявший меч на отечество. В основе характерологии лежит в сущности классицистический конфликт чувства и долга, и долг является этической доминантой; логика поведения главных персонажей направляется формулой: «Чем выше долг людской, тем холодней, / Но тем и выше он, и ближе к Богу» («Осада Пскова», д. III, явление 5). Такова определяющая идея в построении, напр., драмы «Осада Пскова» (СПб., 1834; поздняя ред. ее «Князья Курбские»; отдельное издание: СПб., 1857), где противниками оказываются Курбский и его сын, оставленный им в России, воспитанный под именем кн. Прозоровского и ставший любимым военачальником Грозного (биография полностью вымышлена); над обоими тяготеет страх преступления (отце- и сыноубийства). Разрешение коллизии — «самоустранение»: чтобы не изменить чести и долгу, оба они вынуждены отказаться от света, уйдя в монастырь.
Трагедии Р. отмечены печатью официальной народности. Вслед за Н. М. Карамзиным он ставит особый акцент на патриотизме русских и приверженности их к самодержавию, даже в его аномальных, тиранических проявлениях. Поэтому «мучитель» Грозный в борьбе с внешним врагом находит опору в русском войске, в то время как гуманный, рыцарственный и просвещенный правитель Стефан Баторий терпит неудачу: его усилия сводятся на нет и мужеством противника, и своекорыстными интригами и раздорами шляхты.
Драма «Россия и Баторий» вызвала одобрение императора Николая, но не могла быть представлена на сцене, т. к. центральное место в ней занимал русский царь. По пожеланию императора и при консультации и частичном участии Жуковского (см.: письмо Вяземского И. И. Дмитриеву 23 декабря 1833[1432]; Бычков И., Бумаги В. А. Жуковского, СПб., 1887, с. 80; письмо драматурга Жуковскому 4 февр. 1834[1433]). Р. создал весьма переработанный сценический вариант — «трагедию в 5 действиях» «Осада Пскова».
От трагедии хотели, «чтобы она произвела хорошее впечатление на дух народный»[1434]; однако она не имела успеха и сошла со сцены после 3-го представления[1435]. Сдержанную рецензию на драму и антикритику самого Р. в «Северной пчеле» (1834, № 232, Приб. 1 и 24 октября) продолжила полемика в той же газете: В. В. В. <В. М. Строев> отметил промахи в драматургическом замысле и построении, ошибки в языке (17 ноября), а Р. ответил статьей «Нечто о нынешней критике» (22 ноября).
При всей консервативности идеологических установок Р. художественная, социальная и психологическая проблематика его трагедий значительно сложнее, чем в исторических драмах других авторов 1830-х гг.; не случаен интерес к ним Пушкина, записавшего в дневнике 2 апреля 1834: «Кукольник пишет Ляпунова. Хомяков тоже. Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта»[1436]. В начале 1835 Жуковский предложил Р. в качестве либреттиста М. И. Глинке, начавшему работу над оперой «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
По воспоминаниям дочери Р., Николай I выразил желание, чтобы Р. создал либретто оперы в «народном духе», хотя «сам барон не хотел и не думал попасть в либреттисты»[1437]. Работа началась при участии Жуковского (вскоре полностью передоверившего ее Р.) и В. Ф. Одоевского, весьма высоко отзывавшегося об искусстве поэта, вынужденного решать чрезвычайно сложные технические задачи, в т. ч. писать в заданной изначально метрической схеме (Одоевский В. Ф., Музыкально-литературное наследие, М., 1956, с. 120–121 и ук.). Критичнее относился к работе либреттиста Глинка, отмечавший стилистическую какафонию стихов, которые автор защищал с редким «упрямством» (Глинка М. И., Записки, М., 1988, ук.); тем не менее их сотрудничество продолжалось почти до окончания оперы; разрыв произошел, когда Глинка заканчивал партитуру, и дополнения и некоторые изменения текста сделали Кукольник и сам композитор (Гозенпуд А. А., Русский оперный театр 19 в., Л., 1969, с. 42 и ук.).
А. Я. Панаева, видевшая Р. на репетициях, оставила его словесный портрет: «тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение»; подобно И. И. Панаеву и Глинке, мемуаристка сообщила, что он «упивался» своими стихами[1438]. Как и трагедия Р., либретто «Жизнь за царя» оказалось шире отводившейся ему роли художественного официоза. (О роли Р. см. также Лит. при ст. Глинка М. И.).
В 1835–40 гг. личный секретарь при наследнике, великом князе Александре Николаевиче (в 1840 — коллежский асессор). Литературную работу, однако, не оставляет, участвует в «Современнике» Пушкина: ст. «О рифме» — к обоснованию безрифм. стиха (1836, т. I), сцена из трагедии «Дочь Иоанна III» (т. II). Смерть Пушкина глубоко потрясла Р.; памяти его он посвятил стих. «Могила поэта»[1439] и «Эврипид»[1440], где указал на конфликт с двором как причину гибели поэта (Лернер Н., Рассказы о Пушкине, Л., 1929, с. 199–203); какие-то стихи читал в день его похорон (воспоминания В. П. Бурнашева[1441]).
В конце 1830-х гг. возобновил сотрудничество с Воейковым и ненадолго сблизился с А. А. Краевским; И. И. Панаев вспоминал о критических нападках Р. на драматургию Н. Кукольника, игру В. А. Каратыгина и постоянных разговорах о своем драматургич. призвании[1442]. В 1838–39 в свите наследника (где был и Жуковский) совершил заграничное путешествие: встречался в Риме с Н. В. Гоголем. Результатом путешествия явилась серия путевых очерков и стихов в «Северной пчеле» (Лейпциг. Из путевых заметок — 1839, 21, 22 марта), «Сыне отечества» [стих. «Встреча в Эгерском замке» (1842, № 4), очерки: «Римский пантеон» (1841, II), «Первая прогулка по Риму» (1842, № 7), «Ватиканский собор» (1844, VI), «Поездка на дачу Горация» (1847, № 1), «Прогулка по Рейну» (1848, № 2, 11), «Путешествие по Швейцарии» (1849, № 9), «Римский пилигрим» (1849, № 10)] и других изданиях («Окрестности Женевского озера»[1443]), «Колизей, древний театр римлян» (Пантеон, 1840, ч. 1, кн. 1)]. Очерки Р. стали заметным явлением в рус. «литературе путешествий» 1840-х гг.; дорожные впечатления сочетаются в них с живо воссозданными картинами ист. прошлого, в т. ч. Средневековья, античности (см. «Поездка на дачу Горация»), критическими экскурсами, автобиографическими отступлениями, придающими повествованию личностный, порой лирический характер.
В 1840 вышел в отставку с ничтожным пенсионом в 400 руб.; Жуковский хлопотал перед вел. князем об увеличении суммы («этого достаточно, чтобы в первую треть года не умереть с голоду»[1444]). По воспоминаниям родных, с начала 1840-х гг. жил затворником на своей небольшой даче в Кушелёвке, занимаясь литературой и воспитывая детей брата и собственных[1445]. Нужда заставляла, как и ранее, искать литературного заработка; он устанавливает связи с «Пантеоном…» и «Лит. газ.» Ф. А. Кони[1446], и с «Сыном отечества»; в 1849 выполняет функции редактора, но уже через неск. месяцев вынужден передать их В. Р. Зотову[1447].
В «Сыне отечества» систематически печатал критические статьи, в т. ч. о переложении древнеиндийского эпоса «Наль и Дамаянти» Жуковским (1844, № 2) и о «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина (1847, № 3№ 1848, № 11), с защитой Булгарина от нападок прессы и признанием его значительной роли в русской литературе; в результате их сближения Булгарин предложил вести критический отдел в «Северной пчеле»[1448].
Подход Р. к литературным явлениям обусловлен его концепцией исторического развития русского общества, совместившей элементы славянофильства и западничества: как и славянофилы, он усматривал в русском народе нравственные и интеллектуальные потенции, дающие ему преимущество перед другими этносами, подобно западникам, в реформах Петра I видел мощное позитивное, цивилизующее начало. Р. решительно отрицал славянофильский тезис о разрыве между верхними слоями общества и народом, видя их разницу лишь в уровне просвещенности, распространяющейся постепенно. Ценность литературных эпох и наследия отдельных писателей определялась для него мерой сочетания в них просвещенности и народных начал; так, творчество А. А. Бестужева — воплощение «оригинальности и гениальности» народного духа, но отмеченное печатью «дуализма», разлада между индивидуальным талантом и свойственным его эпохе невысоким уровнем просвещения[1449]. Образцом гармонического сочетания «народного» и «просвещенного» явилось позднее творчество Пушкина. В применении к конкретным литературным феноменам концепция Р., проводимая с догматической последовательностью, обнаруживала жесткий нормативизм и консервативность, что ясно сказалось в оценке Р. творчества М. Ю. Лермонтова и Гоголя.
Признавая за Лермонтовым индивидуальные достоинства и объявив «замечательными» «Мцыри» и «Песню про царя Ивана Васильевича», Р. отверг «направление» его поэзии как «нехудожественное», проникнутое байронизмом, горькой рефлексией, а потому — «искусственное» и бесплодное для рус. лит-ры; дарование Лермонтова не успело созреть и преодолеть подражательность («О стихотворениях Лермонтова»[1450]). Откликаясь на 2-е изд. «Мертвых душ» (1846) со специально составленным к нему предисловием автора, Р. определяет Гоголя как «кривое зеркало», в которое смотрится «неизящная, не чистая природа» («Поэма Н. В. Гоголя об Одиссее»[1451]), а в статье «Ссылка на мертвых»[1452] развернуто анализирует зрелое творчество Гоголя («Ревизор», «Нос», «Мертвые души», «Выбранные места из переписки с друзьями»), пытаясь доказать, что оно в своих основаниях противоречит нормам пушкинской эстетики, равно как и общим эстетическим нормам литературы. Одновременно нападал на сторонников и почитателей Гоголя, якобы взрастивших в нем убежденность в собственной гениальности. Мемуарная часть статьи содержала ценные фактические сведения о Пушкине и литературных взаимоотношениях в пушкинском кругу (в частности, Пушкина и Гоголя); тонкая проницательность отдельных наблюдений и выводов сочеталась в ней с тем же узким эстетическим догматизмом, авторским самомнением и нарушением литературного этикета, иногда выходившим за рамки литературных приличий (анализ статьи и вызванной ею полемики см.: Шенрок).
В 50-е гг. изредка печатался в «Северной пчеле» (1853–54, 1856–60); выход в 1857 «Князей Курбских» был уже совершенным анахронизмом. В том же году выступил с историко-публицистической книгой «Отъезжие поля» (СПб.), где пытался подтвердить свои концепции материалом этногенеза; черпая исторические, а главным образом «психологические» аргументы из Геродота, мифологии и др. античных источников, выводил происхождение славян от скифов, слившихся с готами, что, с его точки зрения, определяет как историческую древность русского народа, так и его особые воинские, личностные и нравственные качества. Публицистический трактат, несмотря на широкую начитанность автора, оказался совершенно дилетантский по методике анализа.
В 1859 подал министру народного просвещения просьбу о цензорском месте, и был определен «из отставных» в Министерство народного просвещения; повторное ходатайство и обращение его к И. А. Гончарову (письмо от 28 ноября 1859[1453]) заставило Гончарова охарактеризовать его как человека «совершенно полуумного»; однако в феврале 1860 Р. назначили чиновником особых поручений при Главном управлении цензуры; рапорты его свидетельствуют о непонимании и неприятии им современной литературы (Мазон А. А., Страничка из истории рус. цензуры в кон. 50-х гг. — Сб. в честь В. П. Бузескула, Х., 1914). По семейному преданию, Р. умер, держа в руках свою трагедию «Дочь Иоанна III»; после его смерти брат уничтожил весь архив как ненужный хлам.
Др. соч.: «Сидонский». Роман (Сын Отечества, 1848, № 5, 6, 12), «Жизнь за царя» [Либретто оперы М. И. Глинки] (СПб., 1836), [Автобиография] (Rozen G., Die Tochter Joann’s III, SPb., 1841; рус. текст — в кн.: Розен А. Е., Очерк фамильной истории баронов фон Розен, СПб., 1876, с. 77–80.
Изд.: Баядера. (Индейская баллада). Из Гете. — «Литературное наследство», т. 4–6, с. 666–68; [Стихи]. — В книгах: Поэты 1820–30 (вступительная статья, заметка и комм. В. Э. Вацуро); А. С. Пушкин в стихах рус. поэтов XIX в., М., 1974 (стих. «26 мая», «Могила поэта»); Северные Цветы на 1832, М., 1980. [Статьи]. — В книгах: Русская критическая литература о произведениях Н. В. Гоголя, М., 1896, ч. III; Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина, 3-е изд., М., 1913, ч. V; Русская критическая литература о произведениях М. Ю. Лермонтова, 3-е изд., М., 1914, ч. II (сост. всех трех — В. А. Зелинский). Ссылка на мертвых [отрывок]. — В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников, М., 1974, т. II.
Лит.: Пушкин (ук.); Дельвиг А. А., Соч., Л., 1986 (ук.); Плетнёв, III, 556–57; Сенковский О. И., Собр. соч., т. 8, СПб., 1859, с. 3–28; Усов П. С., Из моих воспоминаний — Исторический Вестник, 1882, № 1, с. 121–23; Арнольд Ю. К., Воспоминания, в. 2, М., 1892, с. 182; Барсуков, IV, IX (ук.); ОА, III, с. 660–66 и ук.; Шенрок В., Отзывы современников о «Переписке с друзьями» Гоголя. — Русская Старина, 1894, № 11; его же, Материалы для биографии Гоголя, М., 1895, т. III, с. 92–95; т. IV, М., 1897, с. 449, 463–65, 514, 699; Добролюбов (ук.); Дневник Пушкина, 1833–35, под ред. и с объяснит. примеч. Б. Л. Модзалевского и со ст. П. Е. Щеголева, М.-Пг., 1923, с. 120–21; Дневник А. С. Пушкина (1833–1835), под ред. В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского, М.-Пг., 1923, с. 339–44; ЛН, т. 58 (ук.); Еремин М. П., Пушкин-публицист, М., 1963, с. 308–10; Иезуитова Р. В., Пушкин и эволюция романтической лирики в кон. 20-х и в 30-х гг. — Пушкин. Исследования и материалы, т. 1–12, М.-Л., 1956–86. — VI, 79–81; Серман И. З., Пушкин и русская историческая драма 1830-х гг. — Там же, с. 138–40; Исаков С. Г., О ливонской теме в русской литературе 1820–1830-х гг. — Ученые записки Тартусского государственного университета, в. 98, 1960, с. 179–80; его же, Журналы «Esthona» (1828–1830) и «Der Refraktor» (1836–1837) как пропагандисты русской литературы, — Там же, в. 266, 1971, с. 26–34; Богаевская К. П., Из забытых книг. — Прометей, т. Х, М., 1974; Бонди С. М., О Пушкине. Статьи и исследования, М., 1978, с. 340–44; Горохова Р. М., Образ Тассо в русской романтической литературе. — В кн.: От романтизма к реализму, Л., 1978, с. 164–65; Вацуро (ук.); Шарыпкин Д. М., Скандинавская литература в России, Л., 1980; История русской драматургии XVII — 1-й пол. XIX в., Л., 1982, с. 343–46 (ст. В. Э. Вацуро); Строганов М. В., Пушкин и Мадона. — В сборнике: А. С. Пушкин. Проблемы творчества, Калинин, 1987, с. 28–29; Эткинд Е. Г., Незамеченная книга Пушкина. — «Revue des études slaves», 1987, t. 59, fasc. 1–2, p. 204–09; Мир Пушкина. Фамильные бумаги Пушкиных — Ганнибалов, т. 1, Письма Н. О. и С. Л. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. 1828–1835, СПб., 1993 (ук. в т. 2); Вацуро В. Э., Записки комментатора, СПб., 1994, с. 332–42.
Некрологи: Северная пчела, 1860, 26 февраля; Геннади Г. Н., Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, т. 1–3, 1876–1908; Русский Биографический Словарь, т. 1–25, П.-М., 1896–1918; Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. 1–41А (кн. 1–82), СПб., 1890–1904; ИРДТ; Лермонтовская энциклопедия, М., 1981; Черейский Л. А., Пушкин и его окружение. Словарь-справочник, Л., 1975; Смирнов-Сокольский Н. П., Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX веков; История русской литературы конца XIX века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой, М.-Л., 1962. (ук.); Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. 1–4, М., 1956–60.
Архивы: Санктпетербургская театральная библиотека (ценз. рукописи драм «Дочь Иоанна III», «Князья Курбские», «Осада Пскова», «Петр Басманов», «Россия и Баторий» и др.); РГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 382 (письма Ф. Н. Глинке, 1829–31); ф. 195, оп. 1 (письма П. А. Вяземскому); ф. 236, оп. 1, № 127 (письма И. В. Киреевскому, 1832–33); ф. 88, оп. 1, № 41 (письма А. Ф. Воейкову, 1831); Институт русской литературы (Пушкинский дом), ф. 590 (письмо Н. И. Гречу, б. д.); Российская национальная библиотека, ф. 539, оп. 2, № 942 (письма В. Ф. Одоевскому, 1833–36); ф. 171, № 239 (письма В. П. Гаевскому, 1853).
Библиография трудов В. Э. Вацуро[1454]
1958
1. Первая Межвузовская конференция по творчеству М. Ю. Лермонтова. Ленинград. Май 1958 г. // Рус. лит. 1958. № 3. С. 259–260. В соавт. с С. Б. Латышевым.
1959
2. Драматургия Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 3. С. 719–731. В соавт. с В. А. Мануйловым. (См. № 6, 86).
3. Поэмы М. Ю. Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 2. С. 645–655. В соавт. с В. А. Мануйловым. (См. № 7, 89).
1960
4. М. Ю. Лермонтов: Семинарий / Под ред. В. А. Мануйлова. Л.: Учпедгиз, 1960., 461 с. В соавт. с В. А. Мануйловым и М. И. Гиллельсоном.
5. Третья научная межвузовская Лермонтовская конференция. Ленинград. Май 1960 г. // Рус. лит. 1960. № 3. С. 237–238.
1962
6. Драматургия М. Ю. Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 3. С. 719–729. В соавт. с В. А. Мануйловым. (См. № 2, 86).
7. Поэмы М. Ю. Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 2. С. 645–655. В соавт. с В. А. Мануйловым. (См. № 3, 89).
1963
8. Пушкиниана в периодике и сборниках статей (1961–1962) // Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 63–83.
9. XV Всесоюзная Пушкинская конференция. Ленинград. 4–6 июня 1963 г. // Вестн. АН СССР. 1963. № 8. С. 121–122.
10. XV Всесоюзная Пушкинская конференция. Ленинград. Июнь 1963 г. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1963, № 5. С. 458–461.
11. Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений / Вступ. ст. Н. Л. Степанова; Сост. Л. Е. Бобровой; Подгот. текста и примеч. Л. Е. Бобровой и B. Э. Вацуро. М.; Л.: Сов. писатель, 1963, 381 с. (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.).
1964
12. Всесоюзная Пушкинская конференция // Вестн. АН СССР. 1964. № 9. C. 140–141.
13. К вопросу о философских взглядах Хемницера // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Под ред. П. Н. Беркова и И. З. Сермана. М.; Л.: Наука, 1964. С. 129–145.
14. Лермонтов и Марлинский // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения. 1814–1964 / АН СССР. Ин-т мировой лит.; Отв. ред. У. Р. Фохт. М.: Наука, 1964. С. 341–363.
15. Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов // Рус. лит. 1964. № 3. С. 46–56.
16. XVI Всесоюзная Пушкинская конференция. Ленинград. Июнь 1964 г. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1964. № 5. С. 458–460.
1965
17. «Ирландские мелодии» Томаса Мура в творчестве Лермонтова // Рус. лит. 1965. № 3. С. 184–192.
18. Научные сессии, посвященные 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1965. № 1. С. 90–94. В соавт. с И. Е. Усок и А. Дадашзаде.
19. XVII Пушкинская конференция. Псков. Июнь 1965 г. // Рус. лит. 1965. № 4. С. 228–230.
20. XVII Пушкинская конференция в Пскове // Вестн. АН СССР. 1965. № 8. С. 103–104.
21. Юбилейная Лермонтовская конференция // Рус. лит. 1965. № 1. С. 226–228.
1966
22. Неизвестная статья А. А. Перовского о «Руслане и Людмиле» // Временник Пушкинской комиссии. 1963. М; Л.: Наука, 1966. С. 48–55.
23. Сороковые годы; Пушкин и деятельность тайных обществ. § 1; Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции. § 1, 3 // Пушкин: Итоги и проблемы изучения / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.; Л.: Наука, 1966. С. 33–36, 168–177, 198–205, 213–235.
1967
24. Неизвестные строки Пушкина // Наука и жизнь. 1967. № 1. С. 135–137. В соавт. с М. И. Гиллельсоном.
25. Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений: В 3 т. Л.: Сов. писатель, 1967. (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.).
Т. 1 / Общ. ред. и вступ. ст. К. И. Чуковского; Ред. т. Б. Я. Бухштаб; Подгот. текста и примеч. В. Э. Бограда, В. Э. Вацуро. 682 с.
Т. 2 / Общ. ред. К. И. Чуковского; Ред. т. С. А. Рейсер; Подгот. текста и примеч. М. Я. Блинчевской, В. Э. Вацуро и др. 703 с.
26. Пометы Пушкина на книге Вяземского // Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л.: Наука, 1967. С. 17–20.
1968
27. К изучению «Литературной газеты» Дельвига-Сомова // Временник Пушкинской комиссии. 1965. Л.: Наука, 1968. С. 23–36. (См. № 248).
28. Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6 / Подгот. текста и коммент. А. Д. Алексеева, А. И. Батюто, И. А. Битюговой, В. Э. Вацуро и др. М.: Юрид. лит., 1968, 696 с.
29. Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине» / Подгот. текста, ст. и коммент. В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М.; Л.: Наука, 1968, 128 с. Рец.: Павлова И. // Звезда. 1969. № 10. С. 220–221; Фризман Л. // Новый мир. 1969. № 8. С. 280–281; Виноградов Л. Пушкин: Лед и пламень полемики // В мире книг. 1975. № 10. С. 80–82.
30. «Подвиг честного человека» // Прометей. М.: Молодая гвардия, 1968. Т. 5. С. 8–51.
31. Русская литература XIX века // Советское литературоведение за пятьдесят лет / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Ин-т мировой лит. Л.: Наука, 1968. С. 92–95, 105–109.
1969
32. Барант А.-П.-Б., Бируков А. С., Борро Дж., Булгарин Ф. В., Ваттемар А., Винценгероде Ф. Ф., Воейков А. Ф., Вульф А. Н., Вульф Е. Н., Вяземский П. А., Глинка С. Н., Глинка Ф. Н., Голицын Н. Б., Греч Н. И., Давыдов Д. В., Дашков Д. В., Доливо-Добровольский Ф. И., Дондуков-Корсаков М. А., Екатерина II, Жандр А. А., Загоскин М. Н., Ишимова А. О., Каверин П. П., Катенин П. А., Козловский П. Б., Конисский Г., Корнуолл Барри, Крылов А. Л., Лангер В. П., Люценко Е. П., Мальцов И. С, Местр Ж., Мордвинов А. Н., Надеждин Н. И., Никитенко А. В., Никитин, Окулов М. А., Олег, Перфильев С. В., Петр I, Плетнев П. А., Погодин М. П., Полевой К. А., Полевой Н. А., Потоцкая М. А., Пугачев Е. И., Радищев А. Н., Разин С. Т., Рейф Ф. И., Семен А. И., Сенковский О. И., Сиркур А., Смирдин А. Ф., Соболевский С. А., Сталь А.-Л.-Ж., Тардиф де Мелло, Токвиль А.-Ш.-А., Тургенев А. И., Устрялов Н. Г., Фариков А. Ф., Феофан Прокопович, Фонвизин Д. И., Хвостов А. С, Хлюстин С. С, Хмельницкий А. И., Чаадаев П. Я., Шаликов П. И., Шванвич А. М., Шванвич М. А., Шекспир В., Щеглов Н. П., Языков А. М., Языков Н. М., Языков П. М. // Пушкин А. С. Письма последних лет. 1834–1837 / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1969, 528 с. Подпись: В. В.
33. Николай Васильевич Измайлов: [К 75-летию со дня рождения] // Рус. лит. 1969. № 1. С. 247–251.
34. К биографии поэта пушкинского окружения [А. А. Крылова] // Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л.: Наука, 1969. С. 61–63.
35. К истории пушкинских изданий: (Письма О. М. Сомова к К. С. Сербиновичу) // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1969. Т. 6. С. 284–297.
36. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1969. Сб. 8. С. 190–209.
37. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1969. Т. 6. С. 150–170.
38. Пушкинская конференция в Пскове // Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л.: Наука, 1969. С. 69–72.
1970
39. Пушкин в общественно-литературном движении начала 1830-х годов: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л., 1970, 20 с.
40. Русская эстетика XVIII века // Рус. лит. 1970. № 1. С. 227–234. В соавт. с М. Г. Альтшуллером.
Рец. на кн.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л.: Просвещение, 1968.
41. Уолпол и Пушкин // Временник Пушкинской комиссии. 1967–1968. Л.: Наука, 1970. С. 47–57.
1971
42. В. В. Виноградов: [Некролог] // Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л.: Наука, 1971. С. 120–123.
43. Глинка Ф. Н., Одоевский А. И., Раевский В. Ф., Синегуб С. С., Чаадаев П. Я. // Русские писатели: Биобиблиогр. словарь. М.: Просвещение, 1971. С. 244–246, 483–484, 556–557, 587–588, 677–679.
44. Пушкин и Аркадий Родзянка: Из истории гражданской поэзии 1820-х годов // Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л.: Наука, 1971. С. 43–72. (См. № 248).
45. Театр, музыка, литература // Вопр. лит. 1971. № 3. С. 237–238. Рец. на кн.: Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX в. (1836–1856). Л.: Музыка, 1969.
1972
46. Заметки А. А. Ахматовой о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л.: Наука, 1972. С. 30–44. В соавт. с Э. Г. Герштейн.
47. Из истории литературных полемик 1820-х годов: [Роль А. А. Крылова] // Вопросы литературы и фольклора / Воронеж. ун-т. Воронеж, 1972. С. 161–174.
48. Поэты 1820–1830-х годов: В 2 т. Т. 1 / Биогр. справки, сост., подгот. текста, примеч. В. Э. Вацуро. Л.: Сов. писатель, 1972, 792 с. (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.).
49. Сквозь «умственные плотины»: Из истории книги и прессы пушкинской поры. М: Книга, 1972, 319 с. В соавт. с М. И. Гиллельсоном.
Рец.: Вигилянский В. // Новый мир. 1973. № 12. С. 277–278; Фризман Л. Трудные судьбы мысли // В мире книг. 1973. № 6. С. 73; Смирнов И. // Звезда. 1973. № 5. С. 218–219. (См. № 128).
1973
50. К литературной истории стихотворения Некрасова «Землетрясение» // Некрасовский сборник / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1973. Сб. 5. С. 276–280.
51. От бытописания к «поэзии действительности». Гл. II, разд. 5, § 1 // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Под ред. Б. С. Мейлаха. Л.: Наука, 1973. С. 200–223.
52. Первый русский переводчик «Фариса» А. Мицкевича [В. Н. Щастный] // Славянские страны и русская литература / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1973. С. 47–67.
53. Роман Клары Рив в русском переводе // Россия и Запад: Из истории литературных отношений / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1973. С. 164–183.
1974
54. Из пушкинских маргиналий: (Пометы на книге Вяземского о Фонвизине) // Прометей. М.: Молодая гвардия, 1974. Т. 10. С. 114–131. В соавт. с М. И. Гиллельсоном. (См. № 62).
55. Из разысканий о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л.: Наука, 1974. С. 100–108. (См. № 197).
Содерж.: Пушкинский анекдот о Павле I; «Побежденная трудность»; Пушкинская поговорка у Лермонтова; К истории пушкинского экспромта.
56. «К вельможе» // Стихотворения Пушкина 20–30-х годов. Л.: Наука, 1974. С. 177–212. (См. № 248).
57. Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова: Письмо А. С. Траскина к П. X. Граббе // Рус. лит. 1974. № 1. C. 115–125. Рец.: Горская Е. Новое о дуэли и гибели Лермонтова // Ставроп. правда. 1974, 23 июня.
58. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М.: Худож. лит., 1974, 542 с, 559 с. (Сер. лит. мемуаров). (См. № 119, 222).
59. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. М: Худож. лит., 1974. Т. 1. С. 5–40. (Сер. лит. мемуаров). (См. № 120, 223).
60. Пушкин и Бомарше: (Заметки) // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1974. Т. 7. С. 204–214. (См. № 197).
61. Списки послания Е. А. Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л.: Наука, 1974. С. 55–62.
1975
62. Из пушкинских маргиналий: (Пометы на книге Вяземского о Фонвизине) // Прометей. 2-е изд. М: Молодая гвардия, 1975. Т. 10. С. 114–131. В соавт. с М. И. Гиллельсоном. (См. № 54).
63. К изучению «Дум» К. Ф. Рылеева // Рус. лит. 1975. № 4. С. 101–107.
64. Г. П. Каменев и готическая литература // XVIII век / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1975. Сб. 10. С. 271–275.
65. Мнимое четверостишие Баратынского: [По поводу статьи В. В. Кожинова «Легенды и факты: Заметки о Грибоедове, Баратынском, Есенине» (Рус. лит. 1975. № 2)] // Рус. лит. 1975. № 4. С. 154–156.
66. «Священный союз народов» // Литературное наследие декабристов / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Отв. ред. В. Г. Базанов, В. Э. Вацуро. Л.: Наука, 1975. С. 265–279. (См. № 248).
1976
67. Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1840-х годов: (Этюды и разыскания) // Русско-болгарские фольклорные и литературные связи / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1976. Т. 1. С. 231–272.
68. 80-летие Михаила Павловича Алексеева // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. № 3. С. 280–283. В соавт. с Н. Я. Дьяконовой.
69. Из наблюдений над поэтикой «Вия» Гоголя // Культурное наследие Древней Руси: Истоки. Становление. Традиции / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. Ин-т рус. лит. М.: Наука, 1976. С. 307–311.
70. К генезису пушкинского «Демона» // Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1976. С. 253–259. (См. № 248).
71. М. Ю. Лермонтов // Русская литература и фольклор: Первая половина XIX в. // АН СССР. Ин-т. рус. лит. Л.: Наука, 1976. С. 210–248.
72. Некрасов и К. А. Данненберг // Рус. лит. 1976. № 1. С. 131–144.
1977
73. «Великий меланхолик» в «Путешествии из Москвы в Петербург» // Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л.: Наука, 1977. С. 43–63. (См. № 197).
74. Грибоедов в романе В. С. Миклашевич «Село Михайловское» // А. С. Грибоедов: Творчество. Биография. Традиции. Л.: Наука, 1977. С. 235–256. (См. № 248).
1978
75. Лермонтовская энциклопедия: [К истории создания] // Рус. лит. 1978. № 4. С. 157–160.
76. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм: Сб. статей / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Отв. ред. К. Н. Григорьян. Л.: Наука, 1978. С. 118–138. (См. № 248).
77. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига-Пушкина. М.: Книга, 1978, 287 с. Рец.: Проскурин О. Альманах «Северные цветы» // Вопр. лит. 1981. № 3. С. 251–259; Ходоров А. // Звезда. 1979. № 9. С. 222; Buch W. // Zeitschrift fur slavische Philologie. Heidelberg, 1981. Bd. 42. H. 2. S. 428–432.
1979
78. Из альбомной лирики и литературной полемики 1790–1830-х годов // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л.: Наука, 1979. С. 61–62.
79. Из неизданных отзывов о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии. 1975. Л.: Наука, 1979. С. 98–110.
80. Из неизданных откликов на смерть Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л.: Наука, 1979. С. 46–65.
81. К цензурной истории «Демона» // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: М. П. Алексеев (отв. ред.), А. Глассе, В. Э. Вацуро и др. Л.: Наука, 1979. С. 410–414. (См. № 197).
82. Литературные альбомы в собрании Пушкинского Дома (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л.: Наука, 1979. С. 3–56.
83. Последняя повесть Лермонтова [ «Штосс»] // М. Ю. Лермонтов: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: М. П. Алексеев (отв. ред.), А. Глассе, В. Э. Вацуро и др. Л.: Наука, 1979. С. 223–252.
84. Поэты [пушкинской плеяды] // Аврора. 1979. № 6. С. 95–105.
1980
85. Дмитриев И. И. Письма / Публ. В. Э. Вацуро // Письма русских писателей XVIII века: Сб. / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1980. С. 416–458.
86. Драматургия Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. А. Мануйлов (отв. ред.), В. Э. Вацуро и др. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1980. Т. 3. С. 575–583. В соавт. с В. А. Мануйловым. (См. № 2, 6).
87. Один из источников «Огородника» [ «Перстень» (гл. из «Тарантаса» В. А. Соллогуба)] // Некрасовский сборник / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1980. Т. 7. С. 106–111.
88. Парадоксы дилетантизма: О пушкиноведении и «полемических заметках» [П. В. Бекедина в журнале «Дон»] // Лит. обозрение. 1980. № 1. С. 107–112.
89. Поэмы М. Ю. Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. А. Мануйлов (отв. ред.), В. Э. Вацуро и др. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1980. Т. 2. С. 525–533. (См. № 3, 7).
90. «Пророк» [А. С. Пушкина) // Аврора. 1980. № 8. С. 123–129. (См. № 197).
1981
91. «А. Д. З…», Батюшков К. Н., Бестужев А. А., Булгарин Ф. В., «Глупой красавице», Греч Н. И., Грузинов И. Р., Губер Э. И., «Жалобы турка», Жанры, «Жена Севера», «Журналист, читатель и писатель», Издания, «К Грузинову». «К Д[урно]ву», Каверин П. П., Корд Ф. Ф. (в соавт. с Н. М. Владимирской), Красов В. И., Лермонтоведение, «Мадригал», Майер Н. В., Мельгунов Н. А., Менцов Ф. Н., Мур Т., Мэтьюрин Ч. Р., «На буйном пиршестве задумчив он сидел», «На темной скале над шумящим Днепром», Ознобишин Д. П., «Опасение», Орлов В. И., Оссиан, «Отрывок», «Пленный рыцарь», Поэма (в соавт. с Т. А. Недосекиной), «Поэт» (1828), Приписываемое Лермонтову (в соавт. с О. В. Миллер), Проза, «Расстались мы, но твой портрет», «Романс» («Ты идешь на поле битвы»), «Современник», Стилизация, Стромилов С. И., «Ты молод, цвет твоих кудрей», «Умирающий гладиатор» (частично), Фольклоризм, Цензура, «Цефей», Циклы, Шаликов П. И., Шевырев С. П., Языков Н. М. // Лермонтовская энциклопедия / Гл. ред. B. А. Мануйлов. М.: Сов. энциклопедия, 1981. С. 27, 50–51, 57–58, 71–72, 113, 119–120, 122, 123, 159–163, 170–172, 183–187, 208, 209, 212, 231, 233, 242–250, 269, 276–277, 323–324, 327, 329, 331, 353, 355–357, 359–360, 421, 438–441, 445–449, 462–463, 473–474, 517–518, 528–530, 555, 585, 590, 597–599, 607–610, 617, 621–622, 642.
92. К истории элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты» // Временник Пушкинской комиссии. 1978. Л.: Наука, 1981. С. 5–21.
93. Нужное издание // Вопр. журналистики. Тбилиси, 1981. № 7–8. C. 500–502. В соавт. с Г. М. Фридлендером и Т. С. Царьковой.
Рец. на кн.: Новые материалы к истории русской литературы и журналистики второй половины XIX века. Тбилиси, 1977.
94. Повести Белкина // Пушкин А. С. Повести Белкина. 1830–1831. М.: Книга, 1981. С. 7–60; Примеч. С. 325–368. (См. № 197).
95. Поэзия пушкинского круга; Поэзия 1830-х гг.; Е. А. Баратынский // История русской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1981. Т. 2. С. 324–342, 362–392.
96. Тайны поэта? Нет, тайны времени… / Интервью взял Л. Сидоровский // Смена. 1981, 26 июля.
97. Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М.: Наука, 1980 [Рец.] // Вопр. лит. 1981. № 12. С. 260–266.
98. Byron in Russia. Byron and XIX century Russian Literature // Byron’s political and cultural influence in XIX century Europe: A Simposium / Ed. by P. G. True-blood. London, 1981. With N. Diakonova.
1982
99. Биография как творчество // Лит. газ. 1982, 15 дек. С. 5. Рец. на кн.: Лотман Ю. М. Александр Пушкин: Биография писателя. Л., 1982.
100. Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // История русской драматургии: XVII-первая половина XIX века / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1982. С. 327–367. (См. № 248).
101. «Кавказ» Михаила Туманишвили: Из истории грузинского поэтического пушкинизма // Лит. Грузия. 1982. № 12. С. 181–198.
102. Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. / Сост. и коммент. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, И. Б. Мушиной, М. А. Турьян. М.: Худож. лит., 1982, 494 с, 575 с. (Переписка рус. писателей).
1983
103. М. П. Алексеев как исследователь Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1983. Т. 11. С. 323–327. Подпись: В. В.
104. К биографии В. Г. Теплякова // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1983. Т. 11. С. 192–213. (См. № 248).
105. В. А. Мануйлову — 80 лет // Лит. газ. 1983, 21 сент. С. 5.
106. Мицкевич в стихах Лермонтова // Духовная культура славянских народов: Литература. Фольклор. История: Сб. статей к IX Международному съезду славистов / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1983. С. 109–129.
107. О пушкиноведческих работах Н. В. Измайлова // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, Т. 11. С. 336–338.
108. Ответственность слова // Лит. обозрение. 1983. № 9. С. 60–62. Рец. на кн.: Гинзбург Л. О старом и новом. Л.: Сов. писатель, 1982.
109. Поэма М. Ю. Лермонтова «Казначейша» в иллюстрациях М. В. Добужинского // Лермонтов М. Ю. Казначейша. Л.: Художник РСФСР, 1983. С. 1–4 прил. В соавт. с А. В. Корниловой.
110. А. С. Пушкин и книга / Сост., вступ. тексты и примеч. В. Э. Вацуро. М.: Книга, 1982, 396 с.
111. Художественная проблематика Лермонтова // Лермонтов М. Ю. Избр. соч. / Сост. В. Э. Вацуро, И. С. Чистова; Примеч. И. С. Чистовой. М.: Худож. лит., 1983. С. 5–34. (Б-ка классики. Рус. лит.).
1984
112. Денис Давыдов — поэт // Давыдов Д. В. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. В. Э. Вацуро. Л.: Сов. писатель, 1984. С. 5–48. (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.).
113. Три рукописи — один сюжет: Архивный поиск // Лит. газ. 1984, 25 июля. С. 6. (См. № 197).
Содерж.: Материалы о Денисе Давыдове в Публичной библиотеке (Ленинград).
114. Четыре рассказа о Денисе Давыдове: К 200-летию со дня рождения поэта-партизана // Звезда. № 7. С. 192–207. (См. № 197).
1985
115. Михаил Павлович Алексеев (1896–1981) // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, С. 199–204. Без подписи.
116. Из разысканий в области русской романтической поэтики // Теория и история литературы: (К 100-летию со дня рождения акад. А. И. Белецкого) / АН УССР. Ин-т лит. Киев: Наукова думка, 1985. С. 109–116. (См. № 197). Содерж.: Тассовский мотив в «Мстиславе Мстиславиче» П. А. Катенина; Один из источников пародии Достоевского.
117. Н. В. Измайлов (1893–1981) // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л.: Наука, 1985. С. 196–199. Без подписи.
118. Литературная школа Лермонтова // Лермонтовский сборник / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: И. С. Чистова, В. А. Мануйлов, В. Э. Вацуро. Л.: Наука, 1985. С. 49–90. (См. № 248).
119. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1985, 544 с, 575 с. (Сер. лит. мемуаров). (См. № 58, 222).
120. А. С. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1985. Т. 1. С. 5–26. (Сер. лит. мемуаров). (См. № 59, 223).
121. Пушкинские «литературные жесты» у М. Ю. Лермонтова // Рус. речь. 1985. № 5. С. 17–21.
122. Русский сонет 1820-х годов и европейская романтическая традиция // Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета / Тбил. ун-т; Тбил. пед. ин-т иностр. яз. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1985. С. 88–100.
1986
123. Антон Дельвиг — литератор // Дельвиг А. А. Соч. / Сост., вступ. ст. и коммент. В. Э. Вацуро. Л.: Худож. лит., 1986. С. 3–20.
124. Из записок филолога // Рус. речь. 1986. № 3. С. 5–22. (См. № 197). Содерж.: «Площадной шут» в пушкинской эпиграмме; Заметка к тексту Баратынского.
125. Из записок филолога // Рус. речь. 1986. № 4. С. 17–21. (См. № 197). Содерж.: Тощий кот на кровле; «Могильный голос» Вольтера в пушкинском послании.
126. Из историко-литературного комментария к стихотворениям Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1986. Т. 12. С. 305–323. (См. № 197). Содерж.: Послание Пушкина к Филимонову и др.
127. «Книг, ради бога, книг!»: (А. С. Пушкин) // «Они питали мою музу…»: Книги в жизни и творчестве писателей / Сост. С. А. Розанова. М: Книга, 1986. С. 8–28. (Наедине с книгой).
128. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книге и прессе пушкинской поры. 2-е изд., доп. М.: Книга, 1986, 382 с. В соавт. с М. И. Гиллельсоном. (См. № 49). Рец.: Яковлев С. Циничное презрение к мысли // Новый мир. 1987. № 5. С. 263–267; Ходоров А. Служение и честь // Нева. 1987. № 6. С. 171–172.
1987
129. Дельвиг и искусство // Сов. искусствознание. М., 1987. Вып. 22. С. 333–350. (См. № 197).
130. Заметки к пушкинским воспоминаниям о Дельвиге: Дельвиг и Гельти // Zeitschrift fur Slawistik. 1987. Bd. 32. H. 1. S. 54–59. (См. № 197).
131. Из записок филолога// Рус. речь. 1987. № 3. С. 31–33. (См. № 197). Содерж.: Булгарин и граф Хвостов; «Влажный дым» водопада.
132. Из записок филолога // Рус. речь. 1987. № 6. С. 19–25. (См. № 197). Содерж.: «Тень зари»; «Неприятель на носу»; Простодушие гения: (Заметки о Пушкине).
133. Александр Крюков и его стихи // Прометей. М.: Молодая гвардия, 1987. Т. 14. С. 252–258.
134. «Моцарт и Сальери» в «Маскараде» Лермонтова // Рус. лит. 1987. № 1. С. 78–88. (См. № 197, 219).
135. «Опыт прямодушия»: Из истории литературно-критических воззрений Пушкина // Лит. обозрение. 1987. № 2. С. 4–7.
136. «Отшельник» И. Чавчавадзе и русская литературная традиция // Творческое наследие Ильи Чавчавадзе и литература народов СССР: Тез. докл. и сообщений Всесоюз. науч. конф. Телави; Кварели, 1987. С. 23–25.
137. Проблема «Пушкин и мировая литература» в трудах М. П. Алексеева // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1987. С. 581–592.
138. Александр Пушкин [— читатель] // Кн. обозрение. 1987. 6 февр. С. 6.
139. Тургенев А. И. Письма к В. А. Жуковскому / Публ., вступ. ст. и примеч. В. Э. Вацуро и М. Н. Виролайнен // Жуковский и русская культура / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1987. С. 350–431.
140. Pr. Mérimée — А. С. Пушкин / Сост. З. И. Кирнозе; Коммент. В. Э. Вацуро и др. М.: Радуга, 1987, 432 с.
1988
141. Антоновский М. И., Второв И. А., Вындомский А. М. // Словарь русских писателей XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1988. Вып. 1. С. 35–37, 179–181.
142. Из записок филолога: Перевод до оригинала: [ «Подражание Шенье» Е. А. Баратынского]; Петрарка в стихах на смерть Пушкина: [ «А. С. Пушкин» В. А. Жуковского] // Рус. речь. 1988. № 4. С. 27–30. (См. № 197).
143. Из литературных отношений Баратынского // Рус. лит. 1988. № 3. С. 153–163. (См. № 248).
144. История одной ошибки: [Об авторстве стихотворения «К Морфею»] // Рус. речь. 1988. № 5. С. 17–23. (См. № 197).
145. Лермонтов и Серафима Теплова // Литература и искусство в системе культуры / Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. М.: Наука, 1988. С. 399–405. (См. № 197).
146. Мицкевич и русская литературная среда 1820-х годов: (Разыскания) // Литературные связи славянских народов: Исследования. Публикации. Библиография / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Отв. ред. В. Н. Баскаков. Л.: Наука, 1988. С. 22–57.
1989
147. Айбулат, Алексеев Ф. А. (в соавт. с А. И. Рейтблатом), Башилов А. А., Бестужев-Рюмин М. А., Бриммер В. К., Великопольский И. Е., Волков П. Г., Вуич Н. Е., Глебов А. Н., Глебов Д. П. // Русские писатели 1800–1917: Биогр. словарь / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1. С. 26, 186–187, 261–262, 327–328, 403–404, 466, 498, 572–573.
148. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // XVIII век / АН СССР. Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1989. Сб. 16. С. 139–179. (См. № 248).
149. Из записок филолога: К 175-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова // Рус. речь. 1989. № 5. С. 16–22. (См. № 197). Содерж.: «Камень, сглаженный потоком…»; Стихи Лермонтова и проза Карамзина.
150. Карамзин Н. М. Записка И. В. Лопухину; Баратынский Е. А. Письмо А. А. Елагину; Трубецкой Е. И. Письмо И. А. Якубовичу; Жуковский В. А. Письмо И. Ф. Крузенштерну / Публ. В. Э. Вацуро // Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М.: Книга, 1989. С. 332–338.
151. Карамзин возвращается // Лит. обозрение. 1989. № 11. С. 33–39. Рец. на кн.: Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М, 1987.
152. Лирика Пушкина // Пушкин А. С. Избр. лирика. М.: Дет. лит., 1989. С. 5–24.
153. Литературное движение начала [XIX] века: Карамзин. Жуковский. Батюшков. Лермонтов // История всемирной литературы: В 9 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит.; Гл. ред. Ю. Б. Виппер. М.: Наука, 1989. Т. 6. С. 292–303, 360–369.
154. О литературном источнике стихотворения А. Чавчавадзе «Человек в разные периоды жизни» // Труды Тбил. ун-та. 1989. Т. 285: Литературоведение. С. 38–43.
155. [Ответы на вопросы редакции «Литературного обозрения» о состоянии современного пушкиноведения] // Лит. обозрение. 1989. № 6. С. 16–17.
156. Почти неизвестный Тютчев // Рус. речь. 1989. № 4. С. 14–20. (См. № 197).
157. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989, 414 с. Рец.: Нешумова Т. // Лит. обозрение. 1990. № 9. С. 62.
158. «Стансы винограду»: Из записок филолога // Рус. речь. 1989. № 3. С. 24–27. (См. № 197).
159. Французская элегия XVIII–XIX веков и русская лирика пушкинской поры; Справки о русских поэтах-переводчиках; Комментарии к русским стихотворениям; Стихи русских поэтов, посвященные Андре Шенье // Французская элегия XVIII–XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры / Сост. Э. Вацуро. М.: Радуга, 1989. С. 27–48, 591–605, 606–668, 669–674. (См. № 248).
160. Эпиграмма Пушкина на А. Н. Муравьева // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1989. Т. 13. С. 222–241. (См. № 248).
1990
161. Жизнь и поэзия Надежды Тепловой // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1989 / АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. М.: Наука, 1990. С. 16–43. (См. № 248).
162. «Князь, наперсник Муз» в пушкинском «Городке»: Из записок филолога // Рус. речь. 1990. № 3. С. 8–12. (См. № 197).
163. Лермонтов Михаил Юрьевич // Русские писатели: Биобиблиогр. словарь / Под ред. П. А. Николаева. М.: Просвещение, 1990. Т. 1. С. 409–416.
1991
164. Из записок филолога: Бунина или Бакунина? // Рус. речь. 1991. № 5. С. 3–6. (См. № 197).
165. Карамзин Н. М. Из неизданных писем / Публ. В. Э. Вацуро // Рус. лит. 1991. № 4. С. 88–98.
166. Кукольник Н. Анекдоты / Вступ. заметка В. Э. Вацуро // Искусство Ленинграда. 1991. № 1. С. 66–75.
167. Г. П. Макогоненко как исследователь Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. Т. 14. С. 322–324. Подпись: В. В.
168. Борис Соломонович Мейлах // Пушкин: Исследования и материалы Л.: Наука, 1991. Т. 14. С. 310–312. Подпись: В. В.
169. Поэтический манифест Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. Т. 14. С. 65–72. (См. № 197).
170. Судьба «русского Фауста» // Турьян М. А. «Странная моя судьба»: О жизни В. Ф. Одоевского. М.: Книга, 1991. С. 5–10.
1992
171. Будем работать в стол — благо опыта не занимать // Лит. газ. 1992, 11 нояб. С. 6.
172. «В его свободе есть закон»: Штрихи к портрету Ю. Лотмана // Лит. газ. 1992, 26 февр. С. 6.
173. Встреча: Из комментариев к мемуарам о Карамзине // Н. М. Карамзин: Юбилей 1991 года: Сб. науч. тр. / Сост. Н. И. Михайлова, С. О. Шмидт. М., 1992. С. 111–126. (См. № 197).
174. Григорьев В. Н., Грузинов И. Р., Дашков Д. В., Деларю М. Д., Дельвиг А. И., Дельвиг А. А., Дуров А. X., Зайцевский Е. П., Зыков Д. П., Илличевский А. Д., Княжевич Н. М., Козлов В. И. // Русские писатели 1800–1917: Биогр. словарь / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Большая рос. энциклопедия, 1992. Т. 2. С. 36–37, 50, 89–90, 97–99, 197–198, 317, 363–364, 411–412, 568, 591–592.
175. Загадочная эпиграмма А. С. Пушкина // Рус. речь. 1992. № 3. С. 12–17. (См. № 197).
176. К изучению лицейской лирики Пушкина: Из работ над академическим собранием сочинений Пушкина // Рус. лит. 1992. № 4. С. 59–72. (См. № 197).
Содерж.: Реликты псевдопушкинианы в академическом собрании; Об адресате послания «К другу стихотворцу».
177. К литературной истории «Старой были» Катенина // Катенинские чтения: Тез. докл. Кострома, 1992. С. 11. (См. № 216).
178. Лермонтов и Андре Шенье: К интерпретации одного стихотворения [ «К *** (О, полно извинять разврат)»] // Михаил Лермонтов. 1814–1989: Норвич. симпозиум / Под ред. Е. Эткинда. Нортфилд: Рус. шк. Нор-вич. ун-та, 1992. С. 117–130.
179. Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: Темат. вып. журн. АРС. СПб., 1992. С. 36–47.
180. О тексте поэмы М. Ю. Лермонтова «Каллы» // В честь 70-летия проф. Ю. М. Лотмана / Тарт. ун-т. Каф. рус. лит. Тарту, 1992. С. 232–248.
181. «Перед Пушкиным мы в долгу…» / Диалог В. Э. Вацуро и С. А. Фомичева (записал И. Фоняков) // Лит. газ. 1992. 3 июня. С. 6.
182. Поэтический мир Сергея Вольфа // Рус. мысль. Париж, 1992. 8 янв. С. 11.
183. Приписываемое Пушкину [стихотворение «Цель моей жизни») // Новое лит. обозрение. 1992. № 1. С. 251–256. (См. № 197).
1993
184. М. Горбачев как феномен культуры // Культурологические записки. 1993. Вып. 1. С. 207–225.
185. Две заметки к пушкинским текстам // Пушкинский журнал = The Pushkin journal. 1993. Т. 1. № 1. С. 21–35. (См. № 197). Содерж.: Один из источников «Окна»; Пророчество Андрея Шенье.
186. Карамзин Н. М. Письма к В. М. Карамзину (1795–1798) / Публ. В. Э. Вацуро // Рус. лит. 1993. № 2. С. 80–132.
187. Некрасов и петербургские словесники // Рус. речь. 1993. № 5. С. 8–13. (См. № 197).
188. «Полный» Пушкин — впервые?: Первый том академического собрания сочинений ждет своего издания / Записала И. Муравьева // Невское время. 1993, 11 марта.
189. Последняя элегия Батюшкова: К истории текста // Рус. речь. 1993. № 2. С. 8–22. (См. № 197).
190. Послесловие [к роману Б. Садовского «Пшеница и плевелы»] // Новый мир. 1993. № 11. С. 143–150.
191. Умер Юрий Михайлович Лотман // Лит. газ. 1993. 3 нояб. С. 3.
192. Василий Ушаков и его «Пиковая дама» // Новое лит. обозрение.
1993. № 3. С. 103–119. (См. № 248).
193. Чужое «я» в лермонтовском творчестве // Russian literature. Amsterdam, 1993. Vol. 33. № 4. P. 505–519.
1994
194. Бунт эрудита против современности // Рус. мысль. Париж, 1994, 14–20 апр. Рец. на кн.: Герасимов К. Из глубины. Тбилиси, 1992.
195. В преддверии пушкинской эпохи // «Арзамас»: Сб. в 2 кн. / Сост., подгот. текста и коммент. В. Э. Вацуро и др. М.: Худож. лит., 1994. Кн. 1. С. 5–27. Рец.: Rossi V. // Russica Romana. Roma, 1995. Vol. 2. P. 428–430.
196. Грибоедовский замысел трагедии «Родамист и Зенобия» // Проблемы творчества А. С. Грибоедова: Сб. ст. / РАН. Отд-ние лит. и яз. Пушкинская комиссия; Отв. ред. С. А. Фомичев. Смоленск: Траст-ИМАКОМ, 1994. С. 162–193. (См. № 248).
197. Записки комментатора. СПб.: Акад. проект, 1994, 349 с. (См. № 55, 60, 73, 81, 90, 94, 113, 114, 116, 124–126, 129–132, 134, 142, 144, 145, 149, 156, 158, 162, 164, 169, 173, 175, 176, 183, 185, 187, 189).
Содерж.: «Пророк»; Поэтический манифест Пушкина; «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»; Кто был пушкинский «друг стихотворец»?; «Князь, наперсник муз» в пушкинском «Городке»; «Стансы винограду»; Бунина или Бакунина?; Загадочная эпиграмма Пушкина; «Тень зари»; Пророчество Андрея Шенье; Послание Пушкина к Филимонову; Бомарше в «Моцарте и Сальери»; «Могильный голос» Вольтера в пушкинском послании; Устная новелла Пушкина; Простодушие гения; «Неприятель на носу»; Булгарин и граф Хвостов; Тощий кот на кровле; Приписываемое Пушкину; Встреча: (Из комментариев к мемуарам о Карамзине); Последняя элегия Батюшкова; Торквато Тассо и «Мстислав Мстиславич» Катенина; Дельвиг и искусство; Дельвиг и немецкие поэты; История одной ошибки; «Гея» или «Игея»: (Заметка к тексту Баратынского); Перевод до оригинала; Почти неизвестный Тютчев; Рассказы о Денисе Давыдове; «Моцарт и Сальери» в «Маскараде»; Лермонтов и Серафима Теплова; «Камень, сглаженный потоком»; Запись в цензурной ведомости; Некрасов и петербургские словесники; «Великий меланхолик».
Рец.: Немзер А. Торжество смысла // Сегодня. 1994, 26 окт.; Мазья М. Лаборатория творчества // Нева. 1995. № 6. С. 198–199; Лурье С. // Невское время. 1995, 12 июля; Эльзон М. Д. Занимательность науки // Russian studies. 1995. Т. 1. № 3. Р. 443–445.
198. Козлов И. И., Колачевский Н. Н., Коншин Н. М., Кропоткин Д. А., Кругликов Г. П., Крылов А. А., Крюков А. П., Лермонтов М. Ю., Манассеин П. П., Мейснер А. Я. // Русские писатели 1800–1917: Биогр. словарь / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам гл. ред.) и др. М.: Большая рос. энциклопедия, 1994. Т. 3. С. 5–8, 20–21, 61–62, 161–162, 167, 175–176, 185–186, 329–338, 505, 570–572.
199. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа» / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1994, 240 с. Рец.: Немзер А. От скорби и скуки к утехам наслажденья // Сегодня. 1994, 20 авг. С. 12; Коровин В. И. Исследование об «элегической школе» // Новое лит. обозрение. 1995. № 11. С. 310–318; Leighton L. G. // Slavic and East European journal. 1996. Vol. 40. № 2. P. 372–373; Morgan J. // Pushkin Review. Bloomington, 1998. Vol. 1. P. 161–162.
200. Лицейское творчество Пушкина // Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет (1813–1817) / Ред. В. Э. Вацуро; Тексты проверили и примеч. составили В. Э. Вацуро и др. СПб.: Наука, 1994. С. 383–403.
201. Пушкинское переложение из «Книги Иудифь» // Jews and Slaws. Jerusalem, 1994. Vol. 2: The Bible in the thousand years of Russian literature. P. 135–144.
202. Случай имитации рукописного источника в русской литературе 1820-х годов // Рукопись сквозь века: (Рукопись как культурный феномен на различных этапах литературного развития) / РАН. Ин-т мировой лит; Ин-т совр. текстов и рукописей (Франция). Москва; Париж; Псков, 1994. С. 77–84.
203. Энциклопедический тупик // Лит. газ. 1994, 27 апр. С. 6.
1995
204. «Должно быть, Пушкина сочинение» / Диалог В. Э. Вацуро и С. А. Фомичева // Вести. 1995, 26 сент.
205. Из истории «готического» романа в России: (А. А. Бестужев-Марлинский) // Russian Literature. 1995. Vol. 38. № 2. P. 207–225.
206. Культура обойдется без властей // Невское время. 1995, 11 февр.
207. «Полночный колокол»: Из истории массового чтения в России в первой трети XIX в. // Чтение в дореволюционной России: Сб. науч. трудов / Сост. и науч. ред. А. И. Рейтблат. М.: Новое лит. обозрение, 1995. [Вып. 2]. С. 5–28.
208. Пушкин и Данте // Лотмановский сборник. М.: ИЦ-Гарант, 1995. [Вып.] 1. С. 375–391. (См. № 248).
209. «Сказка о золотом петушке»: (Опыт анализа сюжетной семантики) // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 1995. Т. 15. С. 122–133. (См. № 248).
210. Три Клеопатры // Dissertationes Slavicae. Sectio Historiae litterarum. Szeged, 1995. T. 21. S. 207–217.
1996
211. Два стихотворения Анны Радклиф в русских переводах // Россия. Запад. Восток: Встречные течения: К столетию со дня рождения акад. М. П. Алексеева / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1996. С. 247–255.
212. [Преамбула к статье М. С. Кайсарова «Скромный ответ на нескромное замечание г. К-ва»] // Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827 / Под общ. ред. В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева. СПб.: Гос. Пушкинский театр. центр, 1996. С. 359–361. (Пушкинская премьера). (См. № 257).
213. А. Радклиф, ее первые русские читатели и переводчики // Новое лит. обозрение. 1996. № 22. С. 202–225.
214. «Сын Курбского» // Русское подвижничество: Сб. к 90-летию Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1996. С. 159–170.
215. Сюжет «Боярина Орши» // Концепция и смысл: Сб. статей в честь 60-летия проф. М. Марковича / СПб. ун-т. СПб., 1996. С. 186–196.
216. Сюжет «Старой были» П. А. Катенина // Труды Отд. древнерус. лит. / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1996. Т. 50. С. 785–791. (См. № 177).
217. «La tragédie» romantique et Voltaire: (Contribution à l’analyse de «Boris Godounov» de Pouchkine) // Romantisme: Revue du dixneuvième siècle. Paris, 1996. № 92. P. 55–60.
1997
218. К истории эпиграмм Пушкина на Карамзина // Новое лит. обозрение. 1997. № 27. С. 112–131. (См. № 248).
219. «Моцарт и Сальери» в «Маскараде» Лермонтова. [Отр.] // «Моцарт и Сальери», трагедия Пушкина: Движение во времени: Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней / РАН. Ин-т мировой лит.; Сост. и коммент. В. С. Непомнящего. М.: Наследие, 1997. С. 718–722. (См. № 134, 197).
220. Страничка из жизни Грибоедова: (Неизданные письма Ф. В. Булгарина к Н. А. Полевому) // Пушкин и другие: Сб. статей к 60-летию проф. С. А. Фомичева / Новгород. ун-т. Новгород, 1997. С. 167–179.
1998
221. Некрасов, Плетнев и Никитенко в 1839 году: [Письмо П. А. Плетнева к А. В. Никитенко] // Некрасовский сборник / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1998. [Вып.] 11–12. С. 189–191.
222. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и др. 3-е изд., доп. СПб.: Акад. проект, 1998, 528 с., 655 с. (Пушкинская б-ка). (См. № 58, 119).
223. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро, Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович и др. 3-е изд., доп. СПб.: Акад. проект, 1998. Т. 1. С. 5–26. (Пушкинская б-ка). (См. № 59, 120).
224. «Тень, знай свое место!»: Пушкинисты о сегодняшней пушкинистике // Лит. газ. 1998. № 22. С. 11. В соавт. с С. А. Фомичевым.
1999
225. «Видок Фиглярин» // Новый мир. 1999. № 7. С. 193–196.
226. Еще раз об академическом издании Пушкина: (Разбор критических замечаний проф. Вернера Лефельдта) // Новое лит. обозрение. 1999. № 37. С. 253–266.
227. Лицейское творчество Пушкина // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. / РАН. Ин-т рус. лит.; Ред. т. В. Э. Вацуро; Подгот. текстов и примеч. В. Э. Вацуро и др. СПб.: Наука, 1999. Т. 1. С. 417–439.
228. Лицейское творчество Пушкина // Пушкин А. С. Соч. / РАН. Ин-т рус. лит.; Ред. т. В. Э. Вацуро; Подгот. текстов и примеч. В. Э. Вацуро и др. СПб.: Наука, 1999. Т. 1. С. 419–438.
229. Нечаев С. Д., Норов Ав. С., Одоевский В. Ф. (в соавт. с Г. В. Зыковой и Е. Г. Мещериной), Панаев В. А. // Русские писатели 1800–1917: Биогр. словарь / Гл. ред. П. А. Николаев; Зам. гл. ред. В. Э. Вацуро. М.: Большая рос. энциклопедия, 1999. Т. 4. С. 292–293, 359–361, 392–403, 514–516.
230. Об одной литературной пародии Некрасова «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» // Ars philologiae: Сб.: Проф. А. Б. Муратову ко дню 60-летия / Под ред. П. Е. Бухаркина; СПб. ун-т. СПб., 1997. С. 104–113.
231. Продолжение спора: О стихотворениях Пушкина «На Александра I» и «Ты и я» // Звезда. 1999. № 6. С. 142–159.
232. «Родамист и Зенобия» / Подгот. текста и коммент. В. Э. Вацуро // Грибоедов А. С. Полн. собр. соч.: В 3 т. / Редкол.: С. А. Фомичев (гл. ред.), В. Э. Вацуро, А. Л. Гришунин, Н. Н. Скатов. СПб.: Нотабене, 1999. Т. 2. С. 195–200, 446–453.
233. «Сиерра-Морена» Н. М. Карамзина и литературная традиция // XVIII век: Памяти П. Н. Беркова (1896–1969) / РАН. Ин-т рус. лит. СПб.: Наука, 1999. Сб. 21. С. 327–336.
234. София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского // Slavic Almanach. 1999. Т. 5. № 7–8. С. 86–96. (См. № 252).
235. Спящая красавица и поцелуй любовника: (К истории поэтического мотива у А. С. Пушкина) // Традиция и литературный процесс: К 60-летию Е. К. Ромодановской / РАН. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 1999. С. 206–214.
236. Утраченные стихи Пушкина: («Арзамасская речь») // Рус. речь. 1999. № 3. С. 10–18.
2000
236а. К портрету пушкиниста: Из переписки В. Э. Вацуро с Т. Г. Цявловской / Публикация С. И. Панова // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 78–123.
237. Беседа с В. Э. Вацуро по следам «круглого стола» «Пушкин и христианство» / [Публ. Л. С. Дубшана и Т. Ф. Селезневой] // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 209–212.
238. «Вольтеровский» эпизод в биографии Пушкина // Там же. С. 146–149.
239. Готический роман в России (1790–1840): Фрагменты из книги // Там же. С. 125–145.
Содерж: Псевдорадклифиана; Из главы «Шиллеризм» [Н. Гнедич]; (Лермонтов и традиции западноевропейского готического романа (М. Льюис)).
240. Заметки к теме «Пушкин и Арзамас» [Публ. Т. Ф. Селезневой] // Там же. С. 150–160.
241. М. Ю. Лермонтов // Лермонтов М. Ю. Поэзия. Драматургия. Проза / Сост. И. С. Чистова; Ин-т «Открытое о-во». М.: Слово, 2000. С. 5–10.
242. Незамеченные источники идиллии Гоголя «Ганс Кюхельгартен» // Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сб. статей, воспоминаний и документов / Под ред. В. М. Марковича, А. Карпова. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000. С. 117–127.
243. Несколько слов об Эйдельмане-пушкинисте // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 197–208.
244. То же // Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М.: Новое лит. обозрение, 2000. С. 10–23.
245. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» // А. С. Пушкин: Pro et contra: Личность и творчество Александра Пушкина в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология / Сост. М. Маркович и Г. Е. Потапова. СПб.: Изд-во Рус. Христ. гуманит. ин-та, 2000. Т. 2. С. 474–490. (Рус. путь).
246. «Полярная звезда» декабристов — «Полярная звезда» Герцена: Диалог В. Э. Вацуро и Н. Я. Эйдельмана [Публ. С. Р. Головко, И. А. Желваковой, Е. Г. Нарской] // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 177–196.
247. Пушкин и Денис Давыдов в 1818–1819 гг. // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сб. к 50-летию С. О. Шмидта / Ист. — арх. ин-т. М., 2000. С. 150–154.
248. Пушкинская пора: Сб. ст. СПб.: Акад. проект, 2000, 624 с.
Содерж.: И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века; Пушкин и Аркадий Родзянка: (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов); Эпиграммы Пушкина на Карамзина; К истории элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты»; К генезису пушкинского «Демона»; Пушкин в московских литературных кружках середины 1820-х годов: (Эпиграмма на А. Н. Муравьева); К изучению «Литературной газеты» Дельвига-Сомова; «К вельможе»; «Сказка о золотом петушке»: (Опыт анализа сюжетной семантики); Пушкин и Данте; «Священный союз народов»; Грибоедовский замысел трагедии «Родамист и Зенобия»; Грибоедов в романе В. С. Миклашевич «Село Михайловское»; Из литературных отношений Баратынского; Юность «Мельмота»: [В. Г. Тепляков]; Жизнь и поэзия Надежды Тепловой; Василий Ушаков и его «Пиковая дама»; Литературная школа Лермонтова; Русская идиллия в эпоху романтизма; Французская элегия XVIII–XIX веков и русская лирика пушкинской поры; Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов. (См. № 27, 44, 56, 66, 70, 74, 76, 92, 100, 104, 118, 143, 148, 159–161, 192, 196, 208, 209, 218).
Рец.: Немзер А. // Время. 2000. № 73. 4 июля; Щемелева Л. М. Презумпция смысла // Лит. газ. 2000. 5–11 июля. С. 10.
249. Пушкинская шутка; Русский спиритуалистический сонет романтической эпохи: Из сонетного творчества И. И. Козлова; Ю. Н. Тынянов и А. С. Грибоедов: Из наблюдений над романом «Смерть Вазир-Мухтара» / Публ. Т. Ф. Селезневой; Предисл. М. Турьян; Послесл. О. Супронюк // Звезда. 2000. № 11. С. 146–161.
250. Александр Радищев: [Статья для «Пушкинской энциклопедии»; Публ. И. С. Чистовой] // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 169–176.
251. Орест Сомов и Вашингтон Ирвинг // Restraductorica: Перевод и сравнительное изучение литератур: К 80-летию Ю. Д. Левина. СПб.: Наука, 2000. С. 138–145.
252. София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского // Новое лит. обозрение. 2000. № 42. С. 161–168. (См. № 234).
253. Un épisode «voltairien» dans la biographie de Pouchkine / Trad. de J. Bonamour // L’Universalitè de Pouchkine / lnstitut d’études slaves. Paris, 2000. P. 44–48.
254. В. А. Жуковский: Фрагмент из кн. «Готический роман в России. 1790–1840» / С предисл. А. Долинина // Всемир. слово. 2001. № 14. С. 148–152.
255. О «Моцарте и Сальери»: (Интервью радиостанции «Свобода». 1997 / Публ. Т. Нешумовой и Т. Селезневой) // Рус. яз. 2001. № 5. 1–7 февр. С. 5–7.
256. Первый русский переводчик «Витязя в тигровой шкуре» [И. В. Бартдинский] // Пушкинская конференция в Стэнфорде: Материалы и исслед. / Под ред. Д. М. Бетеа, А. Л. Осповата, Н. Г. Охотина, Л. С. Флейшмана. М.: Объед. гос. изд-во, 2001. Вып. 7. С. 490–509.
257. [Преамбула к статье М. С. Кайсарова «Скромный ответ на нескромное замечание г. К-ва»] // Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827 / Под общ. ред. В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева; РАН. Ин-т рус. лит.; Пушкинский театр. центр в СПб. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2001. С. 368–373. (См. № 212).
258. «Санктпетербургский зритель» // Пушкин в прижизненной критике. 1828–1830 / Под общ. ред. Е. О. Ларионовой; РАН. Ин-т рус. лит.; Пушкинский театр. центр в СПб. СПб., 2001. С. 536.
2002
259. Готический роман в России / Подгот. текста Т. Ф. Селезневой // Новое лит. обозрение. 2002, 544 с.
260. Стихотворение Пушкина «Недоконченная картина» // Пушкин и его современники. СПб.: Акад. проект, 2002. Вып. 3 (42). С. 389–396.
2003
261. Комментарии к стихотворениям «Вольность. Ода», «Свобода». Поздняя ред. (в соавт. с Е. О. Ларионовой, А. И. Роговой); «Кривцову» (в соавт. с И. С. Чистовой); «Торжество Вакха», «К Ж[уковскому]. По прочтении изданных им книжек „Для немногих“»; «Жуковскому». Поздняя ред.; «Послушай, дедушка, мне каждый раз»; «К портрету Жуковского»; «[На Карамзина]» («В его „Истории“ изящность, простота»); «[На Каченовского]» («Бессмертною рукой раздавленный зоил»); «Орлов с Истоминой в постеле»; «Мечтателю»; «И я слыхал, что Божий свет»; «[На Стурдзу]» («Холоп венчанного солдата!»), «[Записка к Жуковскому]» («Раевский, молоденец прежний»), «Недоконченная картина», «[К портрету Дельвига]» («Се самый Дельвиг тот, кто нам всегда твердил») (в соавт. с Е. О. Ларионовой); «Могущий бог садов — паду перед тобой», «Дубравы, где в тиши свободы» (в соавт. с Е. О. Ларионовой и И. С. Чистовой), «[Колосовой]» («О ты, Надежда нашей Сцены»), «[Красноречивый забияка]», «[Отрывки „Арзамасской речи“]», «Я вкруг Стурдзы хожу» // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. / РАН. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. Э. Вацуро и др. СПб.: Наука, 2003. Т. 2.
262. Пушкин и литературное движение его времени / Подготовка текста и публикация Т. Ф. Селезневой и А. Я. Чачбы // Новое лит. обозрение. 2003. № 59. С. 307–336.
263. Александр Чавчавадзе и русская романсная лирика: (Разыскания) / Подгот. текста и публ. Т. Ф. Селезневой // Пушкин: Исследования и материалы. СПб.: Наука, 2003. Т. XVI–XVII. С. 304–314.
264. Цитата из Вейсса у Пушкина // Театр и литература: Сборник к 95-летию А. А. Гозенпуда / Подготовка текста и публикация Т. Ф. Селезневой. СПб., 2003. С. 619–627.
265. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 2003. 2-е изд. (См. № 199).
Редактирование
266. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. Пушкинская комиссия; Отв. ред. В. Э. Вацуро. Л.: Наука, 1975, 520 с.
267. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1 / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. А. Мануйлов (отв. ред.), В. Э. Вацуро и др. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1979, 656 с.
268. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников / Ред. В. Э. Вацуро. М.: Худож. лит., 1980, 448 с. (Сер. лит. мемуаров).
269. Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. / Под общ. ред. В. Э. Вацуро и др. М.: Худож. лит., 1980, 476 с., 487 с. (Сер. лит. мемуаров).
270. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4 / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. А. Мануйлов (отв. ред.), В. Э. Вацуро и др. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1981, 592 с.
271. Лермонтовская энциклопедия / Гл. ред. В. А. Мануйлов; Ред. разделов «Произведения Лермонтова» и «Лермонтов и русская литература» В. Э. Вацуро. М.: Сов. энциклопедия, 1981, 784 с.
272. Черейский Л. А. Современники Пушкина: Документ. очерки / Науч. ред. В. Э. Вацуро. Л.: Дет. лит., 1981, 271 с.
273. И. А. Крылов в воспоминаниях современников / Ред. В. Э. Вацуро. М.: Худож. лит., 1982, 503 с. (Сер. лит. мемуаров).
274. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1–2 / Вступ. ст. и коммент. И. Л. Андроникова; Редкол.: В. Э. Вацуро и др. М.: Худож. лит., 1983, 446 с., 542 с.
275. Пушкин: Исследования и материалы. Т. 11 / Ред. Д. Д. Благой, В. Э. Вацуро и др. Л.: Наука, 1983, 360 с.
276. Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3–4 / Вступ. ст. и коммент. И. Л. Андроникова; Редкол.: В. Э. Вацуро и др. М.: Худож. лит., 1984, 543 с., 257 с.
277. Временник Пушкинской комиссии. 1981 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1985, 223 с.
278. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1986, 215 с.
279. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 22 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1988, 207 с.
280. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение / АН СССР. Отд-ние лит. и яз. Пушкинская комиссия; Отв. ред. В. Э. Вацуро. 2-е изд., доп. и перераб. Л.: Наука, 1988, 544 с.
281. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. A. Фомичев. Л.: Наука, 1989, 206 с.
282. Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. Т. 1 / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Сов. энциклопедия, 1989, 672 с.
283. Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С. В. Житомирская; Отв. ред. В. Э. Вацуро. М.: Наука, 1989, 790 с. (Лит. памятники).
284. Литература о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова: Библиогр. указ. 1825–1916 / АН СССР. Б-ка. Ин-т рус. лит.; Сост. О. В. Миллер; Под ред. Г. В. Бахаревой и В. Э. Вацуро. Л.: БАН, 1990, 346 с.
285. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 24 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1991, 216 с.
286. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 25 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1991, 218 с.
287. Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. Т. 2 / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Большая рос. энциклопедия; Фианит, 1992, 622 с.
288. Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. Т. 3 / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Большая рос. энциклопедия; Фианит, 1994, 592 с.
289. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 26 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1995, 255 с.
290. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 27 / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев, Л.: Наука, 1996, 256 с.
291. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. / РАН. Ин-т рус. лит.; Редкол.: В. Э. Вацуро и др.; Ред. т. В. Э. Вацуро. СПб.: Наука, 1999, 840 с.
292. Пушкин и его современники. Вып. 1 (40) / Редкол.: Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев. СПб.: Акад. проект, 1999, 350 с.
293. Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. Т. 3 / Гл. ред. П. А. Николаев; Редкол.: В. Э. Вацуро (зам. гл. ред.) и др. М.: Большая рос. энциклопедия; Фианит, 1999, 704 с.
294. Хохлова Н. А. Андрей Николаевич Муравьев — литератор / Ред. В. Э. Вацуро. СПб.: Изд-во Д. Буланина, 2001, 242 с.
295. Пушкин: Исследования и материалы. Сборник научных трудов. Т. XVI–XVII / Редкол.: В. Э. Вацуро, Р. В. Иезуитова, О. С. Муравьева, Н. Н. Петрунина, С. А. Фомичев. СПб.: Наука, 485 с.
Указатель имен[1455]
Абдулатипов Р. 733
Абрантес (Л. Жюно, герцогиня д’) 546
Агафонов Н. 544, 554, 682, 690
Азадовский М. К. 198, 200, 581
Аиссе Ш. Э. 351
Аксаков С. Т. 145, 149, 150, 378, 522, 684
Аладьин Е. В. 49, 56, 110, 130, 137
Александр I 182, 230, 233, 605, 619, 620, 623, 627, 642, 702, 736–746
Александр Македонский 132
Александр Николаевич, вел. князь, будущий император Александр II 20,775
Александр Павлович, вел. князь см. Александр I
Александров (Дольник) К. О. 543
Алексеев М. П. 212–214, 546, 548, 677, 688, 769
Алексеев Н. С. 29
Алексей Петрович, царевич 773
Алкснис В. 731
Алферовский, домовладелец 110
Алябьев А. Н. 655
Амелия 308, 460
Анастасевич В. Г. 467, 471–473
Ангальт Ф. Е. 532
Андреев Г. А. 232, 301, 314, 454, 471
Андриевич С. В. 3
Андроников И. Л. 485
Андрэ д’ 609
Аничков Д. С. 503
Анна Иоанновна 528, 529
Анна, царевна византийская 526
Анненский И. Ф. 716
Анреп Р. Р. 259
Ансело Ж. А. Ф. П. 100
Априлов В. 562, 563, 574, 576, 585
Аракчеев А. А. 17, 47, 632
Аргамаков А. В. 618, 619, 625
Ариосто Л. 46, 92, 217, 219, 751
Аристов В. В. 538
Аристофан 153
Арнаудов М. 562, 585
Арнольд Ю. К. 778
Аронсон М. И. 225, 488, 489
Арсеньев Д. В. 618
Архип, слуга О. М. Сомова 443, 446
Архипов В. А. 491
Архипова А. В. 524
Арцыбашев Н. С. 114, 115, 147
Арыда 94
Ахматова А. А. 609, 716
Багратион П. И. 623, 624, 626, 643, 654
Базанов В. Г. 195, 196, 199, 201, 487, 488, 491, 524, 660
Байрон Дж. Г. Н. 31, 40, 43, 47, 66, 67, 69, 70, 77, 138, 145, 153, 182, 211, 216–218, 220, 222, 383, 641, 751,753, 764
Балахонова, домовладелица 192
Балле И. 3, 65, 201, 206, 218
Балугьянский М. А. 601
Бальбус Гай Аттилий 702, 703
Бальзак О. де 260, 546
Бантыш-Каменский Д. Н. 371
Баранов В. В. 598
Баранов Д. О. 749
Барановская М. 489
Барант А. Г. П. Б. де 609
Барант Э. де 609
Бараташвили Н. 720
Баратынская Настасья Львовна 134,347, 422, 712
Баратынская С. М. см. Дельвиг С. М. Баратынские 710
Баратынский Е. А. 3, 5, 6, 10, 17–19,21–24, 26, 29–34, 39, 40–44, 47, 50, 51, 55–57, 59, 60, 62, 65, 66, 69, 72–74, 76–78, 84, 87, 91,97–104, 107, 108, 110–113, 115,116, 119, 126, 127, 133–140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 155, 162–166, 168, 172, 174–176, 178, 179, 185, 186, 188–191, 193, 196, 198–200, 202, 204, 205, 207, 208, 212, 214, 216–222, 225–228, 236, 237, 249, 255, 257, 258, 260–265, 283, 287, 294, 309, 311, 331, 332–334, 336–341, 343–348, 350–354, 357–360, 370, 372–374, 376, 378, 380, 381, 383–385, 387–390, 393–396, 401, 402, 413–424, 426, 444, 461, 487, 489, 490, 492–494, 598, 634, 638, 641, 644, 652, 655,659–661, 663, 665–669, 675, 709–714, 762, 763, 770
Баратынский С. А. 191
Барбье О. 769
Барклай де Толли М. Б. 725
Барсуков Н. П. 196, 199, 201, 203–206, 210, 589, 770, 773, 778
Бартенев П. И. 516
Бартенев Ю. Н. 108–110, 201, 219
Баскаков В. Н. 207, 213
Басманов П. Ф. 518
Батюшков К. Н. 18, 46, 58, 69, 70, 91,181, 186, 199, 204, 213, 218, 222,239, 258, 346, 379, 380, 383, 420, 485, 487, 519, 622, 623, 628, 630, 631, 634, 635, 639, 655–657, 663, 702–705, 707, 742, 748, 749, 761, 764
Бахметева С. А. 714
Бахтин И. И. старший 231
Бахтин И. И. младший 288, 445
Бахтин М. М. 756
Бахтин Н. И. 105, 106, 132, 148, 205, 208, 209, 231, 234–237, 259, 287, 293,444, 445, 448, 466, 469
Бахтины 236
Бегичев С. Н. 106
Безбородко И. А. 213
Безсонов П. А. 563
Бекетовы 645
Белинский В. Г. 160, 188, 214, 617, 646,768
Белосельский-Белозерский А. М. 231
Бен де Сен-Виктор 747–748
Бенедиктов В. Г. 638, 771
Бенецкий Г. Ф. 549
Бенкендорф А. Х. 47, 61, 54, 55, 81, 82, 87, 88, 96, 133, 139, 143, 153–155, 164, 165, 168, 177, 193, 419, 608, 670, 671
Беранже П.-Ж. де 92, 219
Берг Н. 584
Бердяев С. А. 768
Березина В. Г. 701
Берия Л. П. 729
Берков П. Н. 485, 498
Бернет Е. 766
Бесков, Б. фон 135
Бессонов Б. Л. 548
Бестужев (Марлинский) А. А. 5–9, 10, 11–13, 17, 18, 19–25, 27–34, 42,46, 47, 49, 50, 53–56, 59, 61, 73,75, 92, 93, 94, 97, 98, 116, 170, 173,195–197, 206, 217, 226, 256, 257, 283, 293, 354, 363, 369, 371, 379,380, 384, 413, 414, 416, 491, 492,548, 604, 622, 641, 644, 647, 662,665, 710, 711, 751, 752, 776
Бестужев М. А. 19, 20, 53, 154
Бестужев Н. А. 48, 53, 56, 154, 199, 210, 308, 373, 461, 665
Бестужев-Рюмин М. А. 66, 144, 155, 676, 765
Бестужевы 196, 198, 199, 200, 210
Бетанели Н. 733
Бетлер С. 751, 747
Бетховен Л. 164, 170
Бим-Баши С. 557
Биньоти Г. 302, 456
Бируков А. С. 17, 256, 357, 381, 385, 390, 397, 398, 418, 701
Битнер Г. В. 497
Бичурин Н. Я. см. Иакинф
Благой Д. Д. 209, 744–745, 751
Бларамберг И. П. 571, 573–574
Блинова Е. М. 210, 602, 667
Блок А. А. 716
Блудов Д. Н. 17, 72, 144, 149, 174, 519, 671
Бобович А. С. 550
Бобров Е. А. 519
Бобров Е. П. 201
Боброва Л. Е. 497
Бобылев Н. 546
Бовин А. 732
Богаевская К. П. 779
Богатырев П. Г. 565
Богач Г. Ф. 557
Богданович И. Ф. 17, 18, 26, 60, 78, 79, 218, 281, 283, 375, 498, 506, 751
Богданович Н. П. 375
Боград В. Э. 780
Бокаччо Д. 281
Болховской (Бологовский) Д. Н. 515
Бомарше П. О. 519
Бомон К. де 506
Бонди С. М. 204, 779
Боргондио 466
Борис Годунов 147
Боровков А. Д. 656
Боссюэ Ж. Б. 405, 415, 504, 712
Боуринг Дж. 196
Бошняк А. К. 740
Брайловский С. Н. 427
Брежнев Л. И. 721
Бригген А. Ф. 196
Бруханский Л. 571
Брюллов А. П. 30
Брюллов К. П. 540, 544, 553
Брюсов В. Я. 359, 490, 743
Буало Н. 257, 385
Бузескул В. П. 778
Бузо 467, 471
Булгаков А. Я. 41, 632
Булгарин Ф. В. 7–12, 16, 18, 19, 21–26, 30, 31, 43, 45, 52–54, 60–63, 73, 76, 79, 86, 87, 93–95, 98–100, 102, 103, 107, 113, 116, 118, 119,121, 132, 133, 139–142, 147, 150–156, 159, 161, 162, 164, 165, 173–175, 177, 179, 183, 184, 192, 197, 208, 210, 217–219, 240, 257, 286, 292, 293, 301, 302, 308, 309, 368, 374, 375, 377, 378, 386, 402, 423, 443, 444, 447, 448, 454, 456, 461,532, 621, 666–670, 702, 704, 757,762, 773, 776
Булич Н. Н. 202
Бунина А. П. 674
Бурнашев В. П. 65, 201, 210, 211, 681, 768, 773, 775
Бурцов А. П. 620–622, 629, 630, 652
Бурцов И. Г. 631, 660
Буффлер С. 428, 429
Бухмейер К. К. 196, 205
Бычков И. А. 195, 774
Бюргер Г. А. 657
Вансович, бригадный командир 674
Варламов А. Е. 410
Васильев М. А. 213
Вацуро Э. Г. 3
Вебер К. 280
Вейдемейер Т. С. 39, 40, 219
Великопольский И. Е. 45, 60, 199, 217, 218, 788
Велчев В. 563
Вельтман А. Ф. 556–567, 574–596
Вельяшева Е. В. 144
Веневитинов Д. В. 71–73, 79, 80, 84, 86, 113, 115, 133, 158, 203, 206, 218,219, 423, 666
Веневитиновы 72
Венелин Ю. И. 556, 558, 561, 563, 571, 574, 576, 582, 585, 589, 596
Вениамин, сын Симеона, царя болгарского 586
Вергилий 770
Вердеревский В. Е. 92, 114, 160, 170, 172, 210, 211, 218, 219, 221, 677
Верховский Ю. Н. 196, 200, 205, 208,210, 367, 487, 491
Веселовский А. А. 323, 361, 390, 425,488–490
Вигель Ф. Ф. 634, 653, 654
Виельгорский (Велеурский) М. Ю. 72,167, 625
Виже Э. 625
Вийон Ф. 424
Вильгельм Прусский, принц 682
Виницкий Ф. И. 647
Виницкий Ф. Н. 647
Виноградов В. В. 213, 698, 741
Виноградов И. 655
Винокур Г. О. 772
Винский Г. С. 498
Винцингероде Ф. Ф. 626, 627, 646
Виньи А. де 766
Висковатый П. А. 609
Витте И. О. 681
Владимир, вел. князь Киевский 104, 525
Владимир, слуга С. Д. Пономаревой 305,457, 458
Владимирский Г. Д. 697
Владиславлев В. А. 193
Воейков А. Ф. 9, 10, 13, 19, 21, 22–25,27, 30, 40, 44, 54, 65, 66, 79, 99,126, 139, 147, 196–198, 200, 201, 211, 216, 244, 257, 260, 293, 297,308, 319, 326, 378, 381, 386, 389, 393, 414, 447, 448, 450, 461, 661, 662, 675–677, 768, 773, 775, 779
Воейкова А. А. 13, 35, 37, 40, 41, 50, 78,80, 218, 260, 297, 301, 450, 454
Войников Д. 580
Волков А. А. 645
Волков П. Г. 161, 170, 211, 221, 677
Волкова В. 230
Волконская З. А. 72, 76, 79, 85, 127, 134, 145, 164, 167, 169, 189, 203, 212, 220–222, 231, 421, 666, 709
Волконская М. Н. 60
Волконская С. 40
Волконский А. Н. 127
Волконский Н. Г. 231
Волконский П. М. 640
Волконский С. Г. 631, 645
Волынский А. П. 529
Вольпе Ц. С. 195, 550, 600, 768
Вольперт Л. И. 487
Вольтер 78, 89, 428, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,510, 512, 518, 519, 745, 746, 751
Вольф Ч. 43
Вольховский В. Д. 660
Вонлярлярский В. А. 544
Вороницын И. 499
Воронцов М. С. 146, 572, 742
Востоков А. Х. 15, 45, 59, 91, 216–218,225, 247, 342–343, 379, 658
Вронченко М. П. 110, 111, 125, 205, 219,685
Всеволожская П. Н. 106, 107
Всеволожский А. В. 640
Всеволожский Н. В. 621
Второв И. А. 94, 123, 207, 536, 543, 787
Второв Н. И. 536–545, 549–553
Второвы 537
Вулих Н. В. 707
Вульф Алексей Н. 87, 100, 110, 111, 118, 119, 122, 126, 127, 130, 160, 205,207, 211, 220, 681, 739, 740
Вульф Анна Н. 58, 60, 74, 89, 200, 218,740, 741
Вульф П. И. 144
Вульфы 143, 740
Въжарова Ж. Н. 558, 574
Вюртембергский, герцог см. Фридрих-Евгений
Вяземская В. Ф. 71, 195, 753–754
Вяземские 514, 523
Вяземский П. А. 3, 5–7, 11, 12, 14, 17–21, 23–27, 29–33, 36, 37, 41–43,46, 49–51, 56, 58, 66, 69–74, 76–78, 80, 84, 86, 87, 91, 92, 95,97, 101, 103, 104, 106–111, 114,115, 118, 119, 125, 126, 133, 134, 139, 140, 143, 147, 149–156, 159, 162–168, 171, 172, 174–180,184–188, 190, 193, 195, 196, 199–202, 205–210, 212, 215–222, 231,236, 244, 354, 355, 378, 380, 420,492, 494, 515, 519–523, 531, 599–601, 604, 624, 628–630, 634, 635, 637, 641, 644, 646, 647, 649, 652–654, 656, 662, 666–668, 670, 674,701, 704, 705, 707, 708, 719, 742, 750, 752–757, 771, 774, 779
Вяземский П. Л. 199
Вяземский П. П. 523
Габаев Г. 682
Гагарин Г. Г. 194
Гагарин П. 40
Гаевский В. П. 16, 196, 204, 208–210,214, 245, 354, 374, 396–398, 402, 404, 424, 425, 486, 490, 493, 494,661, 655, 739, 769, 779
Гаевский П. И. 60, 64, 80, 81, 154
Гаевский С. Ф. 602
Газданов Г. 721
Гайдн Й. 170
Галактионов С. Ф. 30
Галахов А. Д. 397, 424, 494
Галл К. 217
Гамазов М. А. 537
Гангеблов А. С. 643
Ганди М. К. 720
Ганин Е. Ф. 247, 307, 319, 460
Ганнибалы 779
Гаркави А. М. 536
Гаспаров М. Л. 706
Гастфрейнд Н. А. 199, 213
Гафиз 64, 182, 218, 222
Гебгардт И. К. 197
Гегель Г. Ф. В. 723
Гельвеций К. А. 508, 509
Гельти Л. Г. Х. 657, 658
Геништа И. 231
Геннади Г. Н. 374, 779
Генриэтта-Анна Английская, герцогиня Орлеанская 415, 712
Гераков Г. В. 618
Герасимов, домовладелец 551
Гербель Н. В. 749, 768
Гердер И. Г. 663
Геров Н. 564–566
Геродот 72, 777
Герцен А. И. 188, 211
Гершензон М. О. 727
Герштейн Э. Г. 520, 609
Геснер С. 102, 258, 333, 386, 419, 420,421, 422
Гете И. В. 29, 59, 72, 145, 153, 159, 214,222, 334, 657, 663, 751, 778
Геффдинг Г. 501, 506
Гиллельсон М. И. 195–197, 199–201, 203–205, 208–211, 215, 494, 519,634, 654, 715, 719, 779
Гильтер К. П. 535, 537, 551, 553
Гильтер Л. А. 537, 540, 553, 555
Гильтер П. А. 540, 542, 551–554
Гильтер П. П. 541
Гильтеры 541, 553
Гинзбург Л. Я. 635
Гиппиус В. В. 210
Гиро А. 384, 663
Глазунов А. В. 192
Глебов А. Н. 65, 66, 201, 218, 677
Глебов А. П. 77
Глебов Д. П. 77, 78, 202, 218
Глебов Л. 201
Глинка А. А. 601
Глинка М. И. 104, 120–123, 126, 127,135, 547, 206, 208, 655, 761, 775, 778
Глинка С. Н. 107, 108, 525, 533, 534, 673
Глинка Ф. Н. 8–10, 16, 19, 20, 29, 31, 46,48, 49, 54, 56, 62–64, 78, 80, 88, 89, 92, 93, 95, 121, 126, 130, 136,137, 140, 145, 147, 162, 163, 169, 171, 172, 173, 174, 189, 191, 201,202, 212, 216–218, 220–222, 287, 299, 309, 378, 380, 384, 444, 452,461, 628, 662, 665, 666, 770, 779
Глинка Ю. К. 688
Глинки 121
Глушаковский Л. П. 675
Гнедич И. П. 238
Гнедич Н. И. 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 35,36, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 50, 57–59, 63, 74, 84, 91, 93, 94, 104, 112,113, 126, 127, 138, 150, 151, 168,169, 175–177, 183, 186, 198, 201, 216–218, 221, 225, 227, 231, 234,235, 237–240, 258, 308, 309, 345, 348, 357, 372, 374, 378–380, 384, 385, 388, 407, 408, 415, 418, 422, 423, 461, 485, 492, 493, 536, 658, 662, 666, 771
Гнедич П. П. 238
Гоббс Т. 507
Гоголь Н. В. 3, 121, 161, 171, 172, 181, 183, 185, 194, 208, 212, 213, 221,666, 717, 775, 777, 778
Гозенпуд А. А. 210, 547, 775
Голанд, певец 547
Голенищев-Кутузов П. В., петербургский ген. — губернатор 68
Голицын Д. В. 139
Голицын С. Г. 104, 122, 466, 470
Голицына Е. И. 259, 260
Голицына М. А. (урожд. Суворова) 216
Головачева-Панаева см. Панаева А. Я.
Головин В. И. (?) 314, 465, 469, 471–473
Гольбах П. А. 499–503
Гольдсмит О. 320, 400
Гольштейн-Готторпские, герцоги 18, 19
Гомер 112, 205, 212, 747
Гончаров И. А. 778
Гончарова Н. Н. (в замуж. Пушкина) 143, 179, 209, 514
Гораций 92, 114, 164, 170, 211, 221, 353, 354, 643, 657, 658, 706, 770, 776
Горбачев М. С. 723–735
Гордин А. М. 205, 517
Городецкий Б. П. 201, 202
Горохова Р. М. 748, 779
Горчаков А. М. 738
Готовцева А. И. (в замуж. Корнилова) 108–111, 118, 166, 171, 205, 219,220
Гофман В. 524
Гофман М. Л. 211, 737
Греков Н. 202
Грессе Ж.-Б. 748, 749, 751
Греч Н. И. 8–10, 16, 17, 19, 21–23, 25, 30, 31, 34, 37, 43, 53, 54, 61–64, 68, 71, 79, 86, 87, 94, 95, 97, 100, 121, 132, 139, 140, 150, 151, 153, 155, 156, 159, 177, 183, 184, 192, 195, 199, 201, 210, 218, 237, 240, 241, 252, 255, 292, 293, 297, 308, 309, 319, 413, 428, 447, 448, 450, 461, 515, 529, 536, 666, 702, 762, 773, 779
Грибоедов А. С. 19, 20, 23, 29, 39, 41, 43, 61, 100, 103, 104, 106, 119, 154,237, 244, 381, 485, 641, 702, 709,712, 727
Григорович В. И. 217, 218, 664
Григорович В. Н. 48, 49, 59, 63, 138
Григорьев В. Н. 29, 93, 204, 216, 218, 219
Гриц Т. А. 209
Гросбарт З. 697
Гроссман Л. П. 516
Грот К. Я. 198, 210, 694
Грот Я. К. 196, 387, 492, 497, 508, 520, 599, 656, 694, 776
Груев Й. 580
Грузинцев А. Н. 326
Губер П. К. 514
Губер Э. И. 784
Гуковский Г. А. 498, 651
Гюго В. 573, 675
Давыдов В. Д. 619, 633
Давыдов В. Л. 624, 633, 641
Давыдов Г. И. 621
Давыдов Д. В. 17, 76, 148, 204, 209, 601, 602, 617–654, 637, 656, 681, 696,742
Давыдова А. А. 624, 652
Давыдова В. Д. 618
Давыдовы 618, 633
Даламбер 509
Даль В. И. 606
Данилевский А. С. 183
Данилевский Р. Ю. 209
Данилов В. В. 212
Данненберг К. А. 535–555
Данте Алигьери 92, 164, 219, 221, 244, 302, 455, 456, 602
Дантес Ж. Ш. 604, 608
Даргомыжская М. Б. 29, 216
Даргомыжский А. С. 167, 655
Дашков Д. В. 13–15, 17, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 50, 51, 55, 92, 139, 145, 200, 216, 217, 219, 315, 630, 700
Дашков П. Я. 739
Двойченко-Маркова Е. М. 557
Делавинь К. 164
Деларю Д. А. 157
Деларю М. Д. 136, 137, 147, 157, 158, 170, 172, 175, 180, 182, 191, 214, 220, 221, 222, 333, 666, 764, 771
Деларю Н. С. 157
Делиль де Саль (наст. имя Изоар Ж.-Б.)499, 502, 503, 506, 507
Делиль Ж. 646
Дельвиг Александр Иванович 126, 179
Дельвиг Андрей Иванович 79, 86, 88,90, 119, 177, 195, 203, 210, 211,213, 396–399, 402, 486, 493, 666,771
Дельвиг Антон Антонович старший 655, 656
Дельвиг Антон Антонович 3, 5–20, 22,23, 25–32, 34–43, 45–52, 54–60, 62–64, 66–69, 73–82, 84–94, 96, 97, 100–103, 105–108,110–117, 118, 119, 121–128, 133–140, 144, 146–165, 167–169, 173, 178, 180–193, 196, 198–201, 204–210, 212, 214, 216–220,222, 225, 227, 228, 237, 238, 240, 243, 249, 251, 255–257, 261, 262,287, 293, 294, 309, 311, 331–334,336, 340–344, 346, 349, 351–358, 360–365, 367–370, 372, 374, 375, 378–381, 383–385, 388, 391–393, 395–399, 401, 402, 407, 408, 413, 415–417, 419–422, 424, 444, 461, 486, 489, 490–494, 536, 598, 600–602, 647, 655–671, 660, 683, 689, 694–699, 701, 704, 712, 738,752, 762–765, 769, 771, 772, 778
Дельвиг Е. А. 180, 182, 222
Дельвиг Е. М. 157
Дельвиг И. И. 179
Дельвиг Л. М. 655, 656
Дельвиг С. М. (урожд. Салтыкова) 27, 36, 37, 40–42, 44, 46, 50, 51, 55, 58, 68, 79, 86, 100, 101, 110, 122,124, 135, 136, 157, 172, 178–180,191, 192, 194, 198, 206, 217, 399,415, 422, 665, 671
Дельвиги 45, 50, 84, 88, 763
Деммерт В. А. 553
Демонси К. А. 538, 550
Ден, генерал 690
Де-Пуле М. Ф. 536, 537, 544
Державин Г. Р. 103, 126, 135, 167, 168, 281, 283, 295, 337, 355, 371, 625, 656, 657, 659, 660, 677, 709, 742
Державин К. Н. 502
Державина Д. А. 371
Деффан М. дю 500
Дибич И. И. 645
Дидро Д. 499, 500, 502, 503, 508, 509, 703
Динеков П. Н. 564
Диттель В. Ф. 538, 543
Дмитриев И. И. 12, 24, 27, 51, 52, 66, 72, 74, 76–78, 95, 101, 115, 176, 185, 186, 214, 217, 222, 233, 234, 281, 283, 320, 333, 355, 357, 401, 420, 485, 521, 529, 634, 701, 753, 771, 774
Дмитриев М. А. («Лже-Дмитриев») 26,202, 522
Дмитриева-Маймина Е. Е. 427
Дмитриев-Мамонов М. А. 632, 674
Добролюбов Н. А. 767–768, 778
Долгов И. А. 543
Долгорукая Н. Б. 60, 116
Долгорукий Д. И. 602
Долгоруков И. М. 488
Долгоруков Н. А. 739
Дорохов Р. 674, 675
Достоевский Ф. М. 717, 724
Доу Дж. 103, 220
Драгоманов М. П. 767
Драшусов В. И. 769
Драшусова Е. А. 769
Дризен Н. В. 225, 226, 425, 485–489
Дубельт Л. В. 681
Дубровин Н. Ф. 200
Дубшан Л. С. 794
Дугольц (?) 301, 454
Дудко И. 779
Дуйчев Ив. 589
Дурново Н. Д. 53, 314, 471
Духанин, домовладелец 543, 549
Дюканж Ш. 586, 590
Дюкло Ш. Пино 508
Дюпре де Сен-Мор Э. 308, 460
Дюран, актер 466, 470
Дюрют Ж. Ф. 627
Дюфрен Ш. 561, 590
Евгеньев-Максимов В. 550
Евсевий (Эвсевий) Кесарийский 573
Евсеевы 411
Егоров А. Е. 48
Егунов А. Н. 205, 212
Екатерина II 233, 498, 510, 742
Елагина А. П. 195
Елизавета I, королева английская 529
Елизавета Алексеевна, императрица 258, 467
Еремин М. П. 202, 210, 778
Ермакова-Битнер Е. Г. 212
Ермолов А. П. 618, 628, 631, 640–642,644, 646
Ермоловы 617
Ефремов П. А. 522, 523, 737, 739, 741, 743
Жадовская Ю. В. 109
Жандр А. А. 237, 244
Жанлис С. Ф. 335, 429
Жан-Поль (Рихтер И. П. Ф.) 765
Жерве В. В. 617, 681
Жильбер Н. 747
Жирмунский В. М. 764
Жмакин А. Я. 377, 378, 403
Жмакина П. А. см. Панаева П. А.
Жозефина 444
Жокур 509
Жомини Г. 630
Жуковский В. А. 3, 5, 6, 9–21, 23, 25–27,29–35, 37–42, 47, 51, 57, 58, 60,62, 65, 71, 78, 92, 95, 97, 98, 102, 103, 112, 113, 115, 126, 127, 136, 138, 139, 149, 150, 167, 178, 179, 184–186, 193–195, 197, 200, 204–206, 214,216, 218, 222, 225, 237, 255–257, 260, 293, 333, 353, 369, 372, 379, 380, 383, 396–398, 413, 491, 550, 599–601, 618, 623, 624, 628–630, 634–636, 640, 641, 656–658, 661, 662,666, 667, 681, 687, 693, 701, 716, 717, 719, 749, 754, 761, 762, 764, 768, 772,774–776
Жулковский Н. Д. 761
Забелин И. Е. 589
Заборова Р. Б. 214
Загорский М. П. 29, 197, 216
Загоскин М. Н. 154, 173, 382, 653
Загряжская Н. К. 516
Заикин, книгопродавец 192
Зайцевский Е. П. 92, 204, 219, 601–605, 610–612, 644, 652
Закревская А. Ф. 41, 42, 78, 104, 108, 112, 198, 260, 395, 414, 415, 712
Закревский А. А. 640–643, 645
Замков Н. 210, 212
Заславский И. Я. 696
Захаров А. Д. 48
Захарьин И. Н. (псевд. Якунин) 195
Зейдлиц К. К. 491
Зеленин Д. К. 565, 566
Зелинский В. А. 778
Зильберштейн И. С. 199, 210
Зисельман Е. И. 769
Златарски В. Н. 580–582, 586
Злотницкая Е. А. 631
Золотарева Е. Д. 648, 649, 652
Зонара И. 575, 593
Зонтаг А. П. 195
Зотов В. Р. 776
Зубов, граф 465, 467, 469, 470
Иакинф (Бичурин Н. Я.) 181, 182, 213,222
Ибн-Руми 218
Иван IV (Грозный) 147, 740, 773, 774
Иван, сын Симеона, царя болгарского 586
Иванов И. 499, 509
Иванов Й. 564
Иванов М. 775
Иванова Е. П. 188
Иванова-Гладильщикова Н. В. 715
Ивановский А. А. 87, 93, 94, 120, 121, 762
Иванчин-Писарев Н. Д. 77, 78, 185, 202, 750
Ивашева Е. П. 17
Иезуитова Р. В. 204, 209, 212, 769, 778
Измайлов А. Е. 8, 10, 19, 29, 30, 42–44, 51, 54, 64, 73, 86, 114, 123, 138, 173, 197–199, 206, 216, 217, 219, 220, 225–227, 237, 240, 241, 243–247,249, 251, 260, 264, 280, 283, 288,291–293, 296, 301–305, 307, 308, 311, 314–317, 320–323, 330, 331,333, 335, 340–342, 345, 350–365, 370–372, 375, 379–383, 386–390, 392, 393, 396–415, 418–422, 424, 430, 444, 447, 449, 454, 456, 457, 460, 461, 463, 482–484, 486–488, 490, 492, 493, 494, 537, 660, 661
Измайлов В. В. 77, 78, 89, 108, 115, 116, 201, 202, 219, 257
Измайлов В. Н. 200
Измайлов Н. В. 205, 212, 565, 651, 702
Измайлова Е. И. 226, 245, 411, 449, 486
Илличевский А. Д. 44, 45, 60, 92, 93, 120,122–124, 127, 145, 217–220, 225, 333, 424, 656, 657, 694, 761
Ильенко Е. М. 538
Ильин-Томич А. А. 632
Иоанн I Цимисхий, византийский император 571, 572, 575, 576
Иоанн II Комнин, византийский император 594
Иоанн Раич, архимандрит 559–561,586, 587, 590, 593, 595
Ипсиланти А. 557
Исаков С. Г. 212, 778
Исаков Я. А. 523
Каверин В. А. 204
Каверин П. П. 621
Каллаш В. В. 597, 606
Каменев Г. П. 519, 537
Каменский М. Ф. 620, 623
Каменский Н. М. 624
Камоэнс Л. 45, 747
Кант И. 770
Кантемир А. Д. 751
Капелюш Б. П. 200
Капнист В. В. 497
Каподистрия И. А. 182, 222
Каравелов Л. 580
Караджич В. 562, 570
Каразин В. Н. 255, 256, 662
Карамзин В. Н. 188, 222
Карамзин Н. М. 5, 41, 42, 57, 58, 77, 78, 85, 87, 91, 94–97, 102, 103, 105, 114, 115, 133, 142, 145, 147, 150,152, 153, 176, 200, 218, 226, 333, 355, 369, 420, 429, 515, 519, 521, 525, 526, 531, 559, 571, 573, 580, 618, 620, 633–635, 639, 640, 667,707, 719, 720, 724, 731, 747, 774
Карамзины 36, 37, 42, 58, 84, 85, 105, 205, 420, 514, 520, 662
Каратыгин В. А. 105, 240, 775
Каратыгин П. П. 199
Каратыгина А. М. 105, 106
Карелина А. Н. см. Семенова А. Н.
Карл Х, французский король 163
Карлгоф В. И. 677
Карпинский Ф. 700
Кассини 604
Касти Дж. 281
Каталани А. 466, 469
Катенин П. А. 73, 99, 105, 106, 111, 115,131, 134, 137, 148, 168, 205, 208,209, 212, 220, 227, 231, 237, 238, 239, 326, 603, 604
Катишь 434, 435
Катранов Н. 563
Катулл 15, 91, 342, 343, 489
Каховские 617
Каховский А. М. 618
Каховский П. Г. 52
Кацнельсон Д. Б. 684
Каченовский М. Т. 22, 23, 26, 128, 142, 144, 147, 169, 236, 257, 293, 447, 521, 522, 523
Качич-Миошич М. 561, 590
Кедрин-Скилица Г. 561, 575, 593
Кеневич В. 195, 609
Керн А. П. 74, 79, 81, 84, 89, 105, 110, 119, 122, 135, 137, 202, 203, 205, 207, 343, 399, 493, 599, 666, 763
Кернер Т. 689
Кибальник С. А. 489
Кипиловский А. С. 563, 574
Кипренский О. А. 48, 91, 225
Кирджали 557
Киреевский И. В. 72, 142, 150, 162, 178,187, 188, 190, 191, 222, 771, 779
Киреевский П. В. 565
Кирилл и Мефодий 584
Кирилюк З. В. 199
Кирша Данилов 658
Киселев Н. Д. 104
Киселев П. Д. 631, 632
Киселев-Сергенин В. С. 211, 213, 768
Киссинджер Г. 730
Клаудиус М. 657
Клейнмихель П. А. 773
Клейст Э. фон 657
Клеопатра 41
Клопшток Ф. Г. 657
Ключевский В. О. 717, 741
Кляйнер Ю. (Kleiner J.) 703, 709
Княжевич А. М. 321, 392
Княжевич В. М. 80, 247, 316, 387, 403,412
Княжевич Д. М. 296, 316, 333, 356, 412,449, 489
Княжевичи 296, 303, 305, 311, 314, 315,323, 331, 381, 398–399, 411, 449,456, 457
Кобеко Д. Ф. 485, 498, 510
Кованько И. А. 247, 424
Коженевский И. 121
Коженевский Ю. 170, 183, 213
Козельский Я. 511
Козлов И. И. 9, 10, 13, 16, 17, 21, 29, 35–44, 50, 60, 74, 79, 91, 116, 125, 133, 138, 158, 167, 168, 195, 198,216–221, 600, 662, 666, 710, 762,767, 768, 771
Козлов И. И. младший 39
Козлова А. И. 35, 39
Козлова С. А. 39
Козловский 410
Козловский М. И. 48
Козловы 40, 50
Козмин Н. К. 594
Колева Т. А. 564
Коломийцев 305, 458
Кольман К. И. 225
Кольцов А. В. 160, 211, 717
Комаров А. А. 181, 183, 222
Комаровский Е. Е. 40
Комовский В. Д. 122, 131, 192, 646
Комовский С. Д. 598
Компаньони Дж. 356
Кони Ф. А. 546, 776
Коновницыны 462, 463, 467, 472
Констан Б. 334, 428
Константин Павлович, вел. князь 230, 631, 645, 702
Коншин Н. М. 136, 137, 261, 262, 340, 341, 487, 489, 683, 669, 772
Копиш, майор 654
Корнель П. 111
Корнилова А. В. 486
Корнилович А. О. 10, 28, 36, 53, 61
Королева Н. В. 768
Корсак А. Я. см. Римский-Корсак А. Я.
Косачевская Е. М. 601
Костров Е. И. 131, 748
Котляревский И. П. 161, 220
Котляревский Н. А. 199, 210
Коцебу А. 748
Кочеров 467, 471
Кочубеи 301, 453
Кочубей В. П. 255
Кошанский Н. Ф. 657
Кошелев А. И. 79
Краевский А. А. 193, 681, 775
Красицкий И. 692
Красовский А. И. 172, 381
Крачковский И. Ю. 204
Кребильон К. П. Ж. 428
Креницын А. Н. 360, 675
Крестова Л. В. 514
Кречетов В. И. 120, 135, 761, 762
Критий 573
Кронеберг И. Я. 674, 675
Крылов А. А. 32, 33, 114, 216, 220, 294
Крылов И. А. 5, 6, 12, 15, 16, 26, 29–31, 40, 63, 91, 103, 104, 112, 113, 115,126, 127, 138, 150, 173, 195, 196, 216, 219, 220, 225, 227, 228, 237,238, 239, 247, 309, 337, 357, 365,461, 536, 600, 609, 659, 662, 751, 761
Крюднер А. М. 632
Крюков А. П. 123, 124, 140, 207, 220
Ксенофонт 72
Кубарев И. 195
Кубасов И. А. 206, 494, 486
Кубацкий В. (Kubacki W.) 703, 707
Кувшинников 273, 297–298, 436, 450–451
Кувшинников, домовладелец 110
Кудашева М. С. (в замуж. Подолинская) 766, 767
Кузнецов В. И. 536
Кукольник В. Г. 236
Кукольник Н. В. 121, 211, 236, 532, 773–775
Кулешов В. И. 197
Кульнев Я. П. 623
Купреянова Е. Н. 198, 493, 494, 712, 768
Курбские 774, 777
Курбский А. М. 740, 773
Кутузов М. И. 626, 627
Кутузов Н. И. 214
Кюрхнер 462, 464–467, 469–471
Кюхельбекер В. К. 6, 7, 10–12, 15–21, 29, 38–40, 42, 43, 48, 53–56, 59, 68, 75, 88, 97, 106, 115, 120, 126,129, 130, 132, 145, 179, 196, 198, 199, 205, 207, 209, 217, 220, 225, 227, 251, 255, 256, 262, 311, 331–336, 340, 354, 356–358, 380, 381, 486, 492, 515, 601, 657–663, 665, 682–685, 688–690, 753, 766–768
Кюхельбекер К. Г. 515
Лабинский 290, 446
Лабрюйер Ж. де 260
Лаваль А. И. (в замуж. Корвин-Коссаковская) 128
Лавров П. Л. 767
Лажечников И. И. 189, 191, 214, 222,627, 628
Ламанский И. 531
Ламартин А. де 34, 45, 218, 676
Лангер В. П. 122, 138, 149
Ланда С. С. 206, 207, 562, 632, 633
Ланжерон А. Ф. 515
Латышев С. Б. 779
Лафайет М. Ж. 653
Лафонтен Ж. де 337, 253, 258, 751
Лебедев-Полянский П. И. 716
Лев Диакон 561, 580
Левин Ю. Д. 205, 685, 688
Левинсон А. Г. 463
Левкович Я. Л. 202, 212, 486, 487, 491–493, 697
Ледницкий В. (Lednicki W.) 703, 709,710
Леклерк 290, 446
Леман, домовладелец 150
Лемке М. К. 199, 200
Лемонте П. Э. 429
Ленивцев Н. Г. 543, 551
Ленин В. И. 724, 730
Лермонтов М. Ю. 44, 125, 230, 237, 260, 283, 292, 485, 519, 520, 608, 609,653, 672, 675, 714, 717, 720, 749,764, 766, 777, 778
Лернер Н. О. 211, 213, 214, 514, 757, 775
Лессинг Г. Э. 333
Лещинский Ст. 508
Лжедмитрий 518
Либерман А. 608
Липранди И. П. 345, 556–571, 573, 574, 577, 580, 582, 586, 587, 590, 593, 595, 596
Лисенков И. Т. 598
Литвинов Н. 123, 207
Лиутпранд, епископ кремонский 590,592–595
Лихачев Д. С. 488, 718
Лобанов М. Е. 50, 175, 237, 238, 309, 356,357, 372, 384, 461
Лобанова О. К. 50, 309
Локк Д. 507
Ломан О. В. 536
Ломинадзе С. 714
Ломоносов М. В. 92, 167, 168, 219, 222, 619, 677
Лонгинов М. Н. 202, 550, 739, 743
Лопес (Лопец), сын португальского консула 231, 259, 294, 296, 300, 301, 304, 445, 448, 454
Лотман Ю. М. 494, 621, 634, 707, 720
Луи-Филипп, французский король 163,608
Лукиан 573
Лукреций 507
Лукьянович Н. 120
Лутковская А. В. 414, 417
Лутковский Е. А. 414
Львов Н. А. 497, 510
Любич-Романович В. И. 121, 171
Люблинский С. 500
Лященко А. 201
Мавро Орбини, архимандрит 561, 593
Мазаев М. Н. 425, 492
Мазепа И. С. 371
Мазон А. А. 778
Майков В. В. 196, 367, 487
Макаров М. Н. 77
Макаров Н. П. 675
Макогоненко Г. П. 510, 705
Максимович М. А. 66, 92, 101, 138, 140, 148–150, 156, 161, 162, 174–176, 182, 184, 186–188, 191, 201, 202, 208, 211, 212, 214, 219, 222, 707
Малевский Ф. 515
Малишевский Ю. (Maliszewski J.) 710
Мальфилатр Ж. Ш. Л. 747
Мальцов И. С. 762
Манассеин П. П. 673, 677–679, 682–693
Мандельштам О. Э. 716
Манн Ю. В. 768
Мансветов, священник 308, 460
Мануйлов В. А. 211, 779
Марин С. Н. 618, 619, 625, 626
Маринов Д. 566
Мария Федоровна, императрица 113, 235
Марк Аврелий 702–704, 745, 746
Маркевич Н. А. 515
Маркович Н. А. 601, 605
Маркс К. 728
Мармье Кс. 514
Мартелли (Ришо О. Ф.) 488
Мартос И. П. 48, 189, 222
Мартынов С. 467, 471
Марченко Н. А. 707
Марье 290, 447
Масальский К. П. 15, 45, 123, 147, 151, 156, 216, 217, 220, 669, 776
Масанов И. Ф. 492, 779
Маслов В. И. 196, 199, 214, 491, 524, 529, 531
Матевосян Г. 732
Маттисон Ф. 765
Матюшкин Ф. Ф. 177
Медведева И. Н. 486, 488, 489, 712
Межаков П. А. 258
Мейлах Б. С. 196, 204, 656
Мейснер А. 546
Меллер, граф 290, 446
Меньшенин Д. С. 286, 443
Мерзляков А. Ф. 66, 236, 664
Мериме П. (Mérimée P.) 56, 565
Местр К. де 345
Мефодий и Кирилл 584
Мечниковы 472, 473
Мещерский А. В. 137, 182, 222
Миклашевич В. С. 485, 783
Миллер О. Ф. 768
Милутинович С. 560–562
Мильвуа Ш. Г. 265, 639, 676
Мильтон Д. 747
Мин Д. 488
Мирабо О. Г. 499, 646
Михаил, сын Симеона, царя болгарского 586
Михайловский А. И. 536, 538, 540, 543, 545, 550, 553
Мицкевич Адам 92, 101, 103, 110, 113, 122, 124, 125, 127, 171, 204, 205,207, 219, 220, 604, 672–714, 762, 763
Мицкевич Александр 121
Модзалевский Б. Л. 197–205, 207–209, 212–214, 485, 493, 494, 741, 753, 778
Модзалевский Л. Б. 211, 601, 741
Мойер М. А. (урожд. Протасова) 12, 13,369
Молчанов П. С. 179, 231, 236
Монтень М. 260
Монтескье Ш. де 233
Мордвинов А. Н. 608
Мордовченко Н. И. 196, 487, 488, 661
Моро 472
Москотильников С. А. 519
Мосх 15
Моцарт В. А. 170
Мур Дж. 44, 217
Мур Т. 13, 108, 110, 219, 383, 762, 766
Муравьев Ал. Н. 660
Муравьев Ан. Н. 73–74, 183, 213, 421,494, 608, 710
Муравьев И. М. 38
Муравьев М. Н. 98
Муравьев Н. М. 36, 96, 97
Муравьева Е. Ф. 36
Муравьев-Апостол И. И. 36
Муравьев-Апостол И. М. 35, 36
Муравьев-Апостол М. И. 36
Муравьев-Апостол С. И. 36, 201
Муравьев-Карский Н. Н. 642
Муравьевы 53
Муравьевы-Апостолы 53
Муратова К. Д. 769, 779
Мурьянов М. Ф. 209
Мутева Е. 580
Муханов Н. А. 68, 196
Муханов П. А. 56, 61, 153, 154, 196, 197
Мушина И. Б. 209
Мяснов П. 675
Мятлев И. П. 200, 600, 602
Надеждин Н. И. 142, 144, 147, 153, 169, 173, 283, 764, 768
Нанина 434, 435, 444
Наполеон 623, 632, 646, 653, 654, 656, 674, 742
Нарышкин А. Л. 334
Нарышкина М. А. (урожд. Четвертинская) 620, 623
Насонкина Л. И. 211
Нащокин П. В. 22, 120, 197, 516
Некрасов А. А. 545
Некрасов Н. А. 493, 535–555, 725, 726
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 235, 244,245, 486, 624
Немзер А. С. 717
Немцевич Ю. У. 684
Неофит Рылский, архимандрит 563, 574
Нерсисян М. 642
Нестор, летописец 559, 589
Нечаев С. Д. 66
Нечаева В. С. 203
Нечкина М. В. 199, 200, 633, 660
Никита Акоминат (Хониат) 594
Никитенко А. В. 177, 184, 204, 210, 213, 214, 222, 597, 738, 773, 774
Никитин А. А. 30, 301, 454
Никитин И. С. 536
Никифор II Фока, император византийский 575
Николаев П. А. 721
Николай I 54, 57, 58, 71, 80, 81, 87, 88, 90, 96, 146, 153, 230, 628, 641–645, 774, 775
Николай II 730
Николай Михайлович, вел. князь 741
Николай Павлович, вел. князь — см. Николай I
Нистрем К. 211
Норов А. С. 287, 296–299, 302, 308, 314, 444, 450–452, 455, 461, 462, 471, 597, 603
Обер Д. Ф. Э. 547
Ободовский П. Г. 29, 45, 60, 93, 114, 138,216–220
Обрескова Е. С. 244
Овидий 48, 182, 222, 517, 571, 706, 707
Огарев Н. П. 743
Огнев Г. И. 550
Огнев И. И. 550, 554
Огнев Ф. И. 550
Огородников Е. К. 538, 544, 545, 546
Одоевские 79
Одоевский А. И. 167–169, 221, 665
Одоевский А. И. 53, 85, 153, 154
Одоевский В. Ф. 10, 16, 17, 73, 79, 103, 150, 170, 172, 178, 186, 191, 193,194, 214, 215, 221, 222, 514, 602,604, 775, 779
Одынец А. 684, 692, 710
Ожеро Ж. П. 626
Озеров В. А. 531–533
Ознобишин Д. П. 51, 52, 66, 67, 73, 202,217, 218
Оксман Ю. Г. 197, 198, 203, 213, 215,370, 491, 744
Окунева С. И. 365, 411
Оленин А. Н. 15, 16, 48, 91, 219, 237, 618,659, 704
Оленина А. А. 103, 104, 143, 204, 209
Оленины 103, 104
Олин В. Н. 529, 677
Ольга, княгиня 575
Онегин А. Ф. 514
Орбелиани М. 604
Оржицкий Н. Н. 52
Орлов В. Н. 200, 204, 205, 602, 622, 633, 642, 684, 689
Орлов М. Ф. 11, 96, 97, 152, 631, 632,641, 644, 645
Орлова А. А. 206, 208, 601
Орлов-Денисов, граф 471–473
Орловы-Давыдовы 467, 626
Ортега-и-Гассет Х. 723, 726, 728
Осипова П. А. 32, 58, 74, 80, 89, 100, 160, 220
Осповат А. Л. 794
Остолопов Н. Ф. 29, 216, 247, 290, 296,301–303, 305, 311, 315, 316, 320, 327, 328, 331, 333, 355, 356, 360, 370, 379, 382, 390, 392, 393, 402, 447, 450, 454, 456, 457, 492, 747
Отрешков Н. И. 192
Очкин А. 208
Ошеров С. А. 706
Павел I 513, 515–517, 619, 620, 702, 782
Павлищев Л. Н. 64, 201, 674, 676, 680, 681
Павлищев Н. И. 136, 349, 680, 681, 690
Павлищева О. С. (урожд. Пушкина) 43, 64, 217, 136, 349, 680, 681, 779
Павлов Н. Ф. 523
Павлова В. А. 536
Павлова К. К. см. Яниш К. К.
Павлович Н. Х. 580
Павлюченко Э. А. 197
Палаузов Н. 574
Палаузов С. Н. 561, 577, 582
Палиссо де Монтенуа Ш. 508–511
Паллад 700
Пальчиков В. П. 168
Панаев В. А. 535–537, 541, 542, 552, 554
Панаев В. И. 225–229, 231, 237, 241, 245, 257–259, 262, 264, 279–284, 288, 294, 295, 299, 302, 304, 305, 307, 308, 311–316, 321–323, 325, 331–333, 335–337, 340–342, 350, 355, 356, 358–361, 365, 367, 370, 376–379, 386–391, 393, 396, 399, 400, 403, 404, 406–408, 412, 413, 418–422, 424, 445, 448, 449, 452, 456, 457, 459, 460, 471, 488, 492, 660, 664
Панаев И. И. 208, 213, 332, 537, 762, 775
Панаева А. Я. 488, 548, 554
Панаева А. Я. 775
Панаева П. А. (урожд. Жмакина) 360,377, 378, 403, 420
Панаевы 295, 537, 555
Парни Э. Д. 64, 114, 218, 265, 302, 346, 385, 413, 416, 455, 636, 639
Паскевич И. Ф. 143, 642, 643, 645, 690
Пассек В. В. 188
Пассек Т. П. 202, 214
Пашков И. А. 166
Пашковы 166
Пельский Д. Ф. 188
Перевощиков В. М. 64, 65, 200, 201
Перовский А. А. (псевд. Антоний Погорельский) 39, 103, 116, 145, 154,173
Перовский В. А. 9, 13, 31, 195, 216, 218,
Песков А. М. 490
Пестель П. И. 631
Петр I 52, 113, 219, 420, 702, 704, 773, 776
Петр, сын Симеона, царя болгарского 586
Петр, царь болгарский 581
Петрарка Ф. 92, 219, 244, 423, 772
Петров В. П. 52, 463
Петроний Арбитр 752, 753, 756
Петряев Е. Д. 490
Пигарев К. В. 491, 502, 524
Пигонь С. 700
Пиндар 646
Писарев А. А. 26, 522
Писарев Д. И. 767
Плетнев П. А. 3, 8, 10, 15, 16, 20, 25,27–30, 32–36, 38–40, 43, 44–50, 57–59, 63, 65, 75, 86, 87, 91, 93, 98–100, 111, 114, 121, 138, 142, 147, 157, 158, 161, 169, 171, 172, 174–180, 184, 186, 190–192, 194, 196, 197, 199, 201, 206, 207, 212, 214, 216–221, 286, 370, 371, 378, 384, 387, 404, 416, 424, 442, 492, 520, 599, 658, 662, 666, 764, 776, 778
Плетнева С. А. 286, 442
Плеханов Г. В. 724
Плутарх 573
Плутник А. 730
Плюшар А. А. 137, 298, 451, 602
Победоносцев С. П. 681, 682, 692
Погодин М. П. 50, 51, 66, 67, 72–74, 84,85, 87, 88, 99, 101, 107, 114–116, 127, 128, 134, 141–143, 147, 150,153, 170, 186, 191, 196, 200, 201, 205, 212, 218, 222, 589, 640, 666, 764, 770, 773
Поджио А. В. 231, 248, 259, 296, 348
Подолинский А. И. 3, 92, 99, 120–125, 127, 128, 134, 135, 147, 155–159,162, 164, 183, 206, 207, 210, 213,219–221, 666, 669, 670, 761–769, 771, 772
Подолинский И. Н. 761
Подолинский С. А. 767–769
Подолинский С. С. 769
Познанский И. 207
Познанский Ю. И. 125, 130, 207, 763, 766
Позняк Дмитрий Прокофьевич 231–235, 239, 259, 406, 407, 410, 411,443
Позняк Екатерина Дмитриевна (в замуж. Андреева) 232, 238, 314, 406, 471
Позняк И. Д. 232, 234, 245, 333
Позняк М. Д. 233
Позняк П. 232
Позняк П. Д. 233
Позняки 238, 239
Покровский М. 670
Полевой К. А. 77, 197, 519, 701, 702, 772
Полевой Н. А. 31–33, 62, 72, 73, 76, 99, 101, 107, 110, 112, 116, 125, 133,134, 136, 142, 145, 147, 150, 152,153, 162, 173, 174, 179, 187, 198–200, 202, 208, 211, 416, 515, 519, 543, 545, 546, 549, 575, 594, 666, 667, 670, 678, 701, 709, 750, 757, 762, 764, 773
Полевые 709, 763
Полежаев А. И. 66, 158, 181, 598, 606
Полидори Дж. 565
Политковский В. Г. 682
Половцев А. А. 769
Полонский Я. П. 766
Полторанин М. 717
Полторацкая Е. П. 74
Полторацкий П. М. 74
Полторацкий С. Д. 739
Поляков А. С. 608
Померанец Г. 732
Помо Р. (Pomeau R.) 501, 507
Помяловский И. В. 739
Пономарев А. И. 229, 232, 234–236, 238, 242, 244, 245, 248, 250–252, 260, 267, 288, 294, 297, 303, 307,314–316, 331, 361, 392, 403, 406,407, 409–412, 430, 431, 445, 446, 450, 455, 456, 459, 471
Пономарев Д. А., сын С. Д. Пономаревой 229, 230, 406
Пономарев Н. 228, 229, 243
Пономарев Н. Н. 425
Пономарева Е. И. 238
Пономарева С. Д. 29, 46, 91, 216, 223–494, 660, 661
Пономаревы 237, 239, 240, 265, 272, 302,310, 321, 341, 351
Попов М. Я. 617
Потапов А. Н. 61
Потемкин-Таврический Г. А. 232
Потоцкий Я. 560–562
Пржецлавский О. А. 68
Прийма Ф. Я. 212, 696
Прокопович Н. Я. 181, 183, 222
Прокопович П. Я. 213
Прокопович-Антонский А. А. 211
Проскурин О. А. 486
Протасова А. А. 9
Протасова М. А. см. Мойер М. А.
Псевдо-Симеон Магистр, византийский хронист 593
Пугачев В. В. 633
Пугачев Е. И. 498, 742
Путилов Б. Н. 591
Путята Н. В. 42, 44, 68, 201, 228, 229,415, 712
Пушкин А. С. 3, 5, 6, 10–13, 18, 20–34,36–38, 40–43, 45, 46, 49, 51, 56–60, 64–78, 80–91, 93–113, 115, 117–124, 127, 132–134, 136–140, 142–147, 149–155, 158, 159, 161–165, 167–172, 174–206, 208–222, 225–227, 230–232, 237, 240, 248, 249, 255, 262, 281, 332, 333, 343, 345, 347, 366, 368, 378, 380,381, 383, 385, 388, 392, 414, 416,419, 420–422, 424, 428, 485, 487–492, 494, 513–523, 536, 537, 548, 559, 571, 597–616, 629, 631, 633, 635–637, 640, 642, 644, 647, 648, 650–652, 655–657, 659–663, 665–670, 672–675, 677, 681–683, 689, 693–697, 699, 702, 704–706, 713, 714, 717, 722, 725, 736–757, 761–775, 777–779
Пушкин В. Л. 71, 77–78, 101, 107, 129, 134, 174, 202, 220, 463, 621, 624,630, 634, 635, 636, 750
Пушкин Л. С. 10, 15, 17, 19, 22, 24, 32,35–44, 49, 50, 55, 60, 74, 75, 84, 104, 120, 136, 162, 200, 200, 217, 367, 413, 416, 492, 522, 604, 676,678, 680, 690, 751, 755
Пушкин С. Л. 84, 779
Пушкина А. Т. 39
Пушкина Н. Н. см. Гончарова Н. Н.
Пушкина Н. О. 84, 606, 614, 779
Пушкина О. С. см. Павлищева О. С.
Пушкина С. Ф. 85
Пушкины 58, 77, 345, 778
Пущин И. И. 32, 45, 55, 68, 75, 97, 249
Пущин М. И. 69
Радзивилл С. 44, 217
Радищев А. Н. 498, 510, 619
Радовиц К. 601
Раевская Е. Н. (в замуж. Орлова) 11
Раевская М. Н. 645
Раевские 617, 624, 641
Раевский В. Ф. 66, 557, 682
Раевский Н. А. 197
Раевский Н. Н. старший 624, 627, 631,643–645
Раевский Н. Н. младший 143
Раевский С. А. 608
Разин С. Т. 74, 87, 88
Раич С. Е. 6, 51, 52, 66, 72–74, 101, 134, 135, 181, 202, 217, 764
Рак В. Д. 768
Раковский Г. С. 581
Рамбулье К. 226, 229, 230
Расин Ж. 356, 372
Рассадин С. Б. 649
Рачинские 487
Рейбо Ф. 546
Рейсер С. А. 196, 225, 536, 488, 489, 541
Рекамье Ж. А. 226
Рехвиашвили А. 718
Ризнич А. 85, 562
Ризнич И. С. 562
Римский-Корсак А. Я. 120, 121, 127, 129, 135, 208, 680, 761
Ринкевич, домовладелец 72
Рихтер А. Ф. 305, 389, 390, 457
Рихтер И. П. Ф. 766
Ровнякова Л. И. 577
Рожалин Н. М. 85, 86
Розанов М. Н. 511
Розберг М. П. 766
Роземанн, врач 472
Розен Е. Ф. 123, 127–130, 135–137, 144, 156, 157, 159, 180, 183, 184, 188,210, 213, 214, 220–222, 518, 520, 521, 523, 666, 669, 670, 677, 683, 764, 765, 770–779
Розенблюм Н. Г. 601
Романовы, династия 18
Россет А. О. (в замуж. Смирнова) 165,188, 221, 514, 516, 600
Ростовцев Я. И. 257
Ростопчин Ф. В. 627
Ростопчина Е. П. (урожд. Сушкова) 166,167, 193, 212, 367, 368
Ротчев А. Г. 60, 66, 67, 113, 143, 145, 149,181, 218, 220, 221, 683
Роуде 322
Рохманов 40
Русанова А. А. 501
Руссо 290, 446, 466, 470
Руссо Ж.-Б. 747, 748, 750
Руссо Ж.-Ж. 77, 89, 170, 498, 501, 502,505–512
Рылеев К. Ф. 5–11, 17–22, 24, 27–29,32–34, 36–39, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 52–55, 61, 66, 67, 92–94, 97,126, 137, 138, 188, 195–200, 204, 208, 211, 214, 219, 226–228,369–373, 379, 384, 385, 413, 414, 416, 491, 524–534, 536, 548, 662,665, 751–753, 756
Рылеева Н. М. 75, 188
Рындовская П. И. (урожд. Панаева) 537
Рындовские 537
Рындовский Ф. М. 387, 492, 537
Рыпинский А. 683, 684
Саади (Сади) 60, 218
Сабуровы 645
Савицкий А. 772
Саводник В. Ф. 778
Садиков Л. А. 558
Садовской Б. А. 211
Сайтанов В. А. 745–747
Сакулин П. Н. 214
Салинка В. А. 202, 208
Салтыков М. А. 36, 40–42, 44, 175, 176
Салтыкова С. М. см. Дельвиг С. М.
Салтыковы 40
Салямон Л. С. 736, 738–743, 745, 746
Самойлов А. Н. 232
Самойловы 617
Самуил, царь болгарский 581, 582
Санглен Я. И. де 645
Сандомирская В. Б. 199, 204
Сандунов Н. И. 236
Сатин Н. М. 188
Свербеев Д. Н. 80, 229–232, 234, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 259, 325, 348, 485
Свешников 465–470
Cвиньин П. П. 87, 113, 123, 124, 161, 171, 173, 207
Святослав, вел. князь Киевский 559, 571,572, 575, 576, 580
Северины 467, 471
Секе Д. 491
Селивановский Н. С. 531
Селифонтов Н. Н. 690
Cелифонтов П. Н. 682
Семевский М. И. 739, 740, 767, 768
Семенко И. М. 638, 491, 703
Семенов В. Н. 183
Семенов В. Н. 210
Семенова А. Н. (в замуж. Карелина) 27, 36, 55, 101, 217
Семенова Е. С. (в замуж. Гагарина) 240,384
Сенковский О. И. 28, 94, 95, 218, 140, 151, 204, 220, 286, 443, 602, 647,766, 773, 778
Сен-Мор см. Дюпре де Сен-Мор Э.
Сен-Тома О. 320, 476
Сербинович К. С. 84, 85, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 113, 114, 127–130, 141, 144, 145, 149, 161, 171, 172, 196,203, 206, 209, 420
Серман И. З. 778
Сеславин А. Н. 626
Сестренцевич-Богуш С. 560, 561
Сиверс А. А. 562
Симеон, король словинский 590
Симеон, царь болгарский 576, 577, 586,590, 594
Симонен 467, 471
Симони 462, 463
Симплз 467, 471
Синко Т. (Sinko T.) 700, 706
Синявский Н. А. 206, 209, 212, 214
Сиповский В. В. 498
Сиянов П. Г. 673–682, 685–688, 690,691
Скальковский А. А. 206
Скальковский Л. А. 206
Скаррон П. 45, 217
Скерли J. 562
Скотт В. 36, 396, 579, 669, 693
Скржидлевский Т. 683–685, 688
Слатвинский, полковник 300, 453, 454
Сленин И. В. 5–7, 25, 28, 57, 69, 74, 192,216, 217, 220, 298, 314, 451, 471
Смирдин А. Ф. 192, 651
Смирнова А. О. см. Россет А. О.
Смирнова О. Н. 514
Смирнов-Сокольский Н. П. 202, 214,490, 677, 779
Соболевский С. А. 22, 71, 72, 84, 101, 111, 120, 150, 194, 416, 523, 602, 604, 605
Собчак А. А. 732
Советов Н. Н. 617
Соймонов А. Д. 565
Соковнина С. Н. 628
Соллогуб В. А. 513, 514, 516, 600
Cоллогуб С. И. 216
Соловьев Н. В.195
Сологуб Ф. 716
Сомов О. М. 3, 9, 10, 28, 45, 53, 56, 62,63, 78, 85–89, 92–96, 98–101,107, 113–119, 121–123, 125–132, 134–138, 140–141, 144–151, 153, 156, 159–162, 164, 165, 169–176, 178–189, 191–193, 199, 203, 206–208, 210, 212–215, 218–222, 227, 255–257, 264–310, 313–321, 323, 325, 329–331, 335, 337, 339, 341, 342, 346–348, 350–353, 356, 365, 370, 372, 374, 379, 380, 384, 388, 390, 396, 400, 418, 419, 422, 424, 427–476, 487, 489, 565, 602, 660, 661, 666, 671, 762, 764, 765, 770
Сонин М. М. 403
Спасович В. Д. 705
Сперанский М. Н. 778
Спиноза Б. 499
Срезневский И. И. 577
Ставелов Н. 161, 183, 222
Сталин И. В. 727–729
Станкевич Н. В. 159, 160, 170, 172, 181,183, 211, 221, 222, 428, 665, 669
Станько А. И. 529, 677
Степанов А. Н. 211, 212
Степанов В. П. 490, 491
Степанов Н. Л. 744
Стобеус А. Я. 537, 543, 550
Стогов Э. И. 628
Столыпины 645
Стрекалов С. С.675
Строганов М. В. 779
Строганов П. А. 624
Строганов С. Г. 597
Строев В. М. 774
Стромилов С. И. 606
Струговщиков А. Н. 120, 761
Струйский А. Ю. 158, 159
Струйский Д. Ю. (псевд. Трилунный) 158–160, 172, 180–182, 211, 221,222
Струйский Ю. 158
Суворин А. С. 523
Суворов А. В. 618, 646
Сумароков А. П. 281, 283, 385, 493
Сумароков П. И. 173
Суме А. 218
Сумцов Н. Ф. 696
Сурсувул Георгий 581, 586
Сусанин Иван 533
Суханов М. Д. 92, 219
Сухомлинов М. И. 209
Сухонин С. С. 203
Сушков С. П. 212
Сушкова Е. А. (в замуж. Хвостова) 237
Сушкова Е. П. см. Ростопчина Е. П.
Сыроечковский Б. Е. 557
Талбаев И. 386
Талон П. 298, 451
Тартаковский А. Г. 633
Тассо Т. 30, 43, 92, 111, 122, 219, 290,291, 356, 447, 465, 468, 488, 747,772, 779
Татаринов П. П. 231, 234–237, 409–411, 485
Татищев А. Г. 628
Татищев В. Н. 526
Тацит 753
Твен М. 715
Тенирс (Теньер) Д. Т. 244, 371, 389
Теплинский М. В. 598
Теплова Н. С. (в замуж. Терюхина) 187,188, 191, 214, 222
Теплова С. С. (в замуж. Пельская) 187,188, 191, 214, 222
Тепляков А. Г. 146
Тепляков В. Г. 146, 147, 164, 170, 172, 183, 221, 222, 556, 570, 558, 561,571–574, 576, 577, 583, 596
Теребенина Р. Е. 203
Тереза, компаньонка С. Д. Пономаревой 231
Терзиев В. Д. 543
Тибулл 353
Тик Л. 209, 334
Тимашева Е. А. 166, 170, 183, 221, 222
Тимковский И. О. 484
Тимофеев А. В. 538, 766
Тиняков А. 768
Тит Ливий 517
Титов В. П. 72, 73, 84–86, 105, 113, 123, 150, 169, 170, 172, 202, 205, 219,221, 770
Тиханов П. Н. 198
Тихонравов Н. С. 739
Толстой А. К. 565
Толстой Д. Н. 212, 664, 717, 720
Толстой Ф. И. 618, 621, 628–630, 640, 742
Толстой Ф. П. 48
Толстой Я. Н. 7
Толстой-Знаменский Д. Н. 167, 168,211, 677
Томашевский А. Ф. 202
Томашевский Б. В. 195, 200, 212, 367,491, 494, 601, 655, 693–696, 737, 744
Траян, римский император 571
Тредиаковский В. К. 249
Трилунный см. Струйский Д. Ю.
Трофимов И. Т. 523
Трофимов, домовладелец 541
Трощинский Д. П. 232–234
Трубецкая А. И. 67
Трубецкая Е. И. 60
Трубецкие 67
Трубецкой Б. 557
Трубецкой С. П. 36
Трубицын Н. 565
Тукалевский Вл. 498, 506
Туманов 554
Туманский А. А. 289, 446, 472, 473
Туманский В. И. 3, 29, 33, 89, 90, 91, 92,140, 147, 164, 167–169, 172, 176,198, 200, 204, 212, 217, 219, 221, 289, 320, 354, 378, 383, 446, 476, 557
Туманский Ф. А. 29, 42, 44, 50, 60, 73, 74,140, 147, 197, 198, 200, 217, 218, 221, 367
Тургенев Ал. И. 9, 10, 12, 17–19, 25, 27,36, 39, 40, 41, 58, 60, 76, 78, 85, 95, 108, 112, 145, 178, 185, 193, 195,199, 200, 204, 205, 218, 225, 236, 332, 355, 383, 413, 420, 522, 599, 606, 609, 630, 634, 641, 652, 653, 720, 750
Тургенев Ан. И. 634
Тургенев И. С. 554
Тургенев Н. И. 53, 58, 69, 70, 97, 204, 225, 529
Тургенев С. И. 39, 225
Тынянов Ю. Н. 196, 198, 205, 227, 753
Тютчев Ф. И. 66, 67, 73, 183, 218, 709
Тюшин 409–411
Уваров С. С. 46, 315, 597, 653
Удодов Б. Т. 208
Удом А. Е. 219
Уланд Л. 550
Улегов Ф. 668
Ульцен Г. В. Ф. 491
Унджиева Ц. 574
Уолпол Г. 518
Усов П. С. 778
Успенский Б. А. 707
Успенский Д. И. 541
Успенский Н. В. 535, 536, 539, 541, 542
Устрялов И. Г. 207, 761, 767, 769
Уткин Н. И. 91
Ушаков В. А. 702
Ушакова Ек. Н. 143, 145, 146, 221
Ушакова Ел. Н. 143
Фадеев А. В. 557
Фальконе Э. М. 703, 704
Федоров Б. М. 40, 117, 354, 355, 358, 367, 379, 382, 383, 388, 389, 397–399, 401, 402, 411, 418–422, 598, 599,610, 677, 738
Федотов П. А. 48
Фейнберг И. Л. 515
Фельде (фан дер Фельде) Ф. К. 182
Феокрит 15, 239
Феофан, византийский хронист 593
Феофил, византийский император 593
Фермор Н. Ф. 550
Фигнер А. С. 626
Фикельмон Д. Ф. 516
Филарет (Дроздов В. М.), митрополит 146
Филимонов В. С. 103, 211, 676, 790
Филиппович П. П. 198, 214, 487, 493,710
Философов Д. 675
Философов Н. И. 93, 204
Философов Н. Ф. 218
Фирдоуси 46, 121, 122, 217, 219
Фихте И. 770
Флейшман Л. С. 794
Флери (Fleury) 287, 290, 444
Флориан Ж. П. 89, 219
Фок (Фон-Фок) М. Я. 61, 96, 133, 139,419, 421
Фокин Н. И. 209
Фонвизин Д. И. 149, 502, 510
Фонвизин М. А. 631
Фориэль К. Ш. 14
Формозов А. А. 706
Фосс И. Ф. 112
Францев В. А. 562
«Фрейшиц» см. Вебер К.
Фридман Н. В. 213, 630
Фридрих II, прусский король 499, 745,746
Фридрих-Евгений, герцог Вюртембергский 702
Фризман Л. Г. 400, 401, 493, 494, 524, 526, 527, 667
Фукидид 72
Фукс А. А. 537
Фукс К. Ф. 537
Фурман А. Ф. 761
Фусс П. Н. 694
Хасбулатов Р. И. 723, 731
Хвостов А. С.620
Хвостов Д. И. 64, 65, 201, 294, 308, 326,357, 381, 388–390, 460, 492, 701, 746, 750, 753–756
Хвостов Н. А. 621
Хемницер И. И. 84, 497–512
Херасков М. М. 498
Хетсо Г. 198, 199, 202, 204, 205, 490
Химмелауэр 40
Хитрово Е. М. 174
Хмельницкий Богдан 92
Ходасевич В. Ф. 212, 716
Ходзько И. 684
Ходоров А. Е. 208, 524, 532
Хомяков А. С. 84, 140, 150, 181, 221, 222,774
Хорев В. А. 698
Хохлова Н. А. 769
Хрущев Н. С. 729
Цейтлин А. Г. 197, 204, 254, 530, 531
Цертелев Н. А. 20, 256, 257, 293, 294,335, 353, 354, 379–383, 388, 398,418, 419, 422, 487, 492
Цявловская Т. Г. 201, 204, 209, 494, 515,737, 738, 744, 750
Цявловский М. А. 196, 206, 209, 212, 214,490, 491, 494, 515, 516, 600, 601, 660, 674, 675, 721, 737, 739, 743, 744
Чаадаев П. Я. 72, 185, 236, 652–654,725, 727, 739
Чавчавадзе И. Г. 720
Чельцов И. В. 594
Черейский Л. А. 202, 211, 213, 598, 601, 682, 769, 779
Чернецов Г. Г. 544
Чернышевский Н. Г. 727, 768
Чеславский И. Б. 357, 387, 388
Чесский И. В. 191
Четвертинский Б. А. 620, 622
Чиркова С. Н. (в замуж. Давыдова) 640
Шаго, миледи (Chagot) 462–464, 468
Шадури В. С. 683, 684
Шаликов П. И. 77, 99, 143, 258, 363
Шарыпкин Д. М. 589, 779
Шатобриан Ф. Р. 60, 107, 218, 226, 599
Шафарик П. Й. 561
Шаховской А. А. 150, 189, 210, 222, 355,618, 621, 696
Шебуев В. К. 48
Шевченко Т. Г. 48
Шевырев С. П. 51, 52, 66, 72, 73, 86,100–103, 107, 116, 123, 127–129, 134, 150, 158, 164, 169, 172, 204, 206, 211, 212, 212, 217, 221, 589, 602, 666, 762, 764, 770–772
Шеглов Н. П. 172, 173
Шекспир У. 111, 138, 220, 517, 688
Шеллинг Ф. В. 83
Шемиот В. П. 64, 135, 137, 221, 218, 208,208
Шенрок В. В. 777, 778
Шенье А. 59, 78, 160, 164, 183, 219, 222
Шервинский С. В. 489
Шереметевы 213
Шестериков С. П. 514
Шехурина Л. Д. 675
Шешковский С. И. 53
Шибаев Н. И. (Ш-б-в) 172, 211, 221, 222
Шибаев Н. И. 160
Шидловский А. Р. 287, 288, 320, 444,467, 471, 476
Шиллер И. Ф. 27, 29, 64, 66, 72, 102, 114,116, 186, 216–220, 260, 372, 383,639, 657, 663, 771
Шиллинг П. Л. 182
Шильдер Н. К. 517, 741
Ширков В. Ф. 680, 681
Шишков А. А. 92, 145, 146, 221, 682–684, 689, 690
Шишков А. С. 81, 82, 85, 90, 145, 209,355, 360, 599, 620, 682
Шишков Д. А. 209
Шишков С. А. 209
Шкляревский П. П. 64, 65, 201, 218
Шленев Н. А. 375
Шленевы 410
Шлиманн, домовладелец 541
Шляпкин И. А. 212
Шмуккер И. (К.) М. 543
Шницлер Ж. А. 68
Шово де Серр К. 599
Шометт П. Г. 511
Шретер И. И. 529
Шретер, содержательница пансиона 36
Штейнгель В. И. 52
Штольберг Ф. Л. 658
Шубников 443
Шушкевич С. С. 734
Щастный В. Н. 121–126, 129, 136, 137, 170, 171, 177, 180, 183, 207, 220–222, 673, 677–679, 684–688, 762
Щеглов Н. П. 154, 167
Щеголев П. Е. 202, 608, 778
Щедрин С. Ф. 48
Щекатов А. 508
Щепкин М. С. 209
Щербаков В. Ф. 739
Щербатовы 472, 473
Эбелинг, домовладелец 50
Эзоп 379
Эйдельман Н. Я. 201, 558
Эйхгорн 551
Эйхенбаум Б. М. 622, 764
Эмин Ф. А. 134
Энгель И. Х. 560, 561
Энгельгардт В. В. 745, 746, 749
Энгельгардт Е. А. 177, 492, 656, 659
Энгельгардт Н. А. 208
Энгельс Ф. 723
Эпиктет 745
Эристов Д. А. 122, 245, 396, 397, 486
Эртель В. 201, 249, 262, 349, 487
Эссекс Р. 529
Эткинд Е. Г. 779
Юзефович М. В. 766
Юстин I, римский император 575
Юстиниан I, византийский император 575
Юсупов Б. Н. 599
Юсупов Н. Б. 599
Юсупова З. И. (урожд. Нарышкина) 599–601
Юсупова Т. В. 599
Ягич И. В. 581
Языков А. М. 51, 105, 131, 203, 598
Языков Н. М. 3, 9, 17, 29, 41, 42, 45, 49, 51, 56, 73, 80, 85–90, 100, 104,107, 110, 111, 115, 118, 119, 126,127, 130, 131, 133, 149, 150, 163,164, 166, 168, 176, 179, 184–188, 190–192, 196, 203, 205, 208, 213, 217, 219–221, 236, 420, 423, 617, 634, 638, 646–648, 659, 666, 769
Якобсон Р. О.591, 714
Яковлев М. А. 217, 218, 421
Яковлев М. Л. 45, 60, 122, 177, 179, 180,249, 333, 410, 486, 655, 657
Яковлев П. Л. 30, 59, 173, 197, 198, 226, 246, 248–252, 255–257, 262, 272, 279, 286–288, 293–297, 299, 304, 306, 308, 309, 313, 315, 321–323, 325, 331–337, 340, 341, 350, 359–361, 363, 379, 381, 382, 388, 389, 396, 398, 404, 406, 407, 409–413, 418, 420, 422, 443–446, 448–450, 452,457, 458, 460, 461, 464, 486–490
Яковлева А. Р. 89, 164
Якубович А. И. 644
Якубович Л. А. 158, 180, 182, 213, 222
Ямпольский И. С. 762
Ян Вышатич 589
Яниш К. К. (в замуж. Павлова) 187, 222
Ярополк Святославич, князь Киевский 525
Ярхо Б. И. 753
Ястребцов И. И. 360
Adontz N. 582
Bainkeur 467, 471
Borsukiewicz J. 714
Desnoiresterres G. 509
Dujue Iv. 594
Fabre 462, 463
Fiszman S. 713
Goffard 297–298, 450–451
Gomolicky L. 204, 207, 713
Jakybiec M. 704
Koehler L. 655
Kucharska E. 691
Lenient C. 509
Masson P. 507
Maugras G. 506
Mercereau Jr. J. 197
Naville P. 500
Prévost de Lamianc 466, 467, 469, 471
Suchanek L. 710
Szeftel M. 591
Ważyk A. 6
Фотографии с вклейки
В. Э. Вацуро в детстве, с матерью Людмилой Валентиновной
Отец Эразм Григорьевич Вацуро, слушатель Ленинградской Военно-медицинской академии. 1929 г.
В. Э. Вацуро. 1962 г. Фото Т. Ф. Селезневой
В. Э. Вацуро. 1971–1972 гг. Фото Т. Ф. Селезневой
Пушкинская конференция к 180-летию поэта. 1979 г. ИРЛИ
В. Э. Вацуро и Ю. М. Лотман. Блоковская конференция в Тарту. 24 марта 1991 г. Фото К. Немировича-Данченко
На Лермонтовском симпозиуме, организованном Е. Г. Эткиндом. Норвич (США). 30 июня — 2 июля 1989 г. Слева направо: И. З. Серман, В. Э. Вацуро, Е. Н. Дрыжакова, С. Давыдов, Л. И. Вольперт, Р. А. Зернова, М. Г. Альтшулер, И. Ефимов, И. С. Чистова
На I Международной Пушкинской конференции. Пушкинские горы. 1991 г.
На II Международной Пушкинской конференции. Тверь. 1993 г.
На I Международном научном семинаре «Графика писателей и творческий процесс». Пушкинские Горы. 9–11 июня 1994 г.
На Международной конференции «Просвещение в России XVIII века». Потсдам. 1996 г. В. Э. Вацуро и Энтони Кросс (Великобритания). Фото Ю. В. Стенника
На Международной юбилейной Пушкинской конференции к 200-летию со дня рождения поэта. Стэнфорд (США). 1999 г. Слева направо: В. М. Маркович, В. Д. Рак, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев, Вл. Паперный, К. Ю. Рогов
В. Э. Вацуро. 1995 г. Фото Т. Ф. Селезневой
В. Э. Вацуро. Январь 1996 г. Фото Т. Ф. Селезневой
Вадим Эразмович Вацуро
Примечания
1
Печатается по изданию: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М.: Книга, 1978.
(обратно)2
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. СПб., 1912. С. 53–54; Русский архив, 1873, кн. 1. Стб. XCVIII.
(обратно)3
Лит. наследство. 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 211, 213–215. Ср.: Лит. листки, 1824, № 2. С. 67; Русская старина. 1889. № 11. С. 376. О «странности» альманахов в 4-х частях упоминал и «Сын отечества» (1824, № 15. С. 31).
(обратно)4
Лит. листки, 1824, № 4. С. 149–150. (О времени выхода в свет см.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. M.—Л., 1956. С. 394.)
(обратно)5
Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 22 мая 1823 г. — Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899. С. 325.
(обратно)6
Кубарев Ив. Эпизод из журнальной деятельности Н. И. Греча. — В кн.: Сборник статей по истории и статистике русской периодической печати. 1703–1903. СПб., 1903. С. 57–64.
(обратно)7
Русская старина, 1875, № 7. С. 372.
(обратно)8
Базанов В. Ученая республика. М.-Л., 1964. С. 312 и след.
(обратно)9
Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 13. <М.-Л.>, 1937. С. 87 (далее — Пушкин, том и страница).
(обратно)10
Рылеев К. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 410.
(обратно)11
Пушкин. Т. 13. С. 84, 85, 87, 100; Томашевский Б. Пушкин, кн. 1 (1813–1824). M.—Л., 1956. С. 488; Лит. листки, 1824, № 4. С. 134.
(обратно)12
Письмо от 4 февраля 1824 г. — Лит. наследство, 1955. Т. 58. С. 42.
(обратно)13
Письмо Вяземского к Жуковскому (с неверной датой «1824» вместо «1823»). — Русский архив, 1900, № 2. С. 193; ответ — Жуковский В. А. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. Л., 1960. С. 578 и след.; письмо Бестужева — Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 226. Об «Ивановом вечере» см.: Жуковский В. А. Стихотворения. Т. 1. Л., 1939. С. 403–406 (комм. Ц. Вольпе).
(обратно)14
Лит. листки, 1824, № 3. С. 111; Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова, изд. 2. СПб., 1878. С. 207–298.
(обратно)15
Русская старина, 1888, № 11. С. 311.
(обратно)16
Пушкин А. С. Т. 13. С. 107–108; Жуковский В. А. Стихотворения. Т. 1. С. 408.
(обратно)17
Бычков И. А. Неизданные письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. СПб., 1912. С. 8, 13. Первое из писем датировано неточно, следует: середина ноября 1825 г., по связи с письмом П. А. Вяземского от 28 ноября 1825 г. См.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 129.
(обратно)18
См.: Соловьев Н. В. История одной жизни. Т. 2, Пг., 1916. С. 156. 7 ноября 1824 г. А. Тургенев посылал В. Ф. Вяземской стихи Козлова — посвящение «Чернеца» и «исправленную… „Ирландскую песню“» (Остафьевский архив. Т. 3. С. 93).
(обратно)19
Захарьин (Якунин) Ив. Дружба Жуковского с Перовским. 1820–1852. — Вестник Европы, 1901, № 4. С. 537; ср.: <Перовский В. А.> Несколько писем одного русского путешественника к В. А. Ж. из Рима. — Новости литературы, 1824, ноябрь, с. 193; Пушкин. Т. 13. С. 141.
(обратно)20
См. список сочинений Воейкова, датированный 23 июня 1824 г. (в письме к К. С. Сербиновичу). К тому же циклу относились очерки Воейкова в «Сыне отечества», «Северном архиве» и «Новостях литературы». ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 960, л. 1 об.
(обратно)21
Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. М., 1888. С. 317 (далее: Барсуков); Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. СПб., 1896. С. 231; Лит. наследство, 1954. Т. 59. С. 507, 362–364; Дельвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959. С. 54–55.
(обратно)22
Верховский Ю. Барон Дельвиг. Пб., 1922. С. 52; Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Т. 2. СПб., 1885. С. 85.
(обратно)23
Старина и новизна, кн. 1. СПб., 1897. С. 149; Крылов И. А. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1946. С. 391–392.
(обратно)24
Письмо Дельвига к Вяземскому от 10 сентября 1824 г. — Лит. наследство. Т. 58. С. 42.
(обратно)25
Гаевский В. П. Дельвиг. Статья II. — Современник, 1853, № 5, отд. III. С. 20–21; ср. Крылов И. А. Полн. собр. соч… Т. 3. С. 554.
(обратно)26
Дельвиг А. А. Сочинения, под ред. В. В. Майкова. СПб., 1893. С. 150.
(обратно)27
Русская старина, 1875, № 7. С. 377–378. Датируется июнем 1824 г. Месяц определяется по содержанию: в письме упоминается Баратынский как находящийся в Петербурге — он приехал в июне (до 12) и пробыл до 5 августа; самое письмо отправлено с «адъютантом Мухановым» — видимо, Н. А. Мухановым, 23 июня писавшим Вяземскому, что на днях увидит его в Москве (Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 223).
(обратно)28
В рукописном оглавлении первой части «Мнемозины» значится «Сонет» «барона Дельвига», в альманахе не появившийся. ИРЛИ, ф. 392, № 1, л. 2.
(обратно)29
Языковский архив. Т. 1. СПб., 1913. С. 123, 130, 136, 138, 186; Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. Л., 1964. С. 596 (комм. К. К. Бухмейер).
(обратно)30
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 220.
(обратно)31
Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 469–470; Лит. листки, 1824, № 5. С. 194–195; письма Рылееву П. А. Муханова и А. Ф. Бриггена (Рылеев К. Ф. Сочинения и переписка. СПб., 1872. С. 339; Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, прил. С. 98); Языковский архив, вып. 1. С. 138; Остафьевский архив. Т. 3. СПб., 1899. С. 55; Памяти декабристов, 1. Л., 1926. С. 67.
(обратно)32
Бестужев А. Русская антология, или Образчики русских поэтов, Джона Боуринга, часть вторая. — Лит. листки, 1824, № 19–20 (октябрь). С. 34. (Помета: 1824 года 10 октября). О статье Кюхельбекера см.: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 191 и след.
(обратно)33
Лит. листки, 1824, № 15 (август). С. 77.
(обратно)34
См. свод материалов об эпиграмме в кн.: Бестужев-Марлинский А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1961 (комм. Н. И. Мордовченко). Датировка ее 1824 годом малоубедительна. Она, несомненно, относится к марту — апрелю 1825 г. (см.: Базанов В. Ученая республика. С. 332; Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, 1. М., 1951. С. 580).
(обратно)35
Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг. С. 39.
(обратно)36
Воспоминания Бестужевых. М.-Л., 1951. С. 53–54, 414; ср.: Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953. С. 187–188. Об авторе см.: Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970. С. 422, 827 (комм. С. А. Рейсера).
(обратно)37
Пушкин. Т. 12. С. 159; Т. 13. С. 110, 148.
(обратно)38
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 52–55. Ср. очень точные замечания Б. С. Мейлаха (Пушкин и русский романтизм. М.-Л., 1937. С. 224–227).
(обратно)39
Пушкин. Т. 13. С. 248.
(обратно)40
Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 474.
(обратно)41
Указания на источники и очень подробный и содержательный комментарий к записке Рылеева даны Ю. Г. Оксманом (Лит. наследство. Т. 59. С. 147–152). Наша интерпретация записки и датировка ее отличаются от данных в этом комментарии. Ю. Г. Оксман исходил из предположения, что Булгарин и Рылеев после ссоры 1823 г. возобновили общение только в середине марта 1825 г. Между тем это неверно; их примирение в 1825 г. было связано с совершенно иной размолвкой, о которой мы узнаем из недавно опубликованного письма Булгарина к П. А. Муханову от 19 января 1825 г. (Павлюченко Э. А. Из истории литературного движения 1820-х годов. — Русская литература, 1971, № 2. С. 114). В 1824 г. Нащокин уже переехал в Москву (Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин. Л., 1976. С. 39). Заметим, что сам Рылеев уехал из Петербурга в сентябре и отсутствовал до середины декабря. Все это заставляет думать, что указание в дневнике Бестужева и дает дату наиболее острого, дуэльного конфликта; окончательное же примирение, о котором сообщает А. Е. Измайлов в «Русской балладе» и письме от 6 января и Бестужев (в письме от 12 января), совершилось позже.
(обратно)42
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 223; Пушкин. Т. 13. С. 149–150.
(обратно)43
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. С. 394; Лит. листки, 1824, № 16. С. 93 и след.
(обратно)44
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 133–134.
(обратно)45
Н. В. Письмо к издателю. — Лит. листки, 1824, № 11–12. С. 438–443. (Ценз. разрешение — 20 июня). Объявление Бестужева и Рылеева см.: Лит. наследство. Т. 59. С. 140. Комментарий А. Г. Цейтлина, равно как и предложенная им дата (июнь — июль 1823 г.), представляются нам неубедительными (ср. также: Mercereau Jr. J. Baron Delvig’s «Northern Flowers». Literary Almanac of the Pushkin Pleiad. London — Amsterdam, 1967, p. 243–244.). Мы датируем этот документ июнем 1824 г. по очевидной его связи со статьей в «Лит. листках».
(обратно)46
Лит. архив, 1. М.-Л., 1936. С. 422. Ср.: Памяти декабристов. 1. С. 47, 78–79; Лит. листки, 1824, № 17. С. 160, 162; Полевой К. Сатирик Воейков и современные воспоминания о нем. — Живописная русская библиотека, 1859, № 4. С. 31.
(обратно)47
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 224; Пушкин. Т. 13. С. 110, 118, 134; Жуковский В. А. Собрание соч. в 4-х томах. Т. 4. С. 581; Остафьевский архив. Т. 3. С. 88.
(обратно)48
ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5084, л. 14–15. Начало письма опубликовано: Лит. наследство. Т. 58. С. 42.
(обратно)49
Пушкин. Т. 13. С. 107–108.
(обратно)50
Русский архив, 1891, № 2. С. 359.
(обратно)51
Пушкин. Т. 13. С. 110. Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. С. 133–134.
(обратно)52
Остафьевский архив. Т. 3. С. 90.
(обратно)53
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 226.
(обратно)54
Рылеев К. Ф. Сочинения и переписка. С. 341; Пушкин. Т. 13. С. 122.
(обратно)55
Сын отечества, 1825, № 1. С. 111–112.
(обратно)56
Письмо А. Е. Измайлова П. Л. Яковлеву от 6 января 1825 г. — ИРЛИ, 14. 163/L XXVIIб7.
(обратно)57
Русский архив, 1891, кн. 2. С. 357–358. Дата: 21 января 1823. Авторство этого послания не было установлено. Автограф его — ЦГАЛИ, ф. 171, оп. 1, ед. 13. Вторая строфа в переработанном виде вошла в «Песню» Туманского («Друг веселий неизменный…», 1827). См.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. Л., 1972. С. 357–358.
(обратно)58
Ср. упоминание об этих переводах Загорского в статье И. К. Гебгардта в «Отечественных записках», Л., 1839. Т. 1, отд. VI. С. 32 (об авторстве см.: Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 1840-х годов XIX века. М., 1958. С. 371).
(обратно)59
ИРЛИ 14163/LXXVIIIб7; Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 228.
(обратно)60
Там же; Сын отечества, 1825, № 1. С. 58 (Ж. К.); № 2. С. 199–214 (Ж. К. и Д. Р. К.); № 3. С. 302–321; № 4. С. 387–405 (Д. Р. К.); Русский инвалид, 1825, № 14. С. 55; Соревнователь, 1825, ч. 29, кн. 1. С. 85–111 (П. А. Плетнев); Московский телеграф, 1825, № 13, Особенное прибавление. С. 44 и след. Повесть Полевого как опоздавшую в «Северные цветы» просил у него А. Ф. Воейков (письмо к Полевому от 10 ноября 1824 г. — ГБЛ, ф. 178, 8566. 18).
(обратно)61
Пушкин. Т. 13. С. 133–135.
(обратно)62
Дневник И. И. Козлова (копия, франц.) — ИРЛИ, 15988/XCIXб4. Часть записей опубликована К. Я. Гротом (Старина и новизна, кн. 11. СПб., 1906).
(обратно)63
Остафьевский архив. Т. 3. С. 106, 124.
(обратно)64
Пушкин. Т. 13. С. 163, 204, 167; Рылеев К. Ф. Полное собр. стих. Л., 1934. С. 464–467 (комм. Ю. Г. Оксмана); Русский архив, 1866, № 3. С. 475.
(обратно)65
Пушкин. Т. 13. С. 166, 167.
(обратно)66
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 167.
(обратно)67
Пушкин. Т. 13. С. 252, 195.
(обратно)68
Русская старина, 1875, № 7. С. 346; Пушкин. Т. 13. С. 168.
(обратно)69
Пушкин. Т. 13. С. 173.
(обратно)70
См.: Воспоминания Бестужевых. С. 26–27.
(обратно)71
Пушкин. Т. 13. С. 241; Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. М.-Л., 1934. С. 496.
(обратно)72
Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. С. 298 (письмо от 6 июня 1825 г.).
(обратно)73
Тиханов П. Н. И. Гнедич. Несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884. С. 80; Пушкин. Т. 13. С. 236.
(обратно)74
Остафьевский архив. Т. 3. С. 128.
(обратно)75
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 166.
(обратно)76
Остафьевский архив. Т. 3. С. 98. Ср.: Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973. С. 102 и след.
(обратно)77
Лит. наследство. Т. 58. С. 48.
(обратно)78
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 172; Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 79 и след.
(обратно)79
Языковский архив, вып. 1. С. 161.
(обратно)80
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 351–352 (комм. Е. Н. Купреяновой); с. 477. О Баратынском и Закревской см.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. С. 82–99; Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 98 и след.
(обратно)81
Сборник Пушкинского дома на 1923 г. С. 88.
(обратно)82
Остафьевский архив. Т. V, вып. 1. СПб., 1909. С. 47.
(обратно)83
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 230; Русская старина, 1889, № 2. С. 321.
(обратно)84
Пушкин. Т. 13. С. 200.
(обратно)85
Остафьевский архив. Т. 5, вып. 1. С. 52; Сборник Пушкинского дома на 1923 г. С. 79 (письмо Дельвига С. М. Салтыковой; письмо это должно датироваться не июнем, а июлем — не позднее 4).
(обратно)86
Языковский архив, вып. 1. С. 190–191.
(обратно)87
Сборник Пушкинского дома на 1923 г. С. 85.
(обратно)88
См. письма А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву от 29 июня и 16 августа. В последнем письме сказано: «Он (Дельвиг. — В. В.) дал мне сонет Туманского на его свадьбу». Речь, несомненно, идет о Ф. Туманском; В. И. Туманский в это время живет в Одессе. ИРЛИ. 14. 163/LXXVIIIб7, л. 112.
(обратно)89
Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер. — В кн.: Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Т. 1. Л., 1939. С. X; Памяти декабристов, 1. С. 53; Константинов (Азадовский) М. К. Литературная деятельность Кюхельбекера накануне 14 декабря. (По неизданным письмам А. Е. Измайлова). — Лит. наследство. Т. 59. С. 531–540.
(обратно)90
Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 287–288.
(обратно)91
Лит. прибавления к Русскому инвалиду, 1833. С. 33, 56, 43, 341; Летописи Гос. Литературного музея. Т. 1. М., 1936. С. 76–77.
(обратно)92
Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею. Т. 2. СПб., 1912. С. 184; Языковский архив, вып. 1, по указателю.
(обратно)93
Модзалевский Б. Л. 1) И. Е. Великопольский (1797–1868). СПб., 1902. С. 24–25; 2) Пушкин. С. 201–204.
(обратно)94
Рукою Пушкина. М.-Л., 1935. С. 495–496; Сандомирская В. Б. К вопросу о датировке помет Пушкина во второй части «Опытов» Батюшкова. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1972. Л., 1974. С. 20.
(обратно)95
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 196.
(обратно)96
Пушкин. Т. 13. С. 270.
(обратно)97
Зильберштейн И. С. Николай Бестужев и его живописное наследие. — Лит. наследство. Т. 60, кн. 2. С. 38, 41–44, 46–49, 62–63; Русская старина, 1875, № 7. С. 372.
(обратно)98
Голос минувшего, 1917, № 1. С. 267.
(обратно)99
Языковский архив, вып. 1. С. 207.
(обратно)100
Пушкин. Т. 13. С. 241.
(обратно)101
Там же. С. 239; о Баратынском в Москве см.: Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 111 и след.
(обратно)102
Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 230; Русская старина, 1889, № 2. С. 321.
(обратно)103
ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 191. л. 38 об — 39.
(обратно)104
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 182–183.
(обратно)105
ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, кн. 2, № 1737, л. 1–1 об.
(обратно)106
Языковский архив, вып. 1. С. 223, 226, 229.
(обратно)107
Письма А. С. Пушкина, бар. А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского и П. А. Плетнева к князю П. Л. Вяземскому. Изданы с пред. и прим. Николая Барсукова. СПб., 1902. С. 35–36.
(обратно)108
Письмо Вяземского Дельвигу от 7 декабря 1825 г. — Труды Черниговской губ. архивной комиссии, 1899–1900, отд. 1, Чернигов. С. 14.
(обратно)109
См. ответное письмо Баратынского к Вяземскому, где он писал: «Письмо ваше к барону Дельвигу отправлено» (Старина и новизна, кн. 5. СПб., 1902. С. 44). Письмо Баратынского следует датировать началом декабря (после 7) 1825 г. — как и заключенное в нем послание Баратынского к Вяземскому: «Простите, спорю невпопад…».
(обратно)110
Письмо А. И. Тургеневу от 13 декабря 1825 г. — Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921. С. 22. Там же упоминание о Баратынском.
(обратно)111
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 2. С. 66.
(обратно)112
Русский архив, 1891, кн. 2. С. 362–363.
(обратно)113
Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. Изд. 2. М., 1975. С. 161, 326–327; Греч Н. И. Записки. Л., 1930. С. 454; Рылеев К. Полное собрание стих. Л., 1934. С. V; Котляревский Н. А. Декабристы. СПб., 1907. С. 135.
(обратно)114
Русский архив, 1869. С. 51; Маслов В. И. Библиографические заметки. 4. К биографии О. М. Сомова. Киев, 1913. С. 19 и след.; Памяти декабристов, 1. Л., 1926. С. 242–243; Кирилюк З. В. О. Сомов — критик та белетрист пушкiнськой епохи. Київ, 1965. С. 42–46.
(обратно)115
Греч Н. И. Записки. С. 694; Лит. наследство. Т. 59. С. 255.
(обратно)116
Воспоминания Бестужевых. С. 296, 389–390; Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 годов. СПб., 1908. С. 246.
(обратно)117
Греч Н. И. Записки. С. 447 и след., 476, 659–661, 715 и след., 777–779; Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, с 220 и след.; Каратыгин П. П. Северная пчела. — Русская старина, 1882, № 4. С. 266; Базанов В. Ученая республика. С. 309; Лит. наследство. Т. 59. С. 758 (комм. М. К. Азадовского); Гиллельсон М. По следам воспоминаний о К. Ф. Рылееве. — Звезда, 1975, № 12. С. 149–150.
(обратно)118
Сборник статей по истории и статистике русской периодической печати. 1703–1903. СПб., 1903. С. 66.
(обратно)119
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 156. В печатном тексте цензурная купюра, восстанавливаемая по подлиннику: ИРЛИ, 21751/CLб15.
(обратно)120
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 184–185.
(обратно)121
Нечкина М. В. Лев Пушкин в восстании 14 декабря 1825 года. — Историк-марксист, 1936, № 3. С. 85–100.
(обратно)122
Пушкин. Т. 13. С. 260; Русский архив, 1891, кн. 2. С. 361–363 (письма Дашкова к Дельвигу. Оба письма — 9 и 10, несомненно, относятся к 1826 г.).
(обратно)123
Письмо Баратынскому от 8 января 1826 г. — В кн.: Дельвиг А. А. Сочинения. С. 155–156. В печатном тексте — «Мятлев», что ошибочно; уточняется по автографу — ИРЛИ, 21751/CLб15. Письмо Вяземскому — ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5084, л. 18–19; помета Вяземского: «отве<чал> 22 апре<ля>».
(обратно)124
Д<убровин> Н. «Полярная звезда» и «Невский альманах». — Русская старина, 1901, № 11. С. 265–269.
(обратно)125
Капелюш Б. П. Архив братьев Бестужевых. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1972. Л., 1974. С. 16–17.
(обратно)126
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 189–190; 192–193; Пушкин. Т. 13. С. 261, 272; Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Т. 2. М., 1866. С. 474 и след.; Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 213; письмо А. Ф. Воейкова к В. М. Перевощикову от 6 апреля 1826 г. — Русский архив, 1890, № 9. С. 92.
(обратно)127
Старина и новизна, кн. 5, 1902. С. 36.
(обратно)128
Русская старина, 1874, № 10. С. 269; Пушкин. Т. 13. С. 285; Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 195 (дата письма С. М. Дельвиг — 28 июня — ошибочна).
(обратно)129
Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. С. 324 (комм. Б. В. Томашевского); Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг. С. 32.
(обратно)130
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 734–735. Копия Л. Пушкина в альбоме Вульф — ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 211, л. 30, без названия. Текст совпадает с текстом альманаха. Существует еще запись этих стихов (в копии или автографе — неизвестно) на отдельном листке, карандашом, с названием «В день Благовещения» и с подписью «Туманский». Здесь разночтения в строках 1 (Вчера я отворил темницу), 4 (Я подарил свободу ей) и 5 (Она вспорхнула, утопая). ИРЛИ, 9740 IX б. 39.
(обратно)131
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 494, л. 17. Протокол заседания Главного цензурного комитета от 14 декабря 1826 г.
(обратно)132
См.: Д<убровин> Н. К истории русской литературы. — Русская старина, 1900, № 9. С. 576–579; Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. С. 236 и след.; Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. СПб., 1922. С. 27 и след.; Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. Л., 1969. С. 156–157.
(обратно)133
Письмо от 21 июня 1826 г. — Лит. вестник, 1901. Т. 1, кн. 2.
(обратно)134
Николай Полевой…. С. 270–271, 442–144 (комм. В. Н. Орлова).
(обратно)135
Письмо к В. Н. Измайлову от 28 июня 1826 г. — Московское обозрение, 1877, № 22. С. 227.
(обратно)136
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 368–370.
(обратно)137
Письмо к В. В. Измайлову от 10 декабря 1826 г. — Моск. обозрение, 1877, № 16. С. 423. Переписку Глинки с Н. И. Гречем см.: Лит. вестник, 1901, № 8. С. 311–313; письмо Н. И. Гнедичу от 22 ноября 1826 г. в кн.: Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898. С. 36. О Глинке в 1826 г. см.: Базанов В. Карельские поэмы Федора Глинки. Петрозаводск, 1945. С. 6 и след.; 58 и след.
(обратно)138
Резолюция от 27 января 1827 г. — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972. С. 26.
(обратно)139
Павлищев Л. Н. Семейная хроника. М., 1890. С. 50, 167.
(обратно)140
Письма Хвостова Перевощикову от 12 марта 1828 г., без даты и от 6 января 1829 г. — ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 4, № 11, л. 46, 48, 50 об. — 51. Ср.: Бобров Е. А. Жизнь и поэзия Павла Петровича Шкляревского. — В кн.: Сборник Учено-литературного общества при имп. Юрьевском унив. Т. 14, Юрьев, 1909. С. 18–58.
(обратно)141
Письма И. Балле П. А. Плетневу (1840–1844) — ИРЛИ, ф. 234, оп. 4, № 40.
(обратно)142
Петербургский старожил В. Б./урнашев/. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания. — Русский вестник, 1871, № 9. С. 269. Первые выступления Глебова — Вестник Европы, 1824, июль; Новости литературы, 1825, август. С. 65; автобиографические сведения — в стих. «Моей матери (М. Д. Г.)» (Лит. прибавления к Русскому инвалиду, 1832, 12 марта (№ 21). С. 166) и в очерках «Записки на пути из Санкт-Петербурга в северо-восточную часть Новгородской губернии через Олонецкую в 1826 году» (Славянин, 1827, № 45. С. 210). Его элегия «Стансы в северной пустыне» была запрещена к напечатанию в «Славянине» в феврале 1828 г. (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 26–27); часть ее — «Узник» опубликована в «Памятнике отечественных муз» (СПб., 1827. С. 137 второй паг.); целиком под названием «Стансы» вышла в «Карманной книжке для любителей русской старины и словесности» (СПб., 1829). О запрещении стихотворения «К брату» см.: Пушкин и его современники, вып. 29–30, Пг., 1918. С. 107; текст — Русский альманах на 1832 и 1833 годы. Издан В. Эртелем и Л. Глебовым. СПб., 1832. О его тетради см.: Лященко А. Две старинные тетради со стихами А. С. Пушкина. — Новое время, 1913, 6 (19) апреля, № 13315. Ныне в ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 82.
(обратно)143
Принадлежность Максимовичу стихов в «Урании» с подписью: «М-ъ», «М-чъ» («Песня», «Скороспелка», «К-не при стихах А. С. Пушкина „К морю“») не была раскрыта. «Песня» («Сердцем в первые дни жизни…») вписана им в альбом Ю. Н. Бартенева (Изв. 2 отд. имп. Академии наук, 1910, кн. 4. С. 206).
(обратно)144
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 429–430.
(обратно)145
Пушкин. Т. 13. С. 254; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 29.
(обратно)146
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 160. Письмо от 3 августа 1826 г. Цитируем по подлиннику (ГБЛ, Пог/П. 46. 17), так как в печати исправлено начало письма. О Погодине в 1825 г. см.: Барсуков. Т. 1. С 316–319, 324–327; Т. 2. СПб., 1889. С. 5–7.
(обратно)147
Барсуков. Т. 1. С. 174 и след; 306 и след.
(обратно)148
Северная пчела, 1827, 16 июня, № 72.
(обратно)149
Казнь декабристов. Рассказы современников. 2. Рассказ Н. В. Путяты. — Русский архив, 1881, кн. 2. С. 343–344. Анализ свидетельств о казни — Эйдельман Н. Апостол Сергей. М., 1975. С. 346 и след.
(обратно)150
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 197.
(обратно)151
Цявловская Т. Г. Отклики на судьбы декабристов в творчестве Пушкина. — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 209 и след.
(обратно)152
Письма А. С. Пушкина, барона А. А. Дельвига… к кн. П. А. Вяземскому…. С. 36.
(обратно)153
Пушкин. Т. 13. С. 286–291.
(обратно)154
Пушкин. Т. 13. С. 265–266.
(обратно)155
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 9 и след., 160, 372–373; о чтениях — Городецкий Б. П. Драматургия Пушкина. М.-Л., 1953. С. 196–201.
(обратно)156
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 26–27; Барсуков. Т. 2. С. 38–39, 151.
(обратно)157
Пушкин. Т. 13. С. 96.
(обратно)158
Русская старина, 1889, № 2. С. 321.
(обратно)159
Пушкин. Т. 13. С. 244, 185, 261, 279, 314. Ср.: Еремин М. П. Пушкин — публицист. Изд. 2. М., 1976. С. 124 и след.
(обратно)160
В библиотеке Института русской литературы (Пушкинский дом) сохранился экземпляр альманаха из коллекции М. Н. Лонгинова, с раскрытыми анонимами: на форзаце — запись владельца: «Все имена выставлены по указанию Д. П. Ознобишина. Москва. 5 мая 1861. М. Лонгинов». Приводим эти сведения, дополняющие или уточняющие роспись «Северной лиры» в указателе Н. П. Смирнова-Сокольского (Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М., 1965. С. 126–1127). Раичу принадлежат следующие произведения: «С незапамятных веков…», «Соловью», «Петрарка и Ломоносов» (авторство было известно Пушкину), «Вифлеемские пастыри. Священная идиллия», «Выкуп холостого», «Друзьям», «Амела» (авторство двух последних стихотворений Раич раскрыл в печатном списке своих сочинений — Галатея, 1830, № 8. С. 84–85). Стихотворение Н. Грекова «К Р……» обращено также к Раичу. Ознобишиным (помимо произведений, подписанных «Делибюрадер») написано: «Посещение. Восточная повесть», «К Фанни» (подп.***), «Идеал. Восточная повесть» (подп. О.), «Дремлющая дрияда» (подп.***) и «доставлены» «Малороссийские песни». «Быль» принадлежит В. П. Титову; «Три истины» (подп.***) — А. Ф. Томашевскому; «Розалии» (подп. М-ч) — М. А. Максимовичу. Библиотека ИРЛИ, 54 5/11. См.: Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 553 (со ссылкой на указание Я. Л. Левкович).
(обратно)161
Пушкин. Т. 11. С. 48; Московский телеграф, 1827, ч. 13, отд. 1. С. 239–246; Вяземский П. А. Полное собр. соч. Т. 2. СПб., 1879. С. 30–33.
(обратно)162
Пушкин. Т. 11. С. 340.
(обратно)163
Пушкин. Т. 13. С. 295.
(обратно)164
Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. С 36.
(обратно)165
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 28–29.
(обратно)166
См.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. Изд. 3. М.-Л., 1931. С. 297–299.
(обратно)167
Пушкин. Т. 13. С. 318. Об истории этого стихотворения см.: 1) Городецкий Б. П. «19 октября» (1825); 2) Левкович Я. Л. Лицейские «годовщины». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.
(обратно)168
Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. Т. 1. М., 1963. С. 239. Ср.: Николай Полевой…. С. 210–215; Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 112 и след.
(обратно)169
Пушкин. Т. 13. С. 276.
(обратно)170
Остафьевский архив. Т. 3. С. 144.
(обратно)171
Пушкин. Т. 13. С. 304–305.
(обратно)172
Салинка В. А. Н. А. Полевой — журналист и критик пушкинской эпохи. Автореферат. канд. дис. Л., 1972. С. 5 и след.
(обратно)173
Об Измайлове см.: Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Изд. 2. СПб., 1912. С. 110 и след.; Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 100–102; Николай Полевой… С. 248–249; Пушкин. Письма. Т. 2. М.-Л., 1926. С. 190–191 (комм. Б. Л. Модзалевского).
(обратно)174
О Д. П. Глебове (1789–1843) см.: Русский биографический словарь. Т. Герберский — Гогенлоэ. М., 1916. С. 352; Словарь членов Общества любителей российской словесности при Моск. ун-те. М., 1911. С. 83; послание его В. Л. Пушкину — «Элегии и другие стихотворения Дмитрия Глебова». М., 1827. С. 138; ср.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 48. Об Н. Д. Иванчине-Писареве (1790–1849) см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 160.
(обратно)175
См. письмо Ф. Н. Глинки В. В. Измайлову от 10 декабря 1826 г. — Моск. обозрение, 1877, № 16. С. 423–425.
(обратно)176
Московское обозрение, 1877, № 16, 17, 19, 22, 23, 25.
(обратно)177
Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 588–589.
(обратно)178
Тургеневский архив, вып. 6. С. 57.
(обратно)179
Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. М.-Л., 1934. С. 394, 339, 327–328.
(обратно)180
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 202 и след.
(обратно)181
Языковский архив, вып. 1. С. 295.
(обратно)182
Пушкин. Т. 13. С. 305, 314.
(обратно)183
Языковский архив, вып. 1. С. 292.
(обратно)184
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. 612, л. 1–2. Ср.: Оксман Ю. Г. Цензурные материалы о Д. В. Веневитинове. — Лит. музеум. Пг., 1921. С. 343–344.
(обратно)185
Языковский архив, вып. 1. С. 302–310 (письмо от 20 февраля).
(обратно)186
Пушкин. Т. 13. С. 307–308, 325–326.
(обратно)187
Пушкин. Т. 13. С. 322–323; Сухонин С. С. Дела III отделения об А. С. Пушкине. СПб., 1906. С. 43–44.
(обратно)188
Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 247–248; ЦГИА, ф. 777, оп. 27, ед. 22, протоколы от 12 и 18 марта 1827 г.
(обратно)189
Пушкин. Т. 13. С. 326.
(обратно)190
Пушкин. Т. 13. С. 320.
(обратно)191
См.: Веневитинов Д. В. Полн. собр. соч. С. 400 и след.; Пушкин. Т. 13. С. 325; Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 42.
(обратно)192
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 203; Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. С. 52.
(обратно)193
Нечаева В. С. Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича. — Лит. наследство. Т. 58. С. 243–262.
(обратно)194
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 694; Барсуков. Т. 2. С. 126.
(обратно)195
Пушкин. Т. 13. С. 328
(обратно)196
Теребенина Р. Е. Автограф послания Пушкина к З. А. Волконской и его история. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии, 1972. Л., 1974. С. 8–9.
(обратно)197
Барсуков. Т. 2. С. 123 (письмо от 13 июня).
(обратно)198
Пушкин. Т. 13. С. 334.
(обратно)199
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 118.
(обратно)200
Лит. наследство. Т. 58. С. 82. Замысел альманаха Сомова относится еще к началу 1827 года (см.: Языковский архив, вып. 1. С. 307).
(обратно)201
Лит. наследство. Т. 58. С. 67.
(обратно)202
Пушкин. Т. 13. С. 334–336.
(обратно)203
Пушкин. Т. 13. С. 341.
(обратно)204
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. 610, л. 87.
(обратно)205
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. 615, л. 26.
(обратно)206
Письмо к К. С. Сербиновичу от 29 октября. — ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, ед. 1521, л. 1.
(обратно)207
Пушкин. Т. 13. С. 349; Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1964. С. 629; Лит. наследство. Т. 58. С. 82.
(обратно)208
Языковский архив, вып. 1. С. 343, 349. В печатном тексте письма к А. М. Языкову от 18 января 1828 г. ошибка: вместо «к няне» напечатано «к Хлое». Исправляем по автографу: ИРЛИ, 19. 4. 7 (Яз. 1. 7), л. 5.
(обратно)209
Пушкин. Т. 13. С. 350.
(обратно)210
Там же. С. 345.
(обратно)211
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, ед. 612, л. 68–70.
(обратно)212
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 117.
(обратно)213
Северная пчела, 1827, 19 ноября, № 139; 1828, 7 января, № 3.
(обратно)214
История текста «Элегии» не вполне ясна. В «Северные цветы» она, видимо, попала через Пушкина (сохранилась его копия, идентичная тексту альманаха). Подробно см.: Рукою Пушкина. С. 507–508; Сандомирская В. Б. К вопросу о датировке помет Пушкина во второй части «Опытов» Батюшкова. С. 20.
(обратно)215
Лит. наследство. Т. 58. С. 1000–1002.
(обратно)216
См.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 702–703.
(обратно)217
Туманский В. И. Сочинения и письма. СПб., 1912. С. 282. Биографию Зайцевского, написанную В. Н. Орловым, см.: Денис Давыдов. Полное собрание стихотворений. Л., 1933. С. 292.
(обратно)218
Пушкин и его современники, вып. 16. СПб., 1913. С. 60.
(обратно)219
Цейтлин А. Г. Неосуществленный замысел трагедии «Хмельницкий». — Лит. наследство. Т. 59. С. 57.
(обратно)220
Григорьев В. Н. Заметки из моей жизни. ГПБ, ф. 225, № 5, л. 10. С Н. И. Философовым Григорьев сохранял связь и позже (там же, л. 12 об.). Ср.: Современник, 1925, № 1. С. 129 и след.
(обратно)221
Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971. С. 460, 457. Последний отрывок с «Партизанами» в литературе не связывался, хотя к тому есть сюжетные и палеографические основания (автограф записан одними чернилами; фрагмент, подобно «Партизанам», астрофичен и написан четырехстопным ямбом. См.: ИРЛИ, ф. 269, оп. 1, № 21, л. ненум.).
(обратно)222
Русский вестник, 1875, № 8. С. 579.
(обратно)223
Пушкин. Т. 13. С. 87; Лит. наследство. Т. 58. С. 256; Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. [М.], 1956. С. 59 (запись от 2 октября 1827 г.); Каверин В. Барон Брамбеус. М., 1966. С. 82 и след.; Крачковский И. Ю. Источник «Витязя буланого коня» и других восточных повестей Сенковского. — Труды ВИИЯ, 1946, № 2. С. 5–32.
(обратно)224
Северная пчела, 1828, № 3, 7 января.
(обратно)225
ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, ед. 1521, л. 3.
(обратно)226
Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 379. Подробно см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 86 и след.; Мейлах Б. С. Талисман. М., 1975. С. 62 и след.
(обратно)227
Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. С. 223.
(обратно)228
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 289.
(обратно)229
Бонди С. Новые страницы Пушкина. Л., 1931. С. 115–129.
(обратно)230
См.: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века. Л., 1975. С. 344–345, 778 (комм. М. И. Гиллельсона).
(обратно)231
Северная пчела, 1828, № 1 (3 января); № 2 (7 января); № 4 (10 января); № 5 (12 января); Московский телеграф, 1828, № 1. С. 125–129; Московский вестник, 1828, № 1. С. 59–60, 70–71, 77–79; № 2. С. 185–193.
(обратно)232
Пушкин. Т. 14. С. 4, 5, 6.
(обратно)233
Барсуков. Т. 2. С. 181.
(обратно)234
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 165.
(обратно)235
Гаевский В. П. Дельвиг, статья IV. С. 22; ГПБ, ф. Гаевского, № 171.
(обратно)236
Барсуков. Т. 2. С. 181; Gomolicky L. Dziennik pobytu A. Mickiewicza w Rosji. 1824–1829. Warszawa, 1949, s. 237.
(обратно)237
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 216–217.
(обратно)238
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 164–165. Цитируется по автографу (ИРЛИ, 21. 751/CLб 15, л. 13 об. — 15). В печатном тексте купюра (слова «мальчишек Шевыревых» исключены).
(обратно)239
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 163–164 (письмо от 18 марта 1828 г.). Лит. наследство. Т. 58. С. 83; Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 593.
(обратно)240
См.: Цявловская Т. Г. Дневник А. А. Олениной. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2. М.-Л., 1958. С. 247–292; Иезуитова Р. В. «Не пой, красавица, при мне». — В кн.: Стихотворения Пушкина. С. 121–138.
(обратно)241
Пушкин. Т. 14. С. 20–21; Языковский архив, вып. 1. С. 364.
(обратно)242
См.: Цявловская Т. Г. «Влюбленный бес». (Неосуществленный замысел Пушкина). — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.-Л., 1960. С. 111–112. Пушкин мог рассказывать новеллу в период с конца мая по 19 июня 1827 г. (когда уехали Карамзины) или с конца октября 1827 г. по середину октября 1828 г. (Там же. С. 128). Второй из указанных сроков более вероятен, учитывая позднюю дату появления повести (поступила в цензуру только 27 ноября 1828 г.) и очень отдаленное знакомство Титова и Пушкина еще в июле 1827 г., почти исключавшее возможность визита Титова в «Демут» (см.: Лит. наследство. Т. 16/18. С. 694); напротив, в 1828 г. общение их довольно коротко (там же. С. 699).
(обратно)243
Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911. С. 100.
(обратно)244
См.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 162–175.
(обратно)245
Письма Катенина к Бахтину. С. 125, 128; письмо к Погодину см.: Барсуков. Т. 2. С. 184 и: Лит. наследство. Т. 16/18. С. 699; Пушкин. Т. 14. С. 8.
(обратно)246
Пушкин. Т. 14. С. 22; Орлов В. Н. В. К. Кюхельбекер в крепостях и ссылке. — В кн.: Декабристы и их время. М.-Л., 1951. С. 27 и след.
(обратно)247
Пушкин. Т. 14. С. 23–24; Пушкин. Письма. Т. 2. С. 308.
(обратно)248
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 700; Барсуков. Т. 2. С. 190.
(обратно)249
Остафьевский архив. Т. 3. С. 179; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 41.
(обратно)250
Лит. наследство. Т. 58. С. 82; ИРЛИ, 19. 4. 81.
(обратно)251
25 сентября Вяземский сообщает Пушкину: «Дельвиг здесь» (Пушкин. Т. 14. С. 27–29).
(обратно)252
Пушкин. Т. 14. С. 28. Ср.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». С. 150–157.
(обратно)253
Вульф А. Н. Дневник. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 21–22. Пг., 1915. С. 14.
(обратно)254
Лит. наследство. Т. 58. С. 83.
(обратно)255
Остафьевский архив. Т. 13. С. 179.
(обратно)256
О Готовцевой см.: Пушкин. Письма. Т. 2. С. 315–317 (комм. Б. Л. Модзалевского). Тетрадь ее автографов (с пометой «Москва, 1851») в ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 2, № 426. Стихи в тетради датированы (см. в тексте, кроме названных, здесь находятся автографы стих. «Одиночество» (1823), «К N. N., нарисовавшей букет…» (1823), «Видение» (1825), «К. П.» (1825), «Деревня (Подражание Пушкину)» (1825).
(обратно)257
ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1770, л. 1–2.
(обратно)258
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 225; Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 51, 315 (комм. А. М. Гордина).
(обратно)259
Подробный анализ хода и хронологии работы Пушкина над «Полтавой» см.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина Л., 1975. С. 39–95.
(обратно)260
Вульф А. Н. Дневник. С. 16–17.
(обратно)261
Письмо от 25 сентября 1828 г. См.: Языков Н. М. Полн. собр. стих. Л., 1964 (комм. К. К. Бухмейер); послание — «Прощай! Неси на поле чести…»
(обратно)262
Левин Ю. Д. М. П. Вронченко и его переводы из Мицкевича. — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. М., 1973. С. 432.
(обратно)263
Вульф А. Н. Дневник. С. 23, 24, 26; письмо Баратынского Дельвигу. — Лит. наследство. Т. 58. С. 83.
(обратно)264
Вульф А. Н. Дневник. С. 36–37.
(обратно)265
Языковский архив, вып. 1. С. 374.
(обратно)266
Пушкин. Т. 14. С. 33–36.
(обратно)267
Письмо от октября — начала ноября 1828 г. — Лит. наследство. Т. 58. С. 83; полный текст — Хетсо Г. Евгений Баратынский. С. 592; Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 291.
(обратно)268
Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. С. 63, 247. См.: Егунов А. Н. Гомер в русских переводах XVIII–XIX вв. М.-Л., 1964. С. 331 и след.
(обратно)269
Письмо Жуковского к Дельвигу (без даты). — В кн.: Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг. С. 45. Письмо написано до 3 декабря 1828 г.; ср. письмо Дельвига к Пушкину, где он сообщает о подарках Жуковского (Пушкин. Т. 4. С. 36). «Пьеса» для альманаха, которая, по словам Жуковского, может показаться Дельвигу «слишком водяною» — несомненно, «Море». Стихотворение «Видение» было, по желанию Жуковского, напечатано и отдельным оттиском, в количестве 250 экземпляров, для раздачи «девицам Института и Смольного монастыря» (письмо Сомова Сербиновичу от 6 декабря 1828 г. — ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 40–40 об.).
(обратно)270
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 113–114; Пушкин. Т. 14. С. 38.
(обратно)271
Письмо Сомова к Сербиновичу от 18 ноября, где корреспондент посылает «одно из предсмертных стихотворений покойного Веневитинова» (ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 9–9 об.).
(обратно)272
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 290.
(обратно)273
Там же.
(обратно)274
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 115–116.
(обратно)275
См. Кубасов И. А. Вице-губернаторство баснописца Измайлова в Твери и в Архангельске. (С 1827 по 1829 г.). СПб., 1901; Вацуро В. Э. Из истории литературных полемик 1820-х годов. — В кн.: Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972. С. 161–174.
(обратно)276
ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 39–39 об.
(обратно)277
Подробно см.: Барсуков. Т. 2. С. 234–264.
(обратно)278
Северные цветы на 1829 год. С. 21 первой пагинации.
(обратно)279
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 291.
(обратно)280
Бестужев-Марлинский А. А. Полное собр. стих. С. 274–276.
(обратно)281
Северная пчела, 1829, № 6 (12 января).
(обратно)282
Перевод этот принадлежал А. А. Скальковскому и был исправлен Шевыревым; в журнале появился за двумя инициалами: «S.» и «Ш.». См. о нем: Ланда С. С. Пушкин в воспоминаниях Л. А. Скальковского. — В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., 1962.
(обратно)283
Синявский Н. и Цявловский М. Пушкин в печати. 1814–1837. Изд. 2-е. М., 1938. С. 57.
(обратно)284
Письмо Дельвига к Вяземскому датировано 3 ноября (Письма А. С. Пушкина, барона А. А. Дельвига… к кн. Вяземскому. С. 36). Это ошибка (описка?); письмо не могло быть написано ранее начала декабря. Упоминание в нем о подарках Жуковского (свыше 800 стихов) текстуально совпадает с соответствующим упоминанием в письме Дельвига к Пушкину 3 декабря 1828 г. (Пушкин. Т. 14. С. 36).
(обратно)285
Пушкин. Т. 14. С. 35.
(обратно)286
Письмо Дельвига к Вяземскому от 30 августа 1829 г. — Письма А. С. Пушкина, бар. А. А. Дельвига… к кн. Вяземскому. С. 36–37.
(обратно)287
ИРЛИ, 19. 4. 81. Часть письма («Скажу вам — отпечатана и выдана») опубликована в Лит. наследстве. Т. 58. С. 86–87.
(обратно)288
Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955. С. 186 и по указ.; Подолинский А. И. Автобиография. — Русская старина, 1885, № 1. С. 74–75.
(обратно)289
Глинка М. И. Записки. Л., 1953. С. 56, 236; Орлова А. А. М. И. Глинка. Летопись жизни и творчества. М., 1952. С. 46.
(обратно)290
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 132.
(обратно)291
Северная пчела, 1827, № 73 (18 июня).
(обратно)292
Русская старина, 1889, № 7. С. 124.
(обратно)293
Подолинский виделся с Плетневым у Дельвигов (см., напр., запись Вульфа от 11 декабря 1828 г.). В 1840 г. И. Балле, встречавшийся с Подолинским в Одессе, писал Плетневу, что Подолинский «знает и уважает» его (ИРЛИ, ф. 234, оп. 4, № 40); сам же Подолинский писал в 1857 г. И. Г. Устрялову, что познакомился с Плетневым в Париже (ИРЛИ, ф. 14, № 85, л. 3–3 об.).
(обратно)294
ГБЛ, ф. Подолинского, М. 4072, п. IV, л. 1 об. Часть письма опубликована: Лит. наследство. Т. 58. С. 68.
(обратно)295
А. Подолинский — Щастному. 11 дек. 1827. ГБЛ, ф. 23.1.91, л. 2 об.; Вацуро В. Э. Первый русский переводчик «Фариса» Мицкевича. — В кн.: Славянские страны и русская литература. Л., 1973. С. 47–67.
(обратно)296
Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 47; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 133, 414.
(обратно)297
Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 87; Вульф А. Н. Дневник. С. 54–56. Поездка состоялась до 15 декабря 1828 г. (день отъезда Вульфа из Петербурга).
(обратно)298
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 699.
(обратно)299
Письма Н. Литвинова Второву 1822–1823 гг. ЦГАЛИ, ф. 93, оп. 2, № 3, л. 102 об., 106 об. — 107, 109 об. — 110; записка Крюкова Свиньину — ГПБ, ф. 679, № 74. См. также: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 538–540. Время приезда Крюкова в Петербург устанавливается по датам под стихами («Воспоминание о родине» имеет помету: «СПб., 1 июля 1827», «В память красавице» — «Оренбург, янв. 1827». См.: Сын отечества, 1827, № 13. С. 88; № 14. С. 192). Запись о цензурованни «Опытов в стихах» (24 января 1828 г.) — ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 805, л. 4.
(обратно)300
О Познанском см.: Баскаков В. Н. Забытый переводчик А. Мицкевича. — В кн.: Славянские страны и русская литература. С. 33–46; Адам Мицкевич. Сонеты. Л., 1976. С. 319–322 (комм. С. С. Ланды). Некоторые дополнительные сведения о Познанском, который «вел довольно интересный дневник и, между прочим, сочинил поэму-сатиру <…>, которая в свое время пользовалась некоторой известностью», см. в рукописной заметке племянника поэта, И. Познанского (1887 г., ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2076).
(обратно)301
Северная пчела, 1829, № 48 (20 апреля).
(обратно)302
Лит. архив. Т. 3. М.-Л., 1951. С. 341–342; уточнение даты и комментария — Mickiewicz A. Dziela. Т. XIV. Listy, czesc 1. Warszawa, 1955, str. 479.
(обратно)303
Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 234: Письма А. С. Пушкина, бар. А. А. Дельвига… к кн. Вяземскому. С. 36.
(обратно)304
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 115.
(обратно)305
Письмо Дельвига Баратынскому от конца марта 1829 г. — Дельвиг А. А. Сочинения. С. 167.
(обратно)306
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 702.
(обратно)307
Gomolickу L. Dziennik pobytu A. Mickiewicza w Rosji, str. 304–305.
(обратно)308
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 703–704 (письмо от 25 февраля 1829 г.).
(обратно)309
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 273–274.
(обратно)310
Там же. С. 133.
(обратно)311
Лит. наследство. Т. 58. С. 48.
(обратно)312
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 703–704; Барсуков. Т. 2. С. 303.
(обратно)313
ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 14–14 об.
(обратно)314
Там же, л. 16–16 об., 17.
(обратно)315
Впервые «Ангел» был напечатан только в 1939 г. Стихи датируются сейчас первой половиной 1830-х годов (Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. М.-Л., 1967. С. 290); по письму Сомова их можно датировать точнее — 1828–1829 гг.
(обратно)316
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 291.
(обратно)317
ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2625, л. 2. Первоначальная подпись: *** зачеркнута и заменена: «Язвъ».
(обратно)318
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 292.
(обратно)319
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 951. Здесь же — текст статьи.
(обратно)320
ИРЛИ, 19. 4. 81. Письмо от 9 апреля 1829 г.
(обратно)321
Языковский архив, вып. 1. С. 381, 414; ср. также с. 387.
(обратно)322
ИРЛИ, 19. 4. 104.
(обратно)323
Катенин П. А. Избранные произведения. Л., 1965. С. 183, 686.
(обратно)324
Письма Катенина к Бахтину. С. 135–138, 144, 146; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 188.
(обратно)325
Николай Полевой…. С. 443–447; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 165–169; Салинка В. А. Н. А. Полевой — журналист и критик пушкинской эпохи. Автореферат. канд. дис. Л., 1972. С. 8–10.
(обратно)326
Письмо Языкова А. Очкину от 20 апреля 1829 г. — Русская старина, 1903, № 3. С. 485; ср. также с. 529; письма Баратынского Вяземскому (март и май 1829 г.) — Лит. наследство. Т. 58. С. 87–88; Сын отечества, 1831, № 27. С. 62–63. Об успехе «Выжигина» см. также: Энгельгардт Н. А. Гоголь и Булгарин. — Ист. вестник, 1904, № 7. С. 154; Пушкин и его современники, вып. 29–30. Пг., 1918. С. 30–31.
(обратно)327
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 703.
(обратно)328
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 166–167. Печатаем по подлиннику (ИРЛИ, 21751. CLб15, л. 15–15 об.), так как в печатном тексте — важные купюры и искажения слов.
(обратно)329
Северная пчела, 1829, № 37 (26 марта); № 41 (4 апреля) (объявление о выходе); № 44 (11 апреля).
(обратно)330
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 703.
(обратно)331
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 136.
(обратно)332
Орлова А. А. «Финская песня» Глинки. — В кн.: М. И. Глинка. Исследования и материалы. М.-Л., 1950. С. 187–194.
(обратно)333
Шемиот В. Письмо из Новой Финляндии к барону Дельвигу. — Северная пчела, 1834, 28 мая, № 120. С. 480.
(обратно)334
Литературная газета, 1830, № 48, 24 августа; № 49, 29 августа; № 35, 20 июня.
(обратно)335
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 18–20. О Корсаке см. также: Глинка М. И. Литературное наследие. Т. 1. Л.-М., 1952; т. 2. Л., 1953, по указ.; М. И. Глинка. Исследования и материалы. С. 195–197; Пушкин и его современники, вып. 17–18. СПб., 1913. С. 167.
(обратно)336
Пушкин. Письма. Т. 3. С. 247–249 (комм. Л. Б. Модзалевского).
(обратно)337
Русская старина, 1908, № 12. С. 761.
(обратно)338
Письмо от 21 августа 1829 г. — ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 382, л. 1 об.
(обратно)339
Там же. л. 3 об. (письмо от 21 ноября 1829 г.).
(обратно)340
ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 397, л. 1–1 об.; Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6.С. 292.
(обратно)341
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 397, 524; т. 2. С. 273–278.
(обратно)342
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 168.
(обратно)343
Верховский Ю. Барон Дельвиг. С. 45–46. Некоторые пьесы для альманаха Сомов, действительно, представлял в цензуру сам (Пушкин, Исследования и материалы. Т. 6. С. 293). О связи этого альманаха с дельвиговским кружком см. также: Гаевский В. П. Дельвиг. Статья 4-я. С. 36.
(обратно)344
Удодов Б. Т. К. Ф. Рылеев в Воронежском крае. Воронеж, 1971. С. 75–77; ср. рец. А. Е. Ходорова (Русская литература, 1971, № 4. С. 196). Стихи были, по-видимому, сочинены Шемиотом при отъезде из Петербурга на службу в Финляндию.
(обратно)345
Гаевский В. П. Дельвиг. Статья 4-я. С. 29.
(обратно)346
Письмо Максимовича к Гаевскому от 14 июля 1854 г. — ГПБ, ф. Гаевского, № 171.
(обратно)347
Дельвиг А. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 490; Полное собр. стих. Л., 1959. С. 328–331, 49.
(обратно)348
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 167–168. Автограф находится в ИРЛИ, 21751. CLб15, л. 16.
(обратно)349
Письма А. С. Пушкина, бар. А. А. Дельвига… к кн. Вяземскому. С. 36–37.
(обратно)350
Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. С. 44–51; Пушкин. Письма. Т. 2. С. 324–325; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 176–179; Вяземский П. А. Записные книжки. С. 146; Лит. наследство. Т. 58. С. 88.
(обратно)351
ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 397, л. 3.
(обратно)352
Летописи ГЛМ, 1. Л., 1936. С. 76–77; Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 734.
(обратно)353
Фокин Н. И. К вопросу об авторе «Рассказа моей бабушки» А. К. — Уч. зап. ЛГУ, 1958, № 261, сер. филол. наук, вып. 49. С. 155; Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». (Комментарий). Л., 1977. С. 85, 100.
(обратно)354
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 259.
(обратно)355
ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 22–22 об.; Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 293.
(обратно)356
Пушкин. Т. 14. С. 41 (письмо от 29 марта).
(обратно)357
См. об этом: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., 1967. С. 409 и след. Там же — об адресате стихотворения «Я вас любил», которое Д. Д. Благой связывает с Н. Н. Гончаровой. Предложенная им интерпретация тонка и остроумна; однако в пользу А. А. Олениной существуют прямые свидетельства, отводить которые нет достаточных оснований (см.: Цявловская Т. Г. Дневник Олениной. С. 290–292).
(обратно)358
См.: Иезуитова Р. В. «Легенда». — В кн.: Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. С. 139–176.
(обратно)359
Пушкин. Т. 14. С. 50.
(обратно)360
Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. С. 2. СПб., 1889. С. 251–267; Лит. наследство. Т. 58. С. 258; ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 63; Временник Пушкинского дома на 1914 г. Пг., 1914. С. 12 (№ 36).
(обратно)361
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 293; Гриц Т. А. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 143 (запись под 12 сентября); Сербинович К. С. Дневник. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5586, л. 217 (запись: «во вторник, 12 ноября» <1829>; среди гостей отмечены Дмитрий и Семен Ардалионовичи Шишковы); Поэты 1820-х — 1830-х годов, т, 1. С. 436–439, 754–755; ср.: Мурьянов М. Ф. Пушкин и Песнь песней. — Временник Пушкинской комиссии, 1972. Л., 1974. С. 63; В последней статье речь идет о «Видении Иоанна», которое Сербинович представлял в Главный цензурный комитет 2 ноября 1828 г.; 14 ноября оно было запрещено духовной цензурой. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 23, л. 263 об., 270. О воздействии Кюхельбекера на Шишкова ср. замечания Р. Ю. Данилевского (Людвиг Тик и русский романтизм. — В кн.: Эпоха романтизма Л., 1975. С. 91).
(обратно)362
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 293; запись о докладе — в дневнике Сербиновича под 27 ноября (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5586, л. 221 об.).
(обратно)363
Модзалевский Л. Б. Новый автограф Пушкина. «Легенда» 1829 г. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 38–39, Л., 1930, с. 11–18.
(обратно)364
Синявский П., Цявловский М. Пушкин в печати. С. 70.
(обратно)365
Гаевский В. П. Дельвиг, статья 4-я. С. 27–28.
(обратно)366
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 2. С. 490–491, 738, 739.
(обратно)367
Письма Катенина к Бахтину. С. 161.
(обратно)368
Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к князю П. А. Вяземскому. Пг., 1917. С. 25 (письмо от 29 января 1830 г.).
(обратно)369
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 259.
(обратно)370
Лит. наследство. Т. 58. С. 257.
(обратно)371
Там же. С. 92.
(обратно)372
Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 295.
(обратно)373
Старина и новизна, кн. 5. СПб., 1902. С. 47.
(обратно)374
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 260.
(обратно)375
ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1016; Пушкин и его современники, вып. 13. СПб., 1910. С. 175–176.
(обратно)376
Барсуков. Т. 3. С. 11.
(обратно)377
Лит. наследство. Т. 58. С. 92; Т. 16/18. С. 742–743.
(обратно)378
Лит. наследство. Т. 58. С. 93; Гозенпуд А. А. А. А. Шаховской. — В кн.: Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961. С. 64–66.
(обратно)379
Пушкин. Т. 14. С. 60; Замков И. К истории «Литературной газеты» барона А. А. Дельвига. — Русская старина, 1916, № 5. С. 252–257.
(обратно)380
Пушкин. Т. 11. С. 88; т. 14. С. 55. Ср.: Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830–1831. Указатель содержания. М., 1966. С. 145.
(обратно)381
Греч Н. И. Записки. С. 700; Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6. С. 288, 295–296.
(обратно)382
Пушкин. Т. 11. С. 89; Сочинения Пушкина. Т. 9. Кн. 2. Изд. АН СССР., Л., 1929. С. 169–177.
(обратно)383
Пушкин. Т. 11. С. 119–124.
(обратно)384
Северная пчела, 1830, № 4, 9 января; № 5, 11 января. Этот отзыв иногда считается началом политической дискредитации Пушкина в булгаринской газете (Гиппиус В. В. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830–1831 гг. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, 6. М.-Л., 1941. С. 236–237); нам представляется, что для такой трактовки нет достаточных оснований.
(обратно)385
Звенья. Т. 6. М.-Л., 1936. С. 202; Пушкин. Т. 14. С. 67, 80; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 197; ср.: Еремин М. П. Пушкин-публицист. Изд. 2. С. 155 и след.; Остафьевский архив. Т. 3. С. 191–192.
(обратно)386
Воспоминания Бестужевых. С. 290–292, 391, 769–780; Котляревский Н. А. Декабристы. С. 35–40; Зильберштейн И. С. Рассказ Николая Бестужева «Похороны». — Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 177–180.
(обратно)387
Замков Н. К истории «Литературной газеты». С. 258.
(обратно)388
Лит. газета, 1830, № 14, 7 марта; Северная пчела, 1830, № 30, 11 марта; Гиппиус В. В. Пушкин в борьбе с Булгариным. С. 237 и след.
(обратно)389
Гаевский В. П. Дельвиг, статья 4-я. С. 53; Поэты 1820-х— 1830-х годов. Т. 2. С. 294, 715; Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 136.
(обратно)390
Лит. газета, 1830, № 43, 30 июля; № 36, 25 июня (статья Вяземского); Сын отечества и Северный архив, № 36. С. 189–201; Северная пчела, 1830, № 25, 27 февраля; № 53, 3 мая; № 67, 6 июня; № 130, 30 октября; 1821, № 9, 13 января.
(обратно)391
Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. 1. М.-Л., 1930. С. 55; Лит. газета, 1830, № 68, 2 декабря (статья Дельвига); Русский архив, 1908, кн. 3. С. 263 (письмо Сомова от 24 декабря 1830 г.); ГБЛ, ф. Подолинского. М. 4072/4, п. IV (письмо Розена Подолинскому от 24 ноября 1830 г.). Материалы по истории «Альционы» см. также: Пушкин и его современники, вып. 29–30, Пг., 1918. С. 125. Отзывы о «Царском Селе» и «Альционе» см.: Северная пчела, 1830, № 20, 15 февраля; 1831, № 3, 5 января. В 1832 г. Розен уже сотрудничал в «Северной пчеле». Он поддерживал отношения с Гречем; Булгарина же, по воспоминаниям В. Бурнашева, «ненавидел» и отделял от Греча (Заря, 1871, кн. 4. С. 19–22; Русский вестник, 1871, № 11. С. 149). В ноябре 1831 г. на литературном обеде у В. Н. Семенова, где присутствовали Греч, В. Е. Вердеревский, Сомов, Розен и др., участники резко отзывались о Булгарине и убеждали Греча порвать с ним (Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 110). Позднее Розен писал, что в течение 15 лет подвергался нападениям Булгарина и разделял неприязненное отношение к нему своих литературных знакомых (Сын отечества, 1847, № 4, отд. VI. С. 4).
(обратно)392
ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. 228, л. 72–72 об.
(обратно)393
Пушкин. Т. 14. С. 162.
(обратно)394
Верховский Ю. Барон Дельвиг. С. 21; Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811–1817). Бумаги первого курса… СПб., 1911. С. 428. Автографы всех перечисленных стихов — в цензурной рукописи «Северных цветов на 1831 г.» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 36). Автограф «Славы нечестивца» зачеркнут; стихотворение напечатано в «Литературной газете» (1830, № 61, 28 октября).
(обратно)395
О Трилунном см.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 2. С. 226–230 (статья В. С. Киселева-Сергенина); Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. С. 612–614. Его стихи «Рим (К Шевыреву)» с датой: Петербург, августа 30. 1831. — Телескоп, 1831, № 16. С. 444. Отзыв о нем см.: Северная пчела, 1830, № 60, 20 мая.
(обратно)396
Лит. газета, 1830, № 38, 5 июля; 1831, № 34, 15 июня (стихи Кольцова); Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. С. 747, 286.
(обратно)397
Вульф А. Н. Дневник. С. 136, 137, 276–278 (комм. М. Л. Гофмана). Полемику об авторстве этого стих. см.: Садовской Б. Пушкин или Рылеев? (Новая запись пушкинских стихотворений). — Голос земли, 1912, № 20, 20 января. С. 3; Лернер Н. Заметки о Пушкине. — Русская старина, 1913, № 12. С. 516–517. Списки «Смуглянки» с подписью «А. Пушкин» см., в частности, ИРЛИ, ф. 244, оп. 15, № 40 и 42. Упоминания «Шибаева» см.: Пушкин. Письма. Т. 3. С. 130 (комм. Л. Б. Модзалевского); Шибаев. Может ли это быть? — Библиотека для чтения, 1834. Т. 4, отд. 1. С. 181; Нистрем К. Книга адресов Санктпетербурга на 1837 г. СПб., 1837. С. 1221; Сенатские объявления, 1830, № 14110; 1831, № 12615. (За эту справку благодарю Л. А. Черейского.) Стихи его «Вердеревскому» (Лит. газета, 1830, № 45, 9 августа) адресованы, несомненно, поэту Василию Евграфовичу Вердеревскому (1801 — после 1867), участнику «Полярной звезды», «Северных цветов» на 1828–1831 гг., «Альционы» и других московских и петербургских изданий, переводчику Горация и «Паризины» Байрона. Вердеревский был дальним родственником известного А. А. Прокоповича-Антонского (Русский архив, 1903, кн. 1. С. 157) и окончил Московский университетский благородный пансион в 1816 г.; общался с членами сунгуровского кружка, а так же с В. С. Филимоновым и Н. А. Полевым (Николай Полевой. С. 151, 610; Насонкина Л. И. Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 243). В 1820 г. служил в Семеновском, затем в Бородинском пехотном полку; в 1824–1827 гг. в отставке. С 12 июля 1827 г. вновь служит: в канцелярии статс-секретаря по комиссии прошений, в департаменте уделов (с 17 апр. 1829 г.), внешней торговли (с 24 октября 1830 г.), в Кронштадтской таможне (с 7 июля 1831 г.), при дежурном генерале Главного штаба (с 11 апреля 1831). В 1832 г. — правитель канцелярии генерал-кригс-комиссара Главного штаба, в 1836–1838 гг. — канцелярии комиссариатского департамента. В это время его видит у Воейкова Бурнашев (Русский вестник, 1871, № 10. С. 613); он делает быструю карьеру и обогащается. В 1838–1840 гг. Вердеревский служил в Польше; в 1842 г. стал чиновником 5 класса III отделения. Впоследствии был уличен в мошеннических проделках, взятках и шулерстве, лишен прав состояния и приговорен к поселению в Сибири (Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. Т. 1. С. 359–360; Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 19. М., 1960. С. 328, 530). Формулярный список его — ЦГИА, ф. 1349, оп. 3, № 380, л. 65–72 об.
(обратно)398
Волков Платон Григорьевич (род. 1799? ср. его «Признание на 30-м году жизни», 1828) воспитывался у иезуитов, затем служил в гвардии; в 1830 г. имел чин подпоручика. В 1826 г. был дружен с Д. Н. Толстым-Знаменским (Русский архив, 1885, кн. 2. С. 29–30). В 1830 г. получил разрешение издавать в Петербурге «Журнал иностранной словесности и изящных художеств» и «Эхо» (издания не состоялись; дело о разрешении — ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 278). Печатал стихи еще в «Благонамеренном» (1823), позднее в «Северном Меркурии», «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и «Библиотеке для чтения»; общался с Воейковым (Русский вестник, 1871, № 11. С. 148) и Н. В. Кукольником (Русская старина, 1901, № 3. С. 695).
(обратно)399
Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н. Гоголь в Петербурге. Л., 1961. С. 31–33.
(обратно)400
Письмо к М. А. Максимовичу от 23 июня 1829 г. — Русский архив, 1908, кн. 3. С. 257–258.
(обратно)401
Дельвиг А. А. Сочинения. С. 170. О Ф. Глинке в это время см.: Иезуитова Р. В. К истории ссылки Ф. Н. Глинки (1826–1834). — В кн.: Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 323–346.
(обратно)402
Пушкин. Т. 14. С. 105.
(обратно)403
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 8. СПб., 1883. С. 442–446; Пушкин. Т. 12. С. 338; Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. С. 29 (статья Б. В. Томашевского).
(обратно)404
Русский архив, 1904, кн. 3. С. 621.
(обратно)405
Измайлов Н. В. С. П. Шевырев. Письмо к барону А. А. Дельвигу. — Лит. портфели, 1. Время Пушкина. Пб., 1923. С. 95–99.
(обратно)406
Письма А. С. Пушкина, барона А. А. Дельвига… к кн. Вяземскому. С. 37–39.
(обратно)407
См.: Пушкин. Письма. Т. 2. С. 491–493 (комм. Б. Л. Модзалевского).
(обратно)408
Пушкин. Т. 14. С. 121, 124.
(обратно)409
Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 493; Вяземский П. А. Записные книжки. С. 204; Лит. газета, 1831, № 2, 6 янв.
(обратно)410
См.: Прийма Ф. Я. <Стихотворение «Я видел вас, я их читал» >. — Лит. архив, 4. М.-Л., 1953. С. 11–22; Лит. наследство. Т. 58. С. 100–101.
(обратно)411
Ростопчина Е. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1890. С. VI (биогр. очерк С. П. Сушкова); Ходасевич В. Статьи о русской поэзии. Пб., 1922. С. 21–22.
(обратно)412
ИРЛИ, 15988/XCIXб4, л. 30 об.
(обратно)413
Вяземский П. А. Записные книжки. С. 196; письмо Волконской к Вяземскому от 23 авг./4 сент. 1830 г. — Лит. наследство. Т. 58. С. 98.
(обратно)414
Замков Н. К. К истории «Литературной газеты». С. 277; Русский архив, 1885, № 5. С. 123–30; Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Л., 1967. С. 216–217: Цензурное дело (с текстом «Стансов» и статьи Д. Н. Толстого) — ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 55; о «Сетовании» Туманского см. также: ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 323; Катенин П. А. Избранные произведения. С. 693 (комм. Г. В. Ермаковой-Битнер).
(обратно)415
Егунов А. Н. Гомер в русских переводах. С. 278 и след.
(обратно)416
Левкович Я. Л. Историческая повесть. — В кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973. С. 117–118; Исаков С. Г. О ливонской теме в русской литературе 1820-х — 1830-х годов. — Уч. зап. Тартуск. ун-та, вып. 98, 1960. С. 172–175.
(обратно)417
Русская старина, 1904, № 4. С. 206; Московский телеграф, 1831, № 2. С. 249; 1832, № 1. С. 116; Телескоп, 1831, № 2. С. 229.
(обратно)418
Лит. газета, 1830, № 62, 2 ноября; ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 36.
(обратно)419
Данилов В. В. Литературные материалы и очерки. Варшава, 1908. С. 16–21; Степанов А. Н. Публицистические выступления Гоголя в «Литературной газете» А. А. Дельвига. — Уч. зап. ЛГУ, вып. 33, 1957. С. 6.
(обратно)420
ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 36, л. 15–15 об., 18 об., 23.
(обратно)421
Там же, л. 135. В автографе исправлено; вместо: «Но таю я в святом огне» — «Но я сгораю в том огне»: вместо «божественных» — «взволнованных красах». Во всех изданиях этого стихотворения эти изменения сохранены (см.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 504–505); их следует снять, как цензурные.
(обратно)422
Пушкин и его современники, вып. 29–30, Пг., 1918. С. 63–66.
(обратно)423
Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати. С. 84–85.
(обратно)424
ИРЛИ, ф. 244, оп. 8, № 36, л. 8, 10 об.
(обратно)425
Пушкин. Т. 14. С. 133–135, 437, 139, 141, 143, 144; Письма М. П. Погодина. С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к кн. П. А. Вяземскому. СПб., 1901. С. 189; Старина и новизна, вып. 5. СПб., 1902. С. 39.
(обратно)426
Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 131–135 (письмо Сомова); Пушкин. Т. 14. С. 146–147; Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 496.
(обратно)427
Исторический вестник, 1883, № 12. С. 530–531.
(обратно)428
Пушкин. Т. 14. С. 149; письмо Вяземского к Плетневу от 31 января. — Изв. ОРЯС, 1897. Т. 2, кн. 1. С. 94–95.
(обратно)429
Гастфрейнд Н. А. Товарищи Пушкина по имп. Царскосельскому лицею. Т. 2. С. 362.
(обратно)430
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 99.
(обратно)431
Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. С. 124.
(обратно)432
Модзалевский Б. Пушкин. С. 255.
(обратно)433
Пушкин. Т. 14. С. 153; Изв. ОРЯС, 1897. Т. 2, кн. 1. С. 94–95.
(обратно)434
Пушкин. Т. 14. С. 101, 190. Ср.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 376–378.
(обратно)435
Пушкин. Т. 14. С. 189, 195, 194, 1198, 206, 216.
(обратно)436
Лит. газета, 1831, № 25, 1 мая.
(обратно)437
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 2. С. 258–261 (статья В. С. Киселева-Сергенина).
(обратно)438
Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. С. 191–192; Панаев И. И. Литературные воспоминания. (М.), 1950. С. 103–104; Русский архив, 1908, кн. 3. С. 265–267.
(обратно)439
Пушкин. Т. 14. С. 217.
(обратно)440
Соревнователь, 1818, № 10. С. 92. Ср.: Васильев М. А. Об одном приписываемом Пушкину стихотворении («К убегающей красавице»). — Казанский библиофил, 1923, № 4. С. 200–201.
(обратно)441
Примечание это Н. О. Лернер (Пушкин и его современники, вып. 16. СПб. С. 37–41), а в последнее время и Н. В. Фридман (Проза Батюшкова. М., 1965. С. 22–23) склонны были приписывать Пушкину; возражения против этой точки зрения, на наш взгляд, совершенно справедливые, высказал Ю. Г. Оксман (Лит. наследство. Т. 16/18. С. 593).
(обратно)442
См.: Алексеев М. П. Пушкин и Китай. — В кн.: Пушкин и Сибирь. Иркутск, 1937. С. 128–135; его же. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972. С. 72–74.
(обратно)443
Ср.: Выписки из письма о. Иакинфа Бичурина к И. В. С. (От 5 апреля из Иркутска). — Лит. газета, 1830, 16 мая, № 28; автограф Сомова — Архив Академии наук, ф. 738, оп. 1, № 55, л. 71–71 об.
(обратно)444
ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 126 (там же письма о. Иакинфа от 9 мая и 15 и 13 сентября, из Кяхты).
(обратно)445
Автограф очерка (с письмом о. Иакинфа Сомову от 13 июля 1831 г.) находился потом в бумагах Пушкина (ныне ИРЛИ, ф. 244, оп. 3, № 19).
(обратно)446
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 268. Об этом романе как о своей литературной собственности он упоминает и в письме к Н. М. Языкову от 5 января 1832 г. (ИРЛИ, 19.4.81 (Яз. II, 42). Беловой автограф отрывка из романа — Архив Академии наук, ф. 738, оп. 1, № 55, л. 69–70.
(обратно)447
См. эти стихи (с авторскими датами) в кн.: Стихотворения Лукьяна Якубовича. СПб., 1837. Стих. «Леший», впрочем, ошибочно датировано 1832 г.
(обратно)448
Вацуро В. Э. Первый переводчик «Фариса»…. С. 60–61; ср.: Баскаков В. Н. Юзеф Коженевский в России. — В кн.: Из истории русско-славянских литературных связей XIX века. М.-Л., 1963. С. 328.
(обратно)449
Повесть «Замечательный гость», подписанная «Колыванов», также принадлежала Розену (см. его письмо к А. И. Подолинскому от 22 января 1832 г. — ГБЛ, ф. 232 (Подолинского), к. 3, № 32).
(обратно)450
А. Муравьеву принадлежит стих. «Тадмор», подписанное «Олег». Автограф этого стих. — ЦГИА, ф. 1088 (Шереметевых), оп. 2, № 865.
(обратно)451
Русский архив, 1878, кн. 2. С. 48.
(обратно)452
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 217. Ср. библиографию сочинений П. Я. Прокоповича в кн.: Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко. Изд. 2. СПб., 1881. С. VII.
(обратно)453
Протоколы Цензурного комитета от 13 и 20 октября 1831 г. 30 октября «Горная вершина» вместе с переводом Розена из Гете «Баядера» (для «Альционы») послана в Главное управление цензуры. 13 ноября оба стихотворения были запрещены (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1101, л. 8–9).
(обратно)454
Пушкин. Т. 14. С. 218–223.
(обратно)455
Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 109. Сохранилось письмо Сомова к Никитенко от 21 января <1831 г.>: «Препровождаю к Вам обратно, милостивый государь Александр Васильевич, письмо Вашего Леона, с уговором: вознаградить за него Литер<атурные> сборники. Жалею, что давно с Вами не виделся; не увидимся ли послезавтра? не будете ли Вы у Н. И. Кутузова? С истинным почтением и душевною преданностию есмь Ваш покорнейший слуга О. Сомов. Января 21» (ИРЛИ, 18690/CXXIVб3, л. 3).
(обратно)456
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 264–265; ср.: Пушкин. Т. 14. С. 228.
(обратно)457
Пушкин. Т. 14. С. 233.
(обратно)458
Подробно об эволюции этого комплекса поэтических мотивов, связанных с воспоминаниями о Дельвиге, см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Л., 1967.
(обратно)459
Русский архив, 1866. № 11–12. С. 1634–1637; об истории текста см.: Жуковский В. А. Стихотворения. Т. 2. Л., 1940. С. 498–499; Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 465.
(обратно)460
Пушкин. Т. 14. С. 239.
(обратно)461
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 24.
(обратно)462
Лит. наследство. Т. 16/18. С. 712.
(обратно)463
См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский… Т. 1, ч. 2. М., 1913. С. 4.
(обратно)464
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 268, 265–267 (дата письма «28 ноября» — вероятно, опечатка или ошибка (28 октября?)); Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 24.
(обратно)465
Изв. ОРЯС, 1897. Т. 2, кн. 1. С. 99.
(обратно)466
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 207; Лит. наследство. Т. 19–21. М., 1935. С. 62.
(обратно)467
Гаевский В. Дельвиг, статья 4-я. С. 64 (по сообщению М. Д. Деларю).
(обратно)468
Русский архив, 1908, кн. 3. С. 205.
(обратно)469
О Максимовиче и Тепловых см.: Киевская старина, 1882. Т. 1. С. 162, 164; Сб. ОРЯС, 1880. Т. 20, № 5. С. 162–163; Старина и новизна, вып. 4. М. — СПб., 1901. С. 192, 195. Ср.: Пасек Т. П. Из дальних лет. Т. 1. С. 440; Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 11. М. 1956. С. 63–64; Заборова Р. Б. Посвящено Рылееву? — Русская литература, 1976, № 3. С. 56–62.
(обратно)470
Маслов В. И. Архив К. Ф. Рылеева. СПб., 1910. С. 934.
(обратно)471
Пушкин. Т. 14. С. 240, 241, 243–244.
(обратно)472
См. извещения о романе в Лит. газете, 1830, № 70, 12 декабря; 1831, № 33, 10 июня; рецензию на альманах «Сиротка» (М., 1831), где напечатан отрывок «Долина мертвецов» — там же, 1831, № 14, 7 марта.
(обратно)473
Пушкин. Т. 14. С. 249–250; ср.: Модзалевский Б. Пушкин. С. 105–107. Личное обращение Пушкина к Лажечникову следует исключить: на него нет никаких намеков ни в письме, ни в поздних мемуарах Лажечникова (Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 167–182).
(обратно)474
Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Т. 1. СПб., 1885. С. 568.
(обратно)475
См.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Баратынского. С. 152 и след.
(обратно)476
Татевский сборник. М., 1899. С. 23, 26, 38–39; Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 507.
(обратно)477
Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати. С. 95–96; Лернер Н. О. Заметки о Пушкине. — Пушкин и его современники, вып. 16. СПб., 1913. С. 38.
(обратно)478
Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М.-Л., 1962. С. 289–303.
(обратно)479
Оксман Ю. Г. Письма Сомова и материалы по изданию «Северных цветов на 1832 г.». — Лит. наследство. Т. 16/18. С. 588–596.
(обратно)480
Пушкин и его современники, вып. 5. СПб., 1907. С. 57–58; Исторический вестник, 1883, № 12. С. 535.
(обратно)481
Пушкин. Т. 15. С. 43, 63; Славянские страны и русская литература. С. 67.
(обратно)482
Русский архив, 1900, кн. 1. С. 370, 372; Остафьевскнй архив. Т. 3. С. 220, 230. Ср.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. С. 255.
(обратно)483
ГПБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 2, № 215.
(обратно)484
Пушкин. Т. 15. С. 84–85.
(обратно)485
Все анонимные стихи перечислены в оглавлении как пушкинские, кроме стих. «Портрет» (пропущенного).
(обратно)486
Печатается по изданию: Вацуро В. Э. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989.
(обратно)487
Отель Рамбулье (фр.).
(обратно)488
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. I, № 45, л. 3–3 об.
(обратно)489
Андроников И. Л. Лермонтов: Исслед. и находки. 4-е изд. М., 1977. C.▫22–24.
(обратно)490
Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1709–1826). M., 1899. Т. 1. C.▫225 (далее: Свербеев, том и страница).
(обратно)491
Там же. C.▫225.
(обратно)492
Формулярный список Татаринова — ЦГИА, ф. 1349, оп. 3, № 2210, л. 87–98. См. в наших ст.: 1) Грибоедов в романе В. С. Миклашевич «Село Михайловское» // А. С. Грибоедов: Творчество, биография, традиции. Л., 1977. C.▫254–255; 2) Из неизданных отзывов о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979. C.▫98–109.
(обратно)493
Свербеев. Т. 1. C.▫221.
(обратно)494
Кобеко Д. Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы, 1811–1843. СПб., 1911. C.▫227; Свербеев. Т. 1. C.▫225.
(обратно)495
Pуc. старина. 1874. Т. 2. C.▫370.
(обратно)496
ЦГИА, ф. 1343, оп. 27, № 4269, л. 6, 7 об.
(обратно)497
Дмитриев И. И. Сочинения. СПб., 1895. Т. 2. C.▫103–105.
(обратно)498
ЦГИА, ф. 1349, оп. 3, № 1744.
(обратно)499
Свербеев. Т. 1. C.▫226.
(обратно)500
ГПБ, ф. 777, № 1586.
(обратно)501
Гнедич Н. И. Стихотворения. СПб., 1832. C.▫104.
(обратно)502
Письмо от 15 нояб. 1817 г. // ГПБ, ф. 682, к. 4, VI ж.
(обратно)503
Письмо от 25 мая 1817 г. // Там же.
(обратно)504
Свербеев. Т. 1. C.▫189.
(обратно)505
Письмо от 10 дек. 1817 г. // ГПБ, ф. 684, к. 4, VI ж.
(обратно)506
Свербеев. Т. 1. C.▫226.
(обратно)507
Гнедич Н. И. Указ. соч. C.▫220. Ср.: Модзалевский Б. Л. Maлороссийский родословник. Киев, 1908. Т. 1. C.▫280.
(обратно)508
О записях Гнедича и Батюшкова в альбоме см.: Дризен Н. В. Литературный салон 20-х годов // Ежемес. лит. прилож. к «Ниве», 1894. № 5. C.▫17–20; первое стихотворение (у Дризена не упомянутое) // ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 125; Гнедич Н. И. Указ. соч. C.▫207 (под заглавием: «К П-ой»); последнее см.: Гнедич Н. И. Стихотворения. Л., 1956. C.▫93, 800 (альбомный автограф здесь не учтен).
(обратно)509
Батюшков К. Н. Сочинения. СПб., 1886. Т. 3. C.▫493, 554.
(обратно)510
Свербеев. Т. 1. C.▫228.
(обратно)511
См.: Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. C.▫362–363.
(обратно)512
Свербеев. Т. 1. C.▫229.
(обратно)513
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 45.
(обратно)514
Там же, л. 30. Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫5.
(обратно)515
Свербеев. Т. 1. C.▫226–229.
(обратно)516
Измайлов А. Е. Сочинения. СПб., 1849. Т. 2. C.▫541.
(обратно)517
Хроника недавней старины: Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876. C.▫321–322.
(обратно)518
Гаевский В. П. Дельвиг // Современник. 1854. № 1. Отд. III. C.▫28.
(обратно)519
Измайлов А. Е. Указ. соч. Т. 2. C.▫556.
(обратно)520
ГПБ, ф. 310 (Измайлова), № 2, л. 118 об.
(обратно)521
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 18; Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫17.
(обратно)522
Письмо от 1 нояб. 1824 г. // ИРЛИ, 14163/LXXVIIIб7, л. 44 об.
(обратно)523
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 119.
(обратно)524
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, л. 123 об. (9 дек. 1820 г.); Невский альманах на 1826 год. СПб., 1825. C.▫243. Ср.: Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫3.
(обратно)525
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, л. 124 (дата: 25 дек. 1820). Ср. Благонамеренный, 1821. № 7/8. C.▫17; Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫17.
(обратно)526
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45. Ср.: Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫21.
(обратно)527
Обширный материал об альбомной графике см. в кн.: Корнилова А. В. Картинные книги. Л., 1982.
(обратно)528
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫22–24.
(обратно)529
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 77.
(обратно)530
Я.<П. Л. Яковлев>. Об альбомах. (Из альбома К. И. И<змайловой>) // Благонамеренный. 1820. № 18. C.▫374–377.
(обратно)531
Благонамеренный. 1820. № 13. C.▫3.
(обратно)532
Гаевский В. П. Дельвиг // Современник. 1853. Т. 39. Отд. 3. C.▫4; 1854. Т. 43. Отд. 3. C.▫5 (со слов M. Л. Яковлева, Д. А. Эристова и А. И. Дельвига). О Яковлеве см.: Кубасов И. Павел Лукьянович Яковлев // Рус. старина. 1903. № 6. C.▫629–641; № 7. C.▫195–214; Медведева И. Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. C.▫101–133.
(обратно)533
Благонамеренный. 1820. № 13. C.▫12–15.
(обратно)534
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8. C.▫156.
(обратно)535
Архив Вольного общества в Научной библиотеке им. М. Горького, ЛГУ. № 161. В «Благонамеренном» (1820. № 14. C.▫122) указано, что он был членом с 1819 г.; это ошибка.
(обратно)536
ИРЛИ, 14. 163/LXXVIIIб7, л. 15. Не датировано. Относится к концу июля 1820 г.
(обратно)537
Там же, л. 12 (приписка М. Л. Яковлева к письму Измайлова от 2 августа 1820 г.).
(обратно)538
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. C.▫265.
(обратно)539
ИРЛИ. 14. 163/LXXVIIIб. 7, л. 16.
(обратно)540
Проскурин О. Над чем смеялся Александр Измайлов: (Из лит. наследия) // Вопр. лит. 1983. № 8. C.▫264–265.
(обратно)541
ИРЛИ, 14. 163/LXXVIIIб7, л. 19 об.
(обратно)542
Молитва об исцелении С. Д. П. Дата: «18 сент. 1820». ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, с. 120–121 об., под заглавием «На болезнь С. Д. П.» и с датой «19 сент. 1820». Ср.: Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. C.▫298–299.
(обратно)543
См. это стихотворение (в иной редакции), под загл. «На болезнь Людмилы», с подп. «…Ъ» и датой «1820»: Благонамеренный. 1822. № 12. C.▫465; ср.: Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. C.▫310; ГПБ, ф. 310. № 2, л. 122 (дата «1820»).
(обратно)544
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 34. Опубликовано («Надпись к портрету С. Д. П.»): Благонамеренный. 1820. № 18. C.▫404; Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. C.▫326.
(обратно)545
См. подробно: Базанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964. C.▫119 и след.
(обратно)546
Благонамеренный, 1820. № 5. C.▫307; № 6. C.▫391. См. об этой статье: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. C.▫186.
(обратно)547
Благонамеренный. 1820. № 13. C.▫15.
(обратно)548
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. C.▫154–156.
(обратно)549
Цертелев Н. А. О подражательной гармонии слова. (Письмо к О. М. С.) // Сын отечества. 1818. № 37. C.▫210; Извлечение из письма г. действительного члена О. М. Сомова к г. действительному же члену князю Н. А. Цертелеву // Соревнователь. 1820. № 6. C.▫357; О парижских театрах. Письма к князю Н. А. Цертелеву. Письмо первое. Париж // Благонамеренный. 1820. № 10. C.▫278; Второе письмо к князю Н. А. Ц. из Парижа // Там же. 1820. № 11. C.▫348.
(обратно)550
Невский зритель. 1821. № 1. C.▫56.
(обратно)551
Сын отечества. 1821. № 13. C.▫263. Подробнее см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. C.▫326–327.
(обратно)552
Яковлев П. Чувствительное путешествие по Невскому проспекту // Благонамеренный. 1821. № 16. C.▫235.
(обратно)553
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. C.▫154–156.
(обратно)554
Архив Общества (ЛГУ). № 1.
(обратно)555
Альбом В. И. Панаева. ИРЛИ, р. 1, оп. 42, № 21, л. 41. Запись анонимна; «уединенный певец» — автохарактеристика П. А. Межакова, ставшая названием и его сборника.
(обратно)556
Благонамеренный. 1820. № 9. C.▫223–224.
(обратно)557
Там же. 1821. № 3, приб. C.▫14.
(обратно)558
Батюшков К. Н. Соч. Т. 3. C.▫457.
(обратно)559
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫264 1-й паг.
(обратно)560
Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. C.▫265.
(обратно)561
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265.
(обратно)562
См. об этом ряд ценных замечаний в кн.: Вольперт Л. И. Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980.
(обратно)563
Баратынский Е. Послание к Б<арону> Дельвигу // Невский зритель. 1820. Март. C.▫56–59; К Коншину // Сын отечества. 1820. № 49. C.▫130–131.
(обратно)564
Б-ка для чтения. 1844. Т. 66. C.▫8.
(обратно)565
Эртель В. А. Выписка из бумаг дяди Александра // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. C.▫166. Ср.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. C.▫72.
(обратно)566
Базанов В. Ученая республика. C.▫394.
(обратно)567
Соревнователь. 1821. Т. 14. Кн. 1. C.▫65; Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии: Из Татевского архива Рачинских / С введением и примеч. Ю. Верховского. Пг., 1916. С. VI.
(обратно)568
Новости лит. 1823. № 40. C.▫14. Ср.: Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1. C.▫47 (первая редакция).
(обратно)569
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 34 об.
(обратно)570
Благонамеренный, 1821. № 7/8. C.▫17; ср.: Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫17; ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; Архив Общества в ЛГУ.
(обратно)571
Благонамеренный. 1821. № 7/8. C.▫16. Автограф — в альбоме Пономаревой // ИРЛИ, 9668/LVIIIб8, л. 10.
(обратно)572
Архив АН СССР, ф. 738 (В. В. Майкова), № 55, л. 39. Фр. Все последующие письма и дневниковые записи Сомова — по этому источнику.
(обратно)573
Слова: третьего дня ~ что-либо по-французски. 488 II. С. Д. П.
(обратно)574
Благонамеренный. 1821. № 10. C.▫143 (под загл.: Песенка); ИРЛИ, отд. пост., № 9668, л. 29–29 об. Ср.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. C.▫219, 721.
(обратно)575
Медведева И. Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. C.▫122. Перевод: «Мир — ваша родина, стремление к добру — ваша религия» (англ.).
(обратно)576
Текст по-русски.
(обратно)577
Парафраза концовки стихотворения И. М. Долгорукова «Спор» («Вперед не спорь, да будь умнее…» и т. д.). См.: Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л., 1959. C.▫414.
(обратно)578
Вписано на полях. Далее зачеркнуто: «Если существуют смертные грехи, то ударить человека простого и доверчивого из их числа, особенно если этот человек несчастлив по своему положению, лишен счастья и радостей жизни, почти мертвец в душе. В таком случае лучше вонзить топор ему в грудь, он менее будет страдать, он умрет в результате этого удара, и смерть явится ему почти блаженством».
(обратно)579
Альбом В. И. Панаева // ИРЛИ, ф. 1, оп. 42, № 21, л. 43.
(обратно)580
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 9; Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫3–4.
(обратно)581
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 53.
(обратно)582
Там же, л. 9 об.
(обратно)583
Базанов В. Ученая республика. C.▫397; архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ЛГУ); Соревнователь. 1821. Кн. 3. C.▫315.
(обратно)584
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. C.▫98–99.
(обратно)585
О проблеме литературного этикета см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. C.▫84–108.
(обратно)586
Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972. C.▫159.
(обратно)587
ИРЛИ, отд. пост., № 9668.
(обратно)588
Комедия Мартелли (О. Ф. Ришо).
(обратно)589
NB. Тем не менее надо но забыть написать ответ г-же Руссо отдать Леклерку или Лабинскому для передачи ей.
(обратно)590
И вот ко всем у ней так очи льстивы, Так нежен взгляд, так полон страсти смех, Что все друг к другу стали уж ревнивы, И страх слился с надеждою у всех. И пленники, увидя идол лживый, Кумир очей, в слепых надеждах тех, К нему стремятся без стыда и меры… Тассо Т. Освобожденный Иерусалим Пер. с ит. размером подлинника Дмитрий Мин. СПб., б. г. Т. 1. C.▫148 (Песнь V, строфа 71). (обратно)591
Измайлов А. Е. Из письма к С. Д. П. // ГПБ, ф. 310, № 2, л. 137. Датировано 1821 г. Ср. протокол 2-го заседания Общества любителей словесности и премудрости от 15 июля 1821 г., где в протоколах обозначено отсутствующее стихотворение Измайлова «Армида». — Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения. Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой // Рус. библиофил. 1912. № 4. C.▫60.
(обратно)592
Тассо Т. Указ. соч. C.▫120–123.
(обратно)593
См.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. C.▫186, 166–169, 326.
(обратно)594
Благонамеренный. 1821. № 3. C.▫146–147 (подп.: … Москва).
(обратно)595
ИРЛИ, ф. 322, № 69, л. 182 об.
(обратно)596
Архив Общества в ЛГУ.
(обратно)597
См. в нашей статье: Из истории литературных полемик 1820-х годов // Филол. зап. Воронеж, 1972. № 3. C.▫178. Текст стихотворения см.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. C.▫242–243.
(обратно)598
См. письмо от 11 мая 1821 г.
(обратно)599
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. C.▫716.
(обратно)600
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265.
(обратно)601
Сперва мне (выражение, характеризующее эгоиста, — лат.).
(обратно)602
«Божественная комедия» Данте Алигьери, с комментариями Г. Биньоти; в 2-х томах. Париж, 1818, в осьмушку. Напечатано в типографии Донде Дюпре по ул. св. Луи (ит.).
(обратно)603
Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. Л., 1929. C.▫121–122 (исправляем по подлиннику мелкие неточности). Подробно о протоколах общества см.: Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения. Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой // Рус. библиофил. 1912. № 4. C.▫58–65.
(обратно)604
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 137 с датой: (1821).
(обратно)605
Веселовский А. А. Указ. соч. C.▫59–60. В публикации неточности; цитируем по автографу ИРЛИ, 9623/LVIб, л. 19.
(обратно)606
Благонамеренный. 1821. № 11/12. C.▫219–222. Перепечатано в кн.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). (Л., 1960. C.▫160–162) с совершенно дезориентирующим комментарием («автор не установлен» — C.▫698).
(обратно)607
Невский альманах на 1827 год. СПб., 1826. C.▫156.
(обратно)608
ИРЛИ, 9623/LVIб, л. 8–8 об. Автограф. Ср.: Аронсон М. И., Рейсер С. А. Указ. соч. C.▫118.
(обратно)609
Веселовский А. А. Указ. соч. C.▫59–60; ИРЛИ, 9623/LVI6 л. 28–28 об.
(обратно)610
ИРЛИ, 9623/LVIб, л. 3 (датировано: Июня 23).
(обратно)611
См. об этом в нашей книге: Северные цветы. История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. C.▫9 и след.
(обратно)612
ИРЛИ, 9623/LVIб, л. 31–32.
(обратно)613
Благонамеренный. 1821. № 13. C.▫62–64.
(обратно)614
Рус. архив. 1871. № 7/8. Стб. 969.
(обратно)615
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265.
(обратно)616
ИРЛИ. 14. 163/LXXIIIб7, л. 75 об. Ср.: Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫107.
(обратно)617
Мы понимаем друг друга (фр.).
(обратно)618
ИРЛИ 14. 163/LXXVIIIб7, л. 80 (письмо от 19 февраля 1825 г.).
(обратно)619
Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫122.
(обратно)620
Благонамеренный. 1821. № 15. C.▫148; ИРЛИ. 9623/LVIб, л. 74; ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 77 (альбом Яковлева).
(обратно)621
ИРЛИ, 9623/LVIб, л. 82–88 об. Последующие предложения — там же, л. 90–97, 171–171 об. Фраза зачеркнута Сомовым.
(обратно)622
Слабое мое усилие могло бы мне открыть дорогу к почестям и отличиям, но я пренебрег ими, ибо не хотел променять на них драгоценную мою свободу.
(обратно)623
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫265–267.
(обратно)624
Архив Общества в ЛГУ.
(обратно)625
Княжевич Д. М. Мой журнал // ЦГАЛИ, ф. 337, оп. 1, № 102, л. 118–124 об., 125.
(обратно)626
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. C.▫148–151.
(обратно)627
Благонамеренный. 1819. № 7. C.▫44; № 12. C.▫393; 1820. № 18. C.▫389.
(обратно)628
Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫128.
(обратно)629
Дризен Н. В. Указ. соч. C.▫22.
(обратно)630
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 39 об.
(обратно)631
Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫121: ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 14 об. — 17.
(обратно)632
Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫121 (исправляю перевод).
(обратно)633
Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 1. C.▫54.
(обратно)634
Вестн. Европы. 1894. № 3. C.▫437–438.
(обратно)635
Боратынский Е. А. Указ. соч. C.▫65, 249.
(обратно)636
Там же. C.▫47–48.
(обратно)637
ИРЛИ, отд. пост., № 9665. См.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1977 г. Л., 1979. C.▫15–16. Барановская М. Летучие листки альбома… // Пушкинский праздник. 1977. 2–8 июня. C.▫10–11.
(обратно)638
Коншин Н. Воспоминания о Боратынском, или Четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 // Краевед. зап. Ульяновск, 1958. Вып. 2. C.▫397.
(обратно)639
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 127–131.
(обратно)640
Дельвиг А. А. Указ. соч. C.▫155, 305. Об этом стихотворении см.: Шервинский С. In mortem passeris Lesbiae и «На смерть собачки Амики» // Рус. архив. 1915. № 11/12. C.▫306–314; Кибальник С. А. Катулл в русской поэзии XVIII — первой трети XIX века. // Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983. C.▫62–63.
(обратно)641
Дельвиг А. А. Указ. соч. C.▫155–156, 306.
(обратно)642
Там же. C.▫156, 490 II. С. Д. П.
(обратно)643
Боратынский Е. А. Указ. соч. C.▫41–42.
(обратно)644
Там же. C.▫54–55. Автограф — в альбоме Пономаревой // ИРЛИ, № 9668, л. 12.
(обратно)645
Боратынский Е. А. Указ. соч. C.▫234–235.
(обратно)646
Сын отечества. 1822. № 8 (25 февр.). C.▫22–28 («Рыбаки») № 9 (4 марта). C.▫96 (объявление о раздаче № 5 «Б-ки для чтения»); ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
(обратно)647
Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. C.▫331–332.
(обратно)648
Архив Общества в ЛГУ.
(обратно)649
Боратынский Е. А. Указ. соч. C.▫34–35.
(обратно)650
Там же. C.▫40.
(обратно)651
Там же. C.▫36.
(обратно)652
Там же. C.▫78–79.
(обратно)653
Хетсо Г. Евгений Баратынский: жизнь и творчество. Oslo, 1973. C.▫584.
(обратно)654
Боратынский Е. А. Указ. соч. С. LVI. Хронология событий жизни Боратынского в 1820–1824 гг. была уточнена уже после выхода книги «С. Д. П.» — сначала в истинной повести «Боратынский» (М., 1990), затем в «Летописи жизни и творчества Е. А. Боратынского» (М., 1998). — Примеч. сост.
(обратно)655
Дельвиг А. А. Указ. соч. C.▫164–166, 313–314.
(обратно)656
Поэты 1820-х — 1830-х гг. Т. 1. C.▫202–203.
(обратно)657
Благонамеренный. 1823. № 15. C.▫169.
(обратно)658
Там же. 1822. № 37. C.▫416; № 39. C.▫515.
(обратно)659
Гаевский В. П. Дельвиг. Ст. 2 // Современник. 1853. № 5. C.▫17; Ст. 4 // Там же. 1854. № 9. C.▫43.
(обратно)660
Вестн. Европы. 1867. Сент. C.▫262; ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 27 (1825 г.), л. 38 (формулярный список Федорова).
(обратно)661
Дельвиг А. А. Указ. соч. C.▫166.
(обратно)662
Архив ВОЛСНХ (ЛГУ). № 216.
(обратно)663
См.: Русская басня XVIII–XIX веков. Л., 1977. C.▫403, 601–602 (примеч. В. П. Степанова).
(обратно)664
Благонамеренный. 1822. № 40. C.▫8: ср.: Русская стихотворная, пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. C.▫164–165, 700.
(обратно)665
Благонамеренный. 1820. № 17. C.▫316; № 22. C.▫240; 1821. № 7–8. C.▫10.
(обратно)666
Pуc. архив. 1871. № 7/8. C.▫981 (письмо от 1 февр. 1824 г.).
(обратно)667
См.: Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986. C.▫272–273, 407–408.
(обратно)668
Пушкин А. С. Полн. собр. сочинений. [М.; Л.], 1949. Т. 11. C.▫151.
(обратно)669
Баратынский Е. А. Полн. собр. стих. Л., 1936. Т. 2. C.▫298; Вацуро В. Э. Мнимое четверостишие Баратынского // Pуc. лит. 1975. № 4. C.▫156.
(обратно)670
Петряев Е. Д. Литературные находки: Очерки культурного прошлого Вят. земли. Киров, 1981. C.▫26, 247. Ср.: Брюсов В. Эпиграммы и пародии на Е. А. Баратынского // Pуc. архив. 1901. № 2. C.▫347–349; Баратынский Е. А. Указ. соч. Т. 2. C.▫248.
(обратно)671
ИРЛИ, 14. 163/LXXVIIIб7 (письмо Измайлова Яковлеву от 29 марта 1825 г.). Ср.: Календарь муз на 1826-й год, изданный А. Измайловым и П. Яковлевым. СПб., 1826. В росписи Н. П. Смирнова-Сокольского (Русские литературные альманахи и сборники. М., 1965, № 274) эта статья предположительно приписана Измайлову.
(обратно)672
Письмо от 10 нояб. 1824 г. // ИРЛИ. 14.163/LXXVIIIб7, л. 52.
(обратно)673
Письмо от 14 марта 1825 г. // Там же, л. 87 об.
(обратно)674
Письмо от 29 марта 1825 г. // Там же, л. 91.
(обратно)675
Письмо от 19 февр. 1825 г. // Там же, л. 80. Ср.: Медведева И. Н. Указ. соч. C.▫107. Ср.: гл. V, примеч. 15.
(обратно)676
Рус. лит. 1975. № 4. C.▫156.
(обратно)677
Баратынский Е. А. Указ. соч. Т. 1. C.▫285; Т. 2. C.▫286.
(обратно)678
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫266.
(обратно)679
Веселовский А. А. Указ. соч. C.▫65.
(обратно)680
Там же. C.▫64–65.
(обратно)681
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫266.
(обратно)682
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 136 об., 169.
(обратно)683
Русская басня XVIII–XIX веков. C.▫347–348.
(обратно)684
Левкович Я. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫157.
(обратно)685
Благонамеренный. 1824. № 1. C.▫65–66.
(обратно)686
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫169–170, 224, 318, 334; автографы — ИРЛИ, 18044, л. 28.
(обратно)687
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 169, 169 об., 172 об., 173.
(обратно)688
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1947. Т. 2. C.▫280.
(обратно)689
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫171; Дельвиг А. А. Сочинения барона А. А. Дельвига. СПб., 1893. C.▫116.
(обратно)690
Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг: Материалы биогр. и литературные. Пб., 1922. C.▫98.
(обратно)691
ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 102 (1821 г.), л. 193–194; Цявловский M. A. Судьба тетради Всеволожского // Летописи ГЛМ. 1936. Вып. 1. C.▫76–77.
(обратно)692
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫318–319.
(обратно)693
Там же. C.▫172–173.
(обратно)694
«К ней» (1810–1811). См.: Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 1. C.▫262, 406 (примеч. И. М. Семенко). Об истории и источнике («Ihr» Г.-В. Ф. Ульцена) см.: Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. СПб., 1883. C.▫47: Секе Дьердь. Об источнике стихотворения В. А. Жуковского «К ней» // Рус. лит. 1971. № 1. C.▫161–162.
(обратно)695
Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым / Изд. подгот. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.; Л., 1960. C.▫74.
(обратно)696
ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 27 об.
(обратно)697
Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. C.▫357–358, 538 (примеч. Ю. Г. Оксмана).
(обратно)698
Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. C.▫18; Пигарев К. В. Жизнь Рылеева. М., 1947. C.▫83, 86–87; Русская басня XVIII–XIX вв. C.▫350–351, 590 (примеч. В. П. Степанова).
(обратно)699
Базанов В. Ученая республика. C.▫292–293.
(обратно)700
Сев. архив. 1823. № 11. «Разные известия».
(обратно)701
ИРЛИ, 9623/LVIб, ср.: Временник Пушкинского дома. 1914. Пг., (1914). C.▫88.
(обратно)702
Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912. Прилож. C.▫104.
(обратно)703
Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. C.▫75.
(обратно)704
Ср.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. C.▫204–205.
(обратно)705
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫174. О «петраркизме» в этих сонетах см. в нашей статье «Русский сонет 1820-х годов и европейская романтическая традиция» // Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, 1985. C.▫96–98.
(обратно)706
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. C.▫443 (примеч. Б. В. Томашевского).
(обратно)707
См. подробнее в нашей статье «История одной ошибки» // Рус. речь. 1988. № 5. C.▫17–23.
(обратно)708
Новости лит. 1822. № 15. C.▫32 (цензурное разрешение — 3 окт.).
(обратно)709
И. Ф. Богданович, автор «Душеньки» (Примеч. Измайлова).
(обратно)710
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 30 об.
(обратно)711
Билет на выпуск получен 14 мая; билет на объявление о продаже «вновь вышедшей книги „Воспоминание об Испании“» — 31 июля 1823 г. // ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
(обратно)712
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫175.
(обратно)713
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫266–267.
(обратно)714
Архив Общества в ЛГУ, № 161.
(обратно)715
Вестн. Европы. 1867. № 12. C.▫78, 492 II. С. Д. П.
(обратно)716
ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 52, л. 1–1 об.
(обратно)717
Благонамеренный. 1823. № 3. C.▫210–216.
(обратно)718
Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. C.▫227.
(обратно)719
Благонамеренный. 1823. № 3. C.▫237–238.
(обратно)720
Там же. № 6. C.▫440–441.
(обратно)721
Житель Петербургской стороны. Non plus ultra. Письмо к господам собирателям литературной кунсткамеры // Там же. № 7. C.▫53–59.
(обратно)722
<Хвостов Д. И.> Отрывок из собственной записки N. N. // Там же. C.▫62–64.
(обратно)723
И<змайлов А. Е.> От издателя // Там же. C.▫75–76.
(обратно)724
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫157.
(обратно)725
Благонамеренный. 1823. № 8. C.▫106.
(обратно)726
Там же. C.▫121.
(обратно)727
Житель Васильевского острова. <Цертелев Н. А.> Отрывки из моего журнала // Благонамеренный. 1823. № 13. C.▫66.
(обратно)728
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫158.
(обратно)729
Благонамеренный. 1823. № 14. C.▫133.
(обратно)730
−но− <Н. Ф. Остолопов>. Мелководие Леты. Сказка // Там же. № 11. C.▫341.
(обратно)731
Календарь муз на 1826 год. СПб., 1826.
(обратно)732
Сознание // Благонамеренный. 1823. № 11. C.▫343. Ср.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. C.▫204–205, 718.
(обратно)733
Благонамеренный. 1823. № 15. C.▫172–173.
(обратно)734
См.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. C.▫499–500; Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. C.▫470; Дельвиг А. А. Соч. C.▫398.
(обратно)735
Дельвиг А. А. Соч. C.▫29, 384–385.
(обратно)736
Письмо Пушкину 10 сент. 1824 г. // Там же. C.▫285.
(обратно)737
Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. C.▫300–301. Датировка этого письма 1822 г., восходящая к первой публикации (автограф не сохранился), ошибочна; по содержанию оно может относиться только к 1823 г., ибо в нем идет речь о подготовке второго выпуска «Полярной звезды» (на 1824 год).
(обратно)738
См. письмо А. А. Бестужева Вяземскому от 5 сент. 1823 г., где о Баратынском говорится как об уехавшем (Лит. наследство. 1956. Т. 60. кн. 1. C.▫207); об отъезде его пишет и Плетнев Кюхельбекеру 8 сентября (Рус. старина. 1875. № 7. C.▫371–372). 14 сентября Е. А. Энгельгардт сообщает Кюхельбекеру, что Дельвиг «зачем-то поехал в Финляндию» (Там же. C.▫374).
(обратно)739
Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. C.▫50–51, 238.
(обратно)740
Благонамеренный. 1823. № 10. C.▫264.
(обратно)741
К Панаеву. Сонет // Благонамеренный. 1823. № 5. C.▫324. Подпись «4» И. Ф. Масанов вслед за Карцевым и Мазаевым расшифровывал как «Д<ельвиг>» (Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1958. Т. 3. C.▫352), что, конечно, невероятно.
(обратно)742
ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 370.
(обратно)743
Благонамеренный. 1823. № 16. C.▫273.
(обратно)744
Письмо Л. С. Пушкину от 4 дек. 1824 г. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. C.▫127.
(обратно)745
Благонамеренный. 1823. № 16. C.▫289.
(обратно)746
Там же. 1824. № 2. C.▫152.
(обратно)747
Ф. Р.<ындов>ский. В. И. Панаеву // Там же. № 23/24. C.▫388.
(обратно)748
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. C.▫623.
(обратно)749
Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. C.▫238–239.
(обратно)750
Благонамеренный. 1824. № 2. C.▫93.
(обратно)751
Вацуро В. Э. Списки послания Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1972 г. Л., 1974. C.▫57.
(обратно)752
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. C.▫75.
(обратно)753
Благонамеренный. 1820. № 6. C.▫442.
(обратно)754
Вацуро В. Э. Списки послания Баратынского. C.▫57.
(обратно)755
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 38–38 об.
(обратно)756
Там же, л. 37; ИРЛИ, 9668/VIIIб8, л. 74 об.; И<змайлов А. Е.> Репейник и роза // Благонамеренный. 1823. № 17. C.▫356.
(обратно)757
ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
(обратно)758
ГПБ, ф. 310, № 2, л. 38 об.
(обратно)759
Но только не у вас. Сейчас Узнал день вашего рожденья. Приду для поздравленья (примечание Остолопова). (обратно)760
Там же, л. 66 об.
(обратно)761
Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. C.▫59.
(обратно)762
Там же. C.▫46–47.
(обратно)763
Там же. C.▫60–61; разночтения поздней редакции — C.▫245.
(обратно)764
См.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского. Киев, 1917. C.▫92–93; коммент. Е. Н. Купреяновой (Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. C.▫354) и Л. Г. Фризмана (Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. C.▫583).
(обратно)765
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫177–179.
(обратно)766
Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. C.▫193.
(обратно)767
Современник. 1854. № 1, отд. 3. C.▫39–40.
(обратно)768
Дельвиг А. И. Полвека pуc. жизни. Т. 1. M.; Л., 1930. C.▫66–67.
(обратно)769
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. C.▫168.
(обратно)770
Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. C.▫80.
(обратно)771
Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. C.▫167.
(обратно)772
Благонамеренный. 1824. № 5. C.▫343–353.
(обратно)773
Фризман Л. Г. Жизнь лирического жанра: Рус. элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1973. C.▫67–73. Вторая книжка «Соревнователя» получила билет на выпуск из типографии 2 февр., пятая книжка «Благонамеренного» с письмом Мотылькова явилась с запозданием 20 марта (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370). Какое-то время должно было пройти до появления пародии Дельвига; с другой стороны, статья Мотылькова написана, когда номер журнала еще только формировался, а может быть, и ранее.
(обратно)774
Благонамеренный. 1824. № 1. C.▫71.
(обратно)775
Вестн. Европы. 1867. № 12. C.▫82.
(обратно)776
Гаевский В. П. Дельвиг. Ст. 3 // Современник. 1854. № 1, отд. 3. C.▫40–41.
(обратно)777
ИРЛИ, 14.163/XXVIIIб7.
(обратно)778
Благонамеренный. 1824. № 8. C.▫146–147.
(обратно)779
ГПБ, ф. 310, № 3, л. 10.
(обратно)780
Измайлов А. Е. СПб., 1849. Т. 1. C.▫213.
(обратно)781
Благонамеренный. 1824. № 9 (дата: «5 мая 1824»): Измайлов А. Е. Указ. соч. СПб., 1849. Т. 2. C.▫557–559.
(обратно)782
Там же. Т. 1. C.▫214.
(обратно)783
Вестн. Европы. 1867. № 9. C.▫267.
(обратно)784
Измайлов А. Е. Указ. соч. Т. 1. C.▫330.
(обратно)785
Гнедич Н. Стихотворения. СПб., 1832. C.▫203.
(обратно)786
Все цитаты из писем Измайлова // ИРЛИ, 14.163/ XXVIIIб7.
(обратно)787
Пусть будет стыдно тому, кто дурно этом подумает (фр.).
(обратно)788
Билетец (фр.).
(обратно)789
Благонамеренный. 1824. № 8. C.▫146–147.
(обратно)790
Там же. № 9. C.▫205.
(обратно)791
Об истории сборника см.: Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Т. 1. Л., 1936. C.▫342 и след. Дата выдачи билета № 5 «Литературных листков» (с извещением) — 24 марта 1824 г. (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370).
(обратно)792
Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. C.▫469–470, 494 II. С. Д. П.
(обратно)793
См. в нашей книге: Северные цветы. История альманаха Дельвига — Пушкина. C.▫22–29.
(обратно)794
Вестн. Европы. 1894. № 3. C.▫437.
(обратно)795
Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Изд. подгот. Л. Г. Фризман. М., 1982. C.▫587.
(обратно)796
Баратынский Е. А. Полное собр. стихотворений. Л., 1957. C.▫123, 352 (примеч. Е. Н. Купреяновой).
(обратно)797
Рус. архив. 1878. Кн. 3. C.▫397–398.
(обратно)798
Баратынский Е. А. Стихотворения. М., 1827. C.▫143.
(обратно)799
Кубасов И. А. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). СПб., 1901. C.▫6.
(обратно)800
Баратынский Е. А. Стихотворения. C.▫91.
(обратно)801
См. в нашей заметке: «Площадной шут» в пушкинской эпиграмме // Рус. речь. 1986. № 3. C.▫16–19.
(обратно)802
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 3. C.▫454.
(обратно)803
Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922. C.▫40.
(обратно)804
См. комментарий Б. В. Томашевского (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 3. C.▫524–525) и возражения Т. Г. Цявловской (Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. C.▫753).
(обратно)805
ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5585, л. 75 об.
(обратно)806
Лит. наследство. 1952. Т. 58. C.▫256. Об истории публикации см.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. / Тартус ун-т. 1960. Вып. 98. Тр. по рус. и славянской филологии. Т. 3. C.▫136–139.
(обратно)807
Рус. библиофил. 1911. № 5. C.▫33.
(обратно)808
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. C.▫82, 157.
(обратно)809
Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд. М., 1986. C.▫247.
(обратно)810
Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. C.▫238–240.
(обратно)811
Подробнее об этом см. в нашей статье: Пушкинская эпиграмма на А. Муравьева. (Пушкин в литературных кружках 1826–1827 гг.) // Пушкин: Исслед. и материалы. 1988. Т. 13.
(обратно)812
Галахов А. Д. Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Измайлова // Современник. 1849. № 12. Отд. 3. C.▫59–97; 1850. № 10. Отд. 3. C.▫53–100; № 11. Отд. 3. C.▫1–64.
(обратно)813
Гаевский В. П. Дельвиг. Ст. 3 // Современник. 1854. № 1. Отд. 3. C.▫29.
(обратно)814
Библиограф. 1892. № 12. C.▫384–396.
(обратно)815
Автор книги приносит сердечную признательность Е. Е. Дмитриевой-Майминой, которая, помимо подготовки французских текстов писем, любезно взяла на себя просмотр и редактирование русских переводов в тексте книги. Ей же принадлежит перевод письма от 27 мая и части письма от 26 мая.
(обратно)816
Брайловский С. Н. Мелкие литературные величины «Пушкинской плеяды». (О. М. Сомов) // Русский филологический вестник. Варшава, 1908. № 4. C.▫410.
(обратно)817
О диво! Любовь только еще родилась, а уже большая: летит и торжествует (ит.).
(обратно)818
Tandis que je vous vois si affectueuse envers les autres, si ing énieuse à leur procurer des occasions de pouvoir vous dire leurs sentiments, si prompte à aller les chercher vous-même. Et je suis là, et je reste seul, absorbé dans mes tristes pensées… (Вписано на полях.)
(обратно)819
Вписано на полях. Далее текст в рукописи зачеркнут: «S’il est des péchés mor-tels, celui buter un homme simple et crédule doit être du nombre; surtout quand cet homme est malheureux par sa condition, désabusé du bonheur et des plaisirs de la vie: presque mort dans 1’âme. Autant vaut-il alonger un poignard dans son sein, il mourrait par la suite de ce coup, et la mort serait presque une félicité».
(обратно)820
NB. Il faut pourtant me souvenir que je dois écrire une réponse à la lettre de Madame Rousseau et la remettre à Monsieur Leclerc ou à Mr Labinsky pour la lui faire passer.
(обратно)821
В дневниковых записях этого периода Сомов постоянно упоминает садовые увеселения: разного рода качели и, в особенности, карусель. Особый интерес к ним Сомова неслучаен. Еще год назад, будучи за границей, он подробно описывал в письмах к А. Е. Измайлову празднества и народные гуляния во Франции и Австрии (см.: «Праздник в саду Тиволи (письмо к издателю „Благонамеренного“ из Парижа)» // Благонамеренный, 1820. № 13). Термин «карусель» к 20-м годам XIX века обладал двумя основными значениями: карусель как вид конного состязания, игрища, и карусель как кружильное устройство. Причем для обозначения конной игры слово употреблялось чаще в мужском роде (см.: «Ода на великолепный карусель…» В. Петрова, «О каруселях» В. Л. Пушкина), а для обозначения катального устройства — в женском роде. В имении, где жил Сомов, судя по всему, имелись обе разновидности карусели (каруселя). В данной записи Сомов, конечно же, имеет в виду карусель конный. Обычно такой карусель совмещал в себе игровую сторону со зрелищной (классическим образцом каруселя в России был карусель, данный Екатериной II в 1766 году). Участники, одетые в маскарадные платья и представлявшие разные народности: славян, индейцев, турок и т. д., разделялись на четыре группы — кадрили. Скача верхом на лошади с большой скоростью по кругу, они должны были при этом продемонстрировать свою ловкость в так называемых карусельных играх. Наиболее распространенной была «колечная игра» (jeu de bague). Целью ее было поддеть на полном скаку копьем или шпагой кольцо, подвешенное, укрепленное, либо лежащее на земле. Существовали и игры следующего рода: всадник на всем скаку должен был вонзить шпагу, меч или копье в специально поставленное чучело (вариант: разрубить чучело); на полном скаку попасть мячом в сетку или корзину, подвешенную в центре ристалища, и т. д. Все эти игры упоминает Сомов, хваля наездническое мастерство графа Чернышева. В отличие от конного каруселя, карусель как кружильное устройство была излюбленным развлечением прежде всего для дам. Живые лошади в такой карусели заменялись деревянными фигурками коней, располагавшихся на концах горизонтальных шестов, серединой насаженных на бревноось. Шесты приводились в движение слугами. Возможна была и иная конструкция: деревянные лошадки располагались на «ходячем круге», составлявшем центральную часть восьмигранного помоста. На нем размещались коляски для дам (одноколки), обитые сукном, «запряженные» деревянными «коньками» с натуральными гривами и хвостами и седлами часто из алого сукна. Верхом, либо в колясках, так же, как и в настоящем конном ристалище, можно было участвовать в карусельных играх-состязаниях: колечной игре, состязании с мячом, копьем, шпагой и др. (см.: Левинсон А. Г. Развитие фольклорных традиций русского искусства на гуляниях. Дис. на соиск. ученой степ. канд. искусствоведения. М., 1980. Гл. 1). (Примеч. пер.)
(обратно)822
Сомов упоминает известный в те времена вид качелей flotte aérienne — подвесные лодки, или флот, имевший некоторое сходство с каруселью. «Качающиеся на них сидят вместо кресел в лодочках, украшенных флагами разных цветов: круг, на котором лодочки сии оборачиваются, устроен наклонно к земле, и на нем сделаны местами то углубления, то возвышения, так что лодочки в самом деле как бы плавают но волнам» (Благонамеренный, 1820. № 13. C.▫34 — Примеч. пер.).
(обратно)823
Край письма оборван. В скобках предположительно восстановлены утраченные части слов.
(обратно)824
Человек предполагает, а бог располагает (лат.).
(обратно)825
Печатается по изданию: Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 129–145.
(обратно)826
Битнер Г. В. Хемницер. — В кн.: История русской литературы, т. IV, Литература XVIII века, часть вторая. Изд. АН СССР. М.; Л., 1947; Боброва Л. Е. 1) Сборник И. И. Хемницера «Эпиграммы и прочие надписи». — Ученые записки Ленингр. гос. педаг. инст. им. А. И. Герцена, т. 168, ч. 1. 1958; 2) О социальных мотивах басен И. И. Хемницера. — Ученые записки Ленингр. гос. педаг. инст. им. А. И. Герцена, т. 170. 1956.
(обратно)827
См.: Гуковский Г. Очерки по истории русской литературы XVIII века. Изд. АН СССР. М.; Л., 1936. С. 105–123; Тукалевский Вл. Из истории философских направлений в русском обществе XVIII в. — «Журнал Министерства народного просвещения», т. XXXIII, май, 1911.
(обратно)828
См.: Кобеко Д. Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо. — «Исторический вестник», 1883, июнь.
(обратно)829
Берков П. Н. Из русских откликов на смерть Вольтера. — Сб. «Вольтер. Статьи и материалы», Изд. Ленингр. гос. унив., 1947.
(обратно)830
Мое время. Записки Г. С. Винского. Изд. «Огни», СПб., б. г. С. 45. См. об этом: Сиповский В. В. Из истории русской мысли XVIII–XIX вв. (русское вольтерьянство). — «Голос минувшего», 1914, кн. 1.
(обратно)831
См.: Вороницын И. История атеистической книги. — В кн.: Трактат о трех об-маннщиках. М., 1930.
(обратно)832
См. об этом: Иванов И. Политическая роль французского театра в связи с философией XVIII в. СПб., 1897. С. 148–149.
(обратно)833
Трактат о трех обманщиках. С. 76.
(обратно)834
Гольбах П. Система природы. Соцэкгиз, 1940. С. 298.
(обратно)835
Там же. С. 303.
(обратно)836
Там же. С. 343.
(обратно)837
Voltaire. Oeuvres compl ètes, t. XIII, Paris, MDCCCLXVII. C. 46–47. О полемике см.: Pierre Naville. Paul Henry d’Holbach et la philosophie scientifique au XVIII siècle. Paris, 1943. С. 110.
(обратно)838
См.: Люблинский В. С. Маргиналии Вольтера. — Сб. «Вольтер. Статьи и материалы». С. 150 (франц. текст см. с. 156–157).
(обратно)839
Руссо Ж.-Ж. Исповедание веры савойского викария. Перевод с франц. А. А. Русановой. М., 1903. С. 24–25; С. 31–32. Исправляю неточность перевода («une fa-talité aveugle» — «слепая судьба», а не «слепая случайность»).
(обратно)840
См.: Pomeau R. La religion de Voltaire. Paris, 1956. С. 342–343; см. также: Гeффдинг Г. Ж.-Ж. Руссо и его философия. СПб., 1898. С. 69.
(обратно)841
Сочинения и письма Хемницера. СПб., 1873. С. 285.
(обратно)842
Там же.
(обратно)843
Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах… — Цит. по кн.: Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения, т. 1. М., 1961. С. 54–55. См. аналогичные пассажи в начале «Исповедания веры савойского викария». Вольтер неоднократно утверждал, что ограниченность человеческого познания не дает возможности решить вопрос об атрибутах божества, конечной цели его деятельности и т. д. («Le philosophe igno-rant», «Dictionnaire philosophique», статья «Dieu» и т. д. — об этом см., например: Державин К. Н. Вольтер. Изд. АН СССР, 1948. С. 99 и сл.); Руссо в «Исповедании веры савойского викария» демонстративно отказывается отвечать на вопрос «для чего сущеcтвует вселенная?». Интересно в этой связи замечание Хемницера на полях фонвизинского «Послания к слугам моим»; против стиха «Мы созданы на свет и кем и для чего» приписано: «И кем весьма дерзкое сомнение в противность творцу: к тому же противуречит стихам „Создатель твари всей“… Чтобы не теряло прекрасное сие сочинение, изменить бы ето должно» (см.: Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. Изд. АН СССР., М., 1954. С. 296). Вопрос «для чего», очевидно, сомнений не вызывал; можно думать, что Хемницер к нему присоединялся.
(обратно)844
Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) AН СССР (ИРЛИ), арх. Грота, 15957/XCVIIIб 13, л. 1 об. Перевод: «Нет ничего смешнее, чем видеть бесконечное число томов, заполненных препирательствами о существовании Предвечного. Ну, а откуда же явилась впервые идея верховного существа первому, кто провозгласил ее, как не от самого этого существа. Безумцы, перестаньте же умствовать!».
(обратно)845
Там же. Л. 1. Перевод: «Извлечено из „Философии природы“, т. I, с. 87. Римский пантеон насчитывал 30 000 идолов. Трудность представить себе высшее существо, находящееся во всех местах, вызвала к жизни идею политеизма. Отсюда я заключаю: каждый создает себе бога в соответствии со своей фантазией. И. Х. Там же. С. 92. Магомет, быть может, наилучшим образом выразил идею бога, определив ее так: бог есть бог, и Магомет пророк его».
(обратно)846
Там же, 15935/XCVIIIб 13; лл. 1 об. — 2.
(обратно)847
Сочинения и письма Хемницера, с. 283.
(обратно)848
Рукописный отдел ИРЛИ, арх. Грота, 15933/XCVIIIб 13, л. 1. Перевод: «Боссюэ говорит дофину в своем „Рассуждении о всемирной истории“: „Ваши предки стяжали великую славу, будучи защитниками христианской религии! Защитники христианской религии! Так религия Христа имеет нужду в защитниках! Для другого это было бы прекрасной сатирической чертой. Так все имеет нужду в защитниках!“».
(обратно)849
Там же.
(обратно)850
Рукописный отдел ИРЛИ, арх. Грота, 15934/XCVIIIб 13, лист ненум.
(обратно)851
Там же.
(обратно)852
Руссо Ж.-Ж. Исповедание веры савойского викария. М., 1903. С. 32.
(обратно)853
Там же. С. 35.
(обратно)854
См. об этом: Геффдинг Г. Ж.-Ж. Руссо и его философия. С. 82.
(обратно)855
Maugras G. Querelles des philosophes. Voltaire et Rousseau. Paris, 1886. С. 51–54.
(обратно)856
О распространении в России взгляда на естественную религию как наилучшую из возможных см.: Тукалевский В. Из истории философских направлений в русском обществе XVIII в.
(обратно)857
См.: Masson Р. M. La religion de J. J. Rousseau, t. 3, Rousseau et la Restauration religieuse. Paris, 1916. Автор приходит к выводу, что Делиль де Саль, критиковавший Руссо по одним вопросам, в других испытал несомненное влияние «Исповеди савойского викария». В последнее время Р. Помо (Роmeau R. La religion de Voltaire. P. 341) оспорил точку зрения Массона, указывая на близость концепции Де-лиля де Саля к философским воззрениям Вольтера.
(обратно)858
Delisle de Sales. Discours pr éliminaire. — В кн.: De la philosophie de la nature ou traité de morale pour l’espêce humaine. Tiré de la philosophie et fondé sur la nature, t. I. A Londres et se trouve dans la plupart des capitales d’Europe. 3 éd., MDCCLXXVII. P. XXXIII.
(обратно)859
Там же. С. LII.
(обратно)860
«Татары, покоря Сибирь под иго свое… называли природных тамошных жителей ругательным словом уштяки, сиречь необходительные, дикие люди. Название сие превратили россияне в слово отяк и разумеют теперь под оным трех как по происхождению, так и по языку народов» (Словарь географический Российского государства… собранный Афанасием Щекатовым, ч. IV, отд. I, «М-П». М., 1805. С. 951). Далее автор статьи приводит примеры неправомерного расширения понятия «отяк», распространенного в повседневном обиходе и даже в официальной переписке. Интересны замечания о нравах отяков: они «боязливы, суеверны, ленивы, неопрятны, но послушны и добросердечны»; «…клятвы их никогда не бывают ложны» и т. д.
(обратно)861
В 1780 г. в «Санктпетербургском вестнике», журнале, где печатались сочинения Хемницера и отклики на сборник его басен, в ноябрьском и декабрьском номерах были помещены статьи Вольтера «Тимон», где осуждались руссоистская доктрина, и Ст. Лещинского «Разговор европейца с островским жителем королевства Дюмокалы» (Entretien d’un Européen avec un insulaire du royame de Democala, 1756).
(обратно)862
См.: Lenient С. La comédie en France au XVIII siècle, t. II. Paris, 1888. С. 96. См. также: Иванов Ив. Политическая роль французского театра… С. 362 и сл.
(обратно)863
Palissot. Oeuvres…, t. II. Liege, MDCCLXXVII. С. 242–243. Перевод: «На этих четырех подпорах мое тело держится лучше, и я меньше вижу глупцов, которые режут мне глаз… Цивилизовавшись, мы все потеряли: здоровье, счастье и даже добродетель. Итак, я возвращаюсь к животному существованию».
(обратно)864
См.: Palissot. Oeuvres… t. II. Paris, MDCCLXXIX. P. 98.
(обратно)865
Письмо 4 июня 1760 г. — Voltaire. Oeuvres complètes, t. XII. Paris, MDCCCLXVII. P. 79; см. также: Lenient С. La comédie en France. P. 103.
(обратно)866
См.: Desnoiresterres G. La comédie satirique au XVIII siècle. Paris, 1855. P. 129.
(обратно)867
Рукописный отдел ИРЛИ, арх. Грота, 15933/XCVIIIб 13, л. 1 об. Перевод: «Тот, кто сможет читать Руссо, не почувствовав силу и истинность его чувств, без сомнения, сам ими не обладает».
(обратно)868
Сочинения и письма Хемницера. С. 41–42.
(обратно)869
Ср. отзыв Фонвизина о Руссо: «Чуть ли он не всех почтеннее и честнее из господ философов нынешнего века. По крайней мере бескорыстие его было строжайшее» (письмо сестре, август 1778 г. См.: Фонвизин Д. И. Собрание сочинений в двух томах. Т. II. Гослитиздат. М.; Л., 1959. С. 452).
(обратно)870
Памятная современникам история его взаимоотношений с Екатериной II рассказана Д. Кобеко (Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо. — «Исторический вестник». 1883, июнь).
(обратно)871
См. об этом: Макогоненко Г. П. Радищев и его время. Гослитиздат. М., 1956. С. 611.
(обратно)872
Сочинения и письма Хемницера. С. 365.
(обратно)873
См.: Розанов М. Н. Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца XVIII и начала XIX в. — Очерки по истории руссоизма на западе и в России. Т. I., М., 1910. С. 406–407.
(обратно)874
Раlissоt. Les M émoires pour servir à l’histoire de notre littérature…, Rousseau. — Oeuvres…, IV. Liege, MDCCLXXVII. P. 328. См.: также: Palissot. Petites lettres sur des grands philosophes. — Там же. С. 102–103.
(обратно)875
Козельский Я. Философические предложения… 1768.
(обратно)876
Печатается по изданию: Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л.: Наука, 1974. С. 100–108.
(обратно)877
Далее зачеркнуто: вслед за ним.
(обратно)878
Далее зачеркнуто: Павел.
(обратно)879
Дрожащий вставлено.
(обратно)880
ГБЛ, Венев. 65.12, лл. 57–55 об. (заполнение шло в обратном порядке).
(обратно)881
Одним из примеров такой записи из вторых рук является анекдот о каторжниках, рассказанный якобы со слов Пушкина Кс. Мармье: поэт встретил на Тобольской дороге этапных, среди которых была женщина удивительной красоты; она была наложницей помещика и осмелилась изменить ему по любви; ревнивый деспот сослал ее в Сибирь. Этот анекдот был подробно прокомментирован Н. О. Лернером (Лернер Н. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 125–131), которому не были еще известны опубликованные в 1931 г. материалы «Автобиографии» А. О. Смирновой, где он рассказан совершенно иначе и с другим смыслом — непосредственно со слов Пушкина (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. (Неизданные материалы). Подг. к печ. Л. В. Крестова. М., 1931. С. 178). Конечно, Кс. Мармье слышал анекдот от Смирновой, но очень свободно воспользовался сюжетом.
(обратно)882
Соллогуб В. А. Воспоминания. Ред., предисл. и прим. С. П. Шестерикова. Вступит. статья П. К. Губера. М.; Л.: Academia, 1931. С. 520–528, 354. «Он поощрял мои первые литературные опыты, — писал Соллогуб о Пушкине, — давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах». В экземпляре «Воспоминаний» (СПб., 1887). принадлежавшем О. Н. Смирновой, дочери А. О. Смирновой-Россет, известному автору псевдомемуаров матери, против этого места рукой владелицы сделано несколько скептически-раздраженных помет. Так, против фразы «Почти каждый день ∼ бегали от нас с ужасом» записано: «Ну, не Хлестаков ли Соллогуб?»; далее подчеркнуто слово «балах» и замечено: «Пушкин был в трауре по матери и не ездил на балы в 36 г. вовсе, а Н. Н. родила в эту зиму» (Соллогуб В. А. Воспоминания. 1887. С. 175–176; экземпляр библиотеки ПД — шифр 89.2 2 / 73, из собрания А. Ф. Онегина). Экземпляр этот был известен С. П. Шестерикову, который выборочно воспользовался пометами Смирновой для своего издания воспоминаний Соллогуба (Соллогуб В. А. Воспоминания. 1931. С. 412). Справедливость рассказа Соллогуба в целом этими замечаниями, впрочем, никак не дезавуируется; сами они в свою очередь содержат ряд неточностей.
(обратно)883
См.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. М.: Изд. АН СССР, 1951. С. 127 и сл.
(обратно)884
См.: Фейнберг И. Нeзавершенные работы Пушкина. Изд. 4-е. М.: «Сов. писатель», 1961. С. 401–413.
(обратно)885
См.: Маркевич Н. А. Воспоминания о Кюхельбекере // Литературное наследство. Т. 59. М.: Изд. АН СССР, 1936. С. 509–510.
(обратно)886
Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л.: «Academia», 1935. С. 276–278; Цявловская Т. Г. Пушкин в дневнике Франтишка Малевского // Литературное наследство. Т. 58. Л.: Изд. АН СССР, 1952. С. 266.
(обратно)887
Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. VIII. СПб., 1883. С. 310.
(обратно)888
См. в кн.: Рассказы о Пушкине, написанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. Вступит. статья и прим. М. А. Цявловского. Л., 1925. С. 36–37, 98–102; Гроссман Л. Этюды о Пушкине. М.; Пгр., 1923. С. 79–113.
(обратно)889
Здесь не место анализировать историческую проблематику «Графа Нулина» и заметки о нем, — это особая проблема. Заметим лишь, что интерпретация их как иронической полемики против исторического фатализма, предложенная в последнее время А. М. Гординым (см. его статью «Заметка Пушкина о замысле „Графа Нулина“» в кн.: Пушкин и его время. Вып. 1. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1962. С. 232–215), не представляется нам до конца убедительной. Актуальность полемического выступления против исторических ошибок Тита Ливия, Овидия и Шекспира (Там же. С. 240–241) в 1825 г. чрезвычайно сомнительна. С другой стороны, Пушкин пишет: «мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась» (разрядка моя. — В. В.), что уже вовсе не укладывается в аргументацию статьи. Очевидно, функция пародии здесь иная: она заключается в ироническом соотнесении классической римской истории и забавного эпизода из жизни провинциальных помещиков; последний ставится в контекст исторических событий мирового масштаба, а эти события, наоборот, низводятся до бытового анекдота. В заметке о «Графе Нулине» отразилась не только проблематика поэмы, но и жизненный опыт Пушкина последующих лет; заключительная фраза «бывают странные сближения» выводит все осмысление эпизода из иронической сферы в серьезную и драматическую. Все это мы находим и в публикуемом анекдоте.
(обратно)890
Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб., 1901. С. 466 и сл.
(обратно)891
Барон Е. Розен. Ссылка на мертвых // Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 19–20.
(обратно)892
См.: Временник Пушкинской комиссии. 1967–1968. Л.: «Наука», 1970. С. 48.
(обратно)893
Батюшков К. Н. Сочинения. Т. II. СПб., 1885. С. 107.
(обратно)894
См.: Бобров Е. А. Литература и просвещение в России XIX века. Т. 3. Казань, 1902. С. 130.
(обратно)895
См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М.: «Книга», 1972. С. 96, 105–106.
(обратно)896
Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 279–280.
(обратно)897
Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М.: «Сов. писатель», 1964. С. 197.
(обратно)898
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. II. СПб., 1896. С. 464.
(обратно)899
Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 18.
(обратно)900
Вестник Европы. 1821. № 2. С. 99.
(обратно)901
Там же. № 5. С. 33.
(обратно)902
Там же. № 9. С. 12.
(обратно)903
Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899. С. 165.
(обратно)904
Пушкин А. С. Сочинения. Изд. 3-е, испр. и доп. Под ред. П. А. Ефремова. Т. 3. Изд. Я. А. Исакова. СПб., 1880. С. 459. Среди эпиграмм Соболевского известна эпиграмма на Н. Ф. Павлова с использованием двух из приведенных рифм: «Не в ту силу, что ты жалок, Не даю тебе я палок, Но в ту силу, что мне жалки Щегольские мои палки!» (см.: Соболевский С. А. Эпиграммы и экспромты. М., 1912. С. 74).
(обратно)905
Пушкин А. С. Сочинения. Ред. П. А. Ефремова. Т. VIII. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1905. С. 270.
(обратно)906
См.: Трофимов И. Т. Автограф А. С. Пушкина // Советские архивы. 1973. № 2. С. 108–109.
(обратно)907
Печатается по изданию: Русская литература. 1975. № 4. С. 101–107.
(обратно)908
См.: Рылеев К. Ф. 1) Полное собрание стихотворений. Вступит. статья В. Гофмана. Л., 1934 (Библиотека поэта); 2) Полное собрание сочинений. Ред., вступит. статья и прим. А. Г. Цейтлина. «Academia», М.; Л., 1934; Из неизданного литературного наследия К. Ф. Рылеева. «Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 3–342; Рылеев К. Ф. 1) Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. Вступит. статья В. Г. Базанова. Гослитиздат, М., 1956; 2) Полное собрание стихотворений. Вступит. статья В. Г. Базанова и А. В. Архиповой. Подгот. текста А. В. Архиповой, В. Г. Базанова, А. Е. Ходорова. Прим. А. В. Архиповой и А. Е. Ходорова. «Советский писатель», Л., 1971 (Библиотека поэта, большая серия); Пигарев К. В. Жизнь Рылеева. М., 1947; Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. М., 1955; Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.; Л., 1961.
(обратно)909
Рылеев К. Ф. Думы. Издание подгот. Л. Г. Фризман. Изд. «Наука», М., 1975.
(обратно)910
Русская история, сочиненная Сергеем Глинкою, часть первая. Изд. 3-е. М., 1818, стр. 138.
(обратно)911
Карамзин Н. М. История государства Российского, т. I. Изд. 2-е, испр. СПб., 1818, стр. 213.
(обратно)912
Там же, стр. 176.
(обратно)913
Фризман Л. Г. Дума Рылеева «Видение Анны Иоанновны» // «Известия АН СССР», серия литературы и языка, 1975, т. 34, № 2, стр. 161–165.
(обратно)914
Рылеев К. Ф. Думы, стр. 108–110, 158–161, 244–245.
(обратно)915
ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, № 1351.
(обратно)916
Дмитриев И. И. Сочинения, т. II, Спб., 1895, стр. 9, 153–154
(обратно)917
Греч Н. Сочинения, часть первая. Черная женщина. СПб., 1838, стр. 60–62.
(обратно)918
Тургенев Н. Россия и русские. Первое русское издание, ч. II. «Библиотека декабристов», 1907, стр. 195.
(обратно)919
В 1832 году цензурой был запрещен и целый роман из эпохи Анны Иоанновны — «Эшафот, или Утро вечера мудренее» В. Н. Олина. См.: Поэты 1820–1830-х годов, т. I. «Советский писатель», Л., 1972, стр. 118 (Библиотека поэта, большая серия); ср.: Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX века. Ростов-на-Дону, 1969, стр. 57.
(обратно)920
«Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 19–20.
(обратно)921
Там же, стр. 144.
(обратно)922
«Русский вестник», 1812, № 6, стр. 119–126.
(обратно)923
Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Дополнения и поправки. Киев, 1916, стр. 34.
(обратно)924
Ходоров А. Е. «Думы» К. Ф. Рылеева и трагедия XVIII — начала XIX столетия // «Русская литература», 1972, № 2, стр. 122.
(обратно)925
Воспоминания Фаддея Булгарина, ч. II. СПб., 1846, стр. 285, 303–304.
(обратно)926
Глинка С. Н. Опыт о народном нравоучении, часть первая, статья седьмая. Крестьянин Иван Сусанин, победитель лести и избавитель царя Михаила Федоровича Романова. Нравственное и историческое повествование // «Русский вестник», 1812, № 5, стр. 72–94.
(обратно)927
Печатается по изданию: Русская литература. 1976. № 1. С. 131–144.
(обратно)928
В письме К. Гильтер Данненбергу от 12 октября 1840 года корреспондентка упоминает о его «наступившем 25 годе» (ГПБ, ф. 37, № 681, л. 20 об.).
(обратно)929
Успенский Н. В. Из прошлого. М., 1899, стр. 228–231.
(обратно)930
Михайловский А. И. Преподаватели, учившиеся и служившие в имп. Казанском университете (1804–1904). Материалы для истории университета, ч. 1. Казань, 1901, стр. 176 (далее: Михайловский).
(обратно)931
Сообщено О. В. Ломан на XVIII Некрасовской конференции (см.: «Русская литература», 1974, № 4, стр. 228); полный текст печатается в сб.: Некрасов и русская литература (Кострома).
(обратно)932
Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Лениздат, 1957, стр. 144 (со ссылкой на сообщение А. М. Гаркави).
(обратно)933
См., например: Павлова В. А. Н. И. Второв и его кружок. В кн.: Очерки литературной жизни Воронежского края XIX — начало XX в. Воронеж, 1970, стр. 180–190, 400–401; Кузнецов В. И. «В моей душе твой образ сохраню…» В кн.: «Я Руси сын!..» (К 150-летию со дня рождения И. С. Никитина). Воронеж, 1974, стр. 80–96.
(обратно)934
См.: Де-Пуле М. Ф. Отец и сын. Опыт культурно-биографической хроники // «Русский вестник», 1875, №№ 3–5, 7, 8.
(обратно)935
Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. А. М. Горького (ЛГУ), № 199 (запись от 13 июня).
(обратно)936
«Русский вестник», 1875, № 8, стр. 611–615; Де-Пуле М. Ф. Николай Иванович Второв // «Русский архив», 1877, № 6, стр. 147.
(обратно)937
ГПБ, ф. 37, № 682, л. 12 об. В цитатах из писем К. Гильтер мы не сохраняем ее неустойчивую орфографию, исключая те случаи, когда она отражает произносительные особенности.
(обратно)938
«Исторический вестник», 1900, № 8, стр. 594–595.
(обратно)939
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 3 (письмо от 11 ноября 1839 года).
(обратно)940
«Исторический вестник», 1889, № 4, стр. 255–256.
(обратно)941
Михайловский, стр. 187; ГПБ, ф. 163, № 84, л. 28 об.
(обратно)942
Михайловский, стр. 179.
(обратно)943
Описание содержания сохранившихся книжек см.: Ильенко Е. М. Описание рукописей научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Вып. XIII. Художественные произведения. Первая часть. Казань, 1963, стр. 45–46 (Казанский гос. унив. им. В. И. Ульянова-Ленина. Научная б-ка им. Н. И. Лобачевского); исследование Е. М. Ильенко. «Северное созвездие». В кн.: Описание рукописей научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Вып. XI. Аристов В. В., Ильенко Е. М. Неизвестные страницы литературной жизни Казанского студенчества 30–40-х гг. XIX в. Казань, 1962, стр. 5–20 (Казанский гос. унив. им В. И. Ульянова-Ленина. Научная б-ка им. Н. И. Лобачевского).
(обратно)944
ГПБ, ф. 37, № 647, л. 18.
(обратно)945
Успенский Н. В. Из прошлого, стр. 230.
(обратно)946
Михайловский, стр. 220.
(обратно)947
ГПБ, ф. 37, № 681, л. 9 об.
(обратно)948
Там же, л. 3 об.
(обратно)949
Там же, л. 2 об. (письмо П. А. Гильтера Данненбергу от 22 октября 1839 года).
(обратно)950
Там же лл. 17 об., 18.
(обратно)951
Там же, № 674, л. 3.
(обратно)952
Там же, л. 13.
(обратно)953
Там же, л. 13–13 об.
(обратно)954
Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге, стр. 44.
(обратно)955
В письме Данненбергу П. П. Гильтера от 22 октября 1839 года есть фраза: «Пожалуйста, будешь писать 2 № (так! — В. В.) твоей фатеры, то оберни г-на Некрасова лицом к нам» (№ 681, л. 2 об.). Смысл просьбы не совсем ясен; она связана с какими-то замечаниями в утраченном письме Данненберга. Есть основания думать, что это место письма имеет в виду «двойные адреса» Данненберга, о которых пойдет речь далее. Для нас важна здесь дата: несомненно, Данненберг сообщал Гильтерам о Некрасове уже в середине октября; письма из Казани в Петербург шли в среднем неделю (так, письмо с датой 20 февраля 1841 года было получено, судя по штемпелю на конверте, 27 февраля. См.: № 681, лл. 5, 25).
(обратно)956
Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, стр. 43.
(обратно)957
Год на письме отсутствует; он определяется по связи с письмом П. А. Гильтера Данненбергу от 28 сентября 1839 года, в котором сообщается, что Второв получил письмо Данненберга незапечатанным (ф. 37, № 683, л. 1); публикуемое письмо содержит объяснение этого обстоятельства.
(обратно)958
Этот портрет неизвестен; по-видимому, он был самым ранним изображением Некрасова.
(обратно)959
Данненберг называет слушателей университета Ивана (Конрада) Михайловича Шмуккера (1839–1841, окончил со званием провизора 1-й степени), Ивана Александровича Долгова (1836–1841), Василия Дмитриевича Терзиева (с 1838). См.: Михайловский, стр. 249, 203, 237. Николай Григорьевич Ленивцев учился в университете в 1835–1838 годах и был уволен «по прошению» (там же, стр. 195). Александров (Дольник) Константин Осипович — близкий друг Н. И. Второва, однокашник его по университету, в 1837–1838 годах кандидат, впоследствии историк и этнограф, член второвского воронежского кружка.
(обратно)960
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 14–14 об.
(обратно)961
«Северная пчела», 1839, № 250, 4 ноября, стр. 999.
(обратно)962
Де-Пуле М. Ф. Н. И. Второв, стр. 159. Возможно, что именно эта статья появилась позднее в «Казанских губернских ведомостях» (1843, №№ 37, 38), редактировавшихся Н. И. Второвым. См.: Агафонов Н. Казань и казанцы, II. Казань, 1907, стр. 87.
(обратно)963
«Северная пчела», 1839, № 232, 14 октября, стр. 928.
(обратно)964
«Казанский Некрасов» — Александр Александрович, учившийся одновременно с Второвым и Данненбергом (1835–1836), затем учитель котельнического уездного училища (Михайловский, стр. 195).
(обратно)965
ГПБ, ф. 37, № 647, л. 3 об.
(обратно)966
Об авторах этих переводов и переделок в кружке Полевого см. в его дневниковых записях за 1838 года («Исторический вестник», 1888, № 3). Свод данных об «испанской теме» в 1830-е годы — Алексеев М. П. Очерки испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. Л., 1964, стр. 167–170. Тексты см.: Испанка. Сочинение герцогини Абрантес. Перевод с франц. Н. Бобылева. М., 1837; Дона Луиза. Повесть г-жи Рейбо. С франц. И. Бенигна <Н. Полевой> // «Сын отечества», 1838, т. IV, отд. II, стр. 1–144; т. V, отд. II, стр. 1–30; Испанская честь. Повесть Бальзака. В кн.: Современные повести модных писателей. Собраны, переведены и изданы Федором Кони, II. М., 1834, стр. 103–137.
(обратно)967
Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. (От истоков до Глинки). Л., 1959, стр. 714–716.
(обратно)968
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 16–16 об.
(обратно)969
Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем, т. VI, Гослитиздат, М., 1950, стр. 28, 30 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).
(обратно)970
За это указание искренне благодарю Б. Л. Бессонова, которому принадлежит и мысль сравнить сюжетные линии и отдельные эпизоды в «Трех странах света» с реальными фактами биографии Данненберга (см. далее).
(обратно)971
Литературная генеалогия этой сцены интересна: она связана с романтической поэзией и прозой 1820–1830-х годов и, в частности, с творчеством А. А. Бестужева-Марлинского. По-видимому, впервые она появляется в «Палее» Рылеева (1825), затем переходит в поэму Бестужева «Андрей, князь Переяславский» (гл. 1, фрагм. 17 и 18) и варьируется в стихотворении «Сон»:
И конь, и всадник, прянув с края, Кусты и глыбы отрывая, В пучину ринулись кольцом и т. д.Другой вариант этой сцены — лирически смягченный, лишенный романтической эффектности — в «Прощании с Каспием» (1834); еще один — в «Мулла-Нуре». Все эти произведения читателям были хорошо известны по журнальным публикациям и «Полному собранию сочинений А. Марлинского», где были напечатаны и стихи популярного писателя (т. XI. СПб., 1838). Гибель Бестужева в 1837 году оживила биографические легенды о нем; на их основе возник апокрифический рассказ о встрече его с Пушкиным на Кавказе в 1829 году, где также нашел себе место эпизод с прыжком всадника в пропасть. См.: Алексеев М. П. 1) Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928, стр. 24–25; 2) Пушкин и Бестужев. (По поводу одной картины). В кн.: Пушкин и его современники, вып. 38–39. Л., 1930, стр. 248–250.
(обратно)972
ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 203, лл. 17 об. — 18.
(обратно)973
Трое Огневых — Иван, Флор и Григорий Ивановичи, учившиеся в университете в 1835–1843 годах (Михайловский, стр. 196, 229, 246).
(обратно)974
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 4–4 об.
(обратно)975
Известно (по указанию М. Н. Лонгинова, сделанному, несомненно, со слов самого Некрасова), что Жуковский одобрил стихотворение «Рукоять». У Жуковского были особые причины обратить внимание именно на это стихотворение. Еще в 1826–1827 годах он перевел стихотворение Л. Уланда «Der gute Kamerad», с близкой лирической ситуацией; перевод этот («Был у меня товарищ») при жизни им напечатан не был (см.: Жуковский В. А. Стихотворения, т. II. Ред. и прим. Ц. Вольпе. Л., 1940, стр. 263, 535).
(обратно)976
А. С. Бобович. Цензурные материалы о Некрасове из библиотеки Ленинградского гос. университета // «Научный бюллетень ЛГУ», 1947, № 16–17, стр. 67.
(обратно)977
Об истории издания сборника см.: Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова, т. I. М.; Л., 1947, стр. 191 и след.
(обратно)978
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 5–5 об.
(обратно)979
Там же, л. 6.
(обратно)980
Там же, № 681, лл. 9, 10 об. Pecunia (лат.) — деньги.
(обратно)981
Там же, № 674, л. 7 об.
(обратно)982
Систематический каталог русских книг Казанской городской публичной библиотеки…, Казань, 1878, стр. 176 (№ 2667).
(обратно)983
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 9–9 об.
(обратно)984
Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, стр. 499.
(обратно)985
Михайловский, стр. 235.
(обратно)986
ГПБ, ф. 37, № 674, л. 3 об.
(обратно)987
Там же, № 681, л. 14 об. Письмо от 27 мая 1840 года.
(обратно)988
Там же, лл. 15 об. — 16.
(обратно)989
Там же, № 683, л. 7 об. Дата: «30 мая». Год устанавливается по связи с письмами К. Гильтер.
(обратно)990
Там же, № 681, л. 19 об. Письмо от 12 октября 1840 года.
(обратно)991
Там же, лл. 22, 24. Письма К. Гильтер от 23 ноября и Л. Гильтер от 28 декабря 1840 года.
(обратно)992
Там же, № 683, лл. 5 об. — 6. На письме ошибочная дата: 13 янв.<аря>.
(обратно)993
Агафонов Н. Казань и казанцы, I. Казань, 1906, стр. 68.
(обратно)994
Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников, стр. 43.
(обратно)995
Печатается по изданию: Русско-болгарские фольклорные и литературные связи: В 2-х тт. Л.: Наука, 1976. Т. 1. С. 231–272.
(обратно)996
Сыроечковский Б. Е. Балканская проблема в политических планах декабристов // Сыроечковский Б. Е. Из истории движения декабристов. Изд. Московского гос. ун-та, 1969. С. 216–303; Фадеев А. В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. М., 1958. С. 36 и сл.
(обратно)997
Липранди И. Из дневника и воспоминаний // Рус. архив. 1866. № 10. Стлб. 1395, 1403–1406. Ср.: Трубецкой Б. Новые архивные материалы о Кирджали // Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 333–337.
(обратно)998
Липранди И. Из дневника и воспоминаний. Стлб. 1407–1408.
(обратно)999
Двойченко-Маркова Е. М. Пушкин и народное творчество Молдавии и Валахии // Из истории литературных связей XIX века. М., 1962. С. 65–88; Богач Г. Ф. Пушкин и молдавский фольклор. Кишинев, 1963. С. 198–211.
(обратно)1000
Садиков Л. А. И. П. Липранди в Бессарабии 1820-х годов (по новым материалам) // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 271; ср. также: Эйдельман Н. Я. «Где и что Липранди?» // Пути в незнаемое. Сб. 9. М., 1972. С. 125–158.
(обратно)1001
Рус. архив. 1866. № 9. Стлб. 1261.
(обратно)1002
См. частичную публикацию их в кн.: Въжарова Ж. Н. Руските учени и българските старини. Изследване, материали и документи. София, 1960.
(обратно)1003
Болгария. Из записок И. П. Липранди // Чтения в имп. Об-ве истории и древностей российских. Кн. I. М., 1877. Отд. III.
(обратно)1004
Болгария. С. 8, 9.
(обратно)1005
См. письмо И. П. Липранди к А. Ф. Вельтману от 20 октября 1835 г. (ГБЛ, Вельт. II. 4. 17). Извлечения из своей рукописи Липранди начинал печатать еще в 1830–1831 гг. в «Одесском вестнике»; позднее их опубликовал Вельтман в изданных им «Картинах света» (Ч. II. М., 1837. С. 242–248, 346–352, 361–366).
(обратно)1006
ГБЛ. Вельт. II. 4. 17.
(обратно)1007
Скерли Ћ. J. Историjа нове српске књижевности. Београд, 1953. С. 150–151.
(обратно)1008
Сиверc А. А. Семья Ризнич. (Новые материалы) // Пушкин и его современники. Вып. XXXI–XXXII. Л., 1927. С. 94.
(обратно)1009
См. об этом: Ланда С. С. Ян Потоцкий и его роман «Рукопись, найденная в Сарагосе» // Потоцкий Я. Рукопись, найденная в Сарагосе. М., 1971. С. 6, 30 и сл. Об исторических работах Потоцкого см.: Францев В. А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX столетия. Прага, 1906. С. 47–62.
(обратно)1010
Арнаудов М. Априлов. Живот, дейност, съвременници (1789–1847). София, 1935. С. 375 и сл.
(обратно)1011
ГБЛ. Вельт. II. 4. 17, л. 1.
(обратно)1012
ГБЛ, Вельт. III. 16. 8, л. 216–219 об.
(обратно)1013
Новейший свод данных о Катранове см.: Велчев В. Българо-руски литературни взаимоотношения през XIX–XX вв. София, 1974. С. 225 и сл. (с литературой вопроса).
(обратно)1014
При любезном содействии акад. П. Н. Динекова автор настоящей работы получил в Институте этнографии Болгарской Академии наук ряд необходимых сведений, касающихся материалов Липранди. Аналогичные верования и обряды известны в записях XIX–XX вв. Некоторые термины в передаче Липранди не находят аналогии в записях; к ним относится, например, неизвестное в Болгарии слово «краконопол»; транскрипция других слов не вполне точна (ср. «кольва» — болг. «коливо»). Здесь возможна ошибка самого Липранди или отражения каких-то диалектных особенностей. (Этой справкой автор обязан научному сотруднику Института этнографии Болгарской Академии наук ныне покойной Т. А. Колевой).
(обратно)1015
Иванов Й. Българските народни песни. София, 1959. С. 129–130; Динеков П. Български фолклор. Ч. I. София, 1959. С. 284.
(обратно)1016
Геров Н. Речник на българский язик. Ч. I. А — Д., Пловдив, 1895. С. 212–213.
(обратно)1017
О рецензии «Гузлы» в русской журналистике см.: Трубицын Н. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. (Очерки). СПб., 1912. С. 117–118.
(обратно)1018
Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971. С. 73–74.
(обратно)1019
Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 152–153 (статья Н. В. Измайлова).
(обратно)1020
Светославич, вражий питомец. Диво времен красного солнца Владимира. Ч. II. Соч. А. Вельтмана. М., 1835. С. 30.
(обратно)1021
Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Вып. I. Пгр., 1916. С. 55, 68, 83; Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства, М., 1971. С. 271. Ср. указания на аналогичные обычаи в Австрии: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. VI. Lief. 6. Berlin; Leipzig, 1934. S. 819.
(обратно)1022
Геров Н. Речник… Ч. I. С. 105, 221; Ч. IV. С. 46. Более дифференцированную картину поверий дает Д. Маринов, указывающий, в частности, что название «полте-ник» употребительно преимущественно в западной Болгарии. Согласно поверьям, записанным Д. Мариновым, «полтеник» до шести месяцев существует в виде тени, после чего воплощается, принимая образ того, кем он был до смерти; тогда он начинает пить и человеческую кровь (см.: Маринов Д. Народна вяра и религи-озни народни обичаи // Сборник за народни умотворения и народопис. Кн. XXVIII. София, 1914. С. 216–218). Некоторые детали обряда, отмеченные Липранди, близки к тем, которые много позже были интерпретированы Д. К. Зелениным: в деровне Кимбеть близ Аккермана во время засухи 1867 г. к могиле упыря «привезли две бочки воды, раскопали могилу аршина на полтора, по направлению к голове, и вылили туда воду». Ср. обычай у чувашей: во время бездождия на могилы скоропостижно умерших выливают до 40 ведер воды, для чего «вбивают до гроба кол и в дыру вливают воду». По объяснению Д. К. Зеленина, вода заливается в могилу упыря либо для того, чтобы избежать засухи, которую он может вызвать, либо чтобы затруднить ему возвращение на землю (см.: Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. С. 22, 73, 293).
(обратно)1023
По-видимому, ошибка переписчика (вместо «вампиров»).
(обратно)1024
В Эски-Емине я видел эту церемонию сам (примечание Липранди).
(обратно)1025
Празднуемый святой в день 20 декабря (примечание Липранди).
(обратно)1026
Тепляков В. Письма из Болгарии. М., 1833; Стихотворения Виктора Теплякова. СПб., 1836. «Фракийские элегии» перепечатаны: Поэты 1820–1830-х годов. Т. I. Л., 1972. С. 608–660. О путешествии Теплякова в Болгарию см.: Бруханский Л. «Письма из Болгарии» В. Г. Теплякова // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М.; Л., 1963. С. 312–323.
(обратно)1027
Липранди И. П. Болгария. С. 6.
(обратно)1028
Тепляков В. Письма из Болгарии. С. 141.
(обратно)1029
Там же. С. 136–137.
(обратно)1030
Ср.: Отчет о разных памятниках древности, открытых и приобретенных в некоторых местах Болгарии и Румелии. Представлен е<го> с<ветлости> г<осподину> новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову В. Тепляковым. Одесса, 1829. С. 6–7; Тепляков В. Письма из Болгарии. С. 105 и сл., 193 и сл.; Поэты 1820–1830-х годов. Т. I. С. 654–655.
(обратно)1031
Поэты 1820–1830-х годов. Т. I. С. 623, 656.
(обратно)1032
См. план окрестностям Ески-Стамбула (примечание Липранди).
(обратно)1033
См. труд И. П. Липранди «Исторические исследования о болгарах от 912 до 999 г.» (ЦГИА, ф. 673, оп. 1, № 257, л. 35; далее: Липранди). Ср.: Въжарова Ж. Н. Руските учени и българските старини. С. 54–55; Древности. Замечательные места в Булгарии. Из записок о Булгарии генер. И. П. Липранди // Картины света. Ч. II. С. 242–248.
(обратно)1034
См. письмо Н. Палаузова и В. Априлова к Ю. И. Венелину от 22 мая 1826 г. (в кн.: Венелин Ю. О зародыше новой болгарской литературы. № 1. М., 1838. С. 26).
(обратно)1035
Там же. С. 42–43.
(обратно)1036
Унджиева Ц. Документи по българското Възраждане в съветските архиви // Известия на Института за литература. 1962. Кн. XII. С. 138.
(обратно)1037
Венелин Ю. О зародыше новой болгарской литературы. С. 43.
(обратно)1038
<Полевой Н.> Византийские легенды. Иоанн Цимисхий. Быль Х-го века. Ч. I. М., 1841 (предисловие). Заметим, что именно «Пир Святослава» из «Легенд» Полевой публикует отдельно, до выхода всей книжки (Московский наблюдатель. 1835. Октябрь. Кн. 1. С. 329–376).
(обратно)1039
Там же. Ч. I. С. 181, 184, 188–189.
(обратно)1040
Святославич, вражий питомец. Диво времен красного солнца Владимира. Ч. I. Соч. А. Вельтмана. М., 1835. С. 11–12.
(обратно)1041
Библиотека для чтения. 1843. № 7. С. 13 (далее ссылки на повесть приводятся в тексте статьи).
(обратно)1042
ГБЛ, ф. 47. I. 31. 5.
(обратно)1043
Палаузов С. Н. Век болгарского царя Симеона. СПб., 1852 (см. об этом: Ровнякова Л. И. С. Н. Палаузов — деятель болгарского Просвещения // Рус. лит-ра. 1972. № 2. С. 167–176).
(обратно)1044
Арнаудов М. Любен Каравелов. Живот, дело, епоха. 1834–1879. София, 1964. С. 717–718.
(обратно)1045
ГБЛ. Вельт. II. 4. 46, л. 1.
(обратно)1046
3латарски В. Н. История на българската държава през средните векове. Т. I. Ч. 2. София, 1971. С. 554–573.
(обратно)1047
Ратибор Холмоградский. Соч. А. Вельтмана. М., 1841. С. 222.
(обратно)1048
ГБЛ. Вельт. I. 31. 5, л. 9.
(обратно)1049
Азадовский М. К. История русской фольклористики. <Ч. 1>. М., 1958. С. 406–407; Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. С. 629–630.
(обратно)1050
Златарски В. История на българската държава… С. 495–497 и сл.
(обратно)1051
Липранди. Л. 27 об. и сл.; Палаузов С. Н. Век болгарского царя Симеона. С. 54.
(обратно)1052
Венелин Ю. И. Критические исследования об истории болгар. М., 1849. С. 262–263.
(обратно)1053
О восстании комитопулов см.: Златарски В. Н. История на българската държава… С. 563 и сл.; ср. также: Аdontz N. Samuel l ’Armènien, roi des Bulgares. Bru-xelles, 1938 (Académie royale de Belgique. Classe des lettres, etc. Mé moires. Collection in -8°. Т. XXXIX. Fasc. 1).
(обратно)1054
Ср. более поздний перевод этой песни Н. Бергом (Краледворская рукопись. Собрание древних чешских эпических и лирических песень. Пер. Н. Берг. М., 1846. С. 52–53).
(обратно)1055
См., например: Ћурић В. Српскохрватска народна епика. Сараjево, 1955. С. 134.
(обратно)1056
Венелин Ю. О характере народных песен у славян задунайских. М., 1835. С. 82; Арнаудов М. Априлов. С. 378–379.
(обратно)1057
Сверху вписано: внуки.
(обратно)1058
О событиях 927–930 гг., о которых идет речь в плане, см.: 3латарски В. История на българската държава… Гл. V.
(обратно)1059
Historia Byzantina duplici commentario illustrata… auctore Carolo du Fresne Domino du Cange… Lutetiae Parisiorum… 1680. P. 313; История разных славянских народов наипаче болгар, хорватов и сербов, из тмы забвения изятая и во свет исторический произведенная Иоанном Раичем, архимандритом во Свято Архангельском монастыре Ковиле. Ч. I. В Виенне, 1794. С. 389 (далее — Раич); Липранди. Л. 19 об. — 20.
(обратно)1060
Слово об ополчении Игоря Святославича, князя Новгород-Северского, на половцев, в 1185 году. Изд. 2-е. А. Ф. Вельтмана. М., 1860. С. VI.
(обратно)1061
Далее зачеркнуто: Третья
(обратно)1062
Далее зачеркнуто: а. узнает в Бояне своего сына б. и обращаясь к народу
(обратно)1063
Далее зачеркнуто: дает клятву
(обратно)1064
Далее было начато: она хри<стианка>
(обратно)1065
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. III. СПб., 1890. С. 133.
(обратно)1066
Это место текста испорчено и до сих пор не поддается удовлетворительному толкованию. В последних изданиях принята конъектура И. Е. Забелина: «Боянъ и Ходына»; в «Ходыне» предполагают имя собственное. Новейшую интерпретацию см.: Шарыпкин Д. М. «Рек Боян и Ходына…» К вопросу о поэзии скальдов и «Слове о полку Игорове» // Скандинавский сб. XVIII. Таллин, 1973. С. 195–200.
(обратно)1067
Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского. Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вельтманом. М., 1833. С. 50.
(обратно)1068
Венелин Ю. И. Критические исследования по истории болгар. С. 263–365.
(обратно)1069
См. историю этого вопроса в статье Ив. Дуйчева «Проучвания върху българското средновековие. II. Боян Магесник. Към въпроса за лъжливите науки у нас и в Византия през средновековието» (Сборник на Българската Академия на науките. Кн. 41. София, 1949. С. 8–19).
(обратно)1070
Вельтман А. Упоминаемый «бо Ян» в «Слове о полку Игореве» есть старец Ян, упоминаемый Нестором // Москвитянин. 1842. № 1. С. 213–215.
(обратно)1071
Слово об ополчении Игоря Святославича… С. VI.
(обратно)1072
O. Andrije Kačića Miošića Razgovor ugodni naroda slovinskoga… U Zagrebu, 1862. S. 61, 103–104.
(обратно)1073
Раич. С. 399.
(обратно)1074
Historia Byzantina… P. 313; Раич. Ч. I. С. 389; Липранди. Л. 19 об. — 20.
(обратно)1075
Вельтман А. Кощей бессмертный, былина старого времени. Ч. II. М., 1833. С. 89–171; см. особо с. 154 и сл., где Волх превращается в змея.
(обратно)1076
Слово об ополчении Игоря Святославича… С. 69 и сл.
(обратно)1077
См. об этом мифе: Jakobson R. (with Szeftel M.). The Vseslav Epos // Jakobson R. Selected Writings. Vol. IV. [S. 1.], 1966. P. 300–368; а также: Путилов Б. Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 70–78.
(обратно)1078
Московский наблюдатель. 1837, июнь. Кн. 2. С. 397–448.
(обратно)1079
Книга историграфия початия имене, славы и расширения народа славянского… Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроурбина, архимандрита Рагужского. [СПб., 1722]. С. 307. Ср.: Раич. Ч. I. Кн. 2. С. 398–399, 400; Липранди. Л. 19 об.
(обратно)1080
Dujue Iv. Appunti di storia bizantino-bulgara. 1. La leggenda bizantina della morte del re bulgaro Simeone // Dujue Iv. Medioevo bizantino-slavo. Vol. I. Roma, 1965. P. 207–212.
(обратно)1081
Nicetae Chroniatae Historia. Ex recensione Immanuelis Bekkeri. Bonnae, 1835. P. 849, 857–858 (Corpus scriptorum historiae Byzantinae…); русский перевод: Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской духовной академии. Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина. Т. 2 (1186–1206). Под. редакции проф. И. В. Чельцова. СПб., 1862. С. 420–421, 430–431.
(обратно)1082
Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903. С. 141.
(обратно)1083
Венелин Ю. Древние и нынешние болгаре. М., 1829. С. 16.
(обратно)1084
Печатается по изданию: Временник Пушкинской комиссии. 1976. Л.: Наука, 1979. С. 46–64.
(обратно)1085
См.: Никитенко А. В. Дневник. Т. I. M., 1955. С. 195 (запись от 31 января 1837 г.). Отношение С. С. Уварова гр. С. Г. Строганову от 1 февраля 1837 г. см.: Щукинский сборник. Вып. 1. М., 1902. С. 298.
(обратно)1086
Текст этого стихотворения см.: Каллаш В. В. Русские поэты о Пушкине. М., 1899. С. 88. О цензурной истории стихотворения см.: Русская старина. 1880. № 7. С. 536; 1887. № 4. С. 250.
(обратно)1087
Свод данных о взаимоотношениях Пушкина и Б. М. Федорова см.: Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837. Л., 1969. С. 479–480. Дополнения см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 439–440.
(обратно)1088
См.: Теплинский М. В. И. Т. Лисенков и его литературные воспоминания // Русская литература. 1971. № 2. С. 111–112.
(обратно)1089
См.: Баранов В. В. Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» // Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 486.
(обратно)1090
8 (20) июля 1841 г. А. И. Тургенев, прежний начальник Федорова по департаменту духовных дел и иностранных исповеданий и постоянный его покровитель, писал Вяземскому: «Жаль мне и княгини Юсуповой за Федорова. Он и ее, и Шишкова, и сына лишился в одно время» (Остафьевский архив. Т. IV. СПб., 1899. С. 141). 30 сентября 1842 г. Плетнев писал Я. К. Гроту о визите Федорова, который разжалобил его «скудостью в одеянии своем и рассказами про старуху Юсупову, которая ему помогала»; он принес Плетневу стихи, где «описал жизнь ее в виде волшебной сказки, назвав княгиню Виолеттой» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. I. СПб., 1896. С. 607).
(обратно)1091
Федоров Б. Кн. Б. Н. Юсупов. СПб., 1849.
(обратно)1092
Федоров Б. Легенда. Из преданий, записанных Шатобрианом (Йtudes Historiques, tome 4. Bataille de Poitier) (Графине З. И. Шово, маркизе де Серра). 1873. Ген<ва-ря> 29. — ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 50, л. 35–36 об.
(обратно)1093
Там же. Л. 62. Эти стихи (печатающиеся под названием «Ответы на вопросы в игре, называемой „секретарь“») написаны около 1819 г. См.: Жуковский В. А. Стихотворения. Т. 2. Л., 1940 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 251, 527 (комментарий Ц. Вольпе).
(обратно)1094
ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 50, л. 72.
(обратно)1095
О хронологии занятий Жуковского пушкинскими рукописями см.: Цявловский М. А. «Посмертный обыск» у Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 317–319. Из этой работы берем и дальнейшие сведения об истории рукописей, принадлежавших Жуковскому (см. С. 335, 341 (№ 7, 14, 16), 322–331).
(обратно)1096
Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 125–126.
(обратно)1097
Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. С. 321, 338, 341.
(обратно)1098
См.: Воспоминания Н. А. Марковича о встречах с Кюхельбекером в 1817–1820 гг. Публ. и коммент. Н. Г. Розенблюма. Предисловие А. А. Орловой // Литературное наследство. Т. 59. М., 1954. С. 501–512; А. А. Глинка в воспоминаниях современников. Под общ. ред. А. А. Орловой. М., 1955. С. 119–141; Косачевская Е. М. М. А. Балугьянский и Петербургский университет. Л., 1971. С. 162–164, 166, 171; Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. С. 240 (дополнительные сведения).
(обратно)1099
ИРЛИ, ф. 488, № 76, л. 11–12.
(обратно)1100
ГПБ, ф. 539, оп. 2, № 1016, л. 5–5 об.
(обратно)1101
См.: Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830–1831. Указатель содержания. М., 1966. С. 56–57, 62, 154. Стихи Зайцевского и биографию его, написанную В. Н. Орловым, см.: Давыдов Денис. Полн. собр. стихотворений. Л., 1933 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 189–217. Ср. также: Поэты 1820–1830-х годов. Т. 1. Л., 1972 (Б-ка поэта. Большая серия). С. 513–526.
(обратно)1102
См. письма его к Соболевскому из Милана 1832 г. (ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245), а также упоминания о нем в письмах Лемана Соболевскому того же 1832 г. (там же, л. 204 об., 211 об.).
(обратно)1103
ЦГАЛИ, ф. 177, оп. 1, № 217 («Три стихотворения Зайцевского, посвященные Долгорукому Д. И.»).
(обратно)1104
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 157; Русский архив. 1905. № 8. С. 607. Ср. совершенно такую же реакцию М. Орбелиани, о которой сообщал А. А. Бестужев-Марлинский брату 23 февраля 1837 г. (Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х т. Т. II. М.; Л., 1958. С. 673–674).
(обратно)1105
ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 3, л. 242–245; № 11, л. 145 об. — 153.
(обратно)1106
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. X. СПб., 1886. С. 27–28.
(обратно)1107
ГПБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, № 523 (письмо от 14 марта 1839 г.).
(обратно)1108
См. в собрании путевых реликвий Марковича афишу Большого театра в Триесте с датой 8 ноября 1857 г.: ИРЛИ, ф. 488, № 46, л. 65.
(обратно)1109
ИРЛИ, р. I, оп. 19, № 200.
(обратно)1110
См.: Каллаш В. В. Русские поэты о Пушкине. М., 1899. С. 73, 78.
(обратно)1111
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1974. С. 230; Пушкин и его современники. Вып. VI. СПб., 1908. С. 55.
(обратно)1112
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 200, 196.
(обратно)1113
См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1926. С. 384; Поляков А. С. О смерти Пушкина (по новым данным). Пб., 1922. С. 42.
(обратно)1114
М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. [М.], 1972. С. 196.
(обратно)1115
Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891. Прилож. IV. С. 12–13.
(обратно)1116
Герштейн Э. Дуэль Лермонтова с Барантом // Литературное наследство. Т. 45–46. М., 1947. С. 408 и след.
(обратно)1117
См.: Герштейн Э. Послесловие // Ахматова Анна. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977. С. 312.
(обратно)1118
Непосредственное отношение к Пушкину в анализируемой тетради имеет также стихотворение «И. А. К<рылову> (по случаю праздника 2 февраля 1838 г.)», написанное 3 марта 1838 г., где Пушкин упоминается наряду с Крыловым как вершинное явление современной поэзии. Эти стихи также не были напечатаны и не учтены в библиографии немногочисленных поэтических откликов на крыловский юбилей. См.: Кеневич В. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е изд. СПб., 1878. С. 323 и след.
(обратно)1119
Было: Преступной страстью
(обратно)1120
Было: Пришлец, — он
(обратно)1121
Было: а. Потерянный во мненьи света; 6. Одна ль ступень была их света!..
(обратно)1122
Было: Играя славою чужой,
(обратно)1123
А. С. Пушкин погребен Псковской губернии <в> Святогорском монастыре, неподалеку от его деревни; там же погребена и родительница его, — и его место было им самим избрано. (Примеч. автора).
(обратно)1124
Печатается по изданию: Денис Давыдов. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. В. Э. Вацуро. Л.: Сов. писатель, 1984. С. 5–48.
(обратно)1125
Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. Т. 4. М., 1954. С. 369, 345–346, 353.
(обратно)1126
Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. СПб., 1893. С. 203.
(обратно)1127
Биографию Давыдова см.: Советов Н. Н. Д. В. Давыдов. В кн.: Сборник биографий кавалергардов. Т. 3. СПб., 1906. С. 28–45; Жерве В. В. Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. Очерк его жизни и деятельности. 1784–1839. СПб., 1913; Попов М. Я. Денис Давыдов. М., 1971.
(обратно)1128
Встреча с великим Суворовым (1793). В кн.: Давыдов Д. Военные записки. М., 1940. С. 41–61.
(обратно)1129
Давыдов В. Д. Денис Васильевич Давыдов, партизан и поэт (1784–1839) // Русская старина. 1872. № 4. С. 628.
(обратно)1130
См.: Давыдов Д. Военные записки. С. 62.
(обратно)1131
Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 86.
(обратно)1132
Булгарин Ф. Воспоминания. Ч. II. СПб., 1846. С. 135–136, 134.
(обратно)1133
См. ее анализ: Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–74.
(обратно)1134
О «гусарской» лирике Давыдова см.: Эйхенбаум Б. М. От военной оды к «гусарской песне» // О поэзии. Л., 1969. С. 148–168; Орлов В. Н. Певец-герой (Денис Давыдов) // Избранные работы в 2-х тт. Т. 1. Л., 1982. С. 189 и след.
(обратно)1135
Давыдов Д. Военные записки. С. 84.
(обратно)1136
Там же. С. 140–141.
(обратно)1137
Архив Раевских. Т. 1. СПб., 1908. С. 102–103.
(обратно)1138
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 7. СПб., 1882. С. 89.
(обратно)1139
Русская старина. 1872. № 4. С. 631.
(обратно)1140
Давыдов Д. Военные записки. С. 208.
(обратно)1141
М. И. Кутузов. Сборники документов. Т. 5. М., 1956. С. 81.
(обратно)1142
Лажечников И. И. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1858. С. 304. Ср. аналогичные свидетельства Э. И. Стогова (Русская старина. 1903. № 2. С. 272–273) и С. Н. Соковниной (Исторический вестник. 1889. № 3. С. 665).
(обратно)1143
Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к князю П. А. Вяземскому. Пг., 1917. С. 15.
(обратно)1144
Русский архив. 1866. Стлб. 900.
(обратно)1145
Давыдов Д. Военные записки. С. 408; Русская старина. 1872. № 4. С. 628–629.
(обратно)1146
Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1980. С. 60.
(обратно)1147
См.: Фридман Н. В. Неизвестные письма К. Н. Батюшкова // Русская литература. 1970. № 1. С. 188; Он же. Поэзия Батюшкова. М., 1971. С. 185, 359; Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 8.
(обратно)1148
Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 231.
(обратно)1149
См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований… М., 1975. С. 159–160.
(обратно)1150
Цит. по статье: Ильин-Томич А. А. Поэзия жизни и жизнь поэзии // Давыдов Д. Избранное. М.: Книга, 1984. С. 20.
(обратно)1151
Русская старина. 1872. № 4. С. 636–637.
(обратно)1152
Давыдов Д. Военные записки. С. 389.
(обратно)1153
Общественная позиция Давыдова получает различное толкование в исследовательской литературе. См.: Орлов Вл. Певец-герой (Денис Давыдов) // Избранные работы: В 2 т. Т. 1. С. 154–202; Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. М., 1955. С. 133–134, 138; Ланда С. С. Дух революционных преобразований… С. 155–161; Пугачев В. В. Денис Давыдов и декабристы // Декабристы в Москве. М., 1963. С. 107–142; Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 165 и след.; Пугачев В. В. Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (От Радищева к декабристам) // Уч. зап. Горьковского унив. 1962. Вып. 57. Серия историко-филологическая.
(обратно)1154
Вигель Ф. Ф. Записки. Ч. V. СПб., 1892. С. 45.
(обратно)1155
Лотман Ю. М. Историко-литературные заметки. 2. О так называемой «Речи» Д. В. Давыдова при вступлении в «Арзамас» // Уч. зап. Тартуского унив. Вып. 98. Труды по русской и славянской филологии. III. Тарту, 1960. С. 311.
(обратно)1156
См.: Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 141 и след.
(обратно)1157
Русская старина. 1903. № 8. С. 447; Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 5.
(обратно)1158
См. подробнее: Лидия Гинзбург. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 19–51. 2. Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 9.
(обратно)1159
Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1980. С. 496 (письмо от 10 декабря 1829 года).
(обратно)1160
Письма Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 43.
(обратно)1161
О стилистических особенностях лирики Давыдова см. также: Семенко И. М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. С. 106–20.
(обратно)1162
Сборник Русского исторического общества (РИО). Т. 73. СПб., 1890. С. 409.
(обратно)1163
Пушкин и его современники. Вып. 19–20. Пг., 1914. С. 68.
(обратно)1164
Сборник РИО. Т. 73. С. 535.
(обратно)1165
Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. С. 192.
(обратно)1166
Сборник РИО. Т. 73. С. 536–541.
(обратно)1167
Орлов Вл. Судьба литературного наследства Дениса Давыдова // Лит. наследство. Т. 19–21. М., 1935. С. 330–331.
(обратно)1168
Муравьев-Карский Н. Н. Записки // Русский архив. 1889. № 4. С. 590–592, 602; № 9. С. 67–68. Об участии Давыдова в военных действиях см.: Нерсисян М. Из истории русско-армянских отношений. Кн. 2. Ереван, 1961. С. 7–37.
(обратно)1169
См.: Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1888. С. 125–126.
(обратно)1170
Сборник РИО. Т. 73. С. 549.
(обратно)1171
Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 156–158.
(обратно)1172
Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 11. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 84.
(обратно)1173
Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 114.
(обратно)1174
Русская старина. 1883. № 3. С. 571–572.
(обратно)1175
См.: Русская старина. 1898. № 6. С. 561–563; Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Т. IX. М., 1910. С. 346.
(обратно)1176
Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 22.
(обратно)1177
Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 206; Он же. Военные записки. С. 48, 99.
(обратно)1178
Лит. наследство. Т. 19–21. С. 91.
(обратно)1179
Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому… С. 51.
(обратно)1180
Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 222; Давыдов Д. В. Соч. Т. 3. С. 182–184; Виницкий Ф. Н. Рассказы из былого времени // Чтения при имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1874. Кн. 1. Отд. V. С. 98; Языков Н. М. Соч. Л., 1982. С. 339.
(обратно)1181
Русский архив. 1866. № 6. Стлб. 899; ср.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 105.
(обратно)1182
См. об этом: Рассадин С. Партизан (Поэзия Дениса Давыдова) // Вопросы литературы. 1981. № 6. С. 111–147.
(обратно)1183
См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 213–269.
(обратно)1184
См. указание на это и анализ лирического героя Давыдова в кн.: Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 148–162.
(обратно)1185
См. публикацию этого не изданного ранее фрагмента: Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 44–64.
(обратно)1186
Письма… Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. С. 44.
(обратно)1187
Печатается по изданию: Дельвиг А. А. Сочинения / Сост., вступ. ст., коммент. В. Э. Вацуро. Л.: Худ. литература, 1986. С. 3–20.
(обратно)1188
Гаевский В. П. Дельвиг // Совр. 1853. № 2. Отд. 3. С. 45–88; № 5. Отд. 3. С. 1–66; 1854. № 1. Отд. 3. С. 1–52; Отд. 3. С. 1–64.
(обратно)1189
Томашевский Б. А. А. Дельвиг; Виноградов И. О творчестве Дельвига // Дельвиг А. А. Полн. собр. стих. Л., 1934. В 1970 г. вышла английская монография о Дельвиге (Koehler L. Anton Antonovic Delvig. A Classicist in the Time of Romanticism. The Hague-Paris: Mouton, 1970), во многом опирающаяся на эти и другие работы советских ученых.
(обратно)1190
Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XI. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 273.
(обратно)1191
См.: [Грот Я. К.] Пушкинский Лицей (1811–1817). Бумаги 1-го курса, собранные акад. Я. К. Гротом. СПб., 1911. С. 63.
(обратно)1192
См.: Мейлax Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 124.
(обратно)1193
См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 68.
(обратно)1194
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. М.; Л.: Наука, 1979. С. 434–435.
(обратно)1195
См.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 47–58.
(обратно)1196
Нечкина М. В. Священная артель. Кружок Александра Муравьева и Ивана Бурцова 1814–1817 гг. // Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.; Л., 1951. С. 155–188; Базанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964 (указатель).
(обратно)1197
См.: Гаевский В. П. Дельвиг // Совр. 1853. № 5. С. 55 и след.; Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX в. М.; Л., 1959. С. 185–186, 326–327.
(обратно)1198
Пушкин. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 89.
(обратно)1199
См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л.: Наука, 1966. С. 217–227; Блинова Е. М. «Литературная газета» Дельвига и Пушкина. 1830–1831. Указатель содержания. М., 1966; о «Северных цветах» см. также нашу книгу: «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина. М.: Книга, 1978; «Северные цветы» на 1832 год. Изд. подготовил Л. Г. Фризман. М., 1980.
(обратно)1200
Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI, с. 173.
(обратно)1201
Печатается по изданию: Литературные связи славянских народов: Исследования. Публикации. Библиография. Л.: Наука, 1988. С. 22–57.
(обратно)1202
Русский вестник. 1810. № 9. С. 89–90.
(обратно)1203
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники: Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 1890. С. 68.
(обратно)1204
Отечественные записки. 1826. Ч. 28. № 78. С. 127.
(обратно)1205
См.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома: (1750–1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979. С. 11, 43.
(обратно)1206
Цит. по: Цявловский М. Эпигоны декабристов: (Дело о распространении «зловредных» сочинений среди студентов Харьковского университета в 1827 году) // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 78.
(обратно)1207
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 501.
(обратно)1208
Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 8. С. 131.
(обратно)1209
Шехурина Л. Д. «Булевар» // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 72.
(обратно)1210
Русская старина. 1909. № 9. С. 557; Русский архив. 1908. № 1. С. 298.
(обратно)1211
Философов Д. Соседи Пушкина по с. Михайловскому: (К открытию пушкинской колонии) // Речь. 1911. № 240. 24 мая. Список сатир «на бульвары», в том числе на Тверской бульвар, приведенными справками отнюдь не исчерпывается; так, Л. П. Глушковский в своих воспоминаниях упоминал сатиру «Тверской бульвар», якобы принадлежавшую А. Ф. Воейкову; на самом деле автором ее был шестнадцатилетний юнкер кн. Волконский (см.: Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. М.; Л., 1940. С. 63–64, 217). Ср. также: Макаров Н. П. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя предсмертная исповедь. СПб., 1881. Ч. 2. С. 67.
(обратно)1212
Литературный архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 149–151.
(обратно)1213
См.: Цявловский М. Эпигоны декабристов. С. 102.
(обратно)1214
Славянин. 1829. № 11–12. С. 399–401.
(обратно)1215
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники. С. 248.
(обратно)1216
См. подпись «Вологда» под «Фарисом» в «Московском телеграфе» (1829. Ч. 29. № 20. С. 450–457); ср. также: «Не уезжай» (подп.: 2 февраля 1829. Вологда) // Галатея. 1829. № 13. С. 103; «Н…е И…не Р…ной» (подп.: Вологда) // Там же. № 24. С. 150; «Песня» («На краю скалы высокой…»; подп.: Вологда) // Дамский журнал. 1829. Ч. 28. № 45 (ноябрь). С. 83.
(обратно)1217
См., например, обращенное к нему комплиментарное стихотворение Воейкова, датированное 21 января 1831 г. (К Сиянову // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 103. 26 дек. С. 813). Ср. также стихи Сиянова в «Славянине»: «Е…фу И…чу М…ну» (1829. № 11–12. С. 399–401); «Сумерки. (Из Мильвуа)» (1830. № 1. С. 59), «В альбом. (Е…не Л…не С…кой») (1830. № 1. С. 59–60); «Умирающий христианин» (1830. № 1. С. 70–71); «Воспоминание» (1830. № 5. С. 364–365); «К Эльвире. (Из Ламартина)» (1830. № 6. С. 461–462); «Признание» (1830. № 9. С. 722); «Элегия» (1830. № 10. С. 777); «А. П. В-ой» (1830. № 12. С. 934); «К лире» (1830. № 13. С. 50–51); «Ек… Ив. Б.л.г.в. кой» (1830. № 14. С. 143); «Дикая ромашка» (1830. № 16. С. 307–308); «Прошу отгадать» (1830. № 18. С. 475). Не перечисляем здесь прозаические переводы Сиянова в «Славянине», довольно многочисленные. О публикациях его в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» см. ниже.
(обратно)1218
Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX века. Ростов н/Д., 1909. С. 154.
(обратно)1219
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 24. 23 марта. С. 192. О нем см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…»: Проблемы его изучения, Л., 1967. С. 216–217.
(обратно)1220
ЦГАЛИ, ф. 88, оп. 1, № 41 (письма от 27 февр. 1831 г. и б. д.).
(обратно)1221
См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М., 1965 (по указ.: «Сиянов»). См. также: Розен Е. Ф. На отъезд Сиянова в действующую армию // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 13. 14 февр. С. 103.
(обратно)1222
Волков Пл. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) //Там же. 1831. № 8. 28 янв. С. 63; Глебов А. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Там же. № 10. 4 февр. С. 70; Карлгоф [В. И.] В альбом П. Г. Сиянову // Там же. № 22. 18 марта. С. 175; Федоров Б. Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Там же. № 23. 21 марта. С. 182; Щастный В. Н. 1) Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) //Там же. № 24. 25 марта. С. 190; 2) П. Г. С<иянову> // Санктпетербургский вестник. 1831. № 2. С. 102; Вердеревский [В. Е.] Листок: (Из альбома П. Г. Сиянова) // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1831. № 94. 25 ноября. С. 743 (дата: 24 генваря, 1831 г.); Mанассеин П. 1) Листок из альбома П. Г. Сиянова // Там же. 1832. № 21. 12 марта. С. 167 (дата: 15-го октября 1831. Варшава); 2) П. Г. Сиянову // Там же. 1834. № 50. 23 июня. С. 399 (дата: 9-го марта 1833).
(обратно)1223
Московский телеграф. 1829. Ч. 29. № 20. С. 450–457.
(обратно)1224
Здесь и далее переводы Щастного цитируются по изд.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 534. (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)1225
Сын отечества и Северный архив. 1829. № 24. С. 244.
(обратно)1226
См.: Эпиграмма // Литературные прибавлении к «Русскому инвалиду». 1832. № 34. 27 апр. С. 270 (дата: Варшава. 1 сентября 1831 г.); Эпиграмма // Там же. № 59. 23 июля. С. 472 (дата: Варшава, 28 августа 1831); М. А. Бр…ву // Там же. № 64. 10 авг. С. 511; Осень жизни // Там же. № 88. 2 ноября. С. 703; 6 декабря 1829 // Там же. № 92. 16 ноября. С. 734–735, Песнь персидского вестника: (Подражание персидскому) // Там же. 1834. № 68. 25 авг. С. 543 (дата: 24 сентября 1833. Варшава).
(обратно)1227
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники. С. 68, 260, 319, 348. — «Песня» Ширкова («Варшава») была напечатана в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1831. № 79. 3 октября. С. 622–623).
(обратно)1228
Пушкин и его современники. Пг., 1911. Вып. 15. С. 97.
(обратно)1229
Лит. наследство. 1934. Т. 16–18. С. 780–781.
(обратно)1230
Павлищев Л. Н. Из семейной хроники. С. 68, 260, 319, 348.
(обратно)1231
Жерве В. В. Партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. СПб., 1913. С. 130.
(обратно)1232
Русский вестник. 1871. № 10. С. 626.
(обратно)1233
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1839. Т. 2. № 4. 29 июля. С. 77.
(обратно)1234
Сиянов П. Г. Голубь, мышь и крот // Маяк. 1843. Т. 10. С. 2.
(обратно)1235
Адрес-календарь на 1844 г. СПб., 1844. Ч. 1. С. 277; Адрес-календарь на 1845 г. Ч. 1. С. 232; Адрес-календарь на 1846 г. Ч. 1. С. 202.
(обратно)1236
Селифонтов П. Н. Подробная опись 272 рукописям конца XVI до начала XIX столетий Второго (Шевлягинского) собрания «Линевского архива» с приложениями. СПб., 1892. С. 26, 165–167; Максимович М. Исторический очерк развития Главного Инженерного училища: 1819–1869. СПб., 1869. Приложения. С. 70; Агафонов Н. Казань и казанцы. I. Казань, 1906. С. 26.
(обратно)1237
О Политковском см.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 320.
(обратно)1238
Габаев Г. Опыт краткой хроники родословной русских инженерных войск. СПб., 1907. Приложение III.
(обратно)1239
Шадури В. С. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951. С. 352, 95 и след.
(обратно)1240
Русский архив. 1871. Кн. I. С. 140.
(обратно)1241
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 255, 700, 292.
(обратно)1242
Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1941. Т. 14. С. 116–117.
(обратно)1243
Царское Село: Альманах на 1830 год / Изд. Н. Коншиным и Б<ароном> Розеном. СПб., 1829. — Другое стихотворение — «Счастье» см.: Альциона: Альманах на 1832 год / Изд. бароном Розеном. СПб., 1832.
(обратно)1244
Орлов В. Н. Кюхельбекер в крепостях и ссылке // Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 37.
(обратно)1245
Шадури В. С. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. С. 136–137.
(обратно)1246
Эхо: Литературный альманах. 1830. М., [1830]. С. 11–15 (цензурное разрешение — 17 января 1830 г.).
(обратно)1247
Орлов В. Н. Кюхельбекер в крепостях и ссылке. С. 40–41. Ср.: Воспоминания А. Рыпинского о встречах с Кюхельбекером в Динабургской крепости / Публ. Д. Б. Кацнельсон // Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 515.
(обратно)1248
Сын Отечества и Северный архив. 1829. № 24. С. 241. — Далее перевод Манассеина цитируется по этому изданию.
(обратно)1249
См.: Mickewicz A. Dziela wszystkie. Wroc ł aw etc., MCMLXXII. T. 1, cz. 2: Wiersze 1825–1829 / Opracowaі Czesіaw Zgorzelski. S. 295.
(обратно)1250
Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. С. 292.
(обратно)1251
Левин Ю. Д. М. П. Вронченко и его переводы из Мицкевича // Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973; Доклады советской делегации. М., 1973. С. 436.
(обратно)1252
См.: Левин Ю. Д. 1) Литература декабристского направления: В. К. Кюхельбекер // Шекспир и русская культура / Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.; Л., 1965. С. 150–156; 2) «Макбет» Шекспира в переводе В. К. Кюхельбекера // Памятники культуры: Новые открытия: Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 32–35; 3) Об исторической эволюции принципов перевода // Международные связи русской литературы: Сб. статей / Под ред. акад. М. П. Алексеева. М.; Л., 1963. С. 26–31.
(обратно)1253
Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 2. С. 313.
(обратно)1254
Орлов В. Н. В. К. Кюхельбекер в крепостях и ссылке. С. 39.
(обратно)1255
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 18. 2 марта. С. 143–144.
(обратно)1256
Там же. 1831. № 61. 1 авг. С. 478.
(обратно)1257
Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: В 2 т. Т. I. С. 123–124.
(обратно)1258
Манассеин П. Напоминание // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 32. 23 апр. С. 261 (помета: «8-го марта 1831. М. Кбрчев»).
(обратно)1259
Селифонтов Н. Н. Подробная опись 272 рукописям… «Линевского архива». С. 161.
(обратно)1260
Агафонов Н. Казань и казанцы. I. С. 26.
(обратно)1261
Максимович М. Исторический очерк развития Главного Инженерного училища. Приложение. С. 70.
(обратно)1262
Манассеин П. Листок из альбома П. Г. Сиянова // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 21. 12 марта. С. 167 (помета: «15-го октября 1831. Варшава»). Ср.: Манассеин П. П. Г. Сиянову // Там же. 1834. № 50. 23 июня. С. 399 (помета: 9-го марта 1833).
(обратно)1263
Манассеин П. Славянская песня // Там же. 1834. № 27. 4 апр. С. 215.
(обратно)1264
Там же. 1834. № 57. 18 июля. С. 455.
(обратно)1265
П. М. Альпугара: Испанская баллада // Молва. 1833. Ч. 6. № 155. С. 617; ср.: Адам Мицкевич в русской печати: 1825–1855. М.; Л., 1957. С. 24; Kucharska E. Literatura polska w Rosji w latach 1830–1848. Opole, 1967. S. 62.
(обратно)1266
См.: Манассеин П. П. 1) Фиалка и мак: Басня // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1833. № 104. 30 дек. С. 831; 2) Портрет // Там же. 1834. № 29. 11 апр. С. 231; 3) Муха; Басня // Там же. № 46. 1 июня. С. 367–368; 4) Песнь саперов // Там же. № 57. 18 июля. С. 455 (помета: «13 сентября 1833. Лагерь при кр. Модлине»).
(обратно)1267
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1839. Т. 2. № 4. 29 июля. С. 77.
(обратно)1268
Анализ этой строфы Мицкевича и ее передачи у Пушкина, учитывающий и польскую историографию вопроса, см.: Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 102, 105–107. См. также: Ważyk A. Mickiewicz i wersyfikacja narodowa. Wyd. 2-е. Warszawa, 1954. S. 107–111, 187.
(обратно)1269
Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. С. 102.
(обратно)1270
Грот К. Я. Пушкинский лицей: (1811–1817): Бумаги 1-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб., 1911. С. 63.
(обратно)1271
Пушкин. Полн. собр. соч. 1937. Т. 1. С. 137; Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л., 1959. С. 285 (примеч. Б. В. Томашевского).
(обратно)1272
Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 48.
(обратно)1273
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 106.
(обратно)1274
См.: Сумцов Н. Ф. Пушкин: Исследования. Харьков, 1900. С. 268; Прийма Ф. Я. Пушкин и украинское народно-поэтическое творчество // «…И назовет меня всяк сущий в ней язык…». Ереван, 1976. С. 189; Заславский И. Я. Пушкин и Украина. Киев, 1982. С. 85–86.
(обратно)1275
Томашевский Б. В. Строфика Пушкина. С. 105.
(обратно)1276
Ср.: Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. 4–5. М.; Л., 1930. С. 321. З. Гросбарт замечал по этому поводу, что эти обороты можно счесть и украинизмами, поскольку Мицкевич писал «украинскую балладу» (Grosbart Z. Puszkinowskie przekіady ballad Mickiewicza // Zeszyty naukowe Universitetu Lodzkiego. Lodz, 1965. Seria 1: Nauki humanistyczno-spoleczne. Zeszyt 41: Filologia. S. 95), однако он не принял во внимание, что Пушкин рассматривал «Воеводу» именно как «польскую балладу» (см. выше). Впрочем, далее З. Гросбарт находит «польский колорит» в самой речевой интонации. Более подробно эти вопросы рассмотрены в новейшей работе: Левкович Я. Л. Переводы Пушкина из Мицкевича // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979. Т. 7. С. 159–163. В ней проанализированы и предшествующие работы польских и русских исследователей.
(обратно)1277
Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941. С. 369. — Ср. наблюдения над этими фрагментами: Хорев В. А. Баллады Мицкевича в переводе Пушкина // Литература славянских народов. М.; Л., 1956. Вып. 1: Адам Мицкевич. С. 87.
(обратно)1278
Pigońс St. Źródło jednej przypowieści X. Piorra // Pamiętnik Literacki. 1932. T. 29. S. 485–487. Ср.: Sinko T. Mickiewicz i antyk. Wrocław; Kraków, 1957. S. 367.
(обратно)1279
Московский телеграф. 1827. № 12. С. 367–372.
(обратно)1280
Mickiewicz A. Dzieła. [Warszawa], 1955. T. 3: Utwory dramatyczne; «Сzytelnik». S. 518–519.
(обратно)1281
Московский телеграф. 1827. № 17. Отд. 3. С. 3.
(обратно)1282
См.: Березина В. Г. Мицкевич и «Московский телеграф» // Адам Мицкевич в русской печати. С. 471–479.
(обратно)1283
Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 205–206.
(обратно)1284
Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 334–335.
(обратно)1285
См.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 701.
(обратно)1286
Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 164.
(обратно)1287
Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. С. 273.
(обратно)1288
Пушкин А. С. Медный всадник / Изд. подг. Н. П. Измайлов. Л., 1978. С. 131.
(обратно)1289
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / Изд. подг. И. М. Семенко. М., 1977. С. 81. Ср.: Lednicki W. Pushkin’s Bronse Horseman: The story of a Masterpiece. Berkeley; Los Angeles, 1955. P. 33–34 (здесь приведены важные сведения по историографии проблемы).
(обратно)1290
Kleiner J. Mickiewicz: Dzieje Konrada. Lublin, 1948. T. 2, cz. 1. S. 455.
(обратно)1291
Kubacki W. Palmira i Babylon. Warszawa, 1951. S. 38.
(обратно)1292
Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. С. 376–378; Jak уbiec M. Literatura rosyjska w wykładach Mickiewicza // Kwartalnik Instytutu polsko-radzieckiego. 1 (14). Warszawa, 1956. S. 129.
(обратно)1293
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 140, 468.
(обратно)1294
Указание на это было сделано еще В. Д. Спасовичем (Спасович В. Д. Сочинения. СПб., 1889. Т. 2. С. 234). Анализ последующих полемик по этому вопросу см.: Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы: (1830–1833). Л., 1974. С. 337 и след.
(обратно)1295
Mickiewicz A. Dzieła. T. 3. S. 268, 468.
(обратно)1296
См.: Гаспаров М. Овидий в изгнании // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии; Письма с Понта / Изд. подг. М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров. М., 1978. С. 208.
(обратно)1297
Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. С. 94.
(обратно)1298
Анализ источников о так называемой «могиле Овидия» см.: Формозов А. А. Пушкин и древности: Наблюдения археолога. М., 1979. С. 41–56.
(обратно)1299
О Мицкевиче и Овидии см. в указанной выше монографии Т. Синко (по указателю). Автор приводит к зимним сценам «Дзядов» параллели из Горация (см.: Sinko T. Mickiewicz i antyk. S. 373); об Овидии в этой связи не упоминается.
(обратно)1300
О Пушкине и Овидии см. новейшую работу: Вулих Н. В. Образ Овидия в творчестве Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1972. Л., 1974. С. 66–76 (с указаниями на литературу вопроса).
(обратно)1301
Kubacky W. Z Mickiewiczem na Krymie. Warszawa, 1977. S. 173–179.
(обратно)1302
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Изд. подг. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984. С. 135.
(обратно)1303
Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 215–217.
(обратно)1304
Мицкевич Адам. Сонеты. Л., 1976. С. 104–105.
(обратно)1305
Kleiner J. Mickiewicz: Dzieje Konrada. T. 2, cz. 1. S. 457.
(обратно)1306
Lednicki W. Russia, Poland and the West. New York; London, 1954. P. 128–131.
(обратно)1307
Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1936. Т. 1. С. 69. — Далее цитаты даются по этому изданию с указанием страниц в тексте.
(обратно)1308
О связях Мицкевича и Баратынского см.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. С. 126–135. — Заметим, что гипотеза П. П. Филипповича о Мицкевиче как адресате стихотворения «Не бойся едких осуждений…» вызвала возражение В. Ледницкого, расценившего аргументацию киевского исследователя как искусственную (Lednicki W. Przyjaciele Moskale: Zbiór prac rasycystycznych. Kraków, 1935. S. 227). Ледницкий не предложил позитивного решения проблемы (см. оценку этого спора: Suchanek L. Poeta antropocentrycznego pesymizmu: Twórczość Eugeniusza Boraty ń skiego w oczach polskich badaczy // Ruch Literacki. R. XVII. 1976. Z. 3 (96). S. 180), и современные исследователи Баратынского обычно его возражений не принимают или не учитывают. Между тем они, конечно, справедливы, и гипотеза П. П. Филипповича маловероятна еще и потому, что зиждется на неточном толковании стихотворения. Мы относим его, вслед за семейной традицией Баратынских, к А. Н. Муравьеву (подробная аргументация — в нашей работе «Пушкин в московских литературных кружках 1820-х гг. (Эпиграмма на А. Н. Муравьева)» (в печати)). Новые эпистолярные данные, приведенные Ю. Малишевским (Maliszewski J. О nieznanej korespondencji Iwana Kozłova i Eugeniusza Boratyńskiego z Antonim Odyńcem w latach 1822–1840 // Zeszyty naukowe Wyzszej szkoły pedagogicznej im. powstańców ślaskich w Opolu. Opole, 1981. Seria A: Filologia rosyjska. XX. S. 12–17), чрезвычайно интересны, но требуют внимательного дополнительного анализа, так, встреча Баратынского с Мицкевичем у И. И. Козлова в Петербурге не могла состояться в 1828 г., так как Баратынский на протяжении этого года в столице не был. В статье есть и другие неточности — текстологического и библиографического порядка.
(обратно)1309
Сын отечества и Северный архив. 1829. № 20. С. 373.
(обратно)1310
Вопрос об адресате этого стихотворения, написанного не позднее начала 1825 г., не вполне ясен. В копии Н. Л. Баратынской оно было озаглавлено инициалами «А. С. Г.», которые в первых посмертных изданиях Баратынского были раскрыты как «Александру Сергеевичу Грибоедову». Сомнение в этой атрибуции было выражено в комментариях Е. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой в «Полном собрании стихотворений» Баратынского (Л., 1936. Т. 2. С. 213). До сего времени мы не располагаем никакими данными об общении Баратынского н Грибоедова. В примечании к этому стихотворению в издании: Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л., 1957; (Библиотека поэта, Большая серия) — Е. Н. Купреянова предположила, что «Надпись» относится к А. Ф. Закревской, о которой Баратынский писал Н. В. Путяте в начале марта 1825 г.: «Боссюэт сказал, не помню о какой принцессе, указывая на мертвое ее тело: „La voila telle que la morte nous l’а faite“ <Вот во что превращает нас смерть>. Про нашу царицу можно сказать: „La voilа telle que les passions l’ont faites“ <Вот во что превратили ее страсти>. Ужасно!» (С. 352). Далее следует сравнение с пышной мраморной гробницей. Это сопоставление делает А. Ф. Закревскую наиболее вероятным адресатом стихотворения. Ссылка на Боссюэ имеет в виду его «Надгробную речь Генриэтте-Анне Английской, герцогине Орлеанской» (1670). См.: Oraisons funèbres de Bossuet, évêque de Meaux. Paris, 1814. P. 77.
(обратно)1311
Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 265.
(обратно)1312
Любопытен в этой связи упрек Пушкина Мицкевичу за неточность описания дня, предшествовавшего наводнению: «Снегу не было — Нева не была покрыта льдом» (Пушкин. Полн. собр. соч. 1948. Т. 5. С. 150). Польские исследователи замечали, что упрек Пушкина не вполне справедлив, ибо Олешкевич смотрит в воду и промеряет ее глубину, стоя на берегу, стало быть, не может быть и речи о сплошном ледяном покрове (Gomolicki L. Mickiewicz wśród rosjan. Warszawa, 1950. S. 24). В том же месте стихотворения, однако, идет речь и о льде (ср. ст. 36: «кто же плавает по льду?» («któź pływa po lodzie?»); или ст. 43: «свет фонаря, отраженный льдом» («odblask latarki odbity od lodu»)). Указывалось также, что Мицкевич, приехавший в Петербург 8 или 9 ноября, т. е. днем или двумя позднее наводнения, не видел реальной картины; в это время он не мог видеть и заснеженной равнины, описанной в «Дороге в Россию», где, видимо, отразились впечатления поездки в Одессу (Fiszman S. Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warsawa, 1946. S. 25–27). Все это справедливо, однако во всех приведенных описаниях нет надобности искать полной пейзажной аутентичности, ибо пейзаж здесь имеет дополнительное символическое или аллегорическое значение. Это относится и к замечаниям Пушкина, которые, конечно, полемичны: они направлены именно против прямых пейзажных аллегорий, деформировавших исторические и географические реалии.
(обратно)1313
Jakobson R. Pushkin and his sculptural myth. The Наgue, 1975.
(обратно)1314
Лермонтов M. Ю. Соч.: В 6 т. M.; Л., 1957. T. 6. С. 410. — Замечания о семантике образа см.: Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985. С. 21–22. — Вопрос о генезисе образа автором не затронут.
(обратно)1315
См.: Borsukiewicz J. Mickiewicz we wczesnej twórczósci Lermontowa // Przegl ą d Human-istyczny. 1972. T. 5. S. 68–76.
(обратно)1316
Печатается по изданию: Литературная газета. 1992. № 46. 11 ноября. С. 6.
(обратно)1317
Печатается по изданию: Культурологические записки. Вып. 1: Конец столетия. Предварительные итоги. М., 1993. С. 207–225.
(обратно)1318
Санкт-Петербургские ведомости, 1992, 19 августа. С. 4.
(обратно)1319
История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Госполитиздат, 1950. С. 44.
(обратно)1320
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. III. (M.; Л.), 1948. С. 379.
(обратно)1321
Пушкин А. С. Письма последних лет (1834–1837). Л., 1969. С. 156. (Подлинник по-французски).
(обратно)1322
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. T. XI. 1949. С. 223.
(обратно)1323
Там же. T. XII. С. 36.
(обратно)1324
Hекрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15 т. Т. З. Л., 1982. С. 11.
(обратно)1325
Литературная газета. 1992. 8 июля. С. 11.
(обратно)1326
Цит. по: Плутник А. Он приходил — это значительнее того, что он уходит // Известия. 1991. 24 декабря. С. 3.
(обратно)1327
Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 19 августа. С. 4.
(обратно)1328
Литературная газета. 1991. 8 декабря. С. 1.
(обратно)1329
Известия. 1991. 20 декабря. С. 1.
(обратно)1330
Бовин А. От перестройки к революции. — Известия, 1991, 10 сентября. С. I.
(обратно)1331
Померанец Г. Надгробное слово империи. — Литературная газета, 1991, 18 декабря. С. З.
(обратно)1332
Литературная газета. 1992. 8 августа. С. 3.
(обратно)1333
Бетанели Н. Ни одна из политических сил не имеет решающего перевеса // Известия. 1992. 25 августа. С. 2.
(обратно)1334
Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 17 марта. С. 2.
(обратно)1335
Литературная газета. 1992. 8 июля. С. 2.
(обратно)1336
Известия. 1991. 11 декабря. С. 2.
(обратно)1337
Там же. См.: Рабочая трибуна. 1992. 5 июня.
(обратно)1338
Там же. С. 2.
(обратно)1339
Цит. по: Комсомольская правда. 1992. 29 мая.
(обратно)1340
Печатается по изданию: Звезда. 1999. № 6. С. 142–159.
(обратно)1341
Звезда. 1998. № 2. С. 209. Далее ссылки в тексте с указанием страниц.
(обратно)1342
См. их перечень с комментариями в ст.: Цявловский М. А. Источники текстов лицейских стихотворений // А. С. Пушкин. Стихотворения лицейских лет. 1813–1817. СПб.: Наука, 1994. С. 434–460.
(обратно)1343
А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 9 т. / Под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского. М.: Academia, 1935. Т. 1. С. 462.
(обратно)1344
А. С. Пушкин. Избранная лирика / Ред., примеч. и вступит. статья Д. Д. Благого. М.: Художественная литература, 1935. С. 48; рецензия: Н. Степанов // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 2. М.; Л., 1936. С. 431.
(обратно)1345
А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 6 т. / Под общ. ред. М. А. Цявловского. М.: Academia, 1936. Т. 1. С. 691.
(обратно)1346
А. С. Пушкин. Поли. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. Изд-во АН СССР. Т. 1. С. 514 (прим. Б. В. Томашевского).
(обратно)1347
А. С. Пушкин. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература. Т. 1. С. 659 (прим. Т. Г. Цявловской).
(обратно)1348
М. А. Цявловский, сост. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991. С. 135 и примеч. 89.
(обратно)1349
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 20. Сб. научных трудов. Л., 1986. С. 37–39.
(обратно)1350
Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 375.
(обратно)1351
См.: Минерва. 1807. Ч. 6. С. 110–119; Любитель словесности. 1806. Кн. 3. С. 209–210; Вестник Европы. 1806. № 14. С. 180–183. О распространении этой темы в России см.: Р. М. Горохова. Образ Тассо в русской романтической литературе // От романтизма к реализму. Л., 1978. С. 122 и в нашей книге: Лирика пушкинской поры. Элегическая школа. СПб., 1994. С. 217 и след.
(обратно)1352
А. С. Пушкин. Стихотворения лицейских лет: (1813–1817). СПб., 1994. С. 19, 523–524 (комм.).
(обратно)1353
Любитель словесности. 1806. Кн. 5. С. 118. Ср. в нашей статье: Литературная школа Лермонтова / Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 72 и след.
(обратно)1354
Остафьевский архив. Т. II. СПб., 1899. С. 363.
(обратно)1355
См. об этом: Т. Г. Цявловская. Муза пламенной сатиры // Пушкин на юге. Кишинев, 1961. Т. 2. С. 147–198.
(обратно)1356
См.: Д. Д. Благой. Смех Пушкина // Д. Д. Благой. От Кантемира до наших дней. М., 1972. Т. 1. С. 270–271.
(обратно)1357
К. Ф. Рылеев. Полн. собр. стих. Л., 1934. С. 200.
(обратно)1358
Русский архив. 1866. № 3. С. 475.
(обратно)1359
Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 309 (№ 1258).
(обратно)1360
Ср. русский перевод Б. Ярхо: Римская сатира. М., 1957. С. 125.
(обратно)1361
См. об этом: Ю. Н. Тынянов. Ода его сиятельству графу Хвостову // Пушкинист. IV. М.; Пг., 1922. С. 74–92.
(обратно)1362
Остафьевский архив. Т. V. Вып. I. СПб., 1909. С. 59.
(обратно)1363
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 133.
(обратно)1364
Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 108–116.
(обратно)1365
Российская государственная библиотека (РГБ), фонд Подолинских.
(обратно)1366
РГИА, ф. 67, оп. 1, № 31, лл. 36 об., 82 об.
(обратно)1367
Русская старина, 1885, № 1. С. 74.
(обратно)1368
Краткое воспоминание о встрече — Русская старина, 1885. С. 78.
(обратно)1369
Опубликована в переработанном виде: Русская старина, 1886. № 7.
(обратно)1370
Там же. С. 200.
(обратно)1371
Панаев И. И. Литературные воспоминания. Ред., вступ. ст. и примеч. И. Ямпольского. М., 1950. С. 354–355.
(обратно)1372
Московский телеграф, 1827, № 21. С. 83.
(обратно)1373
См.: Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951. С. 488.
(обратно)1374
Пушкин в воспоминаниях современников / Сост. и примеч. В. Э. Вацуро и др. М., 1985, т. II. С. 147.
(обратно)1375
Северная пчела, 1827, 18 июня.
(обратно)1376
Литературное наследство, Т. 58. С. 68.
(обратно)1377
Послание его «Щастному» с концовкой: «Ты поэт и друг поэта» датировано 11 декабря 1827; не издано, РГБ, ф. 232, карт. 1, ед. хр. 91, л. 2 об.
(обратно)1378
Невский альманах на 1829 г., СПб., 1828.
(обратно)1379
Мицкевич А. Сонеты, Л., 1976. С.322.
(обратно)1380
Копия перевода глав 1–2-й — в архиве Подолинского: РГБ, ф. 232, карт. 2, ед. хр. 18.
(обратно)1381
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. II. С. 133; Русская старина, 1885, № 1. С. 82.
(обратно)1382
Оба — Подснежник, СПб., 1829; Пушкин в воспоминаниях. 1985. Т. I. С. 420.
(обратно)1383
Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 27–80, 330, 345–47, 350, 356.
(обратно)1384
Эйхенбаум Б. Лермонтов. Л., 1924. С. 88–93.
(обратно)1385
Литературное наследство. Т. 16/18. С. 703.
(обратно)1386
Галатея, 1829, № 10, с. 217; ср. также: Северная пчела, 1829, 16 февраля.
(обратно)1387
Вестник Европы, 1829, № 6/7.
(обратно)1388
Литературная газета, 1830, 1 апреля; то же см.: Дельвиг А. А. Сочинения / Изд. подг. В. Э. Вацуро. Л., 1986. С. 225–29.
(обратно)1389
Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 1–16, М.; Л., 1937–49. Т. XIV, 162.
(обратно)1390
Пушкин в воспоминаниях современников. Т. II. С. 136; Поэты 1820–1830-х годов. Т. 2, Л., 1972. С. 282–83.
(обратно)1391
Сын отечества и Северный архив, 1830, № 36; Галатея, 1830, № 14; Вестник Европы, 1830, № 6; <О. М. Сомов> — Северные Цветы на 1831 г., СПб., 1830; N. N. — Московский вестник, 1830, № 7; Северная пчела, 1831, 12 марта.
(обратно)1392
Вацуро В. Э. Северные цветы. История альманаха Дельвига — Пушкина, М., 1978. С. 203, 271; поздний, почти восторженный отзыв его о П.: «Сын отечества», 1847, № 6.
(обратно)1393
Опубликована: Русская старина, 1885, № 1.
(обратно)1394
Невский альманах на 1831 г., СПб.
(обратно)1395
Альциона… на 1831 г., СПб.
(обратно)1396
Невский альманах на 1829 г.
(обратно)1397
Русская старина, 1885, № 1. С. 82.
(обратно)1398
Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 399.
(обратно)1399
Там же.
(обратно)1400
Отечественные записки, 1855, № 12 и др.
(обратно)1401
Опубликовано: Русская старина, 1885, № 1.
(обратно)1402
Русская старина, 1884, № 5.
(обратно)1403
ИРЛИ (ф. 265, оп. 2, № 2064; запрещена цензурой; отрывок опубликован в книге: Козлов И., Подолинский А. Стихотворения. Л., 1936.
(обратно)1404
Письмо от 18 марта 1884 — Русская старина, 1886, № 7. С. 199.
(обратно)1405
Опубликовано, как и др. стихотворения конца 1860 — начала 1880-х гг., в Русской старине: 1885, № 1.
(обратно)1406
Русская старина, 1886, № 7, с. 196.
(обратно)1407
Дамский журнал, 1825, № 17.
(обратно)1408
Московский телеграф, 1826, № 5.
(обратно)1409
Там же, № 16.
(обратно)1410
Письмо М. П. Погодину и С. П. Шевырёву 8 июля 1828 — Литературное наследство, т. 16/18, с. 699.
(обратно)1411
Шевырёв С. Ответы. <2>. Барону Р. — Москвитянин, 1848, № 1. С. 109.
(обратно)1412
10 апр. 1829 — РГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 397, л. 1–1 об.
(обратно)1413
Северные цветы на 1830, с. 71.
(обратно)1414
Из письма к И. И. Дмитриеву 23 декабря 1833 — Русский архив, 1868, № 4–5, стб. 636.
(обратно)1415
Русский архив, 1878, кн. 2, с. 48.
(обратно)1416
Московский телеграф, 1826, № 15.
(обратно)1417
Московский телеграф, 1828, № 16.
(обратно)1418
Северные цветы на 1832; одобрено Пушкиным и Н. И. Гнедичем — см.: Русский архив, 1878, кн. 2, с. 48.
(обратно)1419
Сын отечества, 1843, № 3.
(обратно)1420
Литературная газета, 1830, 2 декабря; др., более жесткий, иронический отклик см.: «Телескоп», 1831, № 1.
(обратно)1421
См.: РНБ, ф. 831, Цензурные материалы, т. 5, л. 170.
(обратно)1422
Литературные прибавления к Русскому инвалиду, 1834, № 1.
(обратно)1423
См.: Пушкин А. С. ПCС, М.; Л., 1935, т. VII, с. 132–33; примеч. Г. О. Винокура).
(обратно)1424
Русский архив, 1878, кн. 2, с. 47.
(обратно)1425
Северная пчела, 1832, 7 апреля.
(обратно)1426
Северная пчела, 1835, № 38, 18 февраля.
(обратно)1427
Сын отечества, 1832, ч. 148
(обратно)1428
Русский вестник, 1871, № 9, с. 265–72; № 10, с. 606, 636; № 11, с. 142–49, 166.
(обратно)1429
Библиотека для чтения, 1834, т. 1; см. об этом: Никитенко А. В. Дневник, т. 1–2, М., 1955–56, II, 132; весьма положительный отклик на трагедию, с общей высокой оценкой творчества Р. см.: Северная пчела, 1834, 11, 12 январь; подписано «Н. К.» (Кукольник?).
(обратно)1430
См.: Никитенко А. В. Дневник, т. 1–3, М., 1955–56, II, 202.
(обратно)1431
Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 1–22, СПб., 1888–1910, IV, 14–15.
(обратно)1432
Русский архив, 1868, № 4–5, с. 636.
(обратно)1433
Русская старина, 1903, № 8, с. 455.
(обратно)1434
Никитенко А. В. Дневник, т. 1–3, М., 1955–56, I, с. 132.
(обратно)1435
См.: История русского драматического театра, т. 1–7, М., 1978–87, т. 2; ср. Б<арон> Р. Драматические судьбы князей Курбских. — Северная пчела, 1858, 16 января.
(обратно)1436
XII, с. 323; ср. также: Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1–2, М., 1985. II, 279–281.
(обратно)1437
См. в ст.: Иванов М. Музыкальные наброски. — Новое время, 1900, 18 декабря.
(обратно)1438
Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания, М., 1972.
(обратно)1439
Сын отечества, 1847, № 3.
(обратно)1440
Литературная газета, 1846, № 1.
(обратно)1441
Русский архив, 1872, № 9, стб. 1814–15.
(обратно)1442
Панаев И. И. Литературные воспоминания, М., 1950, ук.; ср. отзывы Р. о Кукольнике: Русская старина, 1901, № 2, с. 392.
(обратно)1443
Литературная газета, 1842, № 13.
(обратно)1444
Русский архив, 1883, кн. II, с. XXXIX.
(обратно)1445
Новое время, 1900, № (31) 12, № 8913.
(обратно)1446
Письма к Кони — Русский архив, 1911, № 11.
(обратно)1447
См.: Масальский; Зотов В. Р. Из воспоминаний — Исторический вестник, 1890, № 6, с. 558; Грот и Плетнёв, ук.
(обратно)1448
См. письма Р. к Булгарину 1848–53 гг. — Русская старина, 1901, № 2.
(обратно)1449
Сын отечества, 1848, № 4.
(обратно)1450
Сын отечества, 1843, № 3; см. также: Сын отечества, 1849, № 1, отд. VI.
(обратно)1451
Северная пчела, 1846, 14 авг., с. 712.
(обратно)1452
Сын отечества, 1847, № 6, с. 3–40.
(обратно)1453
«Русская старина», 1911, № 3.
(обратно)1454
Библиография составлена О. В. Миллер, с дополнениями Т. Ф. Селезневой.
(обратно)1455
В указатель не вошли имена, упоминающиеся во вступительных статьях и в Библиографии трудов В. Э. Вацуро.
(обратно)
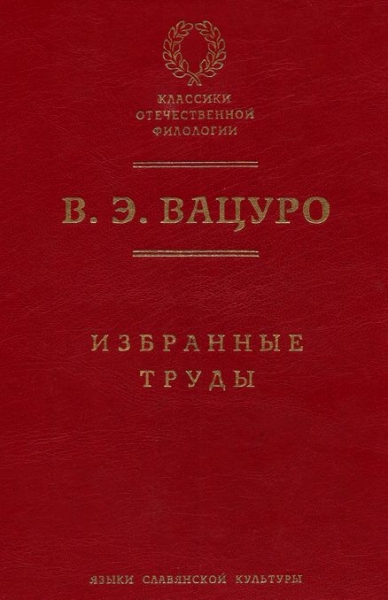
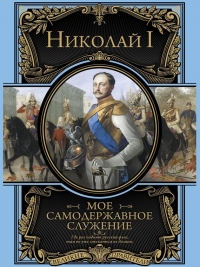



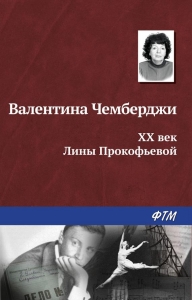

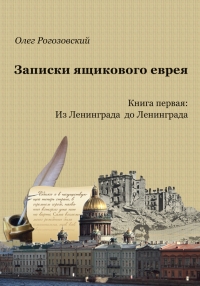


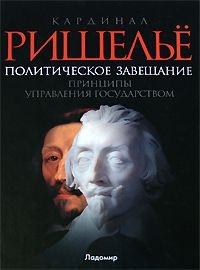
Комментарии к книге «Избранные труды», Вадим Эразмович Вацуро
Всего 0 комментариев