Лео Бретхольц и Майкл Олескер Прыжок в темноту Семь лет бегства по военной Европе
К РОССИЙСКОМУ ЧИТАТЕЛЮ
Получив эту книгу в рукописи, я читал ее всю ночь до утра. Автор и одновременно герой книги — человек легендарный. Имя его хорошо известно в Австрии, а передачи австрийского радио, в которых он участвовал, слушала вся страна. Юный Лео Бретхольц в 1938 году стоял на венской улице среди толпы, встречающей Гитлера. В тот момент он еще не догадывался о том, что его мать и сестры будут сожжены, как и большинство многочисленных родственников. А его самого ждут шесть лет отчаянных побегов из тюрем и концлагерей, из поездов, везущих на смерть. И, наконец, участие во французском Сопротивлении.
Эта книга о том, как быстро толпы людей поддаются тоталитарной государственной пропаганде и готовы совершить поступки, которые в здравом уме им бы самим показались ужасающими преступлениями.
Но в то же время — эта книга и о других людях. О тех, кто не поддался опьянению толпы и, рискуя собственной жизнью, спасал таких, как Лео Бретхольц, обреченных на смерть.
Книга эта и о самом Лео. О мужественном человеке, которому, на первый взгляд, поразительно повезло остаться в живых, хотя имя его значится в списке уничтоженных нацистами. Однако везения этого никогда не случилось бы, если бы он, как многие тысячи других людей, поддался отчаянию и, опустив руки, прекратил борьбу за право личного выбора своей судьбы. Из этой борьбы с, казалось бы, всемогущей государственной машиной по уничтожению людей Лео Бретхольц вышел победителем.
Рекомендуя книгу российскому читателю, я не могу не выразить благодарность ее переводчикам: Гизеле Карнер и Екатерине Пустильниковой, а также издательству ОГИ, подготовившему ее к печати.
Уверен, что книгу эту ждет большая читательская судьба.
Валерий Воскобойников, лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культурыДорон Рабинович ПРЕДИСЛОВИЕ
Жертвы не понимали, что с ними произошло. Вена — город, в котором они чувствовали себя как дома, — вдруг стала для них ловушкой. Внезапно они оказались в изоляции и вне закона.
Лео Бретхольц рассказывает, как, несмотря на всю безнадежность ситуации, ему снова и снова удавалось избегать уничтожения. После прочтения его истории нельзя не ощутить невежество или цинизм тех, кто продолжает прятаться за легенду о полной невиновности Австрии. Легенду о том, что альпийское государство было всего лишь первой жертвой Гитлера. Лео Бретхольц описывает, как в короткий срок многие окружающие его люди из друзей и соседей превратились в помощников палачей и исполнителей Преступления. Автор также показывает, как сильна была в городе на Дунае ненависть к евреям еще до так называемого аншлюса[1].
Изучение документов подтверждает все то, о чем идет речь у Лео Бретхольца: с каким рвением, с какой поспешностью и педантизмом в Вене 1938 года принимались и осуществлялись антиеврейские указы, законы и мероприятия. Преступление стало общественным явлением, о развитии которого с ликованием сообщали газеты. Празднование его успехов сопровождалось грабежами, избиениями и погромами с убийствами, поджогами и изнасилованиями, как, например, в ноябре 1938 года.
Без попустительства и поддержки населения массовые убийства были бы невозможны. Частью злодеяния было лишение жертв любой возможности объединиться. Их должны были предавать и выдавать. Они были абсолютно беззащитны перед Преступлением. Национал-социалисты могли в «еврейском вопросе» не опасаться широкой внутриавстрийской оппозиции. Напротив, бюрократия могла рассчитывать на огромное число своих сторонников, а также на тех, кто обогатился за счет жертв. Однако такого удивительного рвения не ожидал никто. Энтузиазм венских антисемитов показался национал-социалистам столь чрезмерным, что в «Völkischer Beobachter» («Народном наблюдателе») от 26 апреля 1938 года австрийцы были призваны к спокойствию и соблюдению порядка:
«Прежде всего, и это нельзя забывать, Германия — это правовое государство. Это означает, что в нашем государстве ничего не делается без законного на то основания. Никто не имеет право самовольно проявлять инициативу в решении еврейского вопроса. Никому не позволено организовывать погромы, это касается и госпожи Гинтерхубер по отношению к госпоже Саре Кон в третьем дворе, мезонин возле колонки!.. Нельзя проявлять нетерпение: бумажная волокита, правда, иногда утомительна, но это позволяет спокойно, не нарушая порядка, добиться успеха. Гарантия тому — опыт, приобретенный нами в течение последних пяти лет.»
Народный наблюдатель, 26.4.1938Только одиночки предлагали помощь жертвам. Тем важнее сохранить память об этих людях, исключительных личностях и героях. Мы находим рассказы о них у Лео Бретхольца, который никого из них не забыл.
Так, когда речь идет о людях из Швейцарии, Люксембурга, Бельгии или Франции, подкупает то, что в воспоминаниях Лео Бретхольца нет места ни затаенной обиде, ни попыткам что-нибудь приукрасить. Мы узнаем о равнодушии и враждебности многих, кто вставал на пути спасающих свою жизнь бегством, о тех, кто отказывал им в убежище. Но одновременно мы читаем о тех людях в Западной Европе, кто принимал беженцев, хотя тем самым рисковал собственной жизнью. Все изложенное так живо, что, хотя в нем нет ни слова о современных дебатах, оно невольно наводит на мысли о сегодняшней ситуации. Чтобы не быть превратно понятым: Лео Бретхольц не подталкивает нас к надуманным сравнениям и связям. Напротив. Точность и тонкость в выборе каждого слова — отличительная черта автора, делающая его историю особенно правдивой. Здесь речь идет не только о массовых убийствах (об Общем и Целом), но и о Малом и Хрупком: об одиночках, которые собственными усилиями пытались избежать уничтожения.
Эта книга захватывает. Она переносит нас в национал-социалистическую Вену, проводит нас сквозь Европу тридцатых и сороковых годов. Мы следуем за Лео Бретхольцем, когда он, минуя бюрократические сети, без бумаг, отдавая себя в руки проводникам, пересекает границы, переплывает широкую реку и преодолевает горы. Он выпрыгивает из поезда, идущего в Аушвиц, и, когда он в мельчайших подробностях, не преуменьшая мерзость и смрад, описывает, на что он вынужден был пойти, чтобы вырваться из вагона, у нас захватывает дух. Становится ясным, какая смертельная опасность витала тогда в воздухе Европы, какой ужас охватывал жертв, хотя они не могли представить себе в полной мере все то, что знаем мы сегодня о концентрационных лагерях и газовых камерах.
Описание одного спасения не позволяет, однако, забыть тех, кто погиб. Лео Бретхольц называет имена убитых, и его история показывает, что и сам он был уже обречен и лишь благодаря чистой случайности ему удалось спастись.
Майкл Олескер ПРЕДИСЛОВИЕ
В пасмурный зимний день, когда я встретился пообедать с Лео Бретхольцем, он показал мне извещение о своей смерти. Лео был жив, но его имя стояло в списке тех, кто был обречен сесть в немецкий товарный поезд № 42, следовавший из лагеря для интернированных в Дранси (Франция) в концентрационный лагерь в Освенциме, называемом также Аушвиц (Польша).
Немцы в своих записях были педантичны, но и они иногда допускали ошибки. Холодным ветреным утром 6 ноября 1942 года тысяча евреев покинула Дранси. Из них семьсот семьдесят три человека были уничтожены: часть умерли в дороге, остальные — по приезде в Аушвиц, в газовых камерах. Сто сорок пять мужчин и восемьдесят две женщины были использованы на принудительных работах. Из них выжили только четверо мужчин. Таковы цифры самих нацистов. Имя Лео стояло в числе не выживших.
В тот зимний день он протянул мне через стол книгу Le Memorial de la deportation des Juifs de France, изданную в 1978 году. Хроника опустошительной арифметики холокоста, берущая начало на вокзале в Дранси. Там стоит фамилия Лео, дата его рождения и место рождения — Вена. В списках он значится между Мартой Брайтенфельд, проживавшей прежде в Бинфельде, и Абрамом Броноффым — из Новогорека. Однако два факта оказались неверными: фамилия Лео, написанная с ошибкой — «Брехольц», и факт его смерти.
— Это был день, — сказал он своим приятным голосом, — в который я должен был умереть. И одновременно день, когда я вновь родился.
Лео Бретхольц, коренастый седовласый мужчина, более шести лет своей юности вынужден был потратить на то, чтобы остаться в живых, избежать грозящего евреям истребления.
Угроза уничтожения преследовала его все эти годы. В 1942 году он был задержан в Швейцарии и доставлен назад во Францию, где уже началась «хореография истребления». В 1940 году нацисты намеревались просто выдворить немецких евреев во Францию. Правительство Виши, созданное маршалом Филиппом Петеном и находящееся под контролем Германии, а потому всячески старающееся ей угодить, пошло дальше. Оно зарегистрировало всех французских евреев. На их военных продовольственных карточках ставилась пометка Juif, что превращало их в доступную мишень для антисемитских нападок. Также оно приняло законы, запрещающие евреям заниматься рядом профессий. Позднее оно же заключило иностранных евреев в лагеря. Это было началом конца.
Лео жил в Вене, когда в марте 1938 года Гитлер вошел в город и четверть миллиона людей с буйным восторгом встретили его. Вскоре последовал аншлюс — присоединение родины Гитлера к Третьему рейху. И так же быстро наступила власть беззакония.
Осенью того же года мать Лео настояла, чтобы он, ее единственный сын, бежал. Запах крови, казалось, висел в воздухе Вены. До конца войны значительная часть персонала всех лагерей смерти и концлагерей, созданных нацистами, была из крошечной Австрии. Так, четыре пятых всего штата Адольфа Эйхмана, ведавшего транспортировкой евреев в концентрационные лагеря, были выходцами из Австрии. Да и сама маленькая Австрия отправила в лагеря смерти шестьдесят пять тысяч евреев.
Лео предпринял ряд отчаянных попыток побега. Для того чтобы бежать из Германии, он морозной ночью полностью одетый переплыл Сауэр. Шесть лет спустя он, потеряв сознание, упал на одной из улиц в Лиможе (Франция) и очнулся под присмотром монахини. Он прополз под колючей проволокой, чтобы бежать из французского лагеря Сен-Сиприен, пешком преодолел Альпы. Его ноги кровоточили и были так обморожены, что носки можно было снять только вместе с кожей. И все же он достиг швейцарской границы, где надеялся обрести свободу, однако был задержан и выслан назад. Он скрывался от жандармов на чердаке дома в Пиренейских горах, прятался в закутке прямо над охраной в лагере для интернированных возле Ривзальта. Однажды утром его посадили в товарный поезд, направляющийся в Аушвиц, где он был бы уничтожен. И он выпрыгнул из поезда в темноту французской ночи. Его подобрали деревенские священники, затем он был арестован французской жандармерией и снова бежал. Его посадили в тюрьму, где он был жестоко избит охраной. На глазах вооруженных офицеров он вновь бежал из поезда. Позднее примкнул к французскому движению Сопротивления. Лео находился во Франции, когда она была освобождена. С марта 1942 года по июль 1944-го — за время капитуляции и сотрудничества французской власти с Германией — из Франции (как вклад в немецкое «окончательное решение еврейского вопроса») было депортировано более семидесяти пяти тысяч евреев. Из них выжило лишь две тысячи пятьсот. Среди погибших были две тысячи детей младше шести лет, шесть тысяч младше тринадцати и девять тысяч пожилых людей старше шестидесяти. Самой старшей было девяносто пять лет, а самым маленьким — несколько дней. Немцы даже изменяли свои военные планы, чтобы иметь возможность осуществлять систематические убийства: поезда, предназначенные для транспортировки немецких солдат, перевозили евреев в лагеря.
То, что Лео все это пережил, — для него и дар судьбы, и неизбежность.
В 1947 году Лео Бретхольц приехал в Америку, поселился в Балтиморе, обзавелся семьей и четырнадцать лет не говорил ни слова о войне. Ему хотелось жить полноценной жизнью, но прошлое не отпускало его. Он принадлежит к тому травмированному войной поколению, которое, хотя и выжило, не смогло справиться с ужасом пережитого. Теперь, когда время безжалостно требует свою дань, эти люди чувствуют себя обязанными сказать свое последнее слово.
— Забыть или ничего не сказать о том, что происходило, — сказал Лео в тот день во время обеда, — означает, что нас заставили замолчать, а это как раз то, чего хотел Гитлер.
Через тридцать лет после войны я, тогда сотрудник газеты, встретился в Балтиморе с Александром Бернфесом, который выжил в бойне Варшавского гетто, так как был вывезен оттуда благодаря польскому подполью. Немцы сняли множество фильмов, ежедневно педантично перенося на пленку все происходящее в этом гетто. Бернфес объединил эти фильмы в один. В Америке этот фильм еще не демонстрировался. Лишь немногие из нас посмотрели эти старые кадры, видели детей с направленными им в спины прикладами, стариков, чьи бороды поджигали смеющиеся солдаты. Маленькую девочку, обнимающую своего младшего братишку, чье лицо напоминало череп, обтянутый кожей. Трупы, лежащие повсюду на улицах и равнодушно бросаемые в телеги. Людей, выпрыгивающих из горящих зданий и обороняющихся кухонными ножами от танков и бомб.
Как могло произойти, что мы в благополучной Америке, через тридцать лет после войны, так мало знали об этом варварстве?
Год спустя я присутствовал в зале судебных заседаний в Балтиморе на процессе, в ходе которого американское правосудие пыталось депортировать некоего человека по имени Карлис Детлавс. Он обвинялся в том, что по поручению нацистов истязал и убивал латвийских евреев. Свидетелем выступал израильский гражданин Абрам Либчим. Он подтвердил, что видел, как Детлавс хладнокровно расстреливал людей на улицах Латвии.
— И когда началась стрельба, — давал показания Либчим, — люди начали убегать и кричать… Многие падали. Молодым, кто мог бежать быстрее, удавалось спастись. Большинству пожилых людей это не удалось.
Он посмотрел на Детлавса и засвидетельствовал, что тот держал в руках пистолет «и стрелял. Несколько раз. Он целился в людей впереди… Я видел, как он стрелял, и я видел, как люди падали».
При перекрестном допросе адвокат Детлавса спросил Либчима:
— Сколько лет было мужчине, которого вы видели, когда он расстреливал людей?
— Ну, примерно тридцать, — ответил Либчим. — Больше тридцати.
— Какого он был роста?
— Среднего роста. И полный.
— Назовите его точный рост в сантиметрах.
— Вы что, полагаете, что я стоял там и его измерял? — ответил Либчим в отчаянии. — В предвидении того, что однажды я перееду в Израиль, а много лет спустя буду давать показания в американском суде? Вы считаете, что у меня было время стоять там и его измерять?
— Какого цвета были у него глаза? — настаивал адвокат Детлавса. — Вы стояли достаточно близко, чтобы это увидеть?
— Вы думаете, я его рассматривал? — парировал Либчим.
Наконец, когда мир был готов выслушать его историю, он был высмеян в этом зале закона.
— Неужели вы полагаете, что я мог тогда представить себе, что выживу и тридцать лет спустя приеду в Америку?
Шатаясь, я вышел из зала. Я представлял себе все его отчаяние и ярость. Как много есть таких, как Либчим, которые набрались наконец мужества выступить открыто только для того, чтобы обнаружить, что истории их спасения поставлены под сомнение?
Это был 1977 год. Время у нас истекало.
В том же году я познакомился с Лео. У него был книжный магазин в центре Балтимора. Мягкий, вежливый, определенно с достоинством человек, он никогда не говорил о войне. Мы разговаривали о книгах и политике.
Однажды в воскресенье я был на торжественной церемонии у памятника холокосту в Балтиморе и там вновь увидел Лео. Мемориальное сооружение казалось нам священным местом под открытым небом. Мы стояли далеко позади, в толпе из сотен людей, и тут Лео молча вынул из кармана рубашки желтую еврейскую звезду. Он носил ее в Дранси за колючей проволокой.
В течение следующих двадцати лет Лео медленно, по кусочкам, рассказывал мне свою историю. Он показывал мне вещи, сохранившиеся у него с войны: удостоверения личности, записные книжки, календари, неразборчивые записи из тюрьмы, старые письма и фотографии — все фрагменты истории, терпеливо ожидавшей своего написания.
Отзвуки холокоста вновь и вновь возвращаются к нам. Более полувека назад появилось «окончательное решение еврейского вопроса». Сегодня подобное явление тоже возникает в различных частях мира, но уже как «этническая чистка». В начале войны Лео Бретхольц искал спасения в якобы нейтральной Швейцарии, но, задержанный пограничниками, был отправлен назад во Францию Виши и оттуда в Аушвиц. Сегодня, внимательно рассматривая действия Швейцарии во время войны, мы видим нацию, сделавшую капитал на отчаянии людей. Во время войны евреи пытались скрыть свою национальность, чтобы избежать уничтожения. Сегодня министром иностранных дел США стала Мадлен Олбрайт, которая только после выборов открыла еврейские корни своей семьи и ее историю в нацистских концлагерях.
Более чем через пятьдесят лет после окончания войны мы начинаем понимать, что нельзя забывать тех, кто погиб. Но и акты спасения нам необходимо помнить и уважать.
ПРОЛОГ
Спустя годы мы раскрываем такие тайны…
Зимним утром, когда хоронили Макса Бретхольца, унесшего с собой так много тайн, в нашей маленькой квартире собралась семья, чтобы утешить мою мать. В нашей семье, однако, одних утешений было недостаточно. Такое событие требовало особого драматизма, извержения чувств родственниками, которые были актерами-любителями в еврейском театре и, казалось, играли перед воображаемой публикой. Спустя семьдесят лет это — самое яркое воспоминание детства, которое у меня осталось.
Это — и прошептанные слова, достигшие многих ушей, но только не моих. То был февраль 1930 года, восемь лет до того, как Гитлер вошел в Вену; мне еще не было девяти лет. Мой дядя Давид Фишман по прозвищу Швитцер[2], который так же легко потел, как другие дышат, наклонился ко мне, чтобы что-то сказать.
— Твой отец… — начал он, но конец сообщения был заглушен моей тетей, которая вела себя как в сцене из спектакля.
— Мой брат! — взывала она театрально. — Мой брат!
— Твой отец… — начал снова дядя Давид. Он нуждался в ком-нибудь, с кем он мог бы поговорить, так как обычно никто из семьи не хотел его слушать. — Твой отец…
Когда я видел своего отца последний раз, лежащим при смерти на больничной койке, его лицо было как пожелтевший пергамент, как свитки Мертвого моря. Уже с 39 лет была у Макса Бретхольца кровоточащая язва желудка. Он зарабатывал деньги, сидя допоздна за швейной машиной в нашей маленькой кухне в Вене. Отец был выше моей матери почти на две головы. На своей свадебной фотографии они выглядят одного роста, хотя он сидит, а она стоит.
— Ему необходимо учить иврит, — сказал отец маме, когда я видел его последний раз.
При этом он думал о путешествии в Палестину, полагая, что однажды мы его совершим. Он не был религиозен и никогда не брал меня с собой в синагогу. Уже в 1930 году, еще до Гитлера, он рассматривал Палестину как единственное надежное будущее для евреев. Итак, отец распорядился:
— Учи иврит.
В это последнее посещение я почувствовал, что он хотел просто поговорить со мной, а не высказать «последнюю волю», которую после его смерти необходимо исполнить.
Его голос был слаб. Я вспоминаю, как он в последний год жизни мучился из-за язвенных болей и ел только диетическую пищу. Мне вспоминается также, что он курил сигареты и посылал меня за ними в табачный киоск. Я вспоминаю его в кофейне, где он после работы за швейной машиной играл в домино или карты. Как и его сестра Мина, он был актером Общества еврейского драматического искусства.
— Мой брат! — воскликнула снова Мина.
Ее муж, мой дядя Сэм Гольдштейн, пытался ее успокоить. Такая истерия казалась ему неуместной. Его жене нужно было бы себя сдерживать — она не оставляла места для выражения чувств вдове покойного, моей матери. Дядя Сэм был практичный человек, с твердыми религиозными убеждениями и величественной суровостью. Он обнял меня в первый раз в день свадьбы с тетей Миной и позже еще раз, когда я встретил его во время своего бегства. В самых тяжелых ситуациях сохранял он холодную голову. Однако в тот день, день похорон моего отца, когда он пытался успокоить тетю Мину, он не знал, что делать.
— Мой брат! — снова взывала тетя Мина.
Я наблюдал за остальными, кто собрался вокруг моей матери, чтобы утешить ее.
— Папа умер, — сказала мама моим младшим сестрам, которые еще меньше меня понимали, что такое смерть.
— Хороший человек, — провозгласили торжественно дяди и тети. И затем снова зашептались, и моя мама задумалась, как же она теперь сможет одна заботиться о детях, имея ничтожные средства и незаконченное школьное образование. На фоне этих расстроенных голосов можно было снова услышать шепот взрослых, как они делились между собой секретами, — но именно в этот момент дядя Давид попытался говорить со мной об отце.
Я вспоминал своего отца в спокойные и неспокойные времена. В конце двадцатых годов голодные музыканты, которые раньше сидели в оркестровых ямах и сопровождали музыкой немые фильмы в кинотеатрах, заполонили улицы Вены. С появлением звукового кино они потеряли средства к существованию. Некоторые из них стояли иногда во дворе нашего дома и играли. Жильцы выглядывали из окон и бросали им мелочь. Мой отец считал это унизительным. Однажды он вышел на улицу и обратился к скрипачу:
— Я не хочу кидать вам мелочь. Занимайтесь с моим сыном, и я буду платить вам.
Так до самой смерти отца я учился играть на скрипке.
Однажды воскресным утром в трамвае по пути к дому моей бабушки Сары я, для того чтобы лучше было смотреть в окно, встал коленями на сидение возле моего отца. Мужчина, сидевший напротив, взглянув поверх газеты, сказал:
— Скажи жиденку, он должен сесть.
Некоторые пассажиры посмотрели в нашу сторону, но никто не произнес ни слова. Отец спокойно сказал мне:
— Сядь.
Он дождался, пока мужчина доехал до своей остановки рядом с Дунайским каналом, и мы пошли следом за ним к выходу.
— Но это же не та остановка, где живет бабушка, — сказал я.
— Мы выходим, — сказал отец. — Не беспокойся. Пойдем.
Отец шел широким шагом. В правой руке у него была трость, а левой он держал меня за руку. Мы быстро догнали мужчину, и, когда тот достиг перекрестка, отец поднял трость и сильно ударил его по плечам. Мужчина обернулся и увидел моего отца, который поднялся за свое место в трамвае, за свою швейную машину, за свою поруганную религию. И он бросился бегом через улицу.
— Это — за жиденка! — крикнул ему вслед отец.
Когда мы пришли к бабушке, отец рассказал ей, что произошло.
— Как он узнал, что вы — евреи? — спросила бабушка.
Оба рассмеялись, но за этим я ощутил нечто тягостное.
Моя бабушка была швея, кроме того, она великолепно готовила фаршированную рыбу, драники и куриный суп. Однажды по дороге на рынок несколько подростков закричали ей вслед:
— Сара, Сара, Сара.
— Откуда они узнали мое имя? — спрашивала она позже.
Она еще не понимала тогда. В священном писании Сара — жена нашего прародителя Авраама. Сара стало именем, которым в это время в Вене презрительно называли еврейских женщин; это так укоренилось в быту, что после аншлюса все еврейские женщины обязаны были к своему имени добавлять «Сара» как опознавательный знак.
Теперь, в день погребения своего сына, бабушка Сара сидела в нашей маленькой квартире и горько плакала. Смерть я еще не понимал, но бабушкины слезы я понял сразу.
— Все будет хорошо, — сказала ее дочь, моя тетя Роза. Разведенная тетя Роза жила у бабушки Сары. В тот день она пыталась утешить свою мать, но и сама начала рыдать. Тетя Роза была моей наставницей.
Она была модисткой, охотно играла в карты и любила оперу. У нее был прекрасный голос, и она с удовольствием пела в компании. Она любила леденящие кровь истории, но боялась темноты.
Тетя Роза умрет в темноте Аушвица.
Бабушка Сара умрет в Аушвице.
Тетя Тоба, еще одна бабушкина дочь, умрет в Аушвице.
— Все будет хорошо, — сказала тетя Роза бабушке Саре.
Дядя Давид сказал мне на ухо то же самое. Все будет хорошо.
Почему бы ему не поговорить с кем-нибудь другим, подумал я. Дядя Мориц был рядом, но он не хотел разговаривать с дядей Давидом. Дядя Леон был рядом, но он тоже не хотел разговаривать с дядей Давидом. Никто не хотел разговаривать с дядей Давидом.
Однажды дядя Давид сказал моей маме:
— Дора, почему бы тебе не сходить к Леону и не занять для меня денег?
Она это сделала. И когда через несколько месяцев дядя Давид все еще не отдал долг, дядя Леон пришел к маме и сказал:
— Дора, почему бы тебе не сказать Давиду, чтобы он вернул мне деньги.
Она и это сделала.
Такова была моя мать — милая, храбрая женщина, с сильной волей и мягким сердцем. Мама родилась в маленьком польском городе Ченстохова в семье ортодоксальных евреев. Она была одной из десяти детей. Несколько лет она ходила в школу, но потом оставила ее, для того чтобы помогать в продовольственном магазине, который имела семья. Из-за недостаточного образования мама до конца своей жизни ощущала некоторую неуверенность. В 1920 году она вышла замуж за Макса Бретхольца. Позже она вышивала на заказ и делала петли для подвенечных платьев. Многое из одежды, предназначенной для приданого, прошло через ее руки. Целыми днями напевала она вполголоса польские народные песни и оперетты, а иногда, когда у нее было хорошее настроение, и свистела. У нее были темные волнистые волосы и глубоко посаженные глаза. В то утро, когда дяди и тети пришли, чтобы ее утешить, она надрывно рыдала.
Среди присутствующих был дядя Леон Фишман, элегантный мужчина, носивший обычно костюм-тройку и фетровую шляпу. Он был успешным торговым представителем, умным и с чувством юмора. Дядя Леон женился на нееврейке, которая перешла в еврейскую веру и, как говорили, стала большей еврейкой, чем он сам. Но незадолго до того, как Гитлер вошел в Австрию, они развелись.
Утром, когда хоронили моего отца, никто из нас и представить себе не мог, что нас ожидает.
Дядя Леон бежал в Париж и позже, во время режима Виши, был задержан полицией. Он был заключен в лагерь для интернированных Гюре, где сошел с ума. Он стал уверять, что семья считает его повинным в войне. Со своей больничной койки он написал немецким властям, умоляя, чтобы за ним заехали и забрали его. Так и случилось: за ним заехали, и забрали, и отправили в концлагерь Бухенвальд.
Следующие годы все мы бродили по кромке между жизнью и смертью. В день похорон отца мама рассказала о своей сестре, моей тете Эрне, хорошенькой швее, которая позже, во время войны, скрывалась с друзьями в Париже. Во время своего бегства я нашел ее там. Но когда я пришел к ней, ее муж, мой дядя Давид Шерер, французский солдат, находился уже в заключении. Затем он был депортирован в Аушвиц и там умер.
Были еще дядя Исидор и тетя Шарлотта Бретхольц. Они жили на Мариахильферштрассе, лежащей рядом с трассой, по которой через восемь лет после смерти Макса Бретхольца немецкие автоколонны во главе с Гитлером входили в Вену. Я был тогда семнадцатилетним подростком и всех, кто старше меня, считал сильными и уверенными в себе взрослыми. Но в тот день в квартире на Мариахильферштрассе я увидел, как эти взрослые корчились от страха в дальней комнате.
Дядя Исидор не был пугливым человеком. Он управлял магазином дамских вязаных изделий, носил гамаши и трость и уверенно смотрел жизни в глаза. Тетя Шарлотта была полненькая веселая женщина, которая кроила кожаные вещи, а любую простую фразу могла превратить в веселую шутку. Но вскоре после аншлюса дядя Исидор потерял работу. Тогда тетя Шарлотта стала шить дома. Днем она шила, ночью ходила к умирающим людям и дежурила там до рассвета.
Всему пришел конец, когда дядя Исидор объявил, что они должны бежать. Так же, как и я.
— Ты иди, — сказала тетя Шарлотта. — Я остаюсь.
Она осталась с моей кузиной Юдифь, которая родилась с пороком сердца и для бегства была физически слишком слаба. Тетя Шарлотта надеялась, что они смогут сделать это позже.
Дядя Исидор попытался с моей четырнадцатилетней кузиной Анной перейти немецкую границу. Анна одела шесть платьев под пальто, так как они не хотели нести вызывающие подозрение чемоданы. Тем не менее они были задержаны полицией. Дядя Исидор провел месяц в тюрьме за то, что он пытался покинуть страну без визы. Всего через несколько дней после его возвращения домой они услышали, что гестапо забирает еврейских мужчин и что имя дяди Исидора стоит в списке.
— Ты должен спрятаться, — сказала тетя Шарлотта.
— Я не буду прятаться, — ответил дядя Исидор.
Он упаковал маленький чемодан, сел в своем безупречном костюме и стал ждать, когда его заберут. Гестапо пришло этой же ночью. Дядя Исидор был отправлен в Бухенвальд, откуда он написал домой письмо с утешениями: все будет хорошо.
Тетя Шарлотта, Анна и Юдифь нуждались в помощи и держали домработницу, жившую с ними в квартире. Через несколько недель после того, как Гитлер занял Вену, у домработницы началась любовная интрижка с офицером СС. Вскоре она вместе с эсэсовцем завладела квартирой, объявив тете Шарлотте: «Теперь эта квартира принадлежит мне».
После этого семья распалась. Моя кузина Анна с помощью еврейской молодежной организации успела убежать в Палестину и там пережила войну. Дядя Исидор был депортирован из Бухенвальда в Аушвиц, где он умер. Тетя Шарлотта, которая могла любую простую фразу превратить в веселую шутку, тоже погибла в Аушвице, так же как и моя кузина Юдифь, у которой был порок сердца.
А я бежал.
Утром, в день похорон отца, я рассматривал нашу семью. Я тогда и представить себе не мог, что нам еще предстоит. Умер отец, но меня главным образом занимало не это, а реакция женщин: плач и причитания тети Мины, бабушки и других. Пытаясь утешить, дядя Мориц взял меня на колени. Это был элегантный, спортивный и сильный мужчина. Он регулярно ходил в парную и всегда был загорелым. Его жена Карола, сестра моей матери, стояла рядом с нами и гладила меня по голове. Она пригласила меня на Шаббат и сказала, что специально для меня испечет печенье. Тетя Карола была небольшого роста, с рыжеватыми волосами и золотыми зубами. Позже ее вместе с дядей Морицем депортировали из Франции, и больше никто никогда о них не слышал.
У них было трое дочерей, мои кузины: Хелен, Марта и Соня. Хелен, которая хотела стать актрисой, умела мастерски хранить тайны. Одной из них, важной, она поделилась со мной, когда мне было уже семьдесят лет. Она рассказала мне, о чем шептались родственники в день похорон моего отца. Марта была политически активна. Немцы хотели и ее арестовать в тот самый день, после вступления Гитлера в Вену, когда ранним утром они разграбили магазин дяди Морица, а его взяли с собой. Еще была Соня, о которой все говорили, что мы с ней похожи как близнецы. Соня с месячной дочерью Николь была депортирована из Франции в Аушвиц, и там обе были убиты. Польди, мужа Сони, тоже заключили в Аушвиц, где он находился до конца войны и стал свидетелем убийства моего двоюрюдного брата Курта.
В нашей семье была еще одна кузина Соня — Соня Фишман, вернувшаяся после войны в Вену. Соня Фишман была дочерью дяди Леона. В то время, когда дядя Леон находился в лагере Гюрс, где сошел с ума, его дочь Соню отправили в Биркенау, а затем в Аушвиц, и с этого момента она замолчала. Она не хотела ни слова говорить о жизни во время войны.
Значительно позже она все же кое-чем поделилась со мной. Рассказала, как в Биркенау не было ни света, ни воды, ни туалетов. Соне казалось, что она попала в сумасшедший дом. Повсюду были истощенные существа, скелеты, непохожие больше на людей. В Аушвице надзиратель пинал ее все время, пока они пересекали лагерь по пути к бараку, где ей вытатуировали на руке номер.
На свалке Соня нашла ржавую емкость и использовала ее как тарелку. Ночью по ней бегали крысы. Когда она приходила за своим супом и куском хлеба, ее часто били, говоря, что она уже получила свою порцию. Однажды она упала в яму, прямо на трупы, сваленные туда накануне ночью. Она работала в медпункте, где мужчинам и женщинам выдавали лекарство, вызывающее сильную рвоту. Никто не подозревал тогда, что этим лекарством они были стерилизованы.
— Что может моя история добавить такого, о чем еще не было сказано? — спросила меня однажды Соня, во время телефонного разговора между Веной и Америкой.
Мы оба были уже немолоды. Прошло уже шестьдесят семь лет с тех пор, как умер мой отец, и пятьдесят два года — как закончилась война.
— Что изменит моя маленькая история?
— Каждая история — это камушек в мозаике, — сказал я.
Через несколько лет Соня рассказала мне, что она, скорее всего, последняя, кто видел мою маму живой.
Лео, будь осторожен в воде!
Это было обычным предостережением моей мамы, когда мы выезжали к Дунаю или Дунайскому каналу. Я вспоминаю, как мы устраивали пикники на берегу Дунайского канала — вся наша семья: мама, папа и сестры Генни и Дитта. Мы расстилали на траве одеяло, раскладывали еду, и только я собирался купаться, как слышал мамин голос:
Лео, будь осторожен в воде!
Я вновь услышал мамин голос перед тем, как переплывать реку Сауэр. Тогда у меня не было иного выбора, как войти в воду: я вынужден был покинуть родной город и свою семью, которую я любил.
Мы жили в двадцатом районе Вены, Бригиттенау, рабочем квартале с большим процентом еврейского населения. Несколько лет тому назад Гитлер жил тоже в Бригиттенау. Мы с сестрами ходили в восьмилетнюю школу недалеко от нашего дома. Мне вспоминается строгая и полная уважения атмосфера, за одним только исключением: на уроках закона божьего нас, евреев, открыто называли «убийцами Христа».
Так было тогда — сама собой разумеющаяся норма в общественных школах, распространившаяся позже на все австрийское общество.
Я вспоминаю, как неделю у нас не было занятий в школе. Это было в феврале 1934 года. Февральское вооруженное выступление социал-демократов было подавлено Христианско-социальной партией Энгельберта Дольфуса. Состоялись уличные бои неправительственных вооруженных подразделений против войск правительства и армии. Несколько дней не было ни газа, ни электричества. Во всем городе остановились трамваи. Общинные здания социал-демократов были оцеплены полицией и армией. Дольфус смог устранить своих противников и установил диктатуру. Национал-социалистическая партия в Австрии хотя и была запрещена законом, но продолжала действовать в подполье. Ее представителями Дольфус был убит. Преемник Дольфуса Курт Шушниг капитулировал перед Гитлером.
Ночами, во время этих боев и хаоса 1934 года, люди вынуждены были использовать свечи как единственный источник света. Мне тоже пришлось, готовясь к Бар-мицве, изучать главы Торы при свечах.
Моя Бар-мицва состоялась в марте 1934 года в храме Клуки, через несколько недель после февральского восстания. Раввин доктор Беньямин Мурмельштейн благословил меня, возложив мне руки на голову:
— Твой отец гордился бы сегодня тобой.
Я заплакал. Мама, сидевшая рядом, сказала:
— Лео, все будет хорошо.
Иногда мама брала моих сестер и меня на близлежащий рынок Ганновермаркт, где продавались на открытых прилавках фрукты, овощи и мясо. Там она покупала для дома приправы к супам, кнедлям, гуляшу и фаршированной рыбе. У моего дяди Давида был там лоток «Жареная рыба Фишмана», где он, сильно потея, восклицал:
— Самая лучшая жареная рыба! Домашние рыбные блюда!
Позже, в лагере для интернированных Сен-Сиприен, дядя Давид и его сын Курт будут спать напротив меня, а еще позже мой двоюродный брат Курт будет убит в Аушвице.
Недалеко от рынка находился магазин дяди Морица, из которого нацисты его забрали. Дядя Мориц всегда дарил мне мелочь, говоря:
— Купи себе сладостей.
В годы после смерти моего отца он все больше и больше покровительствовал мне. По субботам я помогал ему в магазине, а по воскресеньям он брал меня с собой на футбол. По пятницам он и тетя Карола приглашали меня к себе на Шаббат.
— Почему ты никогда не ходишь к ним со мной? — спросил я однажды маму.
— Мы с тетей Каролой не разговариваем, — ответила она. — Ты же это отлично знаешь.
— Но почему?
— «Почему-почему», — передразнила она. — Потому. Вот с дядей Давидом вообще никто не разговаривает!
Только я должен был вечно его слушать. В день похорон моего отца он сидел рядом со мной. У мамы на коленях сидела моя сестра Дитта, которой было тогда почти два года. Моя семилетняя сестра Генни стояла рядом с ними. Через восемь лет я махнул рукой Дитте, стоящей у больничного окна, не подозревая даже, что ее ожидает. А потом махнул на прощание маме и Генни, когда, войдя в трамвай, я начал свое бегство. В тот момент об ожидавшей их судьбе я тоже не имел ни малейшего представления. Моя кузина Соня Фишман, видевшая их последней, живет в Вене, жители которой называют себя «жертвами», «первыми жертвами Гитлера», в надежде скрыть свою тайну от остального мира. Когда я слышу это сегодня, я вспоминаю, как стоял на Мариахильферштрассе, когда немецкие войска входили в Вену, и как эти австрийские «жертвы» в буйном восторге цветами приветствовали входивших. Я вспоминаю, как во второй половине того же дня австрийские солдаты, тоже «бедные жертвы», с гордостью переодевались в немецкую форму. И как уже на следующий день униженные, избитые до крови евреи бродили по улицам и как забрали моего дядю Морица и вели его вдоль шеренги этих аплодирующих австрийских «жертв».
Вместо того чтобы остаться в Австрии и безропотно ожидать, когда наступит мой черед, я бежал. Я бежал, а мама осталась в Вене в ловушке. Моя кузина Соня Фишман была последняя, кто ее видел. Это было в 1942 году, когда депортация в лагеря шла полным ходом. Соня встретила мою мать на холодной венской улице, с желтой звездой на пальто. Она дала маме пакет, где было немного одежды и постельного белья. Позже Соня рассказала, что мама долго не решалась взять пакет: она боялась закрыть им еврейскую звезду, что могло стать причиной ареста ее и девочек.
Соня рассказала мне также, как она пыталась еще раз увидеть мою мать, но из-за ограждений в еврейском гетто у нее не было возможности приблизиться к маминой квартире.
Много лет меня преследует один и тот же ночной кошмар. Мне снятся ограждения на улицах, контролируемые нацистами; я хочу пробраться к маме, в нашу бывшую квартиру. Но дом сносят. Падает одна стена, потом другая… Когда рушится последняя стена, появляется мама, которая пряталась там.
Все эти годы мы хранили такие тайны…
Февральским утром 1930 года в нашей маленькой квартире собралась семья, чтобы утешить мою мать и детей. До сих пор я слышу горькие причитания тети Мины, которая оплакивала моего отца; а может быть, плакала она также о том страшном времени, которое только надвигалось на нас. Дяди и тети стояли маленькими группками и шептались между собой, а я старался, несмотря на болтовню дяди Давида, услышать, о чем идет речь.
Все будет хорошо, доносилось до меня. Все будет хорошо.
Однако как много тайн они унесли с собой.
1 ВЕНА (март — октябрь 1938)
Я видел Адольфа Гитлера своими собственными глазами на расстоянии метров двадцати. Я мог бы наброситься на него, изо всех сил избить его, заколоть его кухонным ножом (если бы он у меня был) или задушить его; однако между фюрером и мной была тесная толпа страстно и восторженно ликующих людей, которые вырвали бы мне сердце из груди, посмей я к нему приблизиться.
Это было 16 марта 1938 года. Четыре дня назад немецкая армия вошла в Австрию, и Австрия как страна прекратила свое существование. Мир на мгновение содрогнулся, но потом опять занялся своими обычными делами, все еще думая, что его это не касается.
В тот день я ехал на трамвае к дому, в котором дядя Исидор и тетя Шарлотта вместе с моими кузинами Анной и Юдифь доживали последние часы неведения — о Гитлере, о месте под названием Аушвиц, где все они, кроме Анны, погибнут.
На тротуаре у их дома тесной толпой стояли празднично одетые австрийцы, размахивающие нацистскими флагами. Атмосфера напоминала гигантское карнавальное шествие людей с пугающим выражением превосходства на лицах. Мои дядя и тетя жили на Мариахильферштрассе, одной из главных магистралей, по которой в тот день автоколонны во главе с Гитлером входили в Вену. Но никто из моей семьи, кроме меня, не хотел смотреть этот спектакль даже издали.
Когда я пришел к ним, я нашел их вместе с соседями в дальней комнате, где они сидели, оцепенев от страха. Это зрелище потрясло меня. Квартира соседей выходила окнами на Мариахильферштрассе, но их выдворили оттуда. Чтобы встретить Гитлера как можно восторженнее, всем евреям было дано указание отойти от окон, выходящих на улицу, освободим места ликующим венским «неевреям». Теперь эти «неевреи» махали из окон выданными им накануне нацистскими флагами. Евреев же, как и дядиных соседей, отправили в квартиры других евреев — возмущение и страх были на их лицах.
Дядя Исидор пытался убедить всех, что все будет хорошо. Моя обычно бурная тетя Шарлотта сидела как оглушенная. Кузины были растеряны от волнения и ждали от родителей поддержки.
— Лео! — воскликнул мой дядя.
Дядя Исидор был мужчина, который тщательно следил за каждым своим движением и тратил ежедневно два часа, чтобы одеться абсолютно безупречно. Но в этот момент он, хотя и пытался оставаться спокойным, был в отчаянии, потому что его дом был осквернен и его личный авторитет утерян.
После полудня Мариахильферштрассе представляла собой бесконечный поток свастик, плакатов и развевающихся знамен. Казалось, черно-белые кадры хроники «Новости недели», шедшей в кинотеатрах в течение прошедших месяцев, вдруг перенесены в Вену и ярко раскрашены.
Еще пять дней назад, незадолго до вторжения, развевались в сумерках красно-бело-красные флаги, но, когда мы проснулись 12 марта, все они исчезли. Вечером 11 марта я ходил на встречу еврейской молодежной группы; в эту пятницу мы говорили об эмиграции в Палестину. Иврит, сказал мой отец в свой последний час. Мы танцевали хору и пели песни на иврите. Около девяти мы с друзьями Арнольдом Юсемом и Робертом Гохманом отправились пешком домой. Оба они были сильными и уверенными в себе парнями. Арнольд был легкоатлетом, а Роберт — боксером-любителем.
В тот вечер что-то ужасное висело в воздухе. Необычно много полицейских, казалось, слишком быстро носилось по городу, и я почувствовал себя неуверенно, видя озабоченные лица друзей. Когда я пришел домой, мама стояла возле входной двери, тревожно глядя на меня.
— Где ты был? — спросила она.
— С друзьями.
— Ты что, не знаешь, что происходит?
Она услышала по радио о конце нашего мира.
— Входи, — сказала она и потянула меня в квартиру. — Входи же!
На следующее утро исчезли все красно-бело-красные австрийские флаги. Их быстро заменили флагами со свастиками, и немецкая армия, чеканя шаг, уже маршировала по улицам Вены. Своей точностью они напоминали бездушные механизмы, и мы были сильно испуганы. Теперь, после аншлюса, австрийские полицейские и солдаты заменили свою форму на немецкую. Австрийская армия за ночь исчезла, а немецкая соответственно выросла.
Австрийские коричневорубашечники, убившие в 1934 году Дольфуса, а при канцлере Шушниге действовавшие тайно, теперь гордо и торжествующе, с самоуверенными насмешками, расхаживали кругом. Повязки со свастикой красовались на рукавах их курток.
— Все будет хорошо, — сказала мама. Дома она пока чувствовала себя в безопасности.
— Да, — ответил я, пытаясь ее утешить, так же как она меня, но нам обоим это не удалось.
Месяц тому назад на унизительной встрече с Гитлером в Берхтесгардене Шушниг потерпел поражение. Гитлер буйствовал и бесновался, заявив Шушнигу, что будет делать все, что пожелает; что его армия войдет туда, куда он захочет, и Шушниг бессилен его остановить. Вернувшись в Вену, канцлер обратился по радио к народу, и австрийцы по всей стране внимательно слушали его речь.
— Австрийцы! — сказал он. — Пришло время решать.
Он призвал народ к плебисциту 13 марта по вопросу, хочет ли страна остаться независимой или стать частью Германии. Плебисцит не состоялся — накануне него немецкие войска пересекли австрийскую границу. Шушниг опять выступил по радио, призвав граждан не проливать кровь и отказаться от бессмысленного сопротивления. И тяжелым голосом закончил: «Господи, храни Австрию!» Но было уже слишком поздно. Его слова теперь уже не имели никакого значения, большинство австрийцев не слушали его.
12 марта, во время вторжения немецких войск в Австрию, по всей стране мобилизовались нацисты. Они штурмовали помещения канцелярии и заняли важные ведомства в Вене. Шушниг, точно уловивший импульс истории, без сопротивления сдал власть.
Этой же ночью Генрих Гиммлер приехал в Вену с целью взять под контроль тайную полицию. Вскоре после прилета других офицеров СС последовала волна арестов: только в Вене было арестовано несколько тысяч человек. Одним из первых был Шушниг, которого позже отправили в концлагерь Дахау.
— Выйду-ка я на улицу, — скорее непочтительно сказал я дяде и тете в «день большой автоколонны». — Я хочу видеть этого Гитлера.
— Это опасно, — возразила тетя Шарлотта.
Но я все-таки вышел. Мне было семнадцать, что я понимал? Я увидел магазины, на дверях которых от руки было намалевано: «Juda verrecke!» («Жид, сдохни!») Но в этом не было ничего нового. «Христоубийцами» называли нас на уроках религии в общественной школе. Что значили после этого каракули на дверях?
Я стоял перед обувным магазином Бекка в шестом или седьмом ряду, в толпе, простирающейся покуда хватало глаз. Звонили церковные колокола. Люди хором орали: «Sieg heil!» («Да здравствует победа!») Крики вырывались из вздымающихся от гордости грудных клеток, и слезы радости катились по щекам австрийских нацистов, с их холеными мясистыми лицами.
Мне казалось, что вся эта людская толпа страстно жаждала Авторитарности и Власти, и эта жажда за короткий срок преобразовалась в садистские действия.
Но стоя на тротуаре возле квартиры моего дяди, я испытывал скорее любопытство, чем страх. Так много людей, так много сограждан… Не ополчатся же все они против одного-единственного маленького еврея.
Мы все еще считали, что господство Гитлера продлится недолго. Что он как-то сам по себе исчезнет, если мы займемся своими делами. Было ощущение, что мы его знаем. Он был сумасшедший бандит, но также — один из австрийцев, выскочка, который родился здесь и именно здесь вскормил свою ненависть. Мы думали, что он не сможет долго существовать в цивилизованном европейском мире, а будет выметен неким актом во имя человечности. Мы были уверены, что такая человечность в Европе еще существует. Когда автоколонна с Гитлером приблизилась, у меня даже не возникло чувства, что я присутствую при историческом событии. Я видел роскошное театральное действие: звон колоколов сливался со звуками военных маршей, со всех сторон в воздух взлетали цветы. Потом, когда ликование толпы достигло предела, появился Он.
Гитлер стоял на заднем сидении открытого мерседеса — коричневая форма; вытянутая вперед, на уровень щеки, правая рука. Громко играли трубы, толпа орала и неистовствовала, гремели барабаны. Слишком много восторга для одного человека, слишком много веры в одну идею, итог которой — уничтожение моего народа. Но почему? Мне только что исполнилось семнадцать. По своей наивности я задавался вопросом: неужели евреи совершили что-то столь ужасное, о чем я даже не догадываюсь?
Машина Гитлера ехала со скоростью около двадцати километров в час в сторону Хофбурга, бывшей резиденции Габсбургов в Вене. Из-за флагов, развевавшихся у меня над головой, я не мог видеть небо. Люди вскидывали в приветственном жесте руки и кричали снова и снова: «Heil Hitler!» — именно так, как я видел это в кадрах кинохроники. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!»[3] — горланили они. Позже, когда мир забудет обо всем этом, эти люди станут называть себя «первыми жертвами» войны.
Гитлер все время смотрел вперед. Его лицо было театрально строго, поза застывшая — человек с героической миссией, главный персонаж — прямо из грандиозной оперы. Он, казалось, был слишком увлечен своим крестовым походом, чтобы замечать вокруг себя людей, обожествляющих его. Но я видел его взгляд, бегающий из стороны в сторону, — он всматривался в лица и пытался оценить степень поклонения толпы. Он был человеком, и его мучили сомнения: будут ли приняты его новые насильственные действия. Принимают ли австрийцы его достаточно горячо? В следующее мгновение он исчез, но народ уже ответил утвердительно на его вопросы.
Я снова поднялся в квартиру дяди Исидора. Соседи как раз собирались уходить. Они были потрясены, а дядя и тетя с некоторой нервозностью пытались преуменьшить то, что произошло, утверждая, что все уже позади. Хотя к тете Шарлотте вернулся голос, но певучий ритм ее речи пропал. Уже одно это огорчило меня. Дядя и тетя не хотели проявлять беспокойство в присутствии своих маленьких детей, но все же сказали мне, чтобы я сразу ехал домой на трамвае и был осторожен. Они считали, что для евреев находиться на улице стало опасно.
По дороге домой я увидел слова, написанные на мощеных улицах и тротуарах: «Австрия должна остаться Австрией» — лозунг для плебисцита, который должен был подтвердить нашу независимость от Германии, но так никогда и не состоялся. Было написано: «Rot-weiß-rot, bis in den Tod». — «Красный-белый-красный, до самой смерти».
Фундамент для холокоста был заложен в первый же день после вторжения Гитлера в Австрию. Люди, считавшие себя неотъемлемой частью пестрой мультинациональной культуры Вены, вдруг, за одну ночь, оказались отвергнуты обществом.
В поисках моей кузины Марты нацисты отправились в квартиру тети Каролы и дяди Морица. Двадцатипятилетняя Марта — маленькая, изящная интеллектуалка — была политически активна. Она верила, что коммунизм спасет Европу. Коричневорубашечники зашли за ней в шесть утра, но Марта их перехитрила. Предчувствуя надвигающуюся опасность, она скрылась, ничего не сообщив рыдающей тете Кароле и не оставив ни малейшего намека о своем возможном местопребывании. Она была первой в нашей семье, кто так или иначе исчез.
Итак, штурмовики, оставшись ни с чем, отправились в магазин одежды дяди Морица на Ганновергассе. Они знали, что Марта иногда работала там бухгалтером. Но ее и там не было. Они хотели знать, где она. Дядя Мориц ответил, что ее сегодня не было и где она — он не знает. Дядя был крепким, спортивным мужчиной со стрижкой ежиком. Он не привык, чтобы им командовали. Коричневорубашечники отодвинули его в сторону, перерыли магазин и выбросили все его товары на улицу. Когда он стал протестовать, они забрали его с собой.
Дядя Мориц, который поцеловал меня в щеку в день похорон отца, утром, на второй день после аншлюса, был отправлен в Дахау. А моя кузина Марта сбежала в Швейцарию, когда там еще принимали евреев.
На следующий после вступления Гитлера в Вену день холокост еще только зарождался. Немцы еще не отладили механизм геноцида. Некоторые евреи, подобно моей кузине Марте, смогли еще убежать. Но на той же неделе по всей Вене начали сгонять еврейских мужчин и женщин. Орущие молодые люди выволакивали на улицы университетских профессоров, врачей и адвокатов и принуждали их опускаться на колени, вместе с женами и детьми. А затем дети наблюдали, как их родителям выдавали зубные щетки, ведра с холодной водой и швабры и приказывали отмыть с мостовой краску: «Красный-белый-красный, до самой смерти».
Истребление евреев медленно набирало темп. Началось все с унижения этих испуганных людей, подвергавшихся на улицах оскорблениям и издевательствам. Раввинам поджигали их белые бороды, а затем тушили, окатывая их ледяной водой. Стариков ставили на колени и заставляли хором орать: «Heil Hitler!»
Я стоял в толпе на обочине дороги, хотел вмешаться и не шевелился, так как знал, что ничего не смогу сделать, чтобы остановить это варварство. Я рассматривал стоящих на коленях людей, которых принудили щетками отмывать мостовые. От страха и унижения они не поднимали глаз. Я нервно огляделся вокруг, подумав, не сомнет ли эта сила и меня. Те, стоящие на коленях, старались сохранить свое достоинство. Я не сводил с них глаз, так как отвернуться означало бы перестать быть свидетелем начала массовых убийств.
Я почувствовал, что силы мои иссякают. Правила человечности в мире были отменены, и я был сильно испуган и полон противоречивых переживаний. Быть отверженным только за то, что ты еврей, — вне всякого здравого смысла, но нас преследовали и подвергали наказаниям в любое время дня за один только этот факт. Однако, видя других евреев пойманными в сети насилия и понимая, что каким-то непонятным образом пока избежал этого, я испытал странное чувство: может быть, эти жертвы были другим типом евреев; может быть, евреев моей породы они не забирают. Должно быть, я отношусь к лучшему виду евреев: сильнее, здоровее, выносливее — не такой, как те, которых наказывали. Эти безумные размышления были краткосрочным предохранительным клапаном от моих страхов. В конце концов они заберут нас всех.
Когда я в темноте брел по городу, я услышал вдруг, как маленькая группа людей с дикой радостью орала: «Германия, проснись! Жид, подохни!» — и содрогнулся.
Неожиданная жестокость все больше охватывала Вену. Взяли мужчин из больниц, среди них и недавно прооперированных, и отправили в концлагерь Дахау. Некоторых наших соседей арестовали, и никто их больше не видел. Мы слышали, что их прах был отослан семьям. Прах дяди и кузена моего друга Роберта Гохмана был отправлен к ним домой. Семьи должны были письменно подтверждать получение этих посылок. Им сообщали: «Ваш муж был болен». Или: «Ваш муж покончил жизнь самоубийством». Некоторым сообщали: «Ваш муж был арестован и пытался бежать. Вот его прах». Семьи никогда не были уверены, чьи именно останки они получили.
Как-то в начале лета мы попытались поговорить с нашими соседями, которых знали уже много лет. Они не были евреями. Раньше мы часто ходили в гости друг к другу, мы помогали им украшать рождественскую елку. Мы не хотели никаких политических объяснений, а просто искали сочувствия и ободрения, но напрасно.
Казалось, кто-то в Австрии как бы снял верхний слой и обнажилась сама суть австрийского антисемитизма, который был намного сильнее, чем мы могли себе вообразить. И наши соседи в этот момент были просто захвачены этим или слишком запуганы, чтобы утешить нас.
Они не хотели, чтобы кто-то видел, как они разговаривают с нами. Дружба с евреями осталась в прошлом. Хотя актов насилия на улицах стало меньше, наше ощущение изолированности день ото дня возрастало вместе со страхом быть однажды выкинутыми на улицу.
После Первой мировой войны Вена столкнулась с проблемой острой нехватки жилья. Когда немцы вошли в Австрию, дефицит составлял примерно семьдесят тысяч квартир, и они решили воспользоваться этой ситуацией в полной мере. В Вене было создано эмиграционное бюро. Его руководитель Адольф Эйхман принудил еврейских представителей оказывать ему помощь. Состоятельные евреи обязаны были финансировать изгнание неимущих евреев. Солдаты стали владельцами тридцати пяти тысяч принудительно освобожденных еврейских квартир. Немцы бесчинствовали. Испуганные евреи изгонялись из своих квартир и должны были искать себе новое место для жизни, каких-нибудь родственников, кто мог бы их принять. Но именно тогда многие страны закрыли для них свои двери. Раз другие страны отказались принимать евреев, значит, с нами должны были что-то делать внутри границ занятых Германией территорий.
Моя мать настаивала, чтобы я убежал. Уже от одной мысли об этом я чувствовал себя дезертиром. Я ведь был мужчиной в семье. Мой отец ударил человека за то, что тот оскорбил меня. Это — за жиденка. А я, его сын, должен бежать?
Пока еще евреям в Вене можно было жить и каждый день ходить по улицам, но уже происходили стихийные вспышки насилия. Исчезали люди. В первые месяцы после прихода Гитлера более пятисот евреев, среди которых было много пожилых людей, от страха и отчаяния покончили жизнь самоубийством.
Однажды летним вечером, дома, я внимательно рассматривал своих сестер. Генни было тогда шестнадцать лет. Кудрявые волосы обрамляли ее лицо. Она была задумчива и любила природу. Генни мечтала об эмиграции в Палестину. Иврит, распорядился мой отец восемь лет назад. Напротив Генни сидела Дитта, с круглым лицом и волнистыми каштановыми волосами. Ей было десять. Казалось, она купается в своей невинности: болтушка, не интересующаяся политикой, любящая животных и с неудержимым энтузиазмом относящаяся к жизни.
Когда умер наш отец, Дитта была младенцем. В возрасте пяти лет Израильское общество по делам образования и религии (Israelitische Kultusgemeinde) устроило ее в сиротский дом, где она могла жить в рабочие дни недели. После смерти отца мы остались полусиротами, и проживание Дитты в доме для сирот помогло маме в тяжелые финансовые времена.
Дом для сирот находился в районе Дёблинг, на другой стороне Дунайского канала. По пятницам после обеда мы с мамой и Генни забирали Дитту, и она проводила выходные дни дома. Иногда я ходил за ней один, и тогда мы по пути домой покупали мороженое.
— Ванильное, — заказывала она с большой охотой.
— Лимонное и малиновое, — говорил я и радовался, что так легко сделать ее счастливой.
По воскресеньям мы все вместе провожали Дитту назад в сиротский дом. Это была маленькая прогулка в красивый район Дёблинг с элегантными старыми домами.
— Ты должен бежать, — сказала мама, когда мы сидели за нашим маленьким столом и ужинали.
Я резко отказался.
— Вспомни Гохманов, которые получили по почте прах, — убеждала она. — Посмотри на соседа, которого истязали коричневорубашечники. Вспомни людей, стоящих на коленях на улицах. Может быть, однажды ночью и в нашу дверь постучат.
Она приводила столько аргументов, что почва стала медленно уходить из-под моих ног.
Всего за несколько дней до прихода Гитлера мы с друзьями играли в футбол. Но теперь, когда они видели меня, они плевали мне вслед и кричали: «Saujude!» — «Жид пархатый!»
Я оставил гимназию на год раньше срока и перешел в профессиональную школу по электротехнике. В первый день занятий учитель спросил у каждого ученика его имя и имя мастера, у которого тот работал.
— Абрахам Вайнзафт, — ответил я на этот вопрос.
Класс разразился хохотом. Вайнзафт — еврейская фамилия. Реакция класса казалась инстинктивной, как павловские рефлексы. Я покраснел от смущения и почувствовал себя изгоем. Я ожидал, что учитель сделает замечание классу, но он не проронил ни слова.
На улицах я слышал, как молодые люди выкрикивали стишки против недавних своих друзей, которые были евреями: «Jud, Jud, spuck in’ Hut; sag der Mama, das ist gut!» — «Жид, жид, плюнь себе в шляпу; скажи маме, это — хорошо!» Группы еврейских детей слышали из уст сверстников: «Вот идет жидовская школа». На фонарных столбах, стенах и киосках было написано: «Juden nach Palästina!» — «Евреи — в Палестину!»
Нацисты быстро разработали для нас новые правила, установили ограничения времени для покупок, определили места и помещения, которые теперь стали для нас запрещены. И даже там, где нам разрешалось бывать, для нас имелись ограничения. Нужно было заново решать: в какое время дня лучше всего делать покупки самых важных продуктов; когда можно избежать столкновения с бандитами на улице.
На скамейках в парках было написано: «Не для собак, не для евреев». В кинотеатрах висели таблички: «Евреям не разрешается». Общественные бани: «Не для евреев». Рестораны: «Евреи нежелательны». Мы были теперь официально признаны прокаженными.
В год, когда умер мой отец, я учился в третьем классе начальной школы. У меня был доброжелательный учитель — Роберт Каденски. Иногда он рассеянно ходил по классу, но, проходя мимо моей парты, он останавливался и мягко хлопал меня по голове. Он улыбался, показывая при этом свои прокуренные желтые зубы. Он знал, что мой отец умер, и однажды вечером пришел к нам домой, чтобы выразить маме свои соболезнования. Его сын, младший Роберт, был на один или два года старше меня. Я ходил к нему домой, и мы вместе играли.
После прихода Гитлера я увидел младшего Каденски на улице. Он носил коричневую форму гитлерюгенда. «Доброе утро, Роберт», — сказал я. Он смотрел прямо перед собой и не удостоил меня взглядом. Он был теперь немцем, а я все еще оставался евреем.
Через несколько дней на Валленштейнштрассе я встретил его отца. Мы обменялись рукопожатием, и я упомянул, что видел его сына. Мой старый учитель устало кивнул.
— Лео, — сказал он, — не сердись. Роберт — молодой и глупый.
Я вздохнул, у меня было ощущение, как будто он обнял меня. Я вспомнил, что мой учитель носил раньше на лацкане значок с тремя стрелами — символ Австрийской социалистической партии.
— Господин Каденски, — сказал я, — моя мама говорит, что я должен бежать из Вены. Она очень беспокоится. Вы как думаете?
— Deine Mutter hat Recht, — сказал он тихо. — «Твоя мать права».
Каждый день я ездил на велосипеде на занятия по электротехнике. Правой рукой я управлял велосипедом, а левой удерживал на плече в равновесии лестницу. Вайнзафт был превосходным учителем. Я быстро научился соединять провода, не отключая при этом ток. Но я делал ошибки и иногда меня било током.
— Как дела? — спрашивала вечером мама.
— О, прекрасно! — улыбался я. — Я уже могу делать короткое замыкание.
Однажды мы с Вайнзафтом прокладывали электропроводку в пятиэтажном доме на Верингерштрассе. Это было через несколько недель после прихода Гитлера и незадолго до Песаха[4].
— Я не могу работать в Песах, — сообщил я Вайнзафту.
— Мы будем работать, — возразил он мне. — Когда ты будешь в Палестине, сможешь не работать в Песах.
Двадцатого апреля был день рождения Гитлера.
— Как вы думаете, — спросил я Вайнзафта, — мы отдыхаем в этот день?
— Это не наш праздник, — сказал он.
— Должен ли я его праздновать, когда буду в Палестине?
Однако мы все-таки не работали в день рождения Гитлера. Владельцы здания не были евреями, и мы не хотели привлекать к себе внимание во время всеобщих торжеств. Меньше чем за месяц Гитлер превратился во всенародное божество.
Настроение евреев становилось все более мрачным. У сына соседей Альфреда Шохета был мотоцикл, но было приказано сдать его властям. Когда я был ребенком, Альфред часто брал меня покататься на нем, но теперь вдруг евреям запретили иметь мотоциклы. Шохет исчез, и больше его не видели.
В это время мой дядя Мориц был в Дахау, и его семья была вне себя от беспокойства.
— Ты ничего не слышала о тете Кароле? — спросил я маму.
Но мама никогда больше не слышала о тете Кароле, своей сестре.
Я старался избегать скопления людей. Кто знает, когда они нападут на тебя? Я быстро усвоил: какие улицы опасны, какие необходимо обойти. Моя мама, которая боялась, что я однажды выйду из квартиры и не вернусь, умоляла меня:
— Лео, не выходи! Не надо! Останься дома.
Я знал, что она права, но я был молодым и все еще чувствовал себя неуязвимым. Может быть, я смогу удрать от нападающих. На улицах они носили теперь повязки со свастикой и приветствовали друг друга словами «Heil Hitler!» и «Sieg heil!», вскидывая при этом вытянутую руку в фашистском салюте. Народ собирался послушать выступления, разносившиеся из громкоговорителей.
Каждая поднятая рука, каждый крик, каждое проявление присутствия нацистов действовало мне на нервы. С юношеским азартом мне хотелось с пользой расходовать свою энергию, хотелось хоть немного нормализовать свою жизнь. Однажды, в конце лета, я поехал на велосипеде в Пратер, место отдыха в Вене, где мы с друзьями всегда играли в футбол.
— Не езди туда, — настаивала мама, — зачем тебе это?
Таким был теперь язык всей нашей жизни: не ходи туда, не делай это. И все же шестеро из нас поехали в Пратер. Мы приехали, прислонили велосипеды к деревьям рядом с площадкой и начали играть в футбол. В это время появились коричневорубашечники. Они были выше нас, и их было больше. Они швырнули наши велосипеды на землю, стали топтать их, сломали фары и спицы. Затем они отодрали сиденья и уничтожили их. Ехать на велосипедах мы больше не могли.
Мы взвалили их на плечи и расстроенные отправились домой. Но тут коричневорубашечники вернулись и начали преследовать нас, крича: «Жид, жид!» Было абсолютно невозможно убежать, неся на себе велосипеды. Мы бросили их и побежали, слыша сзади презрительный хохот нацистов. Они не побежали за нами — хозяин не бегает за собакой. Они были новой расой — расой господ, а мы были просто евреями. На их поясах было написано: «Кровь и честь». Мы же бежали домой искать утешения у своих матерей.
В большинстве случаев коричневорубашечники расхаживали с выражением презрения и высокомерия на лицах. Они должны были вести себя как юные господа, достойные представители новой Германии. Но, гордо шагая, они пели:
Когда еврейская кровь брызнет из-под ножа… Повесьте евреев, поставьте попов к стенке… Мы будем маршировать, пока все не обратится в руины, потому что сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир…Когда я однажды во второй половине дня пришел домой, мама спросила меня о настроении на улицах.
— Мама, — ответил я, — это место больше небезопасно для нас.
Дни становились короче. Тете Мине и дяде Сэму удалось покинуть Вену через несколько недель после аншлюса. Из Люксембурга они прислали маме несколько писем. Она ответила им, что хочет, чтобы я бежал из Вены, пока это еще возможно. Пусть Лео приедет к нам, написали они. Я вспомнил, как Мина голосила в день похорон моего отца, и мне показалось, что я и теперь слышу ее стенания, даже из Люксембурга.
— Это же временно, — убеждала меня мама, когда я протестовал. — Лео, я боюсь, что однажды они заберут тебя.
В конце концов я не мог больше противостоять ей и сдался. Медленно начал возникать план: я мог бы покинуть Вену еще до начала зимы. Во вторник, так как по еврейским преданиям вторник — счастливый день. Сначала поехать на трамвае, а потом на поезде. Связаться с кем-нибудь из Комитета помощи Эзра. Найти убежище в немецком городе Трир, куда можно было теперь добраться без паспорта, потому что Австрия стала частью Германии. Затем, в промозглую ноябрьскую ночь, под покровом темноты переплыть реку и оказаться в безопасности.
— Реку? — озабоченно воскликнула мама, когда слушала мой план. Она вспомнила спокойные времена и пикники возле Дунайского канала.
Лео, будь осторожен в воде!
— Мелкую речку, — сказал я. — Это же не Дунай! Знаешь, это совсем маленькая речка. Не переживай, это пустяк, мама.
Пустяк… только река, которую мне нужно будет переплыть в случае, если я найду убежище в Трире, если меня не арестуют на улице, если этот Эзра-Комитет знает, что нужно делать.
Эзра-Комитет — еврейская организация, пытавшаяся помочь беженцам из Германии и Австрии добраться до Люксембурга. В это время повсюду буквально кишели люди, полные отчаяния. Эзра-Комитет мог предоставить убежище и еду, к тому же помочь с документами, чтобы избежать ареста, а кроме того, помогал пересекать границы так, чтобы не быть арестованным и посаженным в тюрьму. По правде говоря, люди из Эзра-Комитета были контрабандистами. Это была одна из подпольных организаций, которые постепенно появлялись тогда по всей Европе.
Днем моего отъезда мы выбрали вторник, 29 октября 1938 года. Я предчувствовал, что нескоро вернусь назад, и поэтому пошел повидаться со своим старым другом Арнольдом Юсемом. Он жил за углом на Ганновергассе. Я был у него в ночь перед тем, как Гитлер вошел в Вену. Я не мог поделиться с ним своими планами, так как обязан был молчать. Но я хотел с ним попрощаться.
— Через несколько дней я уезжаю, — сказал я. — Что нового с Палестиной?
Он всерьез говорил об эмиграции в Палестину.
— Я еще ничего не знаю, — ответил он.
Его овдовевшая мать и младшая сестра стояли рядом и слушали нас. Фрау Юсем, подперев подбородок рукой, внимательно наблюдала за мной. Я чувствовал ее мысли: «Делай то, что тебе необходимо делать, Лео». Она тоже была заботливой матерью и ломала голову над тем, что ожидает ее детей. Мы прощались и делали вид, что увидимся в лучшие времена, хорошо понимая, что этого, возможно, никогда не произойдет. Двери позади меня начали медленно закрываться.
По пути домой я встретил одного парня, с которым был знаком в школе. На нем была белая рубашка и типичные в Австрии короткие кожаные штаны на помочах. Когда мы поравнялись, я кивнул ему и сказал:
— Как дела?
Молча, не говоря ни слова, он повернулся и плюнул мне в лицо, затем быстро пошел дальше и исчез в темноте. У меня перехватило дыхание, а потом хлынули слезы. Австрия, которую я знал, — это цивилизованный старый мир — Вена Шуберта и Штрауса, Гайдна и Бетховена, Фрейда, Шнитцлера и Витгенштейна. Теперь эта Вена породила молодых людей, плюющих в лицо бывшим одноклассникам только за то, что те имели смелость поздороваться с ними. И эта же Вена вынуждала меня сейчас оставить ту жизнь, которую я так любил.
21 октября, в пятницу вечером, в наш последний Шаббат, мои сестры, мама и я сидели вместе за кухонным столом. Мамины глаза были полны слез. Зажигая традиционные субботние свечи, она сказала:
— Произнеси в этот раз благословение вместе со мной.
Свет от свечей подрагивал и мерцал, и нас охватила печаль. Обычно пятница вызывала во мне теплое и счастливое чувство. Мама рассказывала нам, что она делала днем, о счастливых невестах, чьи платья она расшивала. Истории моей сестры Дитты были о том, как она провела неделю в доме для сирот. Но сегодня стояла полная тишина, которая была нарушена только жалобным вопросом Генни:
— Мама, почему ты ничего не говоришь?
— Я должна объяснять?
Два дня назад мы получили из Люксембурга письмо. Подготовка к побегу была закончена. Я взглянул на маму и увидел женщину, состарившуюся раньше времени, а теперь еще и я увеличивал ее бремя. Я вспомнил все тяжелые, полные забот годы после смерти моего отца. Моя мама была очень отзывчивым человеком. За углом от нас жил маляр, господин Фрид. Когда нужно было красить нашу квартиру, мама звала его. Это был ужасный маляр. Ужасный, соглашалась мама, но у него дома пять детей. На вновь выкрашенных стенах были видны полосы. Он оставлял после себя в квартире полный хаос. Тем не менее находился кто-нибудь, кто заботился о бедном господине Фриде и его семье.
Теперь я спрашивал себя: кто позаботится о моей маме? В свои сорок три года она была изнурена тяготами жизни; ее волосы поседели, а глаза казались очень старыми. Я хотел снова слышать, как песни слетают с ее губ, слышать оперетты, которые бы она тихонько напевала. Я хотел, чтобы она еще, последний раз, ощутила объятия моего отца. Я хотел, чтобы дядя Мориц был снова здесь, и тетя Мина с ее драматическими сценами, и даже дядя Давид, несмотря на его потливость. Но в эту ночь только грусть наполняла нашу маленькую квартиру, и было чувство, что мир, который казался спокойным и безопасным, полностью исчез.
Последние выходные, которые я был дома, принесли новые огорчения. Мою младшую сестренку Дитту забрали на скорой помощи в детскую больницу на Лазаретгассе. Она заболела скарлатиной. Ее оставили в больнице на несколько дней, и во вторник после обеда, перед моим отъездом, мы с мамой и Генни пошли ее проведать. Я чувствовал, что слишком много нитей выскользнуло из моих рук, что я теряю контроль над ситуацией, ощущал беспокойство за семью и понимал, что я отваживаюсь выйти в огромный беспокойный и незнакомый мне мир.
Дитта была моей любимицей. Она была не только младшей сестрой, но и добрым ребенком, которого мне инстинктивно хотелось защищать.
— Я не могу уехать, — сказал я маме, — пока Дитте так плохо.
— Я сама о ней позабочусь, — ответила мама, прервав все обсуждения.
Сестра была на карантине в отделении инфекционных заболеваний. Отделение располагалось в мезонине больницы с видом во двор. Мы стояли под небольшим дождем и ждали, пока она выглянет в окно.
Дитта выглядела слабой и утомленной. Ее темные вьющиеся волосы резко подчеркивали бледность лица. Она держала маленькую черную доску напротив окна и рукой показывала нам кусочек мела. Так она давала понять, как мы можем общаться. Это напомнило мне игры, в которые мы раньше играли дома.
Я взглянул наверх и показал ей жестами: «Сегодня вечером я уезжаю. Я люблю тебя, Дитта!» Я едва сдерживал слезы и моргал, чтобы она не заметила их. Мне хотелось броситься к ней, схватить ее и защитить от всех проблем, возникающих в мире. Однако я стоял там, во дворе. Дитта написала на доске и показала в окно: «Счастливо, Лео, — стояло там. — Поцелуй тетю Мину. Скоро увидимся».
Я увидел ее сияющие глаза и медленно кивнул ей головой. Она старалась быть храброй, и я вдруг почувствовал себя трусливым дезертиром, потому что убегал. Стоя у окна, она выглядела как последний невинный ангел на земле.
Мы постояли еще несколько минут и пошли. Дитта помахала нам на прощание. Мы шли по улицам, мокрым от дождя, и плакали.
2 ТРИР, РЕКА САУЭР (октябрь — ноябрь 1938)
Придя домой, мы чувствовали себя опустошенными. До моего отъезда оставалось совсем немного времени, но нам нечего было сказать друг другу. Все слова иссякли. Мы были измучены желанием утешить друг друга и невозможностью это сделать. Казалось, семья распадается. С момента прихода Гитлера ничего не было известно о моей кузине Марте, которая скрылась от штурмовиков. Дяди и тети говорили об эмиграции и раздумывали, как можно найти щель в надежно закрытых границах. Я же в это время тайком бежал, оставляя свою сестренку одну в больнице.
Мама упаковывала мои вещи, а я тупо стоял рядом. В потертый кожаный портфель отправились туалетные принадлежности и несколько старых фотографий. Рубашки, белье и носки, а также религиозные предметы: молитвенник, талес и тефилин (кожаные коробочки со свитками Торы, носимые религиозными евреями во время утренней молитвы) — пошли в маленький чемодан.
Мы не являлись ортодоксальными евреями. Чувствуя себя глубоко связанными с иудаизмом, мы не были, однако, настолько религиозны, чтобы исполнять все обряды. Но сейчас речь шла о другом. Мама пыталась сохранить корни. Она напомнила мне, что есть очень древние вещи, которые связывают нас всех друг с другом: никогда не забывай, кто ты есть. Может быть, это было суеверие. А может быть, она думала, что так Бог скорее поможет мне. Ни ей, ни мне не пришло в голову, что эти предметы могут быть очень опасны для меня по дороге из оккупированной нацистами Австрии через Германию в крошечный Люксембург.
В Европе продолжались спазмы самоуничтожения и безжалостной юдофобии. По всей Австрии евреев, полуевреев и людей, имеющих еврейских родственников, увольняли с государственных мест работы. Еврейским врачам и адвокатам, высокопрофессиональным специалистам, было запрещено работать по специальности. Еврейские магазины закрывались и передавались арийцам. «Entjudung» — называли это нацисты. «Деевреизация». Нацистский салют с вытянутой правой рукой стал обязателен в суде и других государственных учреждениях и быстро проложил себе дорогу в классные комнаты и другие места повседневной жизни.
Через несколько дней после того, как Гитлер вошел в Вену, Адольф Эйхман запретил еврейские организации и приказал арестовать их руководителей. Желающие эмигрировать утрачивали всю свою собственность, им оставляли ровно столько денег, чтобы они могли покинуть страну. Но куда мы могли уехать? И как мы могли получить документы для отъезда, если простой запрос их подтверждал, что ты — еврей, а быть евреем означало находиться под ударом. Затем ввели новое правило: евреям запрещалось изменять фамилии, и было приказано каждому иметь при себе специальное удостоверение личности. Дальше больше: мужчины обязаны были к своему имени добавить «Израиль», а женщины — «Сара».
— Сара, Сара, Сара! — кричали на рынке школьники-подростки вслед моей бабушке.
Семь месяцев прятались мы в нашей маленькой трехкомнатной квартире на первом этаже, постоянно опасаясь, что нас заберут. Мы почти не осмеливались выходить на улицу. В последний день дома я скользил взглядом по квартире, как будто хотел отпечатать ее в своей памяти, и одновременно подыскивал слова утешения для мамы.
— Мама, — сказал я, — не беспокойся. Все будет хорошо.
Она посмотрела на меня и грустно улыбнулась, не сказав ни слова. Я был незрелым семнадцатилетним мальчиком, пытающимся пустыми фразами ввести в заблуждение изможденную от забот женщину. Чуть позже мы надели пальто и отправились к ближайшему углу ждать трамвай номер 5, на котором я должен был ехать к бабушке в район Оттакринг. Это означало прощание с мамой. Все происходящее было слишком тяжело для нее: сцена в больнице, опасности в городе, расставание с сыном. К началу моего бегства из Австрии, после всего пережитого, поездка через весь город к вокзалу была ей не по силам.
В Вене уже зажгли фонари. Мама, Генни и я стояли в ожидании трамвая, и мне становилось все тревожнее. Я боялся взрыва чувств со стороны мамы и в то же время опасался своих собственных слов, собственных сомнений, чего-то, что было бы неловким и мучительным для меня и ничем не помогло бы маме.
— Будь очень осторожен, — сказала мама, когда подъехал трамвай.
Легкий туман клубился в свете фар. Я обнял маму и Генни и вошел в трамвай, чтобы за пятнадцать минут добраться до бабушки.
— Будь осторожен, — повторила она. — И напиши как можно скорее!
Никогда больше я не видел маму и сестер.
Я был еще подростком, стоящим на пороге взросления. Всю свою жизнь я нес ответственность, но в определенных границах, которые давали мне чувство защищенности. Все эти границы начали теперь исчезать. Я пытался внушить себе, что это — начало великолепного приключения: поездка в Люксембург, чтобы увидеть дядю и тетю. Расставание, без сомнения, временное.
Когда я пришел к бабушке, там было еще печальнее. Ее дочь, моя тетя Роза, сидела рядом с бабушкой, держа ее за руки. Тетя Роза, которая боялась темноты, видела, как тьма сгущается вокруг нас. Неделю назад, на прощание, она взяла меня с собой в Венскую государственную оперу на «Травиату». Мы оба делали вид, что в мире все еще есть остатки культуры. Дядя Исидор тоже был у бабушки. Он выглядел почти таким же обеспокоенным, как в день прихода Гитлера, когда чужие люди насильственно вторглись в еврейские квартиры. Бабушка, оцепенев, сидела в кресле и плакала, не скрывая слез.
Я подошел и обнял ее. Она заплакала еще сильнее. Меня охватило чувство, что позади остается ужасно много плачущих людей. Даже тогда, когда я, пытаясь обмануть себя, воображал, что моя семья однажды, в некотором отдаленном будущем, последует за мной и мы все встретимся в безопасном месте, мне было очевидно, что для моей бабушки все это уже поздно. Она была слишком стара, и я знал, что в этот миг мы видимся с ней последний раз.
Бабушка была неимоверно дорога мне. Когда был жив мой отец, мы с ним каждое воскресенье ездили к ней. Рядом с ней я чувствовал, что я любим. Ей было почти семьдесят, и позади были тяжелые годы. После того как обстановка в Вене так драматически ухудшилась, бабушка все чаще подвергалась издевательствам со стороны юных хамов, для которых она была легкой добычей. Позже «Сара, Сара, Сара» заменили намного более грубыми выражениями. А сейчас она теряла своего внука — это было выше ее сил.
— Успокойся, — сказала тетя Роза и нежно погладила ее по голове. — Не делай ему еще больнее.
Они еще не догадывались тогда, что ожидает их самих позже, в Аушвице.
— Идем, — вдруг быстро сказал дядя Исидор. — А то ты опоздаешь на поезд.
Я наклонился к своей старой, убитой горем, бабушке и поцеловал ее. Она последний раз тихо шепнула мое имя.
Такси мчало нас сквозь моросящий дождь к западному вокзалу Вестбанхоф, где несколько месяцев назад Гитлер вошел в Вену. Вокзал казался еще огромнее, чем раньше. Дядя Исидор, дотошный во всем, был сердит, потому что забыл взять зонт. Он всегда стремился сохранить достоинство. Тогда он еще не имел представления об унижениях, ожидающих его в Бухенвальде, и о смерти в Аушвице.
Поезда всегда волновали меня. Кто знает, что может открыться в огромном, незнакомом мне мире? Сейчас вокруг толпились солдаты и полицейские в форме — любой из них мог наброситься на нас из-за пустяка. Дядя дал мне билет на поезд, пожал руку и сказал: «Bleib gesund». — «Будь здоров».
Это было все. В этот день было так много расставаний, что наш запас слов для этого был исчерпан. Мы пошли вдоль платформы к поезду. Дядя Исидор нес мой чемодан, а тетя Роза так крепко сжимала мне левую руку, как будто я мог упасть без ее помощи. Сев в поезд, я высунулся из окна и увидел их на платформе.
— Спасибо за все, — сказал я.
Мое сердце готово было выскочить из груди от волнения и страха, но я улыбался, стараясь убедить их, что у меня все хорошо. Тогда они скажут маме, что я, уезжая, был счастлив, и мы все будем охвачены одним и тем же утешающим нас вымыслом.
— Передай привет Мине, — одновременно сказали они.
Когда поезд тронулся, они потянулись к окну, чтобы коснуться моей руки. Роза плакала. Несколько секунд они шли рядом с поездом, касаясь моей руки, потом мы только смотрели друг на друга. И вот дядя махнул последний раз и отвернулся. Я все стоял у окна и махал, махал, пока мог видеть вдали их исчезающие силуэты. Они были последним отзвуком моей прошлой жизни. Я стоял, замерев у окна, пока тетя Роза не исчезла в темноте, которой она так боялась.
Во время двадцатичасовой поездки я наблюдал, как австрийский ландшафт постепенно переходил в немецкий. По мере продвижения на северо-запад моросящий венский дождик превратился в настоящий ливень. Я ехал вместе с двумя монахинями, которые молчаливо сидели в купе. Мог ли я найти у них утешение? Несомненно, ни коричневорубашечники, ни солдаты не должны были бы нарушить их святое присутствие. Но в этой стране произошло так много непредвиденного, что уже ни в чем нельзя было быть уверенным.
Когда в марте Гитлер вошел в Вену, австрийское архиепископство приветствовало его официально словами одобрения, отметив усилия нацистов «отразить опасность всеразрушительного безбожного большевизма» как «великое историческое событие».
Однако спустя несколько месяцев официальные восхваления умолкли. Были закрыты католические школы, начали конфисковать церковное имущество. На службе в венском Штефансдоме[5] 7 октября 1938 года кардинал Инницер сказал в завуалированной форме тысячам молодых людей, чтобы они не дали ввести себя в заблуждение. Затем на площади Штефансплац огромная толпа молодых католиков скандировала: «Мы хотим видеть нашего архиепископа», как пародию на эхо призывов «Мы хотим видеть нашего фюрера», адресованных Гитлеру. Следующим вечером группа гитлерюгенда штурмовала резиденцию архиепископа. Они разгромили все, что находилось внутри, и выбили окна. Один из священнослужителей был выброшен в окно. Полицейские и пожарные появились только час спустя.
Через несколько дней австрийские чиновники высмеяли «священников, вмешивающихся в политику и пытающихся подстрекать народ против государства». Потом они пошли дальше: обвинили евреев; затем чехов. Отцы церкви быстро научились держать язык за зубами.
Судетская область Чехословакии была уже поглощена Гитлером. Последние два дня сентября ведущие политики Германии, Франции, Италии и Великобритании на встречах в Мюнхене решали судьбу чехов. Ни один представитель Чехословакии на эти встречи приглашен не был. Гитлер заявил, что это — последняя страна, которая ему нужна. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, в тщетных попытках спасти свою страну от войны, дал согласие на присоединение Чехословакии к Германии без кровопролития. «Мир и спокойствие в наше время», — назвал он это. Чехословакия, так же как и Австрия несколько месяцев назад, прекратила свое существование: 15 марта 1939 года страны не стало, был установлен режим фашистского протектората над Богемией и Моравией. Словакия стала самостоятельным государством, сотрудничающим с Третьим рейхом.
Петля, накинутая на Восточную Европу, начала затягиваться. Когда Чехословакия пала, Венгрия содрогнулась. Тысячи евреев, бежавших из Польши, были высланы назад вследствие ужесточения законов об иммиграции. Было очевидно, что необходимо бежать. Но как?
В поезде, в маленьком купе, я рассматривал монахинь, но не говорил ни слова. Святые женщины были незнакомы мне, а любой незнакомец мог быть опасен. Были ли они из тех католиков, которых возмущал нацистский контроль над школами, или их уже запугали до полного повиновения? Непреодолимое молчание повисло над нами.
Через несколько часов, убаюканный шелестом дождя и движением поезда, я заснул. Когда я проснулся, поезд подошел к вокзалу во Франкфурте. Монахини пошли к выходу, и это немного встревожило меня. До рассвета было далеко, и все еще сотни километров отделяли меня от Трира. Я вытащил из кармана брюк записи. В них стояло, что мне необходимо делать после того, как я покину поезд. Я выучивал все так, как будто готовился к очень важному экзамену, во время которого у меня не будет возможности пользоваться шпаргалками.
Я должен буду разыскать в Трире маленькое бюро Еврейского совета и там найти кого-нибудь из Комитета помощи Эзра. Слово «Эзра» само означает «помощь». В этом бюро мне помогут найти надежное убежище, где я смогу прятаться несколько дней, ожидая известий от господина Беккера, который должен отвезти меня в Люксембург.
Я думал о Дитте, такой маленькой и такой одинокой в больнице. Я думал о маме и Генни, стоящих в тумане рядом с трамваем, на котором я уезжал. О моих родных и о прощаниях, прощаниях, прощаниях…
Безумие охватило весь континент, и никто не знал, где можно найти убежище. Неделю тому назад фельдмаршал Герман Геринг провозгласил, что, если возникнет необходимость, можно будет организовать гетто в больших городах. Впервые речь зашла о еврейских трудовых бригадах. Как же взбрело мне в голову отправиться из вновь присоединенных земель в старую Германию, в самую сердцевину этого безумия? Удастся ли мне выскользнуть оттуда без бумаг?
Трир был не таким, как я ожидал. Когда на следующий день после полудня я вышел из вокзала, то увидел вполне мирный город. По сравнению с ним Вена казалась водоворотом: горожане находились в постоянном эмоциональном возбуждении, как будто хотели убедить самих себя, что они — истинные арийцы, верные сторонники Гитлера. Новизна происходящего все еще захватывала их. У немцев же, живших с Гитлером уже несколько лет, пыл немного охладился. Да и можно ли постоянно держать народ в состоянии экстаза? На улицах Трира было не так уж много солдат. Казалось, никто не вышагивал особо горделиво. Город не кишел самодовольными, упивающимися властью людьми. Я посмотрел вверх и увидел во всех окнах цветочные ящики. Это показалось мне оазисом изящества.
Лишь погода была угрожающей. Небо потемнело, и, когда я добрался до маленького запущенного бюро Еврейского совета, пошел дождь. Еврейское население Трира, которое и раньше было небольшим, теперь составляло всего несколько тысяч человек.
— Меня зовут Лео Бретхольц, — представился я мужчине средних лет.
— Я так и подумал, — ответил он. — Как вы доехали?
Я был рад, что меня, юношу, пустившегося в бегство, уже ожидали. В бюро было два стола, пишущая машинка и шкаф для бумаг. Наша встреча была короткой и деловой, и я немного занервничал.
Мне сказали, что я должен пойти на Петер-Фридхофен-штрассе, 13, где я найду себе комнату на несколько дней и еду. Тринадцать — несчастливое число, так же как и слово «Фридхоф». На немецком языке оно означает «кладбище». Тринадцатый номер на кладбище. Но я оставил свои мрачные мысли при себе.
— Не нужно называть там свою фамилию, — добавил он. — Достаточно имени.
— А кто там будет? — спросил я с наигранным спокойствием.
— Die Barmherzigen Вrüder, — улыбнулся мой собеседник. «Братья милосердия».
— Братья? — удивился я.
— Счастливо!
Значит, теперь я остановлюсь в монастыре, где буду зависеть от францисканских братьев. Хорошие люди, хорошие неевреи.
— Мы очень хорошо знаем друг друга, — добавил он успокаивающе.
На мощеной улице за черным забором я нашел их украшенное лепниной здание, открыл скрипучие ворота и позвонил в колокольчик. Монах в коричневой рясе открыл дверь и приветливо улыбнулся мне. «Брат Иоханнес», — представился он. Когда он закрыл за нами дверь, я спросил себя: в безопасности ли я здесь? Там, снаружи, на улицах, преследовали евреев; здесь, в монастыре, в сердцевине христианства — люди, наученные держать язык за зубами, в то время как Гитлер совершает одно злодеяние за другим.
В монастыре пахло воском и ладаном. На некоторых стенах висели нарисованные маслом картины с изображениями святых. В целом монастырь казался примером воздержанности и чистоты, каких мне до сих пор не доводилось никогда встречать. Миновав длинный коридор с кафельным полом, мы поднялись по лестнице в комнату с шестью или восемью узкими кроватями, застланными белыми простынями.
Я пытался успокоиться. Не полагайся ни на кого, предостерегала меня мама. Мир полон опасностей. Я должен остаться здесь и ждать дальнейших указаний, но я не имел представления, когда это будет.
— Не нужно беспокоиться, — улыбнулся брат Иоханнес.
Лежа на кровати в ожидании ужина, я увидел в коридоре монахов. Одни тихо бормотали молитвы, другие выполняли необходимые работы. Им не было дела до меня. Само собой понятно — я здесь не для того, чтобы со мной беседовали, а только для того, чтобы дождаться новостей.
Перед ужином прочли простую застольную молитву. Я, как и другие, склонил голову, но слова не произносил. Мы съели суп, овощи, молоко и кусок хлеба. Еда была вкусна, как манна небесная. За столом не было никаких разговоров, и после еды все молча встали из-за стола. Всю ночь шел дождь, капли мелодично стучали в окно рядом с моей кроватью, и я глубоко проспал до утра.
Затяжной дождь лил и весь следующий день. Это было плохо. Сауэр, в общем-то, мелкая река, и обычно ее можно перейти вброд: воды там по пояс. Но теперь, вполне возможно, река вздулась от дождя, и нужно будет ждать несколько дней, пока она успокоится. Могу ли я рискнуть задержаться еще на несколько дней?
Мне захотелось выйти, чтобы послать маме открытку. Вспоминая покой предыдущего дня, я чувствовал себя в безопасности. Выходя из монастыря, я поздоровался с братом Иоханнесом, который только что открыл входную дверь посетителю.
Мое сердце на мгновение остановилось. Посетителем был немецкий солдат. Я отвел глаза. Он казался девятнадцати- или двадцатилетним, чуть старше меня. Я постарался сделать вид, что очень занят. Он кивнул, здороваясь. Пока брат Иоханнес приветствовал его, я с бьющимся сердцем вышел на мокрую от дождя улицу, надеясь, что к моему возвращению солдата уже не будет.
Я нашел магазин сувениров и купил открытку. Трир казался очаровательным. Город с множеством соборов, остаток Римской империи, уютно устроился в долине реки Мозель с ее бесчисленными виноградниками и винными погребами. Улицы были мощеными, как и в Вене, где униженных евреев заставляли чистить их щетками. А дождь все шел и шел.
Я коротко написал домой свои новости. «Все хорошо. Я в безопасности. Ожидаю встречи…», но фамилии Беккера я не упомянул. Отправляя открытку, я представлял себе мамино облегчение, когда она ее получит.
Но мое собственное облегчение мгновенно исчезло, когда я вернулся в монастырь. Немецкий солдат уже не стоял у входной двери, а сняв обувь, лежал на кровати рядом с моей и чувствовал себя как дома. Итак, он был теперь моим соседом по комнате. Я подавил порыв тут же убежать и заглянул под свою кровать. Мой чемодан с маленьким замком никто не трогал. Возьми тефилин, настаивала мама. Возьми талес. Если у меня обнаружат одну из этих вещей, станет очевидно, что я — еврей.
Но солдат выглядел расслабленно и добродушно, и монахи производили вполне спокойное впечатление. Успокойся, думал я. Ничего не случилось. Зачем им приходить сюда за одним маленьким евреем?
— Меня зовут Хайнц, — представился солдат, приподнявшись на локтях и повернувшись ко мне. На лице его было множество рубцов, оставшихся, видимо, от угрей. Судя по его произношению, он был с юга Германии.
— Я — Лео, — ответил я, — и я из Вены.
Мы достаточно просто миновали вопрос о фамилиях. Хайнц сказал, что приехал сюда, чтобы посетить друзей своей семьи. У него были светлые волосы и острый подбородок. Он был на короткое время освобожден от армии и предложил мне погулять с ним по городу. Прекрасно, подумал я. Кто стал бы меня, идущего с немецким офицером, задерживать?
— Ты довольно далеко от Вены, — заметил он.
Когда мы гуляли по мокрым улицам Трира, я вспомнил мамины слова об осторожности. Я решил рассказать ему только половину правды.
— У меня в Люксембурге тетя, и она пригласила меня к себе, — сказал я. — Здесь я жду своего дядю, который должен заехать за мной. Он приедет в Трир по делам в субботу или в воскресенье.
Хайнц казался приличным парнем. Мы дошли до книжного магазина, в котором было полно книг по национал-социализму. Книги на другие темы практически отсутствовали.
— Есть что-нибудь интересное? — спросил Хайнц.
Я пожал плечами, мне не хотелось дискутировать о национал-социализме. Мы пошли обратно в монастырь. Юные школьницы, завидев форму Хайнца, кокетливо хихикали, но он, казалось, этого не замечал. За ужином мы сидели рядом. Во время еды снова царила тишина. Вечером мы улеглись в кровати, и когда Хайнц уснул, я встревожился. Он громко бормотал что-то во сне. Слов было не разобрать, но я спрашивал себя: что будет, если я тоже начну говорить во сне. Вдруг я скажу что-нибудь, что меня выдаст? Хайнц был мне, в некотором смысле, родным по духу, но кто знает, как он отреагирует, если узнает, что я — еврей.
Утром для меня была почта: открытка из Люксембурга, которую я с таким нетерпением ждал. Мой час пришел.
«Лео, — стояло там, — встречаемся в понедельник вечером, в 21:30, перед монастырем. Пожалуйста, без чемодана. Беккер».
Беккер — мой проводник на свободу, через два дня.
Опять шел дождь. Сообщение Беккера было однозначно: никаких чемоданов. Возможно, это означает, что река слишком глубока. Дождь лил как из ведра, и пересечь реку с чемоданом было невозможно. Что-ж, тогда возьму только портфель.
Когда во второй половине дня вернулся Хайнц, я как раз обдумывал, не попросить ли его о помощи. Хайнц был у зубного врача, где ему поставили пломбу. Если бы он пошел к зубному врачу в армии, сказал он весело, зуб бы ему просто выдрали. В армии нет представления о тонких умениях — если возникает проблема, ее необходимо ликвидировать. Он смеялся над такой тупостью. Мы смеялись вместе. Вечером, когда мы снова лежали в кроватях и болтали, я решился довериться ему.
— Меня заберут в понедельник, — сказал я. — Значит, завтра я ночую здесь последний раз. Можно попросить тебя об одном одолжении?
Я думал попросить брата Иоханнеса, но мне не хотелось подвергать опасности учреждение, которое приняло меня в трудной ситуации.
— Не мог бы ты отправить мой чемодан вслед за мной? — спросил я. — Я оплачу почтовые расходы.
Я придумал объяснение: машина моего дяди слишком мала и уже загружена его собственными вещами. Я дал Хайнцу десятимарковую купюру, что было более чем достаточно для оплаты посылки. Хайнц планировал задержаться в Трире еще на две недели, и я мог просто прислать ему свой адрес из Люксембурга.
В субботу дождь немного утих. Я все еще надеялся пересечь реку вброд, по пояс в воде. Мы с Хайнцем пошли в город на рынок и пообедали в маленькой гостинице. Нам было хорошо вместе. Когда мы возвращались в монастырь, дождь опять усилился. Следующей ночью мне приснилось, как я плыву через реку в другое, более безопасное, место.
Лео, будь осторожен в воде!
Когда я открыл глаза, дождь лил не переставая. Хайнц уже встал, и я слышал, как в ванной, расположенной в другом конце спальни, течет вода. Пока он мылся, я потянулся к чемодану, достал талес и тефилин, чтобы переложить их в портфель. Но я колебался. Если вода в реке поднимется слишком высоко, то эти религиозные предметы могут погибнуть. Но что, если я их оставлю, а Хайнц вдруг вздумает открыть чемодан и натравит на меня власти?
Оставь их здесь, сказал я себе. Доверься этому парню. Немецкие солдаты гордятся своим чувством чести. Однако мама умоляла меня всегда держать эти вещи при себе, поэтому я положил их в портфель, а в чемодане оставил только маленький молитвенник, которого, впрочем, уже было достаточно, если бы Хайнц его нашел.
Казалось, день никогда не кончится. Мне было не по себе. Приедет ли этот Беккер? Прекратится ли когда-нибудь дождь и будет ли река достаточно спокойна для перехода ее вброд? Я проверил содержимое своего портфеля, затем еще раз. Я два раза внимательно прочитал инструкции тети Мины, потом уничтожил их, как мне велели. Вдруг я вспомнил: необходимо принести деньги для Беккера, пятьдесят марок в монетах. Указание насчет монет было особенно важным, так как бумажные деньги при пересечении реки могут размокнуть и пропасть. Я должен был заплатить после того, как перейду реку и окажусь в безопасности.
Но я забыл приобрести монеты, а теперь было поздно. Все банки были уже закрыты. Да… очень плохо. Когда я ему заплачу, он будет недоволен, но это не страшно. Кроме того, я спрячу деньги в карман жилетки, и, находясь так высоко, они наверняка останутся сухими.
— Береги себя, — сказал мне Хайнц на прощание. Он взял мой чемодан, и я ушел.
В темноте я увидел Беккера, ждущего меня на другой стороне улицы. Дождь наконец прекратился. У Беккера был автомобиль пежо без заднего сидения. Он специально снял сидение, чтобы я смог лежать там по дороге в город Люксембург, когда река останется позади.
— Твоя тетя Мина ждет тебя на той стороне реки, — сказал он.
Эти простые слова успокоили меня, когда мы ехали по улицам Трира.
— Ты плавать умеешь? — спросил он меня.
— Да, — ответил я. — Нужно будет плыть?
Стояла холодная ночь, какие бывают в конце октября. Я был тепло одет.
— Возможно, нет, но может быть и да, — сказал он.
Он был веселым и носил кепку.
— Когда мы подъедем к реке, — посоветовал он, — лучше снять носки и положить их в нагрудный карман, чтобы надеть их сухими на другой стороне.
— Хорошо, я так и сделаю, — сказал я.
— Будь осторожен, не заблудись, иди в нужном направлении.
Он сказал, что высадит меня возле немецкого пограничного поста. Там меня коротко проверят и зададут вопросы. Какие вопросы? Не волнуйся. Нужно отвечать кратко, не вдаваясь в детали, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы. После таможни я опять сяду в его машину, чтобы доехать оставшийся путь до реки. Это недалеко. Потом он сам проедет через таможню. Поскольку он был люксембуржцем, никаких особых проблем у него не ожидалось. Проблемы могли возникнуть у меня, так как визы у меня, разумеется, не было. Меня могли задержать при попытке проникновения в страну, обвинив при этом Беккера в контрабандном ввозе людей. Немецкие таможенники были подкуплены, но люксембургские — нет. Поэтому-то я и должен был добираться до Люксембурга через Сауэр.
— Они знают меня, — сказал Беккер. Он имел в виду немецких офицеров. — И они знают, для чего все это. Не бойся.
Но я боялся. Он сказал, что я должен идти вброд все время прямо до отмели в середине, где можно остановиться и передохнуть, если возникнет необходимость, а потом пересечь остаток реки.
— Вдоль Сауэра проходит шоссе, — сказал он. — Я буду медленно ездить по нему туда-сюда, мигая фарами. Когда ты выйдешь из воды, оставайся лежать в прибрежной канаве, пока я не проеду мимо. Выходи только тогда, когда увидишь, как я возвращаюсь. Понятно?
Я кивнул и почувствовал, как бьется мое сердце. Мы добрались до границы за час до полуночи. Воздух был холодный, но дрожал я не только от холода. Была безлунная облачная ночь, 31 октября, вечер накануне Дня всех святых. Может быть, думал я, охранники ввиду праздника отнесутся ко мне по-христиански милосердно.
— Не сверни себе шею! — сказал Беккер.
Мое сердце билось где-то в горле, а он продолжал балагурить. Когда мы подъехали к границе, Беккер остановил машину, поздоровался с таможенниками и стал ждать меня. Охранники казались самодовольными и немного высокомерными.
— Was tut dein Vater? — спросил один из них. — Кем работает твой отец?
— Мой отец умер. Он был портным.
— Ну да, все так говорят: портной или сапожник…
Ждал ли он моего возражения? Я поднял глаза и увидел фотографию Гитлера. Меня охватила дрожь. В чем именно состояло соглашение, которое было заключено? Я старался выглядеть разумным и бесхитростным, но охранники почти не смотрели на меня.
Чуть позже один из них презрительно махнул рукой, и я вернулся к машине Беккера. Когда мы остановились вблизи реки, я вышел с портфелем из машины и сразу услышал грохот воды.
— Не забудь снять носки, — сказал Беккер.
Он уехал, а я спустился по откосу к берегу. Сауэр, казалось, просто ревел. Дожди последней недели превратили обычно тихую и узкую речку в бешеный поток, шириной более 30 метров, который тащил мимо меня огромные ветки и различные обломки.
Стоя на берегу в голубом габардиновом плаще, надетом поверх костюма с брюками гольф, я нервно размышлял, не затянет ли меня на дно одежда, когда она намокнет. Я снял носки и положил их в карман, руки мои дрожали. Я опять натянул обувь и почувствовал, как дрожь все сильнее охватывает меня. В темноте я не мог определить глубину реки. Когда я подошел ближе к воде, я дрожал уже всем телом.
Я сделал шаг в воду, держа свой портфель над головой и все еще веря, что мне удастся пересечь Сауэр вброд. Боже, сохрани меня. Боже, у меня есть Твои святые реликвии. Я сделал еще один шаг и тут же потерял дно под ногами.
Лео, будь осторожен в воде!
Страшно холодная вода Сауэра бурлила вокруг меня. Казалось, она несется сквозь меня, не давая мне дышать. Я поплыл и почувствовал, как поток подхватил меня. Правую руку, с крепко зажатым в ней портфелем, я выбрасывал вперед, затем беспомощно выбрасывал вперед левую. Я тщетно искал песчаную отмель, о которой мне говорил Беккер, поскольку начал задыхаться. Портфель плясал на воде. Мои тефилин и талес наверняка промокли насквозь.
Бог мой, видишь ли Ты меня? Вес пальто и обуви тащил меня вниз, и я отчаянно боролся с течением, чтобы удержаться на воде. Мой рот был полон воды. Я пытался хватать ртом воздух, а поток нес меня вниз по течению, но одновременно в направлении другого берега. Где же эта песчаная отмель Беккера? Слава Богу, думал я, что мама не видит меня в таком отчаянном положении.
Мне казалось, что прошла вечность, хотя все это длилось лишь несколько минут. Изнуренный, я уткнулся в илистый берег и старался подняться на ноги. Наконец, совершенно мокрый, я вылез из воды, чувствуя, как хлюпает моя обувь, как вода ручьями стекает с одежды, прилипшей к телу, но я был счастлив, что справился с этим. Съежившись в темном рве, слишком усталый, чтобы чувствовать ночной холод, я пытался восстановить дыхание. Насквозь промокший портфель лежал, прислоненный к моему колену, но я так нервничал, что не решался открыть его и проверить состояние талеса и тефилина. Через несколько минут Беккер помигал фарами, сигнализируя, что все в порядке.
— Назад, — сказал Беккер.
Я лег вниз в задней части машины, и меня охватило чувство, что я обрел свободу.
— Деньги, — добавил он быстро. — У тебя есть пятьдесят марок?
— Да, — ответил я смешавшись, — но не мелочью. Извините, пожалуйста.
Было очевидно, что его это не обрадовало. Я не последовал его инструкциям, и теперь деньги были абсолютно мокрыми. Пожав плечами, он взял банкноты и положил их на переднее сидение между страницами газеты. Я снял пальто. Мы ехали около пятнадцати минут, и все это время Сауэр стекал с моей одежды, образуя огромную лужу в его машине.
— Если бы я знал, что у тебя нет монет, — сказал Беккер, — я бы не приехал за тобой.
Он произнес это легко, подтрунивая надо мной.
— Тогда вам пришлось бы иметь дело с моей тетей Миной, — ответил я ему в тон. — Она грандиозная женщина. Ее эмоции перекрывают те, что встречаются в больших операх.
Беккер кивнул. Очевидно, он уже знал, что я этим хочу сказать.
— Она ждет тебя там, дальше, — сказал он.
Тетя Мина остановилась в маленькой гостинице недалеко от города Эхтернах. Дядя Сэм остался дома. Когда я вошел в гостиницу, дрожа от холода в мокрой одежде, тщетно пытаясь выглядеть как можно равнодушнее, она увидела меня и закричала:
— Лео, Лео!
Потом обняла меня и не выпускала, пока мы не вернулись к машине Беккера, на которой должны были ехать к ним домой в Люксембург.
— Какой мокрый, — сказала она, повернувшись ко мне с переднего сидения, как будто хотела убедиться, что я действительно здесь.
— Да, — ответил я, сидя на полу в задней части автомобиля. Счастливо улыбаясь, я вытащил что-то из кармана. — Даже носки совсем промокли.
Я поднял их вверх и громко рассмеялся. Беккер взглянул назад и поднял вверх бумажные деньги, полученные от меня. Он держал их осторожно, двумя пальцами и, издав только ему одному присущий иронический смешок, положил их на панель приборов, чтобы они сохли. От звука нашего смеха меня охватило такое чувство безопасности, какого не было уже месяцев семь, с момента прихода Гитлера.
3 ЛЮКСЕМБУРГ (ноябрь 1938)
Беккер медленно вел машину в направлении города, внимательно высматривая полицейские патрули. Когда нам повстречалась патрульная машина, Беккер и полицейский взмахом руки поприветствовали друг друга. Для меня Беккер был человеком с огромными связями по всему континенту, и теперь, рядом с ним, я чувствовал себя в безопасности. Всего несколько часов назад он был мне незнаком. Час назад я стоял на немецком берегу бурлящей реки, готовый броситься в волны. Теперь же я, счастливый, направлялся к дому тети Мины.
Тетя Мина, маленькая, полная, склонная к чрезмерной театральности женщина, вступила в молодости в Еврейское драматическое общество. Однако, выйдя замуж за Сэма Гольдштейна, оставила сцену, ограничив себя драмами повседневной жизни.
Дядя Сэм был красивым и образованным мужчиной, который раньше получал хороший доход от торговли мехом. Сейчас он терпеливо ждал нас дома. Я представил себе, как он решил: пусть она едет одна, пусть блеснет своим сценическим искусством, а позже я встречу Лео, когда страсти немного улягутся.
Сидя сзади в машине Беккера, я вспоминал свадьбу тети Мины и дяди Сэма. Мама приготовила для свадебного стола фаршированную рыбу. Лучшую фаршированную рыбу к западу от Волги, постановили все. Генни несла длинный шлейф тети Мины. Мне было тогда шесть лет, и Макс Бретхольц был еще жив. На своей швейной машине он сшил для меня костюм, так как мне поручили нести кольца. Замечательный костюм, сказали все. Твой отец, заявили они, самый лучший портной к западу от Волги. Какая талантливая семья, решили все. За красоту, за великолепную фаршированную рыбу, за такое удивительное швейное мастерство! — провозгласили все, весело поднимая бокалы.
А сейчас, когда мой отец уже девять лет как умер, я, его сын, бежал, чтобы спасти свою жизнь, вынужденный оставить своих любимых. Я спрашивал себя, был ли папа со мной в этот вечер, не он ли помог мне, как добрый дух, пересечь Сауэр?
Я ворочался в задней части машины, мне было неудобно, сыро и холодно. Но постепенно я почувствовал, как спадает напряжение. Тетя все время поворачивалась и смотрела на меня. Она сияла. Она не только помогла мне, но и почтила память умершего брата. Это была мицва! Обычно очень разговорчивая, со склонностью к преувеличенным драматическим жестам, она сидела сейчас, не произнося ни слова.
— Gut gemacht! — «Молодец», — сказал Беккер, когда мы добрались до квартиры тети Мины. — Счастливо. Ступай наверх, вытрись насухо и выпей горячего чаю. Мина, это был длинный день. Ты можешь гордиться своим племянником.
Он обнял тетю Мину. Ее глаза были полны слез. Беккер казался уже членом семьи. Я знал его, правда, всего несколько часов, но он спас мне жизнь. Он ушел, как только мы с тетей Миной повернулись, чтобы пойти наверх.
Квартира была расположена на втором этаже над бистро. Узкая дверь справа от входа в кафе вела в маленький, плохо освещенный вестибюль, за которым я увидел приоткрытую дверь. Дверь распахнулась, и дядя Сэм устремился к нам. Он подбежал ко мне с широко распростертыми руками.
— Слава Богу, слава Богу! — воскликнул он и на мгновение крепко обнял меня.
— Слава Богу, слава Богу! — сказал он снова. Это он-то, олицетворяющий спокойствие в нашей семье! Мы обнялись еще раз, и дядя Сэм, отступив на шаг назад, посмотрел на меня.
— Ты изрядно промок, Лео.
Я пожал плечами. Река, пояснил я. Вода немного поднялась.
Было уже далеко за полночь. Я осмотрелся и увидел скромную, скудно меблированную квартиру. Чувствовалось, никто не предполагает оставаться здесь надолго. Мы все быстро превращались в народ, спасающийся бегством. В квартире была спальня, гостиная, кухня и маленькая ванная. Мне постелили на софе. Когда я начал говорить, дядя Сэм остановил меня.
— Сначала, — сказал он, — переоденься.
Я снял брюки гольф и пиджак, который оставил синий след на моей шее. Дядя протянул мне сухое белье и пижаму — все слишком большое, но удобное. Моя одежда отправилась в ванную на просушку. Сидя в кресле, тетя внимательно наблюдала за всем, и мне было приятно ощущать их заботу. Это был теперь мой новый дом.
Открыв портфель, тетя Мина рассматривала, уцелело ли хоть что-нибудь. Все было насквозь мокрым. Она раскладывала вещи на кухонном столе, чтобы они просохли. Я смотрел на фотографии, запакованные мамой. Они были связующим звеном с моим быстро исчезающим прошлым. Некоторые склеились, и их нужно было осторожно разъединить. Я положил носки и обувь на батарею и ощутил поднимающееся во мне тепло.
У меня было чувство, что я вернулся в лоно семьи и религии. Мой талес расстелили сушиться, но тефилин был сильно поврежден и дядя Сэм сказал, что согласно еврейским законам он стал нечистым. Для ритуального очищения он отнесет его в синагогу. Синагога, думал я. Здесь не было необходимости произносить это слово шепотом.
Они спрашивали меня о семье, о настроении в Вене. Из местных газет почти ничего невозможно было узнать. Были ли шансы убежать остальным? Им было ясно, что ни мама, ни мои сестры не смогут убежать из Вены таким образом, как это сделал я. Усталый, я грустно согласился. Было уже раннее утро, когда тетя Мина сказала, что нам всем пора ложиться спать.
— Мы должны быть осторожны, — предостерег дядя Сэм, — так как ты здесь нелегально.
Но и они были в Люксембурге нелегально. Они приехали с временной визой, срок которой уже истек. Надо было делать все, чтобы не быть задержанными полицией. И уж тем более избегать любой связи со мной, так как у меня визы вообще не было.
— Ты должен завтра с утра срочно написать маме, — сказала тетя Мина.
Я кивнул. Засыпая, я все еще чувствовал силу Сауэра, пытался удерживать голову над бешеным потоком и одновременно хотел отправить маме побыстрее весть: я сделал это, у меня все хорошо, спокойной ночи, мама.
Утром я оказался перед лицом новой реальности. Я не мог оставаться долго в этой квартире, потому что все мы были здесь нелегально. Нельзя было подвергать опасности друг друга. Но дядя и тетя заверили меня, что Эзра-Комитет имеет контакты с правительством Люксембурга по проблемам беженцев. Шесть месяцев назад тетя и дядя получили временные визы, так как им удалось доказать, что они собираются эмигрировать в Америку. Люксембург является для них местом временного пребывания, заверили они ведомства, прибежищем на несколько недель. Но шесть месяцев уже не рассматривались как «временные». Да и Америка не очень-то великодушно раскрывала свои объятия. Тетя Софи, сестра Мины, пыталась получить для всех нас визы от города Балтимор, Мэриленд, США. Итак, мы ждали.
Когда тем утром я проснулся в половине одиннадцатого, тетя уже повесила мою выглаженную одежду и приготовила завтрак. Остальная одежда все еще оставалась в Трире, в чемодане, который Хайнц должен был переслать мне вслед.
— Ну разве не чудо? — сказал я. — Сегодня я завтракаю со своей семьей, а еще вчера — с монахами в монастыре.
— Это организовал Эзра-Комитет?
— Конечно. Вы не знали?
— Чем меньше знаешь, тем лучше.
— А моим соседом по комнате был немецкий солдат, — добавил я.
— Что? Немецкий солдат?
— Да.
— Du bist doch meschugge! — «Ты с ума сошел!» — воскликнула тетя Мина. — Только не пиши об этом маме.
Я рассказал им, что мой чемодан остался у солдата, и они встревоженно переглянулись. Я слишком рисковал, говорил их взгляд. После завтрака я написал письмо маме, ни словом не упомянув солдата. Позже мы пошли погулять и во время всей прогулки я держался от них на достаточно большом расстоянии. Осторожно, предостерегали они, все время осторожно.
Но я просто витал в облаках от облегчения. Я был жив, я был на другой стороне реки, которая пыталась поглотить меня целиком. В этом маленьком государстве я чувствовал себя в безопасности. Приветливые Бельгия и Франция были совсем рядом, и можно было видеть живописные Арденны. И Германия была тоже рядом, но теперь уже позади меня. Я облегченно вздыхал, думая, как далеко я успел убежать.
В тот вечер, дома, мы слушали «Радио Люксембург», известный обширностью информации. Я вновь почувствовал себя связанным с внешним миром. Новости были мрачными, но сообщения лишь намекали на серьезность проблем. Обстановка для евреев в Польше ухудшилась. В Германии продолжалась «ариизация» еврейской собственности нацистами. В Вене на улицах по-прежнему происходили непредсказуемые бесчинства. Не напали ли эти бандиты на моих сестер? После новостей, перед тем как лечь спать, мы немного послушали классическую музыку.
— Утром, — сказала тетя Мина, — я иду к врачу. Ты можешь позавтракать внизу в кафе. Мы иногда заходим туда, там хорошо.
— Но ни с кем не разговаривай, — сказал дядя Сэм.
Встав утром, я нашел деньги, которые они оставили мне для завтрака в кафе. Внизу я заказал какао и несколько теплых булочек. Я был в своих, все еще не до конца высохших, брюках гольф, читал газету и старался не бросаться в глаза, выглядеть, как вполне обычный люксембургский парень.
Возможно, посмеивался я про себя, в газете есть статья: «Молодой человек переплыл бурный Сауэр». Я оглядел кафе и увидел мужчину средних лет, который смотрел на меня. Он курил трубку, на нем были бабочка и белый фартук. Я решил, что это — хозяин кафе. Он подошел к моему столу, и я вежливо пробормотал:
— Bonjour.
— Bonjour, — ответил он. — Устраивайтесь поудобнее. Посидите, почитайте.
Я понял это так, что мне не нужно беспокоиться и что мои близкие скоро вернутся сюда. Я подумал, что он знает моих тетю и дядю. Возможно, они попросили его присмотреть за мной. Я успокоился. Несколько гостей с безучастным видом сидели за столиками, покрытыми клетчатыми скатертями.
Мужчина в фартуке ушел за стойку и исчез за занавесом из бус. Я углубился в газету. Когда я поднял глаза, то увидел двух жандармов, решительно входящих в кафе. Они были в синей форме, в кепи с плоским верхом, на широком кожаном ремне у них было оружие.
— Bonjour, tout le monde, — громко сказал один из них. — «Привет всем».
Некоторые посетители ответили. Жандармы огляделись, а потом пошли от стола к столу. «Papiers?» — спрашивали они. Они требовали документы, удостоверяющие личность. У меня их не было. Хотя жандармы останавливались у каждого столика, но я заметил, что они посматривают на меня. Я поискал глазами запасной выход — его не было. Казалось, они проверяют документы сидящих за столиками поверхностно, как будто нацелились на кого-то определенного. Может быть, если бы я вел себя совсем непринужденно, то смог бы просто пройти мимо них, как будто у меня дела; смог бы выйти в ту же дверь, через которую они вошли. Я сидел, затаив дыхание, уткнувшись в газету и делая вид, что их жандармские дела меня не касаются и я так занят международной ситуацией, что мне нет дела до происходящего здесь.
— Papiers, bitte, — сказал мне один из офицеров, мешая немецкий и французский языки.
Как ни странно, мне это понравилось. Я подумал, что нацисты никогда бы не снизошли до того, чтобы сказать bitte — пожалуйста, если они имели дело с евреем.
— Je n’ai pas de papiers, — ответил я незамедлительно. — «У меня нет документов».
— Alors venez avec nous, — сказали мне. — «В таком случае идите с нами».
На любом языке было ясно, что я нахожусь в затруднительном положении. Я жестикулировал: в чем дело? Они спросили, есть ли у меня вещи, которые я хочу взять с собой.
— Non.
— Вы хотите заплатить, прежде чем уйдете, не правда ли?
Я старался оставаться спокойным и игнорировать смертельную тишину, повисшую в кафе. Я дал мужчине в фартуке деньги и ждал сдачу. Офицеры скучающе озирались вокруг. Я представлял, как дядя и тетя отреагируют, узнав, что меня задержали, и спрашивал себя, могут ли жандармы слышать, как громко бьется мое сердце. Когда мужчина в фартуке вручал мне сдачу, мне пришло в голову, что, возможно, это он вызвал жандармов. Не полагайся ни на кого, предупреждала мама.
Мы молча ехали в близлежащий жандармский участок. Но это же не нацистская Германия, говорил я себе, это — Люксембург. Посадят ли меня в тюрьму? Так ли все начиналось для других, тех, кто сидит сейчас за колючей проволокой в Дахау или в Бухенвальде?
Жандармы привели меня в Бюро жандармерии к офицеру, ведущему расследования. Построенное из камня и кирпича здание представляло собой комбинацию тюрьмы и военных бараков. Оно было похоже на крепость из детских сказок. Мне захотелось домой. Я хотел к маме и папе, я хотел назад, в Вену двадцатых годов.
Я сидел перед письменным столом следователя. За ним на стене висел портрет правящей монархини, великой герцогини Шарлотты в сверкающей тиаре. Офицер нахмурился. Он спросил мое имя и возраст. Казалось, однако, что мои ответы его не интересовали.
— Как вы перешли границу? — спросил он.
— Я переплыл Сауэр, — ответил я.
— Это отчаянный поступок, — сказал он, казалось, впервые действительно заметив меня. — Вода была высокая.
— Да, вы правы, — согласился я в надежде, что он будет тронут моим бедственным положением и моей честностью. — Было жутко и очень тяжело — сильное течение несло меня. Но оно же мне и помогало.
— Вы, конечно, говорите мне правду, не так ли?
— Да, — ответил я. — Клянусь. Это была моя цена за шанс обрести в вашей стране свободу. В Вене стало очень плохо для нас. Моя мама отправила меня.
Я сказал правду и жаждал сочувствия, ощущая, что поток, в котором я нахожусь в этот момент, намного опаснее, чем Сауэр. Казалось, следователь сейчас улыбнется. Я опять посмотрел на портрет великой герцогини. Ее глаза излучали доброту и сочувствие. Я подумал о Гитлере, нашем общем враге.
Без сомнения, здесь найдется место для одного маленького безопасного еврея. Много ли места мне нужно?
— Кто вам помог здесь, после того, как вы достигли Люксембурга? — спросил он.
— Никто, — ответил я быстро.
— А где ваша мокрая одежда? Ведь не голым же вы плыли?
— Нет, месье. Вот, потрогайте мой пиджак, мои брюки, если вы не против. Посмотрите на мою обувь.
Я встал и шагнул к нему. Он потрогал мою одежду и убедился, что она еще влажная.
— Вы сказали, что вы прибыли сюда два дня назад. Как и когда вы добрались до города?
— Я приехал сегодня утром, — соврал я. — За час до моего ареста в кафе. Я шел пешком и отдыхал на обочине дороги. А вчера проезжающий крестьянин подобрал меня на свою повозку.
Для моих ушей это звучало вполне убедительно. Река находилась километрах в тридцати от города. Без сомнения, жандарм пощадит меня, увидев, что я не преступник.
— А вы действительно переплыли реку? — спросил он еще раз с недоверием.
Я серьезно кивнул.
— У вас есть тут друзья или родственники? — осведомился он.
— Нет, месье, — ответил я. — Я бы хотел иметь кого-нибудь, кто мог бы мне помочь.
— Нет, — сказал он, взглянув на письменный стол, а потом на меня. — Никто не сможет вам помочь.
Я чувствовал, что тону.
— Вы нарушили наши законы, — продолжал он, — Вы находитесь здесь без разрешения. Нелегально.
— Да, — признал я, стараясь, чтобы голос мой не сорвался. — Что теперь со мной будет?
Сейчас я был снова просто мальчишкой. Глупо было переплывать реку. Я был отдан на милость этих обладающих властью людей, которые накажут меня только за то, что я сделал попытку спасти свою собственную жалкую жизнь. Меня пошлют в Дахау, как дядю Морица, и бедная моя мама будет оплакивать меня.
Он вытащил из ящика письменного стола бланк и начал его заполнять. Успокойся, думал я. Следователь производил впечатление здравомыслящего человека. Великое герцогство откроет свои объятья такому безобидному существу, как я. Он заполнил бланк и, опершись локтями о стол, посмотрел на меня.
— Что теперь с вами будет, — сказал он, — зависит от вас.
Он объяснил, что у меня есть три возможности. Я могу вернуться в Германию — что, очевидно, немыслимо. Меня могут доставить к французской или бельгийской границе, откуда я могу вновь попытать счастья. И наконец, я могу предстать перед судом, так как я перешел границу Люксембурга нелегально. Меня, вероятно, признают виновным и отправят в тюрьму.
— Если вы хотите подумать, — сказал он, — у вас есть время до завтрашнего утра.
— А сейчас? — спросил я.
— А сейчас у нас есть для вас камера.
— Камера? Могу ли я ответить сразу? — спросил я.
— Разумеется, — ответил он.
Я взглянул на стенные часы. Было половина первого.
— У меня тетя в Париже, — сказал я ему. — Могу ли я поехать туда?
Он ответил утвердительно и добавил, что французский город Тьонвиль расположен ближе всего к люксембургской границе. Оттуда до Парижа километров сто пятьдесят.
— Это далеко, а денег на поезд у меня нет, — сказал я.
Он вел себя со мной очень доброжелательно, поэтому я был достаточно расслаблен, чтобы задать ему риторический вопрос:
— Как же мне добраться до Парижа?
Он улыбнулся.
— Раз вы смогли пересечь реку во время высокой воды, на суше у вас проблем не будет.
Я вздохнул с облегчением. По крайней мере, меня не посадят в тюрьму. По крайней мере, меня не вышлют назад в Германию. По крайней мере, я смогу позже связаться с тетей Миной и дядей Сэмом и дать им знать, что со мной все в порядке, чтобы никто не беспокоился обо мне.
Следователь предложил мне отправиться в коллективное фермерское хозяйство, расположенное метрах в пятистах от бельгийско-французской границы. Там проживала группа молодых евреев, которые готовились к эмиграции в Палестину. Они наверняка гостеприимны, сказал он. Это звучит убедительно, сказал я и собрался идти.
Но я ошибся. Меня освободят только утром, а ночь я должен провести в камере. У меня взяли отпечатки пальцев, и информация обо мне была внесена в бумаги. Теперь в Люксембурге на меня было заведено официальное полицейское досье. Бюрократические предписания и протокол должны быть соблюдены.
Моя камера была маленькая и чистая, с белыми стенами, узкой кроватью, креслом и крошечным зарешеченным окном, через которое с высоты третьего этажа был виден внизу двор. Все было не так уж и плохо. Признаться, как заключенный в Люксембурге я чувствовал себя в большей безопасности, чем как «свободный гражданин» в Германии. Охранник принес мне более или менее съедобный обед, и я расслабился, понимая, что у меня еще есть много времени до отъезда. Я посмотрел из окна на затянутое облаками небо. Сейчас было время, когда тетя с дядей тоже обедают, и мне стало не по себе. Я буквально слышал, как тетя Мина говорит: «Я привезла его сюда только для того, чтобы его арестовали! Из огня да в полымя!»
Я стал нервно ходить по камере взад-вперед, ломая себе голову, как мне с ними связаться. Смогу ли я это сделать из фермерского хозяйства, этого кибуца, расположенного почти на самой границе с Францией? Был ли чиновник искренен? Лежа на кровати, я думал о Хайнце в монастыре. Как бы мне связаться с ним насчет чемодана?
Мне долго не спалось, а когда наконец я уснул, мне приснились мама и Хайнц. Оба, каждый по-своему, были моим воспоминанием о времени, которое сейчас казалось мне более надежным.
Рано утром я проснулся от звуков военной музыки, которые доносились из внутреннего двора через окно моей камеры. Встав на стул, я увидел внизу подразделение примерно из пятидесяти солдат в пестрой парадной форме — армию Люксембурга. Это выглядело как сцена из сказки: солнечная волшебная страна, «Парад деревянных солдатиков», марширующих во дворе, по краям которого стоят большие пушки, и воздух наполнен музыкой. У Гитлера была армия, чтобы убивать, а в Люксембурге — чтобы исполнять музыку. Под звуки маленького оркестра я едва не пустился маршировать по моей камере. Через несколько минут принесли завтрак: кофе, булочки, сыр и джем. Я ел, слушая военный оркестр, который исполнял песни, вызывающие у меня детский восторг.
В десять часов меня снова доставили в комнату для допросов. Там меня ожидали три офицера, одного из которых я уже знал по предыдущему дню. Атмосфера была приветливая. Они хотели, чтобы я заполнил формуляры, где бы пояснил, что я согласен, чтобы меня выслали во Францию, и что я не имею претензий к тому, как обходились со мной во время моего заключения. Они издевались? Я готов был тут же подписать заявление: «Весьма рекомендую эту тюрьму».
Два новых офицера привели меня на маленький вокзал пригородного сообщения, где около дюжины человек ожидали поезд, и вручили мне купон для билета. И тут я увидел дядю Сэма. Он, внешне спокойный, медленно шел по платформе, стараясь не привлекать к себе внимания. Проходя мимо меня, дядя пробормотал на идише так тихо, что я едва смог разобрать: «Dreh iber dem dashik». Что означает: «Поверни козырек». Буквально — речь шла о козырьке моей кепки, а фигурально он имел в виду: постарайся вернуться назад. Он пошел дальше по платформе и исчез.
Я ехал поездом в Мондор-ле-Бен, небольшой курорт, расположенный в двадцати километрах от Люксембурга, с едва ли тремя тысячами жителей. Жандармы, сопровождавшие меня, курили.
— Сегодня утром я видел, как во дворе маршировали солдаты, — сказал я, чтобы завести разговор.
Генеральная репетиция церемонии, которая состоится на следующей неделе, объяснили они, в честь очередной годовщины окончания Первой мировой войны 11 ноября 1918 года.
— Эти пушки, — спросил я, — настоящие?
— О да, — засмеялся один из них, — настоящие. Но из них нельзя стрелять. Никогда, даже при военных маневрах.
— Почему нельзя?
— Потому что, — засмеялся он опять, — в каком бы направлении мы ни выстрелили, ядро упадет на территорию другой страны.
— Люксембург — крошечная страна, — усмехнувшись, добавил второй.
— Конечно, — сказал я, — когда я увидел оркестр, я сразу понял, что это — в честь моего прибытия.
Мы продолжали шутить, пока не приехали в Мондор. Между двумя странами не было никаких пограничных знаков. Таможенные посты стояли только на главных магистралях, так как Франция и Люксембург исторически являлись дружественными государствами. Когда мои сопровождающие подвели меня к маленькому лесу и мы перешли по пешеходному мостику через ручей, я увидел расположенную вблизи гостиницу.
— Теперь идите в ту сторону, — сказал один из них, — и вы окажетесь во Франции.
— Счастливо вам добраться до Парижа! — добавил другой.
Я поблагодарил их и, пройдя несколько шагов, очутился во Франции. Там я остановился и оглянулся назад, на вокзал. Жандармы подошли к гостинице, где они наверняка скоротают время в ожидании обратного поезда на Люксембург. Я пошел вдоль узкой дороги и тут же увидел скопление крестьянских дворов — анклав для еврейской молодежи. Это было совсем рядом. У меня не было багажа, почти не было денег — только одежда, в которую я был одет.
— Шалом, — сказал я стоящим вокруг молодым мужчинам и женщинам.
— Ты еврей? — спросил один из них.
— Да.
— Как ты узнал о нас?
— Я бежал из Германии в Люксембург. Несколько минут назад меня выслали во Францию. Они же мне и рассказали о вашем фермерском хозяйстве.
Мне было неловко, что мой французский не очень хорош, их вопросы напрягали меня, но все же мне было спокойно среди евреев. Я рассказал им о своих планах добраться до Парижа, где жила мамина сестра тетя Эрна. Я вежливо спросил, не могу ли я провести ночь на их ферме, в безопасности.
— Нет, это невозможно, — ответили они в один голос.
Один парень, немецкий еврей, который выглядел руководителем группы, сказал, что из-за меня у них могут быть большие неприятности. Готовясь к эмиграции в Палестину, они обучались вести фермерское хозяйство. У них были только временные визы. Власти время от времени наведывались к ним, часто без предупреждения, чтобы следить за порядком. Они были здесь только до тех пор, пока правительство Франции их терпело, и обязаны были строго соблюдать законы. Я же был нелегалом! Еврей или не еврей — я не мог здесь оставаться и подвергать их всех опасности.
Мне казалось, что мне влепили пощечину, но крыть было нечем. Немцы преследовали меня, из Люксембурга меня выдворили, а теперь я был отвергнут моими соплеменниками.
— Даже сейчас мог прийти инспектор, — сказал один из них.
— И мы оказались бы в трудном положении, — добавил другой.
— Да, конечно, — ответил я в надежде, что они, увидев, какой я приятный человек, изменят свое мнение. Я поблагодарил их за любезность и сказал, что поищу другое место, где я мог бы переночевать. Было уже далеко за полдень.
Когда я собрался уйти, я услышал женский голос:
— Ты голоден?
Я кивнул. После завтрака в тюрьме я ничего не ел. Девушке было лет двадцать, ее темные волосы были подстрижены «под пажа». Она сходила в дом и через несколько минут протянула мне бумажный пакет с хлебом, сыром, яблоком, плиткой шоколада и маленькой бутылкой молока.
— Меня зовут Лео, — сказал я. — А тебя?
— Эдит.
— Эдит? Так же, как и мою сестру.
Полное имя Дитты было Эдит. Дитта находилась в Вене, где евреев вышвыривали на улицу. Эта Эдит жила на мирной крестьянской ферме, по пути в Палестину, и не помешала этим евреям отвергнуть одного из своих.
Другие молча стояли рядом. Наш короткий разговор ни к чему не привел. Я пожал им руки и отправился назад по гравиевой дороге в направлении границы. Я все еще ждал, что кто-нибудь окликнет меня: «Постой, задержись, переночуй у нас». Но этого не случилось. Я вспомнил дядины слова — постарайся вернуться! Поверни козырек! Хорошо, это я и попробую сделать! Я шел по французской стороне вдоль границы назад, по той же дороге к мостику, и высматривал жандармов, доставивших меня сюда.
Было сухо, но трава была мокрой. Я сел под большое дерево, укрывшись за кустарником, и начал смотреть через границу. Если будет надо, я и пешком вернусь к тете и дяде. Мне просто нужно дождаться, пока жандармы сядут в поезд и я останусь один.
День за днем, думал я, каждый день, снова и снова бороться за существование. Солнце показалось из-за облаков и опять скрылось. Стало сумеречно. Я выпил немного молока и съел шоколад, чтобы запастись энергией. Это же уму непостижимо, думал я, то я обедал с монахами, а теперь в сумерках устроил пикник на французской границе. Поезд остановился на вокзале. Я надеялся, что дождя не будет, — мои брюки гольф наконец-то начали высыхать.
Осторожно я вышел из-за куста и, согнувшись, припадая к земле, добрался до мостика, под которым мирно журчал ручей. Миновав мостик, я спрятался в канаве, очень надеясь, что никто не видел меня. Становилось темнее. В руке у меня был пакетик с едой. Увидев, что я забыл в кустах бутылку из-под молока, я сказал себе сардонически: Лео-Лео, ты замусорил Францию!
Я прошел немного вдоль канавы и приблизился к улице. Вдали я мог видеть дома, в окнах которых горел свет, и семьи, сидящие за ужином. Я скучал по своим сестрам. Подойдя поближе к вокзалу, я присел в темноте рва. Вскоре раздался свисток — сигнал начальника железнодорожной станции к отправлению. Я поднял голову над краем неглубокой канавы и посмотрел в ту сторону. Поезд медленно проезжал мимо, почти рядом со мной. Купе поезда было освещено, и там, всего в нескольких метрах от меня, находились оба жандарма. Слава Богу, они не заметили меня и наконец-то уехали.
Я на мгновение расслабился и попытался оценить ситуацию. Город Люксембург был в двадцати километрах отсюда — пешком туда далеко. Во рту у меня пересохло и ощущался кислый привкус. С прошлого дня я не чистил зубы и чувствовал себя грязным. Я начал идти по краю придорожной канавы. В случае опасности я смог бы легко в ней спрятаться. Слева от меня садилось солнце. Улица показалась мне знакомой, так как она шла параллельно железной дороге. Темнота искажает расстояния и направления, но здесь все было вроде бы достаточно просто. Я вспомнил слова следователя, сказанные накануне: если я смог пересечь бурную реку, то я смогу справиться и на суше.
Я шел почти два часа. Каждый раз, видя фары приближавшейся машины, я соскальзывал в ров. Когда машина проезжала, я снова вылезал на обочину дороги, где идти было суше. Наконец я устал и остановился у кустов недалеко от площадки для отдыха. Там был стол, две скамейки и даже туалеты, но запертые. Я нашел деревянный ящик, прислонил его к задней стенке туалета и устроился на отдых. Была холодная ноябрьская ночь. Я размахивал руками, чтобы стимулировать кровообращение, к тому же я заметил, что моя одежда все еще не просохла до конца.
Хлеб и сыр составили небольшой праздничный ужин. Я вспомнил пикники в Вене с моими сестрами и мороженое с Диттой, когда я забирал ее домой из сиротского дома. Очень хотелось попить чего-нибудь горячего. Я внимательно прислушивался к движению на дороге. Я думал о тете Мине и дяде Сэме, которые остались дома полные беспокойства обо мне, и не знал, не подверг ли я их самих опасности своим арестом. Чем быстрее я доберусь до них, тем скорее развею все их тревоги. Я собирался только немного отдохнуть здесь и продолжить путь. Но тут же провалился в глубокий сон.
Проснувшись на рассвете, я никак не мог припомнить, как я уснул. Я понимал, что в светлое время дня нужно быть предельно осторожным. Иди медленно, сказал я себе. Уходи в сторону от приближающихся машин, избегай любых встреч, сойди с шоссе, но ни в коем случае не заходи на частную землю. До города было еще километров десять — тринадцать.
Я шел около часа по проселочной дороге параллельно главному шоссе, когда услышал позади себя стук копыт — фермерская телега. Я поднял руку и увидел фермера, человека лет пятидесяти с худым небритым лицом. Он затормозил и остановился.
— Далеко ли до города?
— Полчаса, — ответил он.
Я нашел эту новость сногсшибательной, но решил, что его представления о времени и расстояниях несколько смещены. Он сказал, что едет туда же, и предложил подвезти меня. Я с радостью запрыгнул в телегу и сел впереди, рядом с ним.
Лошадь двигалась в своем собственном неторопливом темпе, и примерно через час мы добрались до города, обменявшись по пути лишь несколькими словами. Фермер направлялся на городской рынок. Было уже почти половина восьмого. Мы находились недалеко от квартиры дяди и тети.
Придя к ним, я увидел, что дверь не заперта. Дядя Сэм, ожидая мое возвращение и ни секунды в нем не сомневаясь, держал дверь незапертой. Я вошел и увидел его — сильный как всегда, но на красивом лице видны следы усталости. Он крепко обнял меня.
— Я же говорил тебе, — крикнул он тете Мине. — Я знал это!
Тетя Мина лежала в кровати с компрессом на лбу. В квартире чувствовался запах уксуса. Компресс был пропитан разведенным уксусом — старое домашнее средство от сильной головной боли. Мина выглядела измученной. У нее почти не было сил говорить.
Я вспомнил о ее склонности к драматизации и постарался сохранить спокойствие. Наконец она храбро улыбнулась, кивнула и подмигнула глазом, не закрытым компрессом. Когда я приблизился к постели, она протянула мне руку и я поцеловал ее.
— Я же говорил тебе, — повторил дядя Сэм. — Если он смог переплыть реку, на суше у него не может быть проблем.
Не отпуская рук тети Мины, я склонился и прижался к ним губами. Потом, когда, повернувшись, я собрался отойти от кровати, она тихо прошептала:
— Ты сделал это. Ты сделал это. Твой дядя был прав.
Она опять уснула, а мы с дядей Сэмом пошли на кухню попить кофе. Я спросил у него, как он нашел меня на вокзале и откуда он узнал о моем аресте.
— Это неважно, — ответил он. — А как тебе понравился мой знак с кепкой?
— Ты видишь, это сработало, — сказал я.
Мы были очень горды собой. Арест, полагаю, был просто результатом выборочного контроля, сказал дядя. Хозяин кафе знал тех жандармов, которые увели меня, и сказал, что оба они вполне добродушные парни. Было несложно выяснить место моего заключения, и дядя узнал, что я буду доставлен к французской границе. Поэтому он решил пойти с утра пораньше на станцию и там ждать моего появления.
Однако наша радость была омрачена: один знакомый сообщил в Эзра-Комитет о моем аресте. Теперь, после моего возвращения, люди из комитета были обеспокоены тем, что своим присутствием я подвергаю опасности своих родных. Итак, было необходимо немедленно перевезти меня в другое место.
Той же ночью меня отвезли в еврейскую семью, которая предоставляла кров проезжающим беженцам. Жандармерия не имела оснований искать меня там — по их мнению, я находился во Франции. Тем временем комитет пытался организовать мой переезд в Бельгию.
В этом доме я не спрашивал имен и не называл свое. Принимая горячую ванну, я не мог вспомнить, когда в последний раз наслаждался такой роскошью. На следующее утро за завтраком я обнаружил небольшую группу людей, которые волей случая оказались вместе. Нас было человек десять. Все мы были евреями, пытающимися уйти от своей судьбы. Среди нас находились два ребенка и два ортодоксальных еврея.
В доме была огромная веранда, уютная гостиная с мягкими креслами, камин и еще одна большая комната. Люди встречались в фойе. Я не имел ни малейшего представления, как долго я пробуду здесь. Мне строго приказали: не сметь выходить из дома.
Как-то раз пришел дядя Сэм и принес мне одежду. Он спросил, нужна ли мне обувь. Нет, ответил я, у меня есть еще одна пара в чемодане у Хайнца, который в Трире ждет от меня сигнала.
Позже, в этот же день, к нам присоединилась еще одна женщина из Германии — среднего возраста, дородная и седая. Было заметно, что зубной протез у нее плохо подогнан: он щелкал во время разговора.
В тот вечер был Шаббат и нас накормили особенно вкусно. В Вене еду на Шаббат готовила мама. Наверное, они с Генни как раз сейчас зажигают свечи. Я не знал, кто готовил здесь, но мне захотелось написать маме и рассказать ей о том, какой замечательный у нас был ужин. Она очень обрадуется, узнав, что я хорошо питаюсь.
В воскресенье, шестого ноября, дядя и тетя пришли вместе и принесли мне коричневые ботинки, не новые, но в очень хорошем состоянии. Это был настоящий сюрприз! Я снял свою обувь, в надежде, что на воздухе она наконец-то просохнет. Сауэр все еще чувствовался в ней.
Вскоре я начал ощущать тревогу и ограниченность свободы передвижения. Наконец в понедельник нас ознакомили с планами нашего переезда. В ночь на четверг нас переправят в Бельгию. Подробности нам сообщат позже. Переходы границ нужно было организовать и провести в тайне, не привлекая внимания.
После обеда ко мне зашел дядя Сэм, и я поделился с ним новостями. Бельгия — хорошая страна, сказал он, открытая для беженцев. Он сказал, что напишет моей маме и сообщит, что я свяжусь с ней во время своей следующей остановки, не указывая, разумеется, места моего возможного пребывания. Между тем мы все еще не получили от мамы ответ на открытку, посланную неделю назад. Мрачные мысли лезли мне в голову.
Следующий день я провел в гостиной, беседуя с другими обитателями дома. Откуда ты? Как ты здесь оказался? Все истории были похожи одна на другую: нацисты, бегство, отчаяние, боязнь за детей, борьба со временем. Как будто снова и снова проигрывалась одна и та же пластинка, менялись только имена.
Я немного почитал газету. За те несколько дней, что я здесь провел, внешний мир стал казаться далеким и гораздо более тревожным. Правительство Польши начало затягивать гайки в отношении евреев. В начале октября было объявлено, что каждый, кто не обновит свой паспорт до двадцать девятого октября, будет лишен гражданства. Это давало повод для широкомасштабных преследований. Двадцать шестого октября немецкое министерство иностранных дел поручило гестапо выслать из Германии как можно больше польских евреев, живших там долгие годы. В течение двух следующих дней около восемнадцати тысяч евреев специальными поездами были доставлены к польской границе, но им было отказано во въезде. Куда должны были они идти? Некоторых нацисты заставили нелегально пересечь границу. Почти пять тысяч насильно отвезли в лагерь, расположенный в маленьком польском селе Збонщин, рядом с границей. Это было только началом кошмара.
В Париже — об этом мы не знали тогда — семнадцатилетний студент Гершл Гриншпан получил письмо от своего отца, который в числе других был отправлен в Збонщин. Гриншпан был в ужасе от того, о чем написал отец. Он поехал в немецкое посольство в Париже с намерением застрелить посла. Вместо этого он выстрелил в третьего секретаря посольства Эрнста фон Рата. Это было седьмого ноября. Фон Рат умер через два дня, лишь за несколько часов до нашего отъезда из Люксембурга в Бельгию. Его смерть послужила нацистам поводом для погромов в ночь на десятое ноября — зверств, от которых, казалось, сами небеса истекали кровью.
Ближе к вечеру зашли попрощаться тетя Мина и дядя Сэм. Тетя Мина была спокойна, насколько это возможно при ее характере. Напиши сразу и будь осторожен! Они сказали мне, что письма из Вены все еще нет. Я почувствовал, что безвозвратно ухожу из жизни мамы и сестер, и попытался скрыть свою печаль. Глаза тети Мины наполнились слезами. Мы обнялись на прощание.
После ужина нам сообщили, что шестерых из нас отправят в половину двенадцатого ночи. Нам сказали, что планы Эзры начинают принимать очертания, однако в чем именно состоят эти планы, нам не сообщили. Моими попутчиками были мужчина лет шестидесяти в очках, говоривший только на идише, и четыре женщины. Одна из них — женщина из Германии с клацающим протезом.
Мы ждали долгое время — люди, объединенные общей судьбой и происхождением. На дорогу нам дали бутерброды и фрукты. В 23:30 зазвонили колокола и вошел мужчина, который должен был перевезти нас в Бельгию.
Это был Беккер. Мое сердце подпрыгнуло от радости: Беккер! Он был в своей кожаной шапке, с ключами от машины в руке. Я поднял руку и помахал ему в знак приветствия. Казалось, он обрадовался, увидев меня. Я чувствовал к нему близость и доверие — приехал старый друг, мой «пособник в преступлении».
Одна из женщин повернулась ко мне и спросила мое имя. После нескольких дней, проведенных вместе в этом доме, мы, тем не менее, все еще чрезвычайно осторожно расспрашивали друг друга. Меня зовут Лео, сказал я.
— Скажи мне, Лео, ты знаешь этого мужчину? — спросила она.
— Да, я познакомился с ним на прошлой неделе.
— Кажется очень славным, — заметила она.
Это прозвучало скорее как вопрос, чем утверждение. Ей недоставало уверенности.
— Да, очень хороший, — ответил я. — Вы правы.
Он был незнакомцем, в чьих руках находилась ее жизнь. Как бы подтверждая мое мнение, она добавила:
— Люди Эзры знают, что делают.
Беккер привел нас к автомобилю, тому же самому пежо, который я уже знал. Заднее сидение находилось теперь на месте, и мы шестеро должны были разместиться на тесных сидениях в зависимости от телосложения. Беккер пытался шутками разрядить обстановку.
«Вы садитесь рядом со мной, — сказал он стройной женщине лет тридцати пяти. — Вы не займете много места». Полную женщину с клацающим протезом он спросил: «У вас на коленях достаточно места, чтобы кого-нибудь посадить?»
Женщина не рассмеялась, но казалось, что нервозность, висевшая в воздухе, чуть уменьшилась. На заднее сидение сели худощавый мужчина в очках, женщина среднего роста и полная женщина из Германии. Хрупкая юная девушка безуспешно пыталась втиснуться между двух женщин. В конце концов женщина из Германии предложила, чтобы та села к ней на колени. Девушка слегка обиделась, ей не хотелось, чтобы с ней обращались как с ребенком. Помедлив, она неохотно согласилась посидеть там, по крайней мере какое-то время. Наша жизнь была поставлена на карту, а мы ссорились, кому куда лучше сесть.
Уехали мы около полуночи. До Брюсселя по прямой было километров двести, но Беккер должен был ехать второстепенными дорогами, чтобы избежать полицейского контроля. Когда мы сели в машину, он установил фару над задним номерным знаком. В случае если нас начнут преследовать, пояснил Беккер, он включит свет в надежде ослепить преследователя.
Меньше чем за час мы добрались до границы, но машина Беккера с шестью пассажирами и багажом была не в состоянии двигаться быстро. Подъехав к пограничному посту, Беккер снизил скорость, чтобы увидеть, есть ли там люди. Никого не было. Считалось, что в ночное время на второстепенных дорогах со слабым движением охрана границ не нужна, особенно между такими дружескими странами, как Люксембург и Бельгия. Мы с облегчением вздохнули — Беккер знал свое дело. Пограничный знак гласил: Belgique — België.
Мы продолжили наш путь в Брюссель по широкой двухполосной дороге, идущей в северо-западном направлении. Вскоре миновали Арденны, красоту которых невозможно было разглядеть в темноте. Вдоль дороги был виден лес. Никто из нас не пытался уснуть. Проезжая вблизи района Бастонь, мы не могли и предположить, какие кровавые бои между американцами и немцами произойдут здесь спустя шесть лет. Все, что мы знали в нашей короткой жизни, был страх.
Беккер ехал все быстрее и быстрее, и некоторые из нас забеспокоились. Внезапно маленькая девушка на заднем сидении, которая нервничала всю ночь, закашлялась, начала давиться, и наконец ее вырвало.
— Что случилось? — спросил Беккер.
— Малышку вырвало, — ответила женщина из Германии, щелкнув зубным протезом.
— Хорошо, — засмеялся Беккер, — теперь я знаю, что мы едем достаточно быстро.
Он пытался рассеять наш страх. Это немного помогло нам, но в машине ужасно воняло рвотой. Проезжая по промозглой сельской местности, мы открыли все окна.
— Тебя не беспокоит, как я еду? — спросил Беккер, поворачиваясь ко мне.
— Нет.
— Знаешь, — сказал он, подмигивая, — я умею и медленно ездить. Надеюсь, в этот раз ты не оставишь лужу на полу машины.
Он посоветовал стройной женщине, сидящей рядом с ним, чтобы она попыталась немного поспать.
— Я хочу смотреть в окно, — ответила женщина.
Чуть позже Беккер убрал руки с руля, чтобы закурить сигарету.
— Не надо так! — воскликнула женщина. — Держите руль!
— Вы же собирались смотреть в окно, — ответил Беккер.
Он пытался и дальше нас успокаивать, но наша тревога все возрастала. Мы вновь были в чужой стране и не имели представления, что ожидает нас впереди и нет ли вблизи погони.
Немного позже стало казаться, что страна открылась — деревья исчезли, и мы увидели небо, усыпанное звездами. Я смотрел вперед, когда мужчина в очках, сидящий прямо позади меня, воскликнул испугано на идише: «Смотрите, смотрите направо! Вы видите то же, что и я?»
Это было самое странное ночное небо, которое я когда-нибудь видел. Беккер замедлил ход и попытался посмотреть в ту сторону. Потом остановил машину совсем, и все мы стали смотреть на восток. Вдали, едва различимо, темный горизонт был расцвечен сполохами необычных цветов. Поскольку было еще темно, это не могла быть радуга. Там видны были цветные полосы и вспышки, как будто незримый великан пальцем раскрашивал небо.
Мы приехали в Брюссель около семи часов утра; большинство из нас не спало в эту лихорадочную ночь. Беккер высадил нас возле небольшой гостиницы. В холле были газеты. Заголовки сообщали: «Nuit de terreur en Allemagne. Pogrom contre les Juifs» — «Ночь террора в Германии. Погром против евреев».
Теперь мы знали, откуда эти странные цвета на горизонте. Это был ответ нацистов на убийство немецкого секретаря посольства. Мы видели Хрустальную ночь, ночь разбитых витрин.
4 БРЮССЕЛЬ, АНТВЕРПЕН (ноябрь — декабрь 1938)
Хрустальная ночь явилась воплощением варварства Гитлера. Ничтожный предлог — поступок юного Гершла Гриншпана, который, услышав о мучениях отца и желая отомстить, отправился в немецкое посольство в Париже, — был Гитлеру как нельзя более кстати. Эрнст фон Рат, убитый Гриншпаном, уже через несколько часов после смерти был со всеми почестями, как герой, похоронен в Дюссельдорфе в присутствии Гитлера и его ближайшего окружения. Затем, этой же ночью, девятого ноября, в 23:55, из штаб-квартиры гестапо в Берлине всем офицерам была разослана депеша:
«Срочно по всей Германии будут проведены акции против евреев, особенно против их синагог. Никто не имеет право этому препятствовать…
Подготовить арест двадцати или тридцати тысяч евреев, прежде всего выбрать состоятельных… Против евреев, имеющих оружие, действовать со всей строгостью».
Подпись — «Гестапо II, Мюллер» следовала за словами «Телетайп разослать секретно».
Всем известный секрет.
Мы оказались свидетелями катастрофы, последовавшей за этим указом гестапо, когда по пути в Бельгию остановились на дороге и глядели на зловеще пылающий горизонт. В городах и деревнях немцы были разбужены звоном бьющегося стекла, вспышками факелов, которыми поджигались синагоги, и запахом пылающих молельных домов, в то время как полиция и пожарные безучастно наблюдали за происходящим. Офицеры гестапо руководили нападавшими, и тысячи добровольцев из гражданского населения помогали им рушить магазины и вдребезги разбивать витрины. Были слышны и другие звуки: крики беззащитных евреев, жестоко избиваемых их недавними соотечественниками. Затем тысячи евреев были проведены перед горланящим сбродом.
Когда мы приехали в гостиницу в Брюсселе и услышали первые сообщения, мы еще не могли оценить весь размах террора. Была ли моя мать одной из жертв Хрустальной ночи в Австрии, ставшей теперь частью Германии? Тысячи евреев были вытащены из своих квартир и арестованы. Были ли среди них мои сестры? При поддержке и одобрении со стороны немцев были разграблены, а затем стерты с лица земли почти триста синагог. Моя тоже? Стал ли наш раввин, который как раз четыре года назад благословил меня при моей Бар-мицве, одной из жертв? Кто благословлял теперь его? В эту ночь было уничтожено около семи тысяч еврейских магазинов и фирм. В течение лишь нескольких часов, когда улицы сверкали от осколков, обе стороны получили важный урок: евреи поняли, что нацисты не остановятся ни перед чем, а нацисты убедились, что мир позволяет им делать почти все что угодно.
В холле гостиницы, измученный бессонной ночью, я вспомнил день, когда Гитлер вошел в Вену. Как далеко все зашло! Я вспомнил, как коричневорубашечники хотели забрать мою кузину Марту и при этом разгромили магазин дяди Морица, а вся семья, сжавшись от страха, недоумевала, почему никто не пришел к нам на помощь. Сейчас существовало несметное множество таких семей, тысячи их были согнаны в такие места, как Дахау, где находился и мой дядя. Смогут ли они выжить? Никто этого не знал, и наш страх вспыхнул вновь от жара Хрустальной ночи.
В маленьком холле гостиницы незнакомые мне люди, с утренними газетами в руках, бродили среди нескольких мягких кресел и диванов и старались понять смысл тех ужасных событий, о которых читали.
— Подождите здесь все вместе, — сказал нам Беккер.
Он подошел к ближайшему окошку и передал служащему какие-то бумаги. Беккер был балагур, он часто паясничал, но его кривлянье было лишь уловкой, попыткой отвлечь нас от тяжелых раздумий об опасностях, сгущающихся вокруг. За клоунадой угадывалась сила, которая передавалась и нам.
Мы сидели все вместе и пытались понять, о чем говорят люди в холле. Какой погром? Какой террор? После бессонной ночи в дороге все вокруг казалось нереальным.
Это была для меня четвертая страна за десять дней. Бельгия была оазисом, в то время как вся Европа вокруг уже сотрясалась. Беккер жестами призвал нас к спокойствию. Мы полностью зависели от доброй воли посторонних людей, которые говорили нам, куда идти и что необходимо делать, чтобы выжить. Нашей родиной стала теперь Бельгия. Но как надолго? До тех пор, пока мир не вернется к здравомыслию? Беккер взглянул на меня и почувствовал, что мои нервы напряжены до предела. Всего за десять дней он, с его кожаной кепкой, открытой улыбкой, шельмовскими ужимками, стал мне близким другом.
— Лео, — посмеиваясь, сказал он, — прошедшая ночь была довольно сухой.
— Да, — ответил я, — даже деньги у меня в кошельке сухие.
— Ну что ты все о деньгах?! — засмеялся он.
В этот момент через вращающуюся дверь в холл вошла молодая женщина. Увидев Беккера, она радостно поздоровалась с ним. Был ли хоть один человек в Европе, который не знал Беккера?! Женщину звали Мириам, на ней был хорошо сшитый костюм и в руке портфель. Она была приветлива, но сразу же деловито прошла к бюро регистрации. Беккер, повернувшись к нам, неожиданно сказал, что ему пора идти.
— Когда разбогатеешь в Америке, — сказал он, обращаясь ко мне, — пришли мне билет для проезда туда!
И хотя Беккер сказал это шутя, за этим угадывалось: «Не забывай меня!»
Я чувствовал, что мы больше никогда не увидимся, и мне не хватало нужных слов, чтобы выразить ему свою благодарность. На прощание мы пожали друг другу руки, и он сказал:
— Выше нос! Я поговорю с Миной и Сэмом и расскажу им все.
Я был слишком взволнован, чтобы что-то сказать. Лучше всего поменьше думать о прошлом, о тете Мине и дяде Сэме, обо всех других, оставленных мной. Мужчина, который сидел в машине позади меня, схватил Беккера трясущимися руками.
— A dank’ eich, — сказал он просто, вытирая слезы, появившиеся из-под очков. — «Благодарю».
После отъезда Беккера Мириам взяла управление на себя. Она сообщила нам, что следующие двадцать четыре часа мы должны оставаться в отеле, так как у нас нет пока документов. Мы получили талоны на еду. В Эзра-Комитете продумали все до мельчайших деталей. На следующее утро нас отведут в местное отделение Эзра-Комитета, где мы получим дальнейшие инструкции, упорядочивающие наше положение. Мы не имели представления, что это означает.
Я взял газету и пошел в свой номер. Мне еще ни разу не приходилось бывать в гостиничном номере. За запертой дверью я ощутил себя в безопасности, и сразу же пришло чувство вины: моя мать в мудром предвидении отослала меня из Вены, но сама осталась там, беззащитная перед ужасом происходящего.
Я мучился, стараясь понять, что написано в газете. Она была на французском, и я переводил предложение тут, абзац там, пока не стала вырисовываться картина чудовищного разорения и жестокости. Немцы называли это возмездием за убийство секретаря их посольства. Устанавливалась система: за каждого из нас мы убьем многих из вас; не пытайтесь взять реванш.
Я раздвинул кружевные шторы и выглянул из своего окна на четвертом этаже. Внизу простиралась оживленная улица: люди шли на работу, встречались с друзьями, что-то покупали, гуляли с детьми. Разъезжали машины и автобусы, и казалось, никто не прятался от полиции. Был вполне обычный день… для мирного времени. И лишь несколько часов отделяло нас от страны, где были сожжены синагоги. Отреагировал ли мир на произошедшее? Если немцы не остановились перед домами Бога, не могут ли они поджечь и больницы, в которых дети стоят у окон и храбро машут на прощание своим родным?
Я забылся беспокойным сном и, проснувшись следующим утром, за завтраком стал узнавать о последних новостях из Германии. Сообщалось обо всем только в общих чертах. Страны, занятые своими собственными проблемами, считали инцидент исчерпанным. Евреи — те, чьи голоса еще могли быть услышаны, — протестовали. Но кто слушал евреев?!
Йозеф Геббельс, гитлеровский министр пропаганды, хвастался: «Мы можем делать с евреями все что захотим». Военный лексикон он дополнил новым словом «Kristallnacht» — «Хрустальная ночь». Этим он хотел описать блеск как символ праздничного настроения от биллионов стеклянных осколков, сверкающих в огне горящих синагог.
С Мириам мы встретились в холле гостиницы. Она была в пальто и темной шапке. Мы вышли на улицу. Здесь не жгли синагог и на тротуарах не было осколков стекла. Через несколько минут мы подошли к двери бюро Эзра, где на латунной табличке было выгравировано: EZRA — СОМIТÉ D'AIDE JUIF. Эти слова не нужно было прятать, и это поразило нас. В то время пока Мириам собирала пятерых моих попутчиков в одно место, несколько сотрудников бюро занимались текущей работой. Эти пятеро оставались в Брюсселе. Я же через несколько часов должен был переехать в Антверпен. Я не спрашивал почему. Я знал, что Антверпен — портовый город, ворота в дальние края. Безопасность этих далей влекла меня.
Я получил от Мириам официальную бумагу с печатью, разрешающую мне, как временно находящемуся в стране иностранцу, доехать до расположенного километрах в пятидесяти Антверпена. Мне вручили билет на поезд и две бельгийские десятифранковые купюры. Было позднее утро. Поезда на Антверпен шли каждые двадцать минут.
— Как только приедете в Антверпен, — сказала Мириам, — обратитесь в бюро Эзра. Они работают до шести.
Я решил не задерживаться в Брюсселе. Город был безукоризненно чист, настроение повышенное, но мне хотелось добраться до места, где я мог бы остаться, не думая, что скоро нужно будет ехать дальше.
В Антверпене на улице Пеликаанстраат, вблизи улицы Меркаторстраат, я нашел бюро Эзра-Комитета. Молодой человек по фамилии Гиршфельд попросил мои документы. Мы оба были из Вены.
— Из какого района? — спросил он.
— Двадцатого, Бригиттенау, — ответил я.
Он был из первого. Это была особенность жителей Вены: узнав, из какого района человек, можно было понять его социальное положение. Я был из рабочего района с высоким процентом еврейского населения, он — из самого центра: с правительственными зданиями, оперой, музеями и достопримечательностями. Он принадлежал к более высокому общественному слою и уже пользовался авторитетом в этом маленьком бюро в чужой стране. Я был ребенком бедной вдовы из пролетарского района, и теперь все, что я мог, — это рассказать ему, как мне удалось добраться сюда.
— Ах, — сказал он, — сейчас многие рассказывают похожие истории. Вот увидишь, ты не один.
Я оглянулся и увидел, что есть и другие, которых опрашивали.
— У вас много работы, — заметил я.
— Я думаю, будет гораздо больше, — сказал он просто. — Из-за происходящего.
Новости о Хрустальной ночи и ситуации в Вене достигли Бельгии. В Вене из всех синагог уцелела лишь одна, многие были полностью сожжены. От моей синагоги, куда я в юности ходил на богослужения, где состоялась моя Бар-мицва, где до прихода Гитлера я встречался со своими друзьями-сверстниками и мы обсуждали, как однажды эмигрируем в Палестину, остался теперь лишь пепел. Весь мир позади меня был охвачен пламенем, и я не знал, уцелели ли мои родные.
Мне казалось, что я слышу, как они зовут меня из горящих домов. Гиршфельд передал мне талоны на еду. Я видел свою бабушку, слишком старую, чтобы бежать, спасаясь от опасности. Гиршфельд упомянул близлежащую столовую. Я вспомнил реку Сауэр, и у меня возникла безумная мысль переплыть ее обратно и чудодейственным образом спасти свою семью. Гиршфельд предложил мне сначала пообедать, а уж потом решать с ним вопрос о ночлеге. Мир мог рушиться, но повседневные бытовые нужды требовали решения.
В нескольких кварталах от бюро в большом зале столовой за длинными столами обедали люди. Они оживленно разговаривали между собой. Стоя в короткой очереди, я вдруг услышал позади себя знакомый голос. Я обернулся и увидел дядю Давида, Швитцера, самого старшего маминого брата, короля жареной рыбы на рынке Ганновермаркт в Вене, который был теперь здесь, в общественной столовой в Антверпене!
Кто-то крикнул: «Не задерживайтесь!» и протянул мне поднос. Я громко окликнул дядю: «Дядя Давид! Давид Фишман!» Дядя взглянул в мою сторону, ошеломленно замер на миг и затем возбужденно сказал, обращаясь к сидящему рядом мужчине: «Смотри-ка, это же мой племянник!»
— Дядя Давид, боже мой! — воскликнул я.
Он покинул Вену за несколько дней до меня и безуспешно пытался добраться до Швейцарии. Он ничего не знал о моем отъезде, как и я о его. Мы держали все в секрете даже от своей собственной семьи: слишком легко планы могли достичь ненужных ушей. Только Ольга, жена дяди Давида, и его дети Хильде и Курт знали о его отъезде. Они собирались как можно скорее последовать за ним. Я обрадовался, увидев его. Это был потрясающий человек! Я вспомнил, как он, в слишком большом белом поварском колпаке, цветисто выражался, продавая жареную рыбу Фишмана. Дядя был небольшим плотным мужчиной с яркой склонностью к чрезмерности во всем. И, конечно, Швитцер — человек, чья избыточная живость выплескивалась из него ручьями пота.
В конце рабочего дня дядя на трехколесном велосипеде с прицепом доставлял рыбу на дом. Однажды на рынке к нему подошел мужчина и, прервав его разговор с покупателем, сказал, что дядя просрочил месячный платеж за велосипед. Дядя Давид поднял велосипед и швырнул его в мужчину. Дядя был очень сложным, темпераментным человеком, нередко несдержанным, доходящим до оскорблений. Своей внешности он уделял особое внимание, что казалось удивительным для человека, от которого всегда пахло рыбой. Мне вспомнился день похорон моего отца и тайны, витавшие вокруг. Другие тогда игнорировали дядю, поэтому он оказался в компании со мной. Но теперь я отмел все это в сторону, чрезвычайно взволнованный тем, что нашел его в этом чужом городе, где я никого не знал.
— Лео, что ты здесь делаешь? — недоверчиво спросил дядя Давид. — Твоя мама? Сестры?
Его вопросы сыпались один за другим, я едва успевал отвечать. Но когда я спросил его о пережитом им самим, он задумчиво затих. Он вместе с Гербертом, сыном сестры, попытался убежать в Швейцарию. Герберту это удалось, а дяде Давиду нет. Его вернули в Бельгию. В Вене ли его семья? Это никому не известно. Дядя Давид пожал плечами и переменил тему. Он спросил, где я сегодня буду ночевать.
— Мне нужно вернуться в Эзра-бюро, — ответил я. — Молодой человек…
— Гиршфельд из Вены?
— Да. Ты его знаешь?
— Славный парень, — сказал дядя Давид. — Но у меня есть место для тебя.
Он всегда был пронырой, человеком, мгновенно приспосабливающимся к обстоятельствам. Всего две недели в Антверпене — и у дяди уже были тут связи.
Он встретил здесь дальнего родственника из Ченстоховы, своего родного города в Польше, и теперь хотел представить ему меня. Мы раньше не были знакомы с этой семьей, и я мог лишь смутно припомнить их имена.
— К тому же, — сказал он, — они родственники и твоей мамы.
Я почувствовал себя немного лучше и отдал себя в дядины сильные руки. Он сказал, что подружился с владельцем рыбного магазина, который знает женщину, сдающую комнату над бистро. Необходимо ответить немедля. На такие помещения был огромный спрос, и Эзра-Комитет проявлял к ним повышенный интерес. Комитет мог оказывать некоторое время финансовую помощь. Мы пошли назад, к Гиршфельду, который еще помнил дядю Давида.
— Мой племянник, — сказал дядя и положил руку мне на плечо.
— Одна из ваших шуточек, господин Фишман?
— Нет, нет. Я не шучу.
Гиршфельд пожал плечами. Такое будет происходить все чаще и чаще, сказал он, с Европой, находящейся в постоянном движении, с семьями, оторванными от корней и лишенными родины, с людьми, вынужденными бежать в поисках надежной пристани.
— У меня есть комната для моего племянника, — сказал дядя Давид. — Если это подходит для Эзра-Комитета. На улице Ламориниерестраат.
Гиршфельд просмотрел список адресов.
— Дом шестьдесят восемь, — сказал он.
— Откуда вы знаете? — спросил дядя Давид, у которого пот уже проступил сквозь одежду.
— Это единственная возможность на Ламориниерестраат. Все в порядке. Любой адрес из наших списков приемлем. Наверное, я и без того послал бы вашего племянника туда. Только…
— Что только?
— Только, — сказал Гиршфельд, — вам нужно заполнить этот талон.
Вечно эти талоны. Мы должны были заполнять формуляры на еду, ночлег, поездки, необходимую для выживания финансовую помощь. Я был бесконечно благодарен, но и обеспокоен. Мой желудок был полон, я чувствовал себя в безопасности, но моей жизнью управляли теперь события, на которые я не мог повлиять.
— Спасибо тебе за помощь, — сказал я Гиршфельду, когда мы уходили, надеясь, что он почувствует мою искренность.
— Не потеряй талон на еду, — ответил он, снова возвращаясь к работе.
Мы с дядей Давидом отправились в бистро на Ламориниерестраат, 68. Когда мы вошли, хозяйка квартиры с фламандской фамилией заговорила с дядей на ломаном немецком языке.
— Ваш сын? — спросила она.
— Племянник.
— Возраст?
— Семнадцать.
— Женщин не приводить, — предупредила она.
В тот момент это было последнее, что заботило меня, но я был польщен тем, что она предполагает такую возможность. Я хотел было сказать: «Не этой ночью, сегодня я устал. Может быть, завтра». Но ироническая нотка, скорее всего, потерялась бы при переводе. Кроме того, хозяйка выглядела очень занятой, и вряд ли имело смысл сейчас дурачиться.
По крутой лестнице, похожей на огромную стремянку, мы поднялись на третий этаж и вошли в комнату с двуспальной кроватью, ночным столиком с будильником, комодом с зеркалом, креслом, умывальником и еще одним зеркалом. Жалюзи закрывали окно, выходящее во двор позади бистро.
— Туалет? — спросил я.
— В конце коридора.
— И ванная?
— Мыться в общественной бане, — сказала она. — Вниз по улице.
Я кивнул, да и что тут можно ответить. В Германии дотла сожжены синагоги. В Антверпене я был счастлив, имея возможность купаться недалеко от жилья.
Эта комната стала моим домом вплоть до весны 1940 года, когда начали бомбить Бельгию и я был изгнан из страны, потеряв из виду принявшую меня семью и девочку по имени Анни, в которую я влюбился.
5 АНТВЕРПЕН (декабрь 1938 — май 1940)
Мы с дядей нашли друг друга в момент полного одиночества. Мне было непросто находиться рядом с ним, так как грубость моего дяди была легендарной. Однако он был братом моей матери, нас связывали кровные узы, и я воображал, что они немало значат.
В тот первый день, ужиная в столовой, мы обсуждали новости из Германии, беспокоясь о тех, кого мы оставили там. Немного позже, когда мы шли по зябким улицам Антверпена, мы мечтали о спасении наших семей и пытались не впасть в уныние, понимая ничтожно малую возможность этого. Оставшиеся… они всегда находились в центре наших бесед. Я пытался не думать о своем одиночестве и о том, как долго это еще продлится.
— У меня есть планы, — сказал дядя Давид и умолк.
Он не хотел посвящать меня в детали. Мне же показалось, что дядя, как и я, не имея конкретно разработанных идей, просто воображает себе сцены грандиозного воссоединения, полного веселья и слез радости.
— Эти планы, — спросил я, — касаются ли они и моей семьи?
— Поживем — увидим, — отмахнулся он. — Нужно быть осторожным. И готовиться к самому худшему.
Это сильно отличалось от его обычного хвастовства. Мы были подавлены новостями из Германии: вторая ночь огня и уничтожения; еще больше евреев схвачены и высланы в лагеря. Мы опасались, что наши письма домой бесследно исчезнут.
Ночью, в маленькой комнате на улице Ламориниерестраат, раскладывая свои вещи по местам, я заметил, что чего-то недостает… Ах да, моего молитвенника! Я думал, что в Трире, в монастырю, я переложил его из чемодана в портфель, но тут вспомнил, что не сделал этого. Это натолкнуло меня на мысль о необходимости связаться с Хайнцем. А вдруг он открыл чемодан и исследовал содержимое? Как он в этом случае отреагировал на еврейский молитвенник? В Германии такие книги сжигали. Бросил ли он его тоже в огонь или нашу короткую дружбу поставил выше политики? Он был добрым парнем, сказал я себе, и, без сомнения, поступил правильно.
Лежа в кровати, я пытался уснуть. Бистро работало до десяти ночи, и в окно доносились со двора громкие голоса веселых людей, живущих неподалеку, которые вместе с друзьями могли смеяться здесь допоздна. Мои друзья находились в Вене и мечтали о Палестине. Как и Генни. Я беспокоился, спят ли мои сестры этой ночью в безопасном месте. Вскоре внизу к смеху добавилось пение. Моя мать напевала польские мелодии, вышивая свадебные платья юным невестам. Выйдут ли когда-нибудь замуж мои сестры? Песни снизу звучали все громче и разухабистей. Я представил себе группу хулиганов, издевающихся над моей семьей на темных улицах Вены. Тут я почувствовал, что мне предстоит долгая бессонная ночь, но внезапно, как будто спрыгнув с утеса, погрузился в глубокий сон и беспробудно проспал до утра.
Утром я отправился на почту и там сделал сногсшибательное открытие: все вывески были не только на фламандском и французском языках, но и на идише. Я был потрясен. В Германии и Австрии тех, кто говорил на идише, выгоняли из домов. Здесь, в стране, где евреи составляли лишь малую часть населения, идиш являлся одним из официальных языков. Об этом, подумал я, нужно тотчас же сообщить маме.
Почтамт находился на Пеликаанстраат, напротив вокзала. Этим тихим ноябрьским утром я шел по улицам, рассматривая все вокруг. Антверпен был достаточно большим и богатым городом, где почти не было заметно примет надвигающейся войны. Повсюду были ювелирные магазины со сверкающими в витринах бриллиантами. Я миновал готический кафедральный собор и музей великого мастера Питера Пауля Рубенса. Знак указывал дорогу к близлежащему зоопарку. Я шел по улице Мейр, главной артерии города; вдоль тротуаров тянулись клумбы с цветами, вокруг было много кафе. Я вспомнил кафе в Люксембурге и инстинктивно нащупал в кармане удостоверение личности, выданное мне в Эзра-бюро.
Потом я вернулся в свою комнату и написал письмо родным. Я писал, что Антверпен напоминает мне Иерусалим — такое большое впечатление произвели на меня вывески на идише и то, что у меня была здесь своя комната. Пусть небольшая, она служила мне убежищем. На некоторое время я мог прекратить свой бег.
Растянувшись на кровати, я представлял себе радость своих близких, когда они услышат о великом счастье — я все-таки добрался сюда. Но мне хотелось, чтобы они тоже были здесь со мной, и эта мысль мучила меня. Я взял еще один листок бумаги и сделал то единственное полезное, что мог совершить в настоящий момент: послал Хайнцу письмо с просьбой переслать мне мой чемодан.
В этот же день после обеда мы с дядей Давидом поехали на трамвае к нашим дальним родственникам, жившим в Берхеме — пригороде Антверпена, с детскими площадками, парками и открытыми полями. Глава семьи Нахум Розенблюм, кузен моей бабушки по маме, владел магазином деликатесов, расположенным в одном из районов Антверпена, где еврейское население постоянно росло. Многие евреи селились здесь после изгнания их с родины. У Нахума и его жены были дочь и сын, жившие с ними, и еще одна дочь Рашель, которая жила в Берхеме со своей собственной семьей. Рашель Фрайермауер с мужем Йозефом и двумя дочерьми жили на Диксмуиделаан. Рашель была приветливая полная женщина лет сорока, с каштановыми волосами. Улыбка озарила ее лицо, когда дядя Давид представил меня.
— Племянник, — провозгласил он торжественно, весь в поту после подъема по лестнице. — Сын Доры. Ты же знаешь Девору из Ченстоховы?
Я почувствовал себя, так сказать, «легализованным» — был представлен не только я, но и моя родословная. Потом в комнату вошел муж Рашель, высокий широкоплечий мужчина, редкие волосы которого были зачесаны поперек головы. Он с большим наслаждением курил трубку. Его рукопожатие было крепким, как у водителя грузовика, хотя он шил изящные дамские блузки.
Мы сидели у них на кухне, и они расспрашивали меня о моих приключениях. Я рассказывал, и мне становилось легче.
— Какое счастье, что вы оба здесь! — сказала Рашель, обращаясь к дяде Давиду.
— Другие тоже выберутся, — ответил он.
Я взглянул на него с ожиданием и надеждой. Если существовали конкретные планы, я хотел знать о них. Но дядя Давид отвернулся, и я, пытаясь найти утешение, полностью отдался заботам Рашель и Йозефа.
Вскоре пришли домой дочери Фрайермауеров. Их звонкие счастливые голоса опережали их, когда, тараторя, они взбегали по лестнице на третий этаж. Шестнадцатилетняя Анни, более спокойная из них, увидев нас, слегка покраснела, но потом улыбнулась, обнажив прекрасные зубы. Нетти, которой было одиннадцать, не смущаясь, потянулась ко мне и чмокнула в щеку. Запах корицы и яблок плыл по квартире, и где-то посвистывал чайник. Мы сидели все вместе за столом и ели горячую запеканку из лапши.
— Как у мамы, — сказал я, и мне стало хорошо при этом воспоминании о доме. — Самый большой комплимент, который я могу сделать.
— Возьми еще кусочек, — сказала Рашель. Опять как моя мама.
— Лео, — сказал Йозеф, попыхивая трубкой, — мы хотим, чтобы ты чувствовал себя у нас как дома.
Эти слова очень тронули меня, но ничего не добавили. Мне нужно было разобраться с запутанными географическими реалиями своего существования и смесью эмоций, связанных с этим.
— У тебя есть сестры? — спросила Анни, старшая дочь.
— Да, — ответил я, — моя сестра Генни примерно твоего возраста. Восемнадцатого октября ей исполнилось шестнадцать.
— А мне двадцать пятого октября.
— Это был день, когда я покинул Вену, — сказал я. — Три недели назад, во вторник.
Девочки расспрашивали о моих приключениях, и их интерес был мне приятен. Чуть позже дядя Давид поднялся, собираясь уходить, и я встал, присоединяясь к нему. И тут произошли две вещи, которые согрели мне сердце: Рашель, повторив слова Йозефа, сказала, чтобы я чувствовал себя у них как дома, и Анни предложила в конце недели встретиться с ней и ее друзьями. Я воспринял это как нечто большее, чем просто дружеский жест. После бесконечных изменений и переездов наличие планов на семь дней вперед выглядело как долгосрочное обязательство, и я был счастлив согласиться. Я с восторгом представлял себе, что так долго смогу жить в одном месте.
В понедельник мы с дядей Давидом отправились в Антверпенскую ратушу — огромное, богато украшенное здание с позолоченным фасадом. Город был полон спешащих по делам людей, я же часто останавливался, заглядываясь на витрины магазинов. «Пошевеливайся», — торопил меня дядя. В ратуше чиновник в очках и зеленой фуражке поздравил меня с прибытием в Бельгию. Рядом с ним был указатель, напечатанный, как и на почтамте, на идише. Чиновник сочувствовал мне, как будто знал, каких усилий стоила мне дорога сюда. Он спросил меня о моем образовании, религии и причинах бегства из Германии. Я рассказал, что у меня там осталась семья. Да, да, кивнул он. Он знал подобные истории.
— А дальше? — спросил он. — Собираетесь ли вы эмигрировать?
Крохотная Бельгия, втиснутая между Францией и Германией, уже с 1933 года принимала беженцев. Их число неуклонно росло с каждым новым актом немецкой агрессии, с каждым новым жестом усмирения Запада, с каждым враждебным актом против евреев. Бельгийским чиновникам необходимо было удостовериться, что пребывание здесь будет только временным.
— У меня есть тетя, тетя Софи, которая живет в Соединенных Штатах, — сказал я. — Я хотел бы поехать туда. Но я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы получить визу.
Он снова кивнул. Америка путано реагировала на беспорядки в Европе. Президент Рузвельт разыгрывал свои политические карты, но евреи в этой игре имели, кажется, невысокую цену. Тетя Софи ждала меня в Америке с распростертыми объятиями, да и остальные тоже надеялись на нее: ее сестра — тетя Мина, ее невестка — моя мама и другие члены семьи. Между тем и в Вене, и в Люксембурге, и теперь в Антверпене все мы ждали и ждали.
Чиновник дал мне временное разрешение на проживание, затем были сделаны две фотографии, дополнительно подтверждающие, что я добрался до места, где меня приняли. И я тоже старался ответить Антверпену за гостеприимство: быстро учил фламандский — язык, имеющий голландские корни, на котором говорили в Северной Бельгии. Мое знание немецкого помогало мне, как и двухлетнее обучение французскому в гимназии.
Мир находился на пороге новой большой войны, но жизнь по-прежнему состояла из мелких бытовых дел, которые нужно было преодолевать в первую очередь. Скоро стало холоднее, а до ближайшей общественной бани было несколько кварталов. Я не ходил туда по пятницам, избегая длинных очередей из евреев, которые мылись перед Шаббатом. Хозяйка посоветовала мне использовать для купания переносную ванну из цинка, находящуюся во встроенном шкафу в коридоре. Иногда этого было достаточно, но когда я шел в общественную баню и вставал под душ — это было такой роскошью, что зачастую только нетерпеливые стуки в дверь стоящих в очереди могли вывести меня из состояния блаженства.
Когда погода еще ухудшилась, мой голубой габардиновый плащ, который пережил реку Сауэр, приказал долго жить. Но связи помогли решить все быстро: Йозеф Фрайермауер знал кого-то в торговой фирме. Сделка подвернулась — metziah — удачный торг, состоялся — и появился новый, с поясом, плащ.
Я снова встретился с Анни Фрайермауер. Она взяла меня с собой к одному парню, который жил в пригороде, недалеко от дома ее родителей. У него собралось около дюжины ее друзей. Некоторые из них были евреями. Я уже почти забыл, как себя чувствуешь, общаясь со своими сверстниками. Мы достаточно легко преодолевали языковые барьеры. Нам помогал в этом и универсальный язык музыки. Из старомодного проигрывателя Victrola разносились модные шлягеры, почти все из Америки:
«Jeepers, Creepers! Where'd you get those peepers?»[6] «А tisket, a tasket; A green and yellow basket…»[7] «Bei mir bist du schein…»[8]В Германии такая музыка была запрещена, она была официально объявлена слишком декадентской для арийцев. Здесь, в Бельгии, она служила подросткам средством выражения их чувств и настроений. В Германии члены гитлерюгенда маршировали по улицам. Здесь мы счастливо пели песни и играли в разные игры. Поскольку я еще недостаточно владел фламандским, игру в шарады я наблюдал со стороны, и Анни подсела ко мне.
— Тебе здесь нравится? — спросила она застенчиво.
— Очень, — ответил я. — Так хорошо мне уже давно не было.
Анни просияла. Я не знал, как много она слышала о моей жизни, кроме того короткого рассказа, как я пробирался из Вены в Антверпен.
— У тебя симпатичные друзья, — заметил я. — Они мне нравятся. И ты тоже.
Я сказал это в дружеском смысле, но вдруг почувствовал волнение. Анни была очаровательна, но до сих пор я воспринимал ее только как родственницу. Она была мне троюродной или даже четвероюродной сестрой. Но насколько близко на самом деле такое родство? Я только хотел поблагодарить ее за приглашение на встречу друзей, но заметил, что Анни слегка покраснела. Мы помолчали. Чтобы отыскать безопасную эмоциональную атмосферу, я оглянулся и начал расспрашивать ее о друзьях.
— Вот этот молодой человек, — сказал я, указывая на парня, который выглядел немного старше остальных.
У него были темные глаза, орлиный нос и безупречно напомаженные волосы. На нем были пиджак и галстук.
— Это — Леон Остеррайхер, — ответила Анни. — Он очень симпатичный.
Было очень приятно провести время со своими сверстниками, но тем не менее я чувствовал себя немного отчужденным. Мне казалось, что всем остальным очень хорошо вместе. Я же был чужим. Я тогда не понимал еще, что мы превращались в особый мир — мир эмигрантов, каждый из которых — посторонний, каждый — в поиске чувства принадлежности. После вечеринки я пошел проводить Анни домой.
— Я хочу поздороваться с твоими родителями, — сказал я.
Но я хотел проводить Анни, чтобы еще немного побыть с ней. И когда мы попрощались и я вернулся в свою комнату, я понял, что это была не просто потребность в дружеском общении — впервые в жизни я почувствовал смутное волнение от зарождающейся влюбленности.
Несколько недель спустя пришли хорошие новости от властей: официальные бумаги, регистрирующие меня в качестве иностранца и дающие разрешение на проживание в Бельгии до 30 мая 1940 года. Итак, официальная восемнадцатимесячная передышка — я мог больше не убегать и не прятаться! Мне хотелось пропеть хвалу небесам. Я был теперь обычный беженец, а не нелегал. Я быстро пошел в столовую, чтобы отыскать дядю Давида. У него тоже были хорошие новости, которыми он поделился, не глядя на меня.
— Письмо, — сказал он. Я посмотрел на него и удивился, почему он отводит глаза. — От Ольги с детьми. Они приезжают сюда, в Бельгию. Так написано в письме.
— Mazel tov — «Поздравляю» — пробормотал я, стараясь скрыть ярость и шок.
Его семья приезжает сюда, а моя? Разве их ценность ниже, чем у его семьи? Неужели не было никакой возможности перевезти их сюда? Дядя Давид и раньше уклонялся от обсуждений. Он всегда говорил о планах. Но никогда не открывал деталей, никогда не предлагал помочь моей маме. Я воспринимал это как просто мечты о спасении, как фантазии о чуде воссоединения, которые преследовали и меня. На самом деле он нашел способ спасти своих родных, но не подумал о моих. Мои остались в Вене, брошенные на произвол судьбы, и я с трудом сдерживал свой гнев на дядю. Как-никак он был старше. Он помог мне найти комнату в Антверпене. Однако я вспомнил теперь, как другие родственники называли его отщепенцем. Я вспомнил, как после смерти отца дядя Давид одолжил у моей матери деньги, полученные ею в качестве небольшой страховой выплаты. Он так и не вернул ей эти деньги. «Мои деньги», — говорила она. «Возьми немного рыбы», — отвечал он. Это выражение стало семейной шуткой, но сейчас я был взбешен и еще сильнее обеспокоен судьбой матери и сестер.
Во второй половине этого же дня пришло письмо из Люксембурга от тети Мины и дяди Сэма. Они были рады, что я нахожусь в безопасности. Они слышали от Беккера, что я не только в Антверпене, но и «вышел сухим из воды». Милый старина Беккер, он все еще обыгрывал сцену на реке. Затем следовала прекрасная новость: они слышали о моей бабушке из Вены! У семьи все было в порядке. Ужасы этих ночей не коснулись их. Но почему нет известий от мамы? Может быть, немецкие власти выборочно контролируют почту? Подвергаются ли письма цензуре?
Несколько дней спустя пришло письмо, написанное Генни. Мое сердце подпрыгнуло от радости. У них все хорошо, писала она, жизнь продолжается. Прямых ссылок на события Хрустальной ночи не было, только: все опять вернулось в нормальное состояние. Но что было нормой? Австрия до прихода Гитлера или Вена, где коричневорубашечники на улицах ставили на колени пожилых людей? Генни писала, что тетя Оля с детьми собирается ехать к дяде Давиду, но не объясняла, каким образом это было устроено.
Я был рад, что моя семья в безопасности, но все еще сердился на дядю Давида. В мире появились новые правила хранения секретов: никому нельзя было доверять. Но дядя Давид мог бы все-таки довериться мне. Разве он не брат моей мамы? Я хотел ему высказать все напрямую, но сдержался. Он был взрослым, а я только неоперившимся юношей. Он был жесткий колючий субъект. Я — семнадцатилетний мальчик, которого научили с уважением относиться к людям. Сыграли ли деньги роль скрываемых дядей связей? Дядя Давид не был богат, но у меня вообще не было денег, кроме карманных, выданных в виде помощи Эзра-Комитетом. Были ли у него хорошие связи? Он никогда не говорил мне об этом, а я не нашел возможности заставить его рассказать.
Потом мир стал еще холоднее. Я получил письмо от Хайнца, который оставил монастырь, чтобы вернуться в свою войсковую часть. В письме было: «В связи с возникшими сложностями я вынужден тебе сообщить, что продолжение нашей переписки не представляется далее возможным. Извини. Счастливо. Хайнц».
Что случилось? Был ли он пойман с моим молитвенником? Подвергся ли официальным допросам? Или просто, найдя молитвенник и узнав, что я еврей, выразил свое отвращение этим вежливо-отстраненным, но загадочным письмом. Этого я так никогда и не узнал. Я не получил назад свои вещи и вообще больше о нем не слышал.
В декабре тетя Оля и дети приехали в Бельгию. Они привезли новости из Вены, но ничего лично мне от мамы. В моих отношениях с дядей Давидом пролегла глубокая трещина, которую его дочь, моя кузина Хильде, сразу заметила.
— Ты сердишься, — сказала она, обняв меня, когда мы остались одни.
— Мою мать оставили там, — сказал я, — и моих сестер. Неужели их жизнь ничего не стоит?
— А моя собственная бабушка? — сказала она. — Мы вынуждены были оставить и ее.
Матильда Фишер, мать тети Оли, осталась в Вене. Хильде открыто рыдала. Ей было шестнадцать, и она очень любила свою бабушку.
— А твоя мама? — спросил я. — Как она могла так поступить с собственной матерью?
Хильде пожала плечами.
— Такие вопросы у нас решает папа, — ответила она.
Она выразила собственную боль и гнев тем, что дистанцировалась от отца. В Антверпене я очень подружился с Хильде. Мы вместе часто встречались с Анни и ее друзьями.
Однажды в дождливый февральский день 1939 года я пошел в Ээра-Комитет. Я знал, что моя семья не сможет убежать таким путем, как я, но должен же Эзра-Комитет иметь и другие связи. Германия все больше угрожала Польше. Гитлер заявил чешскому министру иностранных дел Франтишеку Хвалковски: «Евреи у нас будут уничтожены».
— Можно ли как-то помочь моей семье? — спросил я Гиршфельда в Эзра-Комитет.
Покачав головой, он спросил в ответ, нет ли связей у дяди Давида. Он знал, что семья моего дяди уже приехала сюда, и пояснил, что это было сделано без помощи Эзра-Комитета. Мне нечего было ответить. Произошедшее все еще приводило меня в ярость.
— Не хочешь ли ты, — неожиданно спросил Гиршфельд, — ходить здесь в школу?
Он пояснил мне, что власти озабочены тем, чтобы молодые беженцы не слонялись по улицам: молодым людям, имеющим слишком много свободного времени, часто приходят в голову плохие идеи. Мне его предложение понравилось, и я записался в общественную профессиональную школу для мальчиков, расположенную на улице Мейстраат вблизи площади Марктплац, недалеко от Антверпенского порта. Занятия шли на фламандском, но я находился в Антверпене уже более трех месяцев и владел языком достаточно хорошо. Анни и ее сестра Нетти разговаривали со мной всегда по-фламандски. Мы много встречались. Меня часто приглашали на ужин, а потом мы с Анни гуляли. «Возьми с собой сестру», — кричала вслед Анни Рашель Фрайермауер каждый раз, как только мы подходили к двери.
Я изучал обычные для гимназии предметы и профессиональные для электриков. Учеба продвигалась успешно. Однажды во время ужина отец Анни сказал:
— Не волнуйся! Каждый, кто сумеет овладеть этим странным гортанным языком, — при этом он комично гримасничал, — способен выучить все.
На выходных мы с Анни были неразлучны, к откровенной радости ее родителей и подхихикиванию со стороны Нетти. Субботними вечерами в общественном зале на Ланге Киевитстраат, недалеко от завода, производившего печенье De Beukelaer, были танцы. Совсем рядом находилась пекарня Готтайнера — мекка еврейского хлеба, плюшек и хал. Неземной аромат разносился вечерами по всей округе. Многие из Готтайнеров погибли позже в Аушвице.
В это время мое существование казалось почти идиллическим, за исключением постоянной тревоги о семье. В марте немецкие войска вошли в Прагу. Несколько недель спустя в Венгрии были приняты новые антисемитские законы, включая запланированное изгнание всех евреев из страны в течение пяти лет. Мама сообщила, что в Вене стало спокойнее и мне не нужно беспокоиться за них. Мне трудно было в это поверить. Это просто была моя мама, которая пыталась не тревожить меня. Она облекала свои чувства в такие формы, которые не были бы понятны нацистам. На Песах я послал им пакетик мацы и другие продукты, как напоминание о прошлых праздниках.
Я избегал дядю Давида. Когда мы встречались, я был крайне напряжен. Тетя Оля отмалчивалась, не желая возбуждать раздражительность мужа. Я же старался контролировать свои эмоции. Соблюдать внутреннюю дистанцию стало для нас единственно возможным.
В школе я получил высокий балл по всем предметам. Йозеф Фрайермауер гордился моими успехами, как отец, и рассказывал каждому, кто к ним приходил, каким замечательным я был учеником. Он оказывал мне огромную поддержку и отеческую заботу — такого у меня не было с тех пор, как ребенком я потерял отца и дядя Мориц покровительствовал мне.
В августе Фрайермауеры поехали на морской курорт Бланкенберге, находившийся километрах в девяноста от Антверпена, и пригласили меня позже присоединиться к ним на несколько дней. Все это время мне ужасно не хватало Анни. В воскресенье утром я попросил велосипед у владельца бистро, расположенного рядом с моим домом, и покатил к Северному морю в отличном настроении от солнца и свежего бриза. В Бланкенберге я приехал после полудня и был встречен с огромной сердечностью. Какое счастье найти вторую семью; какое мучение думать о Вене — я обвинял себя в том, что бросил там мать и сестер.
— Почему вы не идете погулять? — спросила нас Рашель. — И Нетти возьмите с собой!
Мы так и сделали и, когда Нетти не смотрела на нас, держались за руки. Я начал воспринимать Рашель и Йозефа как родителей жены. В марте мне исполнилось восемнадцать, и я жаждал быть с Анни. Мы гуляли по пляжу, и наши ноги утопали в песке. Мы были беззаботны и романтичны. Сине-зеленое Северное море простиралось перед нами, и волны бились о берег. Анни и я подходили к прибою, брызги обдавали нас, и мы тесно прижимались друг к другу, чтобы не замерзнуть.
Однажды вечером Рашель и Йозеф взяли нас всех в кафе послушать талантливого певца Альберта Гершковича, круглолицего парня с сильным голосом.
— Мы родственники, — гордо сообщил Йозеф. — Он деверь моей сестры.
У него был удивительно красивый тенор, и выступление произвело на нас большое впечатление. Я не мог себе представить, что однажды, в товарном поезде по дороге на Аушвиц, мы с ним встретимся еще раз.
Но тогда, в августе 1939 года, все это было еще далеко от нас. Северное море было завораживающим. От мамы пришли успокаивающие новости. Однако в них не было ни слова о дяде Исидоре и его местопребывании. Бриз умиротворял. Ни слова о дяде Морице, о том, где он мог находиться. Я был увлечен Анни. Ни слова о страхе мамы за моих сестер.
Через несколько дней я попрощался с Анни и ее семьей и поехал на велосипеде назад, в Антверпен. На следующее утро я проснулся от сильной боли в паховой области. С правой стороны в паху опухло, и я понял, что у меня паховая грыжа. Эзра-Комитет послал меня к врачу, который сказал, что причиной, возможно, был велосипед. Доктор выписал мне бандаж, и я пошел домой, полагая, что боль постепенно утихнет.
Первого сентября изменилось все. На рассвете немецкие войска перешли границу Польши, началась Вторая мировая война. Англия и Франция предъявили Германии ультиматум о немедленном прекращении всех боевых действий. Гитлер отказался. Третьего сентября обе страны объявили войну Германии. Немецкие войска вошли в Варшаву, принеся с собой невиданный террор и разрушения и добавив в военный словарь новое слово — Blitzkrieg. Блицкриг. Был быстро определен объект террора — на некоторых поездах, перевозящих немецких солдат через границу, было написано: «Мы едем в Польшу бить евреев». В Польше жило более трех миллионов евреев, многие из которых были талантливыми, творческими и образованными людьми. Евреи и были избраны на особые муки. В канцелярии безопасности рейха Рейнхард Гейдрих издал указ: евреев из небольших городов и деревень переселить в гетто, которые должны быть созданы в крупных городах. Это было промежуточным этапом так называемого «окончательного решения еврейского вопроса».
Следом шли новые предписания для польских евреев: подневольный труд, ношение специальных отличительных еврейских знаков, запрет на занятие торговлей, что лишало многих средств к существованию. Еврейская собственность была разграблена. Тысячи были посланы в переполненные и грязные трудовые лагеря, где едва хватало пищи для поддержания жизни. Гетто тоже были переполнены, там царили еще больший голод и болезни. Рацион был скудный. Вспыхивали эпидемии.
В Бельгии мы спрашивали себя: когда война обрушится на нас? Учебный год начался, и я опять регулярно посещал школу. На большие еврейские праздники я ходил в синагогу на службу и задавался вопросом, защитит ли Бог мою семью. Однажды пришло письмо от Дитты с обычными заверениями: все в порядке, трудности непременно скоро закончатся. Она вложила фотографию моего старого друга Курта Штайнбаха, семья которого жила в нашем доме. На обратной стороне фотографии Курт написал:
Ты теперь далеко. Но светло В сердце любящем сохрани Дом, уют, верной дружбы тепло. Вену. Наши счастливые дни.Я сидел на кровати и плакал о мире, который исчез безвозвратно. Нужно было жить дальше. В будние дни я ходил в школу, выходные проводил с Анни.
В конце декабря у меня опять появились боли в паховой области. Врач пенял на погоду и советовал не переохлаждаться. Он рекомендовал операцию, я сопротивлялся. Он упомянул опасность ущемления грыжи, и мы запланировали операцию на весну.
Перед Новым годом неожиданно прибыли в Бельгию тетя Мина и дядя Сэм. В Америке тетя Софи триумфально добилась для них аффидевитов — поручительств о финансовой поддержке, и теперь они собирались ехать в Балтимор из Антверпенского порта. Мы обнялись на железнодорожном вокзале Антверпена, тетя Мина была очень возбуждена, дядя Сэм улыбался, пытаясь унять жену или, как минимум, немного успокоить.
Через четыре месяца, в апрельский день, вскоре после того, как мне исполнилось девятнадцать, я стоял в порту Антверпена на пирсе и смотрел, как их корабль, голландский SS Volendam, отчаливал, направляясь в Нью-Йорк. Тетя Мина и дядя Сэм махали мне на прощание с палубы, а я боролся с гнетущем чувством одиночества и пытался скрыть набегавшие слезы. «Ты скоро приедешь», — сказали они. «Конечно», — ответили.
Спустя несколько недель, 9 мая 1940 года, во второй половине дня, я переступил порог больницы города Берхем, чтобы перенести операцию по удалению паховой грыжи. Операция была назначена на следующее утро. Я заснул в мирное время, а проснулся среди войны, разбуженный воем сирен. Было шесть утра, светало. Соседние кровати пустовали, и вся больница, казалось, содрогалась от грохота. Во дворе за моим окном вспыхнуло, раздался оглушительный взрыв. Языки пламени взметнулись вверх, стекла с треском обрушились в комнату.
Нидерланды, Бельгия и Люксембург были атакованы летящими на бреющем полете бомбардировщиками люфтваффе. Они скользили над крышами Антверпена, почти касаясь их, и сбрасывали бомбы на невинных людей. В больнице царил хаос, голос из громкоговорителя сообщал: «Нас атакуют. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Если вы лежачий больной, оставайтесь на месте. Если вы в состоянии ходить, пожалуйста, обратитесь в регистратуру за документами и дальнейшей информацией».
Я не мешкая оделся и пошел в регистратуру. Служащие больницы были явно потрясены, но несмотря на это сдержанно готовились к приему жертв бомбардировок. Участники гражданской обороны в белых касках, торопливо вбежав в здание, давали распоряжения: покинуть помещение, держаться вблизи домов, не выходить на середину улиц.
Я вышел из больницы и попытался успокоиться. Ужасный шум на мгновение затих, потом вновь загрохотало. Анни и ее родители жили в пятнадцати минутах от больницы. Пересекая открытое пространство, я низко пригибался к земле. Вокруг меня во всех направлениях бежали люди. Испуганные, с искаженными лицами, они искали временное укрытие. Ревели сирены машин скорой помощи, и совсем близко от нас падали на центр Антверпена бомбы. Падали на всех этих невинных людей, на зверей в зоопарке, на магазины с бриллиантами в витринах, ценность которых сейчас упала до нуля.
Из-за необходимости часто наклоняться и припадать к земле боль в паху пронзила меня с новой силой. Грыжевый бандаж я оставил дома, полагая, что после операции он мне не пригодится. Война извергалась вокруг, меня же мучила нелепая грыжа.
Когда, запыхавшись, я добрался к Фрайермауерам, они слушали сообщение по радио и пытались сохранить спокойствие в этом обезумевшем мире. Нужно ли нам искать какое-то более безопасное место? Или лучше оставаться здесь? Перешли ли немецкие войска уже границу? Через несколько часов был издан указ: мужчины-иностранцы, выходцы из вражеской страны, должны сами явиться в местные отделения полиции. Я был из Вены, являющейся теперь частью Германии. Рассматривался ли я как враг? Приказ был ясным: при регистрации иметь при себе провизию на два дня, смену белья, одеяло и другие необходимые вещи. Йозеф предложил, чтобы я взял с собой свой польский паспорт.
Мой отец был из Польши и никогда не менял своего гражданства. После нападения Германии на Польшу Йозеф советовал мне обозначить мой статус как «беженец по причине религиозного преследования». Это, несомненно, покажет, на какой стороне мои симпатии. Я быстро попрощался. Нет необходимости в эмоциональных прощаниях, думал я и был уверен, что вернусь через несколько часов. Но на всякий случай взял с собой еду.
— До скорого! — сказал я уверенно.
Казалось, бомбардировка прекратилась. В отделении полиции чиновник проверил мои документы. Я думал о смехотворности грыжи на фоне начавшейся войны и ожидал, что меня отпустят домой.
— Именем закона королевства и в интересах национальной безопасности, — объявил чиновник монотонным голосом, — вы арестованы.
У меня возникло чувство, словно немецкий танк переехал меня.
— Сэр, — сказал я по-фламандски, стараясь сохранить спокойствие, — я не враг, я — друг.
— Вы говорите по-фламандски? — удивился он.
— Да. Я выучил его в профессиональной школе. Уже восемнадцать месяцев я живу здесь, приехав сюда, — добавил я, говоря торопливо и стараясь не делать ошибок, — потому что я — еврей. Я приехал задолго до этого нападения. У нас один враг. Мы на одной стороне. Я молод. Я могу сражаться. Не арестовывайте меня! Понимаете?
— Да, — ответил он медленно.
Другие, вокруг меня, пытались использовать похожие аргументы. Это были немцы, работающие здесь в фирмах, сотрудники посольств, служащие туристических бюро — все они умоляли полицейских.
— Но закон есть закон, — сказал чиновник, печально посмотрев на меня.
Все слова ничего не значили теперь. Бельгийцы просто не знали, кто из нас вражеский агент, а кто друг. Они не могли рисковать. Мы должны быть задержаны и, возможно, отправлены назад в страны, откуда мы прибыли, в обмен на бельгийцев, проживающих в Германии. Нас собрали и отвели в спартанские военные бараки, где мы прождали до середины следующего дня, 11 мая 1940 года. Потом нас отвезли на тот же вокзал, куда я прибыл ровно восемнадцать месяцев тому назад, 11 ноября 1938 года.
Однако в этот раз нас отправляли в неизвестном направлении.
6 ЛАГЕРЬ СЕН-СИПРИЕН (май — август 1940)
На вокзале мы увидели мир, рушащийся вокруг нас. Солдаты прощались со своими близкими и отправлялись на поля сражений. Огромное число полицейских рьяно исполняло свои обязанности. Мы сели в длинный пассажирский поезд — сотни людей, отправлявшихся к пункту назначения, абсолютно не известному никому из них.
— Юг Бельгии, — предполагали одни. — Лагерь для интернированных.
— Франция, — уверяли другие.
Но никто не знал правды и никто не знал, как долго продлится наша поездка. Франция, Южная Бельгия — какая разница? Наша жизнь находилась в чьих-то чужих руках, и все эти предположения были просто попыткой рассеять наши опасения и страхи.
Европа была объята пламенем. Германия, расширяя границы военных действий, что каждая из этих стран повторно заявила о своем нейтралитете. Гитлер назвал их заявления ложью и утверждал, что эти страны служат ареной для планируемого Великобританией и Францией вторжения в Германию. Бельгия выразила официальный протест. «Преднамеренной агрессией» назвало это бельгийское правительство. Но все это уже не имело значения — время для слов миновало. Франция, находящаяся восемь месяцев в состоянии пока еще неактивной войны с Германией, была теперь оккупирована нацистами.
Фактически, как стало понятно, немецкое вторжение было нацелено сначала на Францию, а затем на быстрый сокрушительный удар по ее союзникам. В течение нескольких часов немецкие войска вторглись во все четыре страны. Бельгийская армия, малочисленная и ужасно неподготовленная к войне, отступала с такой поспешностью, что оказалась не в состоянии даже разрушить важные мосты, и немецкие войска с поразительной легкостью продвигались вперед.
Когда поезд отошел от Антверпенского вокзала и проезжал через Берхем, я думал, в безопасности ли сейчас Фрайермауеры, вспоминает ли меня Анни. Прощайте, прощайте… В моем купе находились дядя Давид и его сын Курт, так как мы относились к одной категории иностранцев. Я все еще был обижен на дядю и чувствовал себя в его присутствии некомфортно. Бедный Курт, он был подавлен своим властным отцом и замкнулся.
Я представлял себе маму и сестер, полных страха, в нашей маленькой квартире или гонимых по улицам эскадроном нацистских головорезов. Мне казалось, они зовут меня, а я слишком далеко, чтобы услышать их, и слишком захвачен своими собственными неприятностями, чтобы отозваться.
Мы приехали в Брюссель, и поезд остановился на центральном вокзале. Перед нашими окнами железнодорожные служащие о чем-то совещались с солдатами. Медленно сгущались сумерки. Через вагон прошли чиновники, проверяя документы. Затем проследовали еще таможенники, французские жандармы и военные.
После этого мы больше часа стояли где-то на железнодорожных путях. Никто из нас не знал, где мы находимся. В темноте мы могли только гадать. Опять бельгийские и французские чиновники поднялись в поезд. Нескольких пассажиров заставили выйти. Это были немцы, которых можно было обменять на французских и бельгийских граждан, бедствующих в Германии.
— Может быть, — сказал кто-то в нашем купе, — нас увозят в безопасное от нацистов место? Может быть, бельгийцы хотят спасти нас?
— Мы — евреи, — мрачно возразил дядя Давид, — кто будет беспокоиться о нас?
Его слова висели в воздухе, пока мы сидели в ожидании в темноте, так как Франция была уже затемнена. Наш поезд ждал распоряжений по радио, основывающихся на известиях о продвижении войск, возможности ударов с воздуха, о тысячах других фактов, которые менялись каждую минуту. Мы тронулись. Опять остановились. Где-то вдалеке, во французской глубинке, мы слышали вой сирен. Были ли мы вблизи большого города? Мы слышали самолеты над головой, следом — взрывы, однако не могли оценить расстояние до них. Оставаться ли спокойно сидеть или броситься на пол? Даже вспышки от взрывов не давали представления о дистанции. Были ли это свои самолеты или вражеские? Никто этого не знал. Как долго будут продолжаться атаки? Никто не решался даже строить предположения.
Через полчаса сирены умолкли, взрывы прекратились. Наступила жуткая тишина. Потом раздался пронзительный свисток локомотива и удары буферов. Поезд снова тронулся и пошел, пробираясь сквозь тьму. Некоторые спали. Я задремал и проснулся, когда утром мы подъехали к маленькой станции. С платформы на нас смотрели люди. Они выглядели разгневанно. Один мужчина сделал режущий жест рукой по горлу.
— Что это означает? — спросил кто-то в нашем купе.
— Евреев ненавидят всюду, — ответил другой. — Где есть еврей, обязательно появится кто-нибудь, кто его ненавидит.
— Откуда они знают, что мы евреи? — спросил кто-то еще.
— Возможно, они думают, что мы немцы.
Мы продолжали двигаться в южном направлении, увеличив скорость на залитой солнцем местности. В вагоне было жарко, окна не открывались. Мы подъехали к деревенской станции на юго-западе Франции и снова увидели много людей, стоящих вдоль путей. Похоже, многие из них были фермеры и рабочие. Были ли они на нашей стороне? Нет, они держали плакаты:
«А bas les Boches!» — «Долой немцев!»
«Mort aux Traitres!» — «Смерть предателям!»
— Они думают — мы их враги, — сказал я.
— Наверное, им сказали, что мы немецкие военнопленные, — добавил кто-то из пассажиров.
Мы опять ехали всю следующую ночь и утро. Потом несколько часов стояли возле маленькой товарной станции Арген на юго-востоке Бордо, пока во второй половине дня не пришло указание: всем выйти из поезда.
У меня был рюкзак с вещами, которые бельгийские власти приказали нам взять с собой: смена одежды, одеяло. Стоя в очереди, я обернулся и бросил взгляд на поезд. Снаружи на вагонах белой краской было написано: Пятая колонна.
Меня осенило: так вот почему все так зло смотрели на нас! «Пятой колонной» называли людей, сотрудничающих с врагами своей собственной страны. Мы были объявлены шпионами, предателями. Я чувствовал, как во мне закипает ярость, которая тут же обратилась в страх. Известно, что делают с предателями в военное время. Собираются ли они всех нас убить? Я был не шпионом, а безобидным евреем из Вены, жертвой нацистов, другом и союзником французов и бельгийцев. Кому мог я объяснить, кто я? Не было никого, чтобы это выслушать.
Правду мы узнали значительно позже. На бельгийско-французской границе, где вывели из поезда немцев, велись переговоры об остальных. Начиная с 1933 года Франция приняла уже тысячи беженцев, многие из которых жили теперь в лагерях для интернированных, будучи не в состоянии легализовать свой статус. Бельгия находилась в чрезвычайном положении, почти проглоченная Германией. Нас, евреев, опять бросали волкам на съедение.
Словом, французы нашли выход. Нас впустят во Францию, обозначив как «подрывные элементы, угрожающие безопасности страны», а потом, уже там, будут решать, что с нами делать. Пока же мы должны были терпеть глумление толпы.
Мы отошли от поезда к близлежащей товарной станции, полной старых машин. Полдюжины безоружных охранников сопровождали нас. Без оружия — хороший знак. Мы были гражданские интернированные лица, не вызывающие опасений. Куда нас отправят? Как далеко? На всем континенте шла война, и мы всюду были беженцами.
Час спустя нас разместили в разных товарных вагонах, стоящих на запасных путях. В некоторых были койки, в остальных — лишь солома на полу. Дядя Давид, Курт и я делили вагон с другими. В лагерь привезли военную походную кухню и огромный котел на телеге, чтобы готовить нам пищу. В тот момент все казалось почти безмятежным.
На северо-востоке Франции приземлялись парашютисты, и генерал Роммель пересек реку Мёз, вклинившись во французскую Девятую армию. В Нидерландах немецкие пикирующие бомбардировщики атаковали Роттердам, разрушив двадцать тысяч зданий. Нидерландское правительство бежало в Англию. Всякое сопротивление со стороны голландцев было прекращено. В Люксембурге, где я на короткое время нашел себе убежище, немцы конфисковали все еврейское имущество, передавая магазины, фабрики, фермы в арийскую собственность. Затем, через несколько месяцев, было объявлено, что все евреи должны покинуть Люксембург в течение трех недель, в противном случае они будут насильно депортированы в трудовые лагеря. Был установлен день депортации — двенадцатое октября, Йом Киппур, День искупления.
Мы сидели на окраине мира и ждали. Вечером нас накормили говядиной, тушенной с фасолью и картошкой. Утром, потные после теплой мягкой ночи, мы получили хлеб и сыр. После еды нужно было встать в очередь для регистрации. Ждать пришлось долго. У нас проверяли документы и спрашивали о национальности, дате и месте рождения, фамилии родителей, о религии и профессии.
— Были ли вы уже во Франции? — спрашивали нас, чтобы не рыться в документах.
— Болеете ли каким-нибудь инфекционным заболеванием? — почему-то осведомлялись они.
Я рискнул задать вопрос: оставят ли нас здесь или повезут дальше. Но ответа не получил.
Регистрация длилась до вечера. Мы оставались в Аргене несколько дней. Становилось все жарче и грязнее. Мы жаждали принять душ и надеялись двинуться дальше. Моя грыжа время от времени беспокоила меня. Однако, если я не наклонялся или не вставал на колени, боль была терпимой.
На рассвете двадцатого мая мы были подняты громкоговорителями и построены в ряд возле жилья. Вскоре мы вернулись в поезд, на котором прибыли сюда из Антверпена. Слова «Пятая колонна» были счищены с вагонов, белели только следы. Поезд, набирая скорость, продвигался дальше на юг. На следующий день, после обеда, мы достигли пункта назначения: пляжа Сен-Сиприен на юге Франции, где несколько лет назад, во время гражданской войны в Испании, был устроен лагерь для интернированных.
Войдя в лагерь, мы увидели песок, тянущийся до самой воды Средиземного моря. В отличие от Бланкенберге, курорта, где сердце мое наполнялось восторгом в присутствии Анни, пляж и вода в Сен-Сиприене не приносили нам удовольствия. Лагерь был разделен колючей проволокой на две части. Задержанные махали руками со своей стороны проволоки, но ничего не говорили. Колючая проволока проходила рядом с кромкой воды и далее, огораживая нас со всех сторон. На юго-западе была Испания, где пляж переходил в Пиренейские горы. На фоне крутых гор голубое Средиземное море, сверкающее в лучах заходящего солнца, дарило краткий миг потрясающего великолепия природы.
Этой красоты лишено было наше непосредственное окружение и жилье — ряд деревянных бараков с волнистыми металлическими крышами, тянущийся параллельно береговой линии. Пола не было, только песок пляжа, покрытый соломой, от которой шел отвратительный запах. Металлические кровли излучали жар. Воздух внутри был затхлый и тяжелый. Я потянулся к выключателю у входной двери и не нашел его. Взглянув на потолок, понял, что света нет. Водопровода тоже не было. Я стал искать туалеты и обнаружил их: выстроенные линией вдоль колючей проволоки у кромки воды, они возвышались на столбах. Во время прилива вода Средиземного моря омывала ступени, ведущие к ним наверх.
Небольшой ворох сухой соломы стал мне постелью.
— С лошадями обходятся лучше, — сказал кто-то. — Им, по крайней мере, меняют солому.
— Да, но лошади — рабочая скотина, — заметил я. — Они приносят пользу. А мы что?
— Мы евреи, — сказал дядя Давид, безумно потея от жары, — кто позаботится о нас?
Он и Курт спали напротив меня, но мы по-прежнему сохраняли дистанцию. Вечером я вышел наружу и стоял, наслаждаясь свежим бризом, дующим с моря. Мне пришла мысль спать под открытым небом, но ветер слишком сильно нес песок. Пришлось оставаться внутри, несмотря на вонь и колючую солому. С наступлением темноты я мог наблюдать мерцающие огни рыбацких лодок и кораблей в открытом море и представлял себе, как я плыву отсюда на всех парусах в дальние дали. Тетя Мина и дядя Сэм находились теперь в Америке. Они перетащили меня в Люксембург, но Америка была слишком далеко, еще дальше, чем я мог себе вообразить.
В нашем бараке теснилось около сорока мужчин. Многие провели ночь без сна, не сумев приспособиться к новому окружению и неудобному полу. Не успел я уснуть, как был разбужен: кто-то чихал, кто-то разговаривал. Некоторые пошли на свежий воздух. Шаркая по соломе, они поднимали вихри пыли, и чиханье усиливалось.
На рассвете я пошел босиком к берегу, ступая по песку, охлажденному за ночь. Он был влажным и бодрящим. Когда-то мы гуляли по такому с Анни… Теперь казалось, что она — одна из тех, кто растворился в моем прошлом.
Тем утром в бараке я наблюдал, как дядя Давид и Курт деловито приводили в порядок свои спальные места. Несмотря на обильное потоотделение, мой дядя был помешан на порядке. Сложившиеся обстоятельства явно раздражали его, и Курт расплачивался за это.
— Положи еще сюда, — командовал дядя Давид.
Он указывал Курту, куда тот должен положить пучок соломы: это — туда, то — сюда, прибывая в иллюзии, что солома останется там, куда ее положили.
— Дядя Давид, — сказал я, запинаясь, — это ничего не даст. Вы только перекладываете мусор с места на место.
— Тебя никто не спрашивает, — огрызнулся он.
Я присоединился к другим, убиравшим бараки — не солому, а следы, оставшиеся от прежних обитателей: старые носки, расчески, ремень, погнутую банку, в которой когда-то был pâté de foie gras (паштет из гусиной печени), носовой платок с пятнами засохшей крови, кусок рваного бинта и несколько скомканных бумажных пакетов. Последние были не мусор, а сокровище, драгоценная вещь в момент, когда закончится туалетная бумага. Я спрятал пакеты в свой мешок про запас. Позже люди будут драться за каждый клочок бумаги. Не имея бумаги в отхожем месте, некоторые пользовались соломой, моя потом руки у кромки воды.
Я — босой, в шортах, без рубашки — безучастно ходил по пляжу, подставляя тело легкому бризу и солнцу, встречая других, таких же, как я. Мы были колонией странников, бесцельно бороздящих песок, людьми, убивающими время. На одном конце лагеря стоял барак с надписью «Комендатура». Вывеска впечатляла сильнее, чем горстка охранников, обитавших внутри, — усталые, изнуренные палящим солнцем остатки предыдущих войн: марокканцы, сенегальцы и другие представители французских колоний. Сейчас, когда их страна была в опасности, задыхалась, защищая себя, эти часовые стерегли людей, которые не были их врагами, — горемычных изгнанников евреев.
Время текло бесконечно медленно. В июне стало еще жарче, и внутри бараков уже с середины дня было непереносимо душно. Лишь изредка дул сухой ветер, который французы называют «мистраль», принося кратковременную прохладу. Многие из нас постоянно находились на грани рвоты.
Это был изолированный, сводящий с ума, маленький мир, в котором мы не имели представления о беспорядках снаружи. Лавина людей, испуганных вторжением и слухами, пришла в движение. Вспомогательные службы не справлялись с этим. Власти не знали, что делать, и поэтому лагеря для интернированных стали самым простым решением.
Однажды утром в лагере был найден скелет какого-то животного. Судя по размерам костей, он принадлежал барану или козе. Последовали бурные дискуссии, были опрошены «специалисты». Все годилось, чтобы освободиться от смертельного однообразия нашего маленького неизменяющегося мира.
Мы приблизились к часовому и, придерживая останки животного, спросили:
— Откуда это?
— Здесь можно найти много таких костей, если поискать, — сказал он равнодушно. — Все это оставлено испанцами.
Скука охранников была сопоставима с нашей. Делать здесь было абсолютно нечего. Солнце палило нещадно, и только в бараках была тень, но находиться там днем было немыслимо. Итак, мы, пытаясь сократить безумие каждодневной скуки, искали кости, напоминая детей, собирающих ракушки. Мы нашли кусочек ископаемого, похожий на обломок рога быка. Возле одного из туалетов я нашел часть грудной клетки какого-то маленького зверька. Охранник был прав: ищите и найдете.
Еду в бараки мы по очереди носили из удаленной на несколько сот метров кухни. Для этого требовалось два человека. На длинные палки подвешивались за ручки огромные кастрюли. Мы поднимали их за палки, каждый со своей стороны, и тащили, осторожно продвигаясь по раскаленному песку. Бережно придерживая кастрюли, мы следили, чтобы они не раскачивались и содержимое не выплескивалось наружу. Бывало, в ветреные дни в пищу попадал песок.
Ответственным за кухню был беженец из Германии по фамилии Ротшильд. Полный, небольшого роста человек, мясник, он гордился тем, что мог приготовить относительно вкусную еду. Однажды он протянул мне кость с остатками мяса и сказал: «На, возьми. Погрызи немного». Так дают обычно кость собаке, но я все же взял неожиданное угощение.
Раз привезли говядину, но Ротшильд отказался ее принимать. «Плохо пахнет», — пояснил он. Поставщик не хотел брать мясо назад, но Ротшильд был непреклонен.
— Я не хочу отравить этих людей, — сказал он. — Они голодны, но не настолько. А если мне захочется понюхать что-нибудь вонючее, я просто зайду в бараки.
К этому времени большинство бараков было уже заражено паразитами. В них была прорва вшей и блох. То, что сначала напоминало сарай, превратилось в сортир. Представители, выбранные из заключенных, сообщили о ситуации коменданту. Вскоре после этого явились рабочие в специальной одежде и обработали помещения дезинфицирующими средствами. Двери закрыли и опустевшие бараки запломбировали на два часа. Старый гнилостный запах исчез, замещенный новым — тяжелым химическим.
К середине июня кожа у меня загорела и огрубела. Теперь я мог ходить по песку, не ощущая его жара. Я потерял чувство времени. Иногда к нам доходили слухи, что немцы наступают на всех фронтах, что Бельгия и Голландия потерпели поражение, что французы еще сопротивляются, но не очень успешно.
— Что происходит во Франции? — спросил я французского охранника. — Слухи очень тревожные.
— Ах, боже правый, — лениво откликнулся он. — Франция никогда не капитулирует.
22 июня 1940 года в Компьене французский маршал Анри Филипп Петен подписал перемирие с Германией. Один из часовых сообщил нам эту новость. Что будет с нами теперь, когда Франция потерпела такое унизительное поражение? Французы как нация это переживут, но для евреев как народа это гораздо менее очевидно.
Однажды рано утром я стоял во внутреннем дворе, вымощенном кирпичом, в очереди, чтобы умыться. Мужчина, стоявший за мной, похлопал меня по плечу и, указав на мыло, которое я держал в руке, спросил:
— Откуда это?
Я рассказал, что захватил его с собой, когда бельгийские власти приказали явиться в полицейские участки, имея при себе запас продовольствия. Теперь это был один из последних кусков мыла в лагере.
— Тебе повезло, что есть мыло.
— Хочешь им помыться?
Он смотрел на мыло, как будто перед ним было сокровище.
— Да, — ответил он, почти извиняясь, — только лицо.
Мыла хватило еще на несколько дней.
Еды пока было вполне достаточно, иногда даже оставался хлеб, который мы брали на ночь с собой в бараки. Но его нужно было уберечь от мародерствующих крыс. Поэтому мы подвешивали хлеб на балки прямо под потолком. Часто это помогало, но иногда крысы все-таки добирались до него.
Потом пришла новая беда: наводнение и одновременно вспышка дизентерии. Вода Средиземного моря поднялась до верхних ступеней, ведущих в туалет. Стоя в очереди, мы вынуждены были продвигаться вброд по воде. Люди были больны и взвинчены. Они барабанили в двери и обругивали тех, кто слишком долго сидел в туалете. Скоро начинали напирать, толкаться, и, наконец, дело доходило до драки. Многие, кто выходил из туалета, чтобы освободить место другим, быстро возвращались в конец очереди. Клочки бумаги ценились теперь на вес золота. Однако скоро осталась лишь солома. С июня по сентябрь умерло около дюжины заключенных. Сотни лежали в бараках с температурой под присмотром остальных. Запах смерти стал смешиваться с невыносимой жарой.
В августе мне удалось взять судьбу в собственные руки. Посыльный из управления лагерем зашел в барак и вручил мне разрешение на свидание с Леоном Остеррайхером из Антверпена, другом Анни, с которым мы встречались короткое время в Берхеме, когда крутили шлягеры на маленьком старом проигрывателе.
— Что ты тут делаешь?
— Собираюсь вытащить тебя отсюда, — прошептал он.
Это ошеломило меня. Я надеялся на чудо, но никак не ожидал его от малознакомого человека.
— Я наблюдал за охранниками, — продолжал он. — Они ненавидят свою работу. Думаешь, им важно кто останется здесь, а кто нет?
— Что ты предлагаешь?
Я все никак не мог поверить, что Леон здесь, и еще более невероятными были детали побега, казавшегося мне абсурдным.
— Я могу подкупить одного из них, — ответил Леон. — В нужный момент они будут смотреть в другую сторону. Но риск есть.
— Да, рискованно, — согласился я. — Ты можешь попасть сюда, в лагерь, вместе со мной.
— Лео, — сказал он, — в Тулузе я слышал, что людям удалось убежать отсюда. И я узнал место, где ты сможешь выбраться. Никто не хватится тебя.
Мгновение я стоял онемев, пока Леон не добавил:
— Кстати, у меня есть новости о Фрайермауерах. Я знаю, где находится Анни.
Он подвел меня к входу для поставщиков продовольствия и показал мне брешь между колючей проволокой и песком. Приподняв немного проволоку, он указал жестом, как бы говоря: «Видишь? Ты сможешь проползти под ней». Он сказал, что встанет немного в стороне и будет на стороже. Меня не нужно было просить дважды. Какое наказание могут мне дать хуже того, что я уже и так имею?
Я вернулся в барак, чтобы взять свои вещи. Вечерело. Первый раз за последние несколько недель я надел рубашку и обувь. Дядя Давид посмотрел на меня в сумеречном свете барака.
— Ко мне пришел друг, — сказал я ему.
Я разрывался между памятью о дядиной грубости и естественным желанием поделиться с ним планами побега, на который он тоже мог бы отважиться.
— Он предлагает убежать отсюда и считает, что это возможно.
— Друг, — сказал дядя, отмахиваясь с отвращением. — Что он знает? Не впутывайся в такие дела.
Я кивнул, забрал остатки вещей и повернулся, чтобы уйти.
— Ты с ума сошел! — воскликнул дядя Давид.
Когда я подошел к двери, он сказал:
— Поступай как хочешь.
Я попрощался со своим кузеном Куртом, который никогда бы не убежал без отца, и вернулся к кухне, стараясь не привлекать к себе внимания. Леон ждал снаружи, по ту сторону колючей проволоки. Было похоже, что здесь не охраняют. Достаточно ли глубока щель в песке? Я попытался, копая пяткой, сделать ее больше. Был ли я достаточно худым, чтобы проползти наружу? Мое сердце громко билось. Заметит ли меня охрана?
Я протолкнул рюкзак сквозь отверстие, и Леон приподнял немного проволоку. Тогда я соскользнул вниз, ногами вперед, ничего ни видя и не слыша вокруг, как если бы это крошечное место на земле вобрало в себя весь существующий мир. Мне нужно было лишь протиснуться наружу, чтобы обрести свободу.
И вот я здесь, по другую сторону забора, и Леон стряхивает песок с моей одежды. Мы постояли несколько секунд, не смея поверить себе.
— Сохраняй спокойствие, если кто-нибудь попадется нам навстречу, — сказал Леон. — Иди как обычно.
Мы двинулись в путь, и, казалось, никто ничего не заметил. Пару минут мы шли молча. Меня охватила такая легкость, что хотелось бежать.
Наконец, Леон восторженно заявил:
— Ça у est. — «Вот и все».
Мы пошли быстрее и через час подошли к узкой дороге, ведущей в Перпиньян. По пути мы не встретили никого, кроме изредка проезжающих мимо нас велосипедистов, которые приветливо махали нам.
— Откуда ты узнал, где меня искать? — спросил я.
— Я услышал, что бельгийские поезда с заключенными направили сюда, — ответил Леон, — и понял, что ты здесь.
Он сказал, что Анни и ее семья покинули Антверпен вскоре после капитуляции Бельгии. Поездом и грузовиком они пробирались на юг. Когда он просматривал списки беженцев в бюро Красного Креста в Тулузе, он нашел фамилию Фрайермауер. Они находились в Люшоне, в горах, недалеко от испанской границы.
— Я могу посадить тебя на поезд, — предложил Леон.
— У меня нет денег.
— Я позабочусь об этом, — сказал он. — Это — мой подарок тебе.
День спустя, все еще не веря, что я на свободе, я прибыл в Люшон.
7 ЛЮШОН, БАНЬЕР-ДЕ-БИГОР (август 1940 — декабрь 1941)
Люшон был местом, где обычно отдыхали беззаботные туристы. Теперь, однако, город был полон испуганных, оторванных от родины, таких же, как я, людей, которые постоянно размышляли о том, куда бежать дальше.
Находясь в лагере Сен-Сиприен в изоляции от внешнего мира, я не имел представления о действительном размахе происходящих событий. Продвижение немцев по Европе вынуждало миллионы людей оставлять свои дома, срываясь с места на любых машинах, поездах, грузовиках, повозках или просто пешком, и двигаться по дорогам континента в поисках безопасного убежища. Дороги, ведущие на юг Франции, забитые толпами беженцев, мгновенно пустели, когда низко летящие немецкие самолеты поливали их ураганным огнем. Только после капитуляции Франции, когда правительство подписало перемирие с Германией, атаки прекратились. Но куда теперь было прятаться людям, когда никто не стоял на пути у немцев?
В Люшоне беженцы могли задержаться, чтобы перевести дух, укрыться на время, надеясь, что столь незначительный город вряд ли будет захвачен немцами. На вокзале мне дали адрес Красного Креста, где можно было получить информацию о фамилиях и местопребывании беженцев. На главной улице я нашел наспех устроенное справочное бюро: разложенные на деревянных столах листы бумаги, в которых рылись озабоченные люди.
Мне попадались новые и новые списки — фамилии людей, вынужденных бежать в никуда, в то время как их родина рушилась позади них. Многие из них были евреями. В результате немецкого вторжения массы людей устремились на юг, заполняя города и деревни. Люшон, пытающийся приспособиться к наплыву беженцев, был невероятно красивым местом отдыха. Это был курорт, расположенный в Пиренеях, вблизи испанской границы, известный своими термальными источниками и лыжными трассами. Сюда приезжали в отпуск — отдохнуть и развлечься. Но сейчас город был переполнен людьми, которые просто хотели выжить; людьми, которые когда-то были уважаемыми гражданами, имели семьи и честно работали, внося свой вклад в общество. Являясь частью этого общества, они воображали, что находятся дома, в безопасности. Теперь они стали только именами в бесчисленных списках и пытались пережить каждый следующий непредсказуемый день.
В одном из списков я нашел Фрайермауеров. Я чуть не подпрыгнул от радости. Служащий Красного Креста дал мне их адрес; Rue Hortense, 7. Их жилье было совсем близко. Я надеялся, что они дома и с радостью встретят меня и я не стану для них обузой.
Дверь открыл Йозеф Фрайермауер. При виде меня трубка чуть не выпала у него изо рта. Он обнял меня своими мускулистыми руками и крикнул:
— Рашель, Аннеке, Нетти, идите сюда! Посмотрите, кто пришел!
Я никогда не видел, чтобы он был так ошеломлен. Уже через секунду остальные горячо обнимали меня. Глаза Рашель были полны слез, а Анни поцеловала меня в щеку.
— Какой ты черный, — заметила Нетти.
— Да, три месяца на пляже возле моря, — рассмеялся я.
— Мы не имели представления, куда тебя отправили из Антверпена, — сказал Йозеф.
Рашель вытерла слезы и сказала:
— Человек предполагает, а Бог располагает.
Решение приняли быстро: я смогу остаться у них. Услышав эти слова, я вздохнул с облегчением. Мое спальное место — диван. Они спросили, устраивает ли меня это. Боже мой, после соломы в Сен-Сиприене диван казался мне просто царским ложем. Мы разговаривали так, словно с момента нашего расставания прошли не месяцы, а годы. Они приехали сюда через несколько недель после бомбардировки Бельгии, а чуть позже к ним присоединились братья и сестры Йозефа со своими супругами. Я рассказал им, как мне удалось убежать из Сен-Сиприена.
— Леон? — удивились они.
— Как с неба свалился, — сказал я.
— Так на него похоже, — заметила Анни.
Леон Остеррайхер внезапно и быстро ворвался в мою жизнь и так же быстро исчез из нее, на этот раз навсегда, настигнутый своей собственной непредсказуемой военной судьбой.
Позже мы с Анни гуляли по городу. Там были элегантные кафе со столиками на тротуарах и казино посреди парка. Вдали вокруг нас была видна захватывающая горная панорама. Я держал Анни за руку, спрашивая себя, неужели и завтра я смогу это делать.
Утром мы с отцом Анни отправились в ратушу, чтобы зарегистрировать меня как «беженца с севера». Моего бельгийского удостоверения личности оказалось вполне достаточно; не было задано ни одного вопроса. Меня приняли за одного из тех, кому удалось убежать из зоны военных действий. Регистрация означала, что я стал легальным, хотя и временным жителем Люшона — таким же, как все остальные.
Медленно бредя по городу, мы с Йозефом наткнулись на вывеску, которая гласила: «Купи курицу и получишь в придачу дюжину яиц бесплатно». Вот это да, подумал я. В Вене о тех, кто живет роскошно, мы говорили: живет как Бог во Франции. Здесь мы столкнулись с подтверждением этого. Все без продовольственных карточек, без ограничений: избыток мяса и овощей, вкусные фрукты и чудесный хлеб. Да, Пиренеи были краем изобилия.
Это было чудесно, но быстро кончилось. Территории Франции, занятые немцами, оказывали влияние на неоккупированные зоны. В течение нескольких недель количество продовольствия резко сократилось и были введены карточки. Даже на соль, так как немцы заняли соляные копи на юго-западе страны и использовали большую часть добываемой соли для нужд военной промышленности. Вскоре в магазинах исчезло мыло. Люди запасались. Йозеф не был любителем стояния в очередях, тем более за одним куском мыла, и вспомнил, как во время последней войны его отец в Польше сам варил мыло.
— Я даже помогал ему, — добавил он с гордостью.
Однажды он принес домой сало, полученное у знакомого мясника, в аптеке купил щелок, и смотрите-ка: он уже сделал мыло для всей семьи.
Со временем правительство Виши, руководимое маршалом Петеном, стало ретивым партнером Гитлера в новой Европе. Евреи не могли больше занимать официальные посты в правительстве Франции. Им запрещалось также работать адвокатами и учителями. Их не принимали больше на военную службу. Работа во многих сферах стала теперь для них недоступна. Затем, в первой неделе октября, тысячи евреев, убежавших от нацистов, были задержаны и отправлены в лагерь для интернированных в Гюрсе, у подножья Пиреней. Все страдали там от недоедания. Многие умерли голодной смертью. Многие замерзли.
В Люшоне, осенью 1940 года, нас мучили прежде всего страх и неустойчивость положения. Мы ломали себе голову, куда можем мы бежать в случае прихода немцев. Мы, евреи, были в Люшоне явно посторонними. Жители города, никогда раньше не встречавшие евреев, стали теперь свидетелями не виданных ими событий — главных еврейских праздников. Город разрешил нам использовать зал городского казино для богослужения. Мужчина, руководивший службой, был кантором из Вены по имени Крайтштайн, в хоре которого я, имея альт, пел короткое время в синагоге на Кашльгассе. Он и его семья покинули Австрию сразу после аншлюса.
На Рош Ашан, еврейский Новый год, казалось, сам Творец улыбался нам: погода в Люшоне стояла прекрасная, и Южная Франция сияла во всем своем осеннем великолепии. Здание казино тонуло в солнечных лучах, и легкий горный ветерок струился сквозь открытые ворота. Нас собралось более ста человек. Прочитав старую молитву, мы начали уверять друг друга, что в новом году все будет лучше. Хотя кантор пел очень эмоционально, чувствовалось какое-то несоответствие, так как древние еврейские мелодии смешивались с каталонской музыкой, несущейся из близлежащего бистро.
Выйдя из здания после службы, мы испугались. Огромная толпа людей, собравшаяся возле казино, разглядывала нас и наши религиозные принадлежности так, словно мы — пришельцы из других галактик. Для многих из нас большая толпа ассоциировалась с опасностью, но эти люди выглядели просто любопытными.
В баскском берете и со все еще сильно загорелым лицом после лагеря в Сен-Сиприене, я выглядел скорее жителем Средиземноморья, а не Вены. Один из местных жителей приблизился ко мне и спросил:
— Почему вы были там с этими людьми?
— С какими?
— С евреями.
— Я тоже еврей, — ответил я.
— Ах, вы — еврей, — воскликнул он с удивлением. — Вы выглядите как один из нас.
Отходя, я думал о том, как же выглядят евреи. Не слишком ли коротка дорога от бесхитростного вопроса этого человека до арийских стереотипов Гитлера? Десять дней спустя мы праздновали Йом Кипур, День искупления. Я сидел в нашей импровизированной синагоге и размышлял: искупление — за что.
— Я согрешил, — непрерывно напоминала нам литургия этого праздника. — Я согрешил, я согрешил.
Я думал: согрешил ли я. Ответ пришел сразу — перед глазами возникли лица мамы и сестер. Они прятались в нашей квартире, а я жил на горном курорте. Я согрешил, я согрешил. В Вене синагоги сожжены дотла, а я молюсь в синагоге, преобразованной из казино. Я согрешил, я согрешил. Нужно ли мне уехать отсюда, попытаться преодолеть военные зоны для совершения чуда по спасению своих близких?
— Al cheit, — пел кантор Крайтштайн, — al cheit, al cheit… — «Я согрешил, я согрешил, я согрешил…»
А другие, думал я. Готовы ли другие, принесшие страдания невинным людям, искупить свою вину? Найдется ли во всей Франции хотя бы один-единственный человек, который во время исповеди скажет: «Я согрешил против моего ближнего только за то, что он — еврей, как и Иисус»?
Потерпев поражение, Франция вдруг столкнулась с кризисом в лелеемой ею отрасли хозяйства. После того как огромное число граждан было призвано на военную службу, встал вопрос: кто будет собирать виноград для вина. Южные виноградники перезревали после длинного лета. Виноград, если он уже созрел, нельзя оставлять на лозе. Правительство Виши, понимающее, что в городах и деревнях по всему югу Франции живет много еврейских беженцев, жаждущих завоевать расположение к себе, обратилось с призывом: «Поработайте на виноградниках, помогите собрать урожай!» В Люшоне откликнулось около пятидесяти человек. С нами расплачивались не деньгами, а продуктами: птицей, яйцами, сыром, маслом, овощами и вином. Все эти продукты, которые теперь так трудно было найти, были не менее драгоценной оплатой, чем золотые монеты.
Пятеро из нашей семьи доехали на поезде до обнесенного стеной города Каркасон, расположенного на реке Од. Здесь, в одном из близлежащих фермерских хозяйств, мы переночевали. На следующее утро нас разбудили в полпятого, когда воздух был еще морозный. Завтрак оказался обильным: сытный овощной суп, сваренный хозяйкой. Она же, держа обеими руками большущую сковороду над громадным очагом, приготовила замечательный омлет с грибами и луком, который подала нам с красным вином и свежим хлебом. В такие минуты я чувствовал себя баловнем судьбы.
Уже через час мы были у виноградника, где нам дали садовые ножницы, чтобы срезать виноградные кисти с лозы. На осеннем воздухе было зябко, и кругом стояли маленькие печки, возле которых можно было согреть руки, коченеющие от холодной утренней росы. Позже стало теплее, и мы, уже приспособившись, быстро продвигались вперед. Каждые пятнадцать-двадцать минут проходил помощник, который опорожнял наши корзины в специальное корыто. Затем виноград сбрасывали в хитроумное устройство над бочкой, установленной на плоском основании в телеге. В этом устройстве три женщины босиком мяли виноград, превращая его в кашу, и сок стекал в бочку через похожие на сито отверстия.
Ферма казалась местом из другого времени. Здесь не велись разговоры ни о политике, ни о религии. Война — это одно, а вино — совсем другое. Заботы фермеров и военные проблемы не совпадали. В конце недели мы вернулись в Люшон с продуктами, достаточными для обильного питания в течение нескольких дней. Но затем реалии войны вновь проникли в нашу жизнь.
Был издан приказ: нам давали несколько дней, чтобы покинуть Люшон. Мы были ошеломлены. Ведь только что мы помогли французам с их драгоценным вином и полагали, что они будут изображать благодарность, по крайней мере, чуточку дольше. Но Люшон освобождали от вновь прибывших, и нас направили в Баньер-де-Бигор. Мы были в руках бюрократической системы, не утруждающей себя объяснениями.
— Зима наступает, — с горечью прокомментировал Йозеф. — Люшон готовится к лыжному сезону.
Время поджимало. Страна была наводнена беженцами, и найти жилье, особенно для нашей разросшейся семьи, насчитывающей более дюжины человек, было совсем непросто. Баньер расположен километрах в шестидесяти на северо-запад от Люшона. Йозеф взял в аренду старый грузовик, на котором мы ехали часа два, спускаясь по крутым извилистым дорогам, думая о том, что ожидает нас в этом незнакомом городе.
Широкая долина, в которой лежал Баньер, была окружена заросшими буйной зеленью предгорьями. За ними виднелись покрытые снегом Пиренеи. Был конец ноября. Мы поселились в тесном крестьянском доме: несколько комнат, кухня, соломенная крыша. Я делил комнату с двумя кузенами Анни — Йозефом и Вилли Гишлидерами. К началу войны Йозефу был двадцать один год, и он учился в университете в Брюсселе. Двадцатичетырехлетний Вилли был химик. Веселые парни, они прямо-таки искрились жизнерадостностью вплоть до четвертого марта 1943 года, когда их депортировали в Аушвиц, где они умерли.
Сейчас Баньер разбух от беженцев, многие из которых были евреями. Городские жители никогда до этого евреев не видели, а теперь мы были везде. Однажды во время завтрака Рашель пошутила:
— Кошерный мясник мог бы здесь разбогатеть.
Однако мяса почти не было. Нормирование продуктов стало частью нашей жизни. Недельная норма масла составляла лишь несколько унций[9]. В эту зиму множество товаров исчезло с прилавков. По всей Франции немцы реквизировали все, что попадалось им под руку. Правительство Виши оказывало им в этом безусловную поддержку. Йозеф Фрайермауер, всегда очень предусмотрительный, обнаружил одного фермера, доставлявшего на телеге молоко в молочный магазин, где других молочных продуктов фактически не было.
— Мы беженцы, — сказал он фермеру. — Мы живем в старом крестьянском доме. В семье у нас и пожилые люди, и дети. Если бы вы могли доставлять нам молоко, мы бы платили выше рыночной стоимости.
Фермер понимал, что подобный обмен должен производиться только тайком. Черный рынок процветал. Каждый делал все возможное, чтобы прокормить семью. Фермер согласился привозить молоко раз в неделю. Для Йозефа, однако, молоко было лишь средством для достижения цели. Каждую неделю фермер доставлял десять литров молока в зеленых бутылках. Из этого молока Йозеф делал масло. Немного молока пока еще можно было найти в магазинах, масла — нет.
Йозеф показал нам, как нужно держать за горлышко молочную бутылку и встряхивать ее непрерывно вверх-вниз, как бармен, готовящий коктейль, пока на зеленом стекле не появятся крошечные частички осадка, которые, постепенно соединяясь, образуют большие кусочки. На это требовалось полчаса, и наши руки уставали. Затем мы откупоривали бутылку, сливали обезжиренное молоко в горшок и извлекали жирный осадок, крепко ударяя по дну бутылки. В Баньере масло у нас никогда не иссякало.
Также не иссякали новости. В начале 1941 года генеральная линия немецкой политики состояла в изгнании евреев с оккупированных территорий. Однако на способы изгнания имелись разные взгляды. В то время как правительство говорило об удалении еврейского влияния из всех областей арийской общественной жизни, военные власти все еще думали об интернациональных законах и о противодействии, оказываемом французским общественным мнением. Им хотелось открытого сотрудничества французского народа с властями. Мы в Баньере затаили дыхание.
В марте мне исполнилось двадцать. Я все больше тревожился о судьбе мамы и сестер. Мы не имели известий друг от друга с момента моего пребывания в Бельгии, и мама знала, что я написал бы ей непременно, чтобы развеять ее тревоги обо мне. Но почтовое сообщение между Францией и Германией было прервано, и нужно было что-то придумать. Мой кузен Герберт Фишман находился в Швейцарии, в рабочем лагере. Почта между Францией и Швейцарией, так же как и между Швейцарией и Германией, все еще действовала. Итак, Герби стал передающим звеном между мамой и мной, пересылая письма туда и обратно. Через несколько недель я получил письмо и фотографию от Генни. Я был вне себя от радости. Она писала, что у них все хорошо. У меня возникло ощущение, что рухнула стена и жизнь, казавшаяся утраченной, может еще вернуться.
В апреле мы переселились в кирпичный отштукатуренный дом на окраине города. Там было достаточно места для всех нас, и из окон открывался безмятежный вид на близлежащие предгорья. А пока что я писал письма — не только в Вену, но и в Америку. Тетя Мина и дядя Сэм находились в Балтиморе у тети Софи, которая подготовила для меня аффидевит — поручительство, в надежде добиться визы для иммиграции в США. Мысль о том, что я уеду в Америку, и обнадеживала меня, и смущала. Могу ли я оставить свою семью по другую сторону океана? Могу ли я покинуть Анни? У меня к ней были сильные чувства, но война вносила неразбериху в наши эмоции.
Однажды, стоя в очереди на крытом рынке с продовольственными карточками в руках, я встретил человека по имени Мендель Спира. Он с женой и двумя дочерьми подросткового возраста приехал сюда из Парижа. У него был радиоприемник. Вечерами мы сидели в его квартире и слушали по Би-би-си передачи радио «Свободная Франция», настроив приемник на самую низкую громкость. Правительство Виши издало указ, запрещавший слушать такие передачи. Пойманные строго наказывались.
Слушать радио было непросто, потому что немцы постоянно глушили передачи. Тссс, всегда говорил Спира. Однажды ночью, в июне, по Би-би-си сообщили сногсшибательные новости: немцы начали массированные атаки против Советского Союза. На следующий день Германия приказала арестовать белорусских эмигрантов, находящихся во Франции, большинство из которых было евреями. Лагеря для интернированных пополнились теперь новыми заключенными.
Евреев быстро отлучили от деятельности в торговле, ремеслах и промышленности. С июня по декабрь были изданы указы, ограничивающие участие евреев в области медицины (в том числе стоматологии), фармакологии, права, архитектуры и театра. Число евреев-студентов тоже было взято под контроль.
Где-то все было еще хуже. В июне, сообщило радио Би-би-си, во время еврейского погрома в Каунасе (Литва) было убито почти четыре тысячи человек. В июле немцы овладели Львовом (тогда Польша) и уничтожили там семь тысяч евреев. Неделей позже всех евреев прибалтийских стран принудили носить на одежде желтую звезду Давида. В августе режим Виши стал применять суровые меры против антинацистской деятельности. В сентябре в Париже был застрелен немецкий офицер — возмездием явились массовые казни. В Америке Чарльз Линдберг[10], величайший американский герой того времени, обвинял британцев, евреев и правительство Рузвельта в том, что они подталкивают США вступить в войну. В октябре гестапо начало уничтожать синагоги в Париже.
Все это время я ощущал, что мне лично очень повезло, но одновременно меня преследовало чувство вины. Каждый день я ожидал получить что-нибудь от мамы через Герби из Швейцарии. Письма приходили примерно раз в месяц и были сформулированы очень осторожно. Ничего об общей ситуации дома, только основные новости о семье. Страх перед цензурой, которая может обратить на нас внимание властей, был слишком велик, чтобы писать искренне и свободно. В лучшем случае удавалось создать любительский код: «Дядя Хайни всегда в плохом настроении. С каждым днем с ним все хуже». У меня не было дяди Хайни. Хайни был Гитлер — обстановка со дня на день ухудшалась.
Доставать самое необходимое становилось все труднее. Австрийским евреям выдавались продовольственные карточки с пометкой «J». Им разрешалось покупать только в определенных магазинах в назначенное время. Они не получали ни карточки на покупку одежды, ни другие пособия. Наконец было запрещено продавать им мясо, молоко, рыбу, яйца, белую муку, фрукты и овощи.
Но и моя жизнь на юге Франции медленно ухудшалась. Когда мы приехали в Баньер, мы должны были сразу зарегистрироваться в местном отделении полиции. Теперь нам необходимо было перерегистрироваться вновь — уже как евреям. Было ясно, что наше время здесь близилось к концу. Мы были обеспокоены. Однажды, сидя с Анни на пологом берегу Адура, я размышлял о том, что же победит — наши чувства друг к другу или война. В кино мы смотрели новости, состоящие в основном из фашистской пропаганды: бесконечные победы Германии, отступления советских войск, место Франции в новой Европе, Виши против Marquis, французского Сопротивления. Держась за руки, мы выходили из кинотеатра, думая о том, удастся ли миру сохранить человечность.
— Тссс, — говорил Мендель Спира, когда по вечерам мы слушали радио: ужасные рассказы о немецких отрядах смерти, так называемых айнзацгруппах, которые грабили и сжигали города от Балтийского до Черного моря. Даже просто слушать об этом было невыносимо. Айнзацгруппы врывались в еврейские общины и собирали всех присутствующих для «переселения». Евреи должны были отдать все свои ценные вещи и раздеться. Затем их вели к месту казни вблизи какого-нибудь глубокого рва, куда потом сбрасывали их трупы.
Той осенью началась депортация из Вены на восток. Тетю Шарлотту и мою кузину Юдифь отправили в гетто города Лодзь, а оттуда в Аушвиц. Дядя Исидор уже находился там. А я был во Франции и мечтал об Америке. Ежедневно я ходил на почту, в надежде среди этого моря трагедий получить хоть одну хорошую новость. Однажды я увидел красно-бело-голубой конверт из Америки.
— Enfin, ça у est, — заметил почтальон. — «Наконец-то пришло».
Он знал. Каждый раз, не получив письма из Америки, я разочарованно вздыхал. И вот — письмо от тети Софи из Балтимора. С помощью Hebrew Immigration Aid Society (Общество еврейской иммиграционной помощи) мой аффидевит был признан иммиграционными властями США. В ближайшее время, писала тетя Софи, я получу от соответствующего консульства США извещение, что мне нужно обратиться туда за визой.
Сначала я ужасно обрадовался, но потом… Мама была не в Америке — она с моими сестрами осталась в Вене. Анни тоже была не в Америке. Она находилась здесь, во французских горах.
— Так значит, — сказал Йозеф Фрайермауер, когда я поделился с ним новостью, — ты уезжаешь в Америку.
Он сказал это едва слышно, и больше мы к этому не возвращались. В октябре мы еще раз собирали виноград. В ноябре я получил извещение: «Вам нужно приехать 8 декабря 1941 года в Марсель в консульство США».
— Когда я вернусь, — сказал я всем, — у меня будет виза.
— Ну, значит, ты принял решение, — сказал Йозеф. — А мне всегда казалось, что ты останешься в Бельгии и займешься торговлей бриллиантами.
Анни, и прежде не очень разговорчивая, теперь была особенно молчалива. Опять, думал я, прощания с близкими, прощания, прощания…
С тяжелой душой сел я в поезд на Марсель, чтобы получить документы, планируя после этого ненадолго вернуться к Фрайермауерам и забронировать морской рейс в Америку. В воскресенье седьмого декабря я прогулялся по улице Ла Канбьер — главной артерии Марселя. Вечер был мягким. Замок Иф, символ Марселя, выступал удивительным силуэтом на фоне потемневшего неба. Я переночевал в маленьком номере гостиницы, чувствуя себя хотя и одиноким, но свободным и счастливым от возможности прожить жизнь в Америке.
Ранним утром я покинул гостиницу и по пути в американское консульство остановился перед газетным киоском. Мне бросился в глаза заголовок: Le Japon Attaque La Flotille Americaine A Pearl Harbor. Япония атакует американский флот в Пёрл-Харборе.
Я стоял как вкопанный. Я никогда не слышал о Пёрл-Харборе, а теперь это место стало поворотным пунктом всей моей жизни. В девять я вместе с дюжиной других ожидавших визы был у консульства.
— Ввиду военных действий, — сказали нам, — консульству поручено прекратить все визовые дела до дальнейших указаний.
Женщина, стоявшая в очереди со своими малышами, начала рыдать. Дети вторили ей. Поднялся страшный рев. Это ошибка, нас ждут, говорили мы. Да, да, отвечали нам успокаивающе, но это — война. Мы все вынуждены приносить жертвы.
Мы ждали кого-нибудь из начальства, кто выйдет к нам и скажет, что наши просьбы могут быть удовлетворены, что нам будет сделано исключение. Однако никто не пришел. Возвращение в Баньер представлялось мне падением в пропасть.
8 КОТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ, РИВЗАЛЬТ (декабрь 1941 — октябрь 1942)
На обратном пути в Баньер я был очень угнетен. Goodbye America. Я был уже на волосок от цели, но Америка вновь исчезла по ту сторону громадного океана. Когда я приехал к Фрайермауерам, они сразу увидели мрачное настроение, в которое я погрузился, и попытались меня утешить. Я не сопротивлялся.
Через несколько дней пришло письмо из Вены. Мама и Генни были вывезены из нашей квартиры неизвестно куда, а моя сестричка Дитта разлучена с ними и тоже отвезена куда-то. Такое «искоренение» называлось сухим словом «трансфер»: мама и Генни оказались в одном месте, Дитта в другом, а бабушка, тетя Роза и тетя Тоба были перевезены в гетто, организованное для венских евреев. Чувство страха, беспомощность захлестнули меня; я боялся, что никогда больше не увижу никого из них.
На Рождество я подавленно бродил по улицам Баньера. Хотя Рождество и являлось поводом к торжествам, но в тот год не отмечалось пышно, так как было не до веселья. У Менделя Спиры мы слушали по радио сообщения о немыслимых зверствах немецких айнзацгрупп. Тссс, говорил Спира, настраивая приемник среди помех, в то время как мы силились услышать число ежедневных убийств. В Литве айнзацгруппы лишь за несколько дней убили тридцать две тысячи евреев; в течение первых шести месяцев немецкой оккупации в прибалтийских странах было уничтожено более четверти миллиона евреев. Во всем мире убивали людей, но в нашем случае убийства совершались исключительно по той причине, что мы — евреи. Тссс, говорил Спира. Важно было знать статистику геноцида.
В феврале исполнилось двенадцать лет со дня смерти моего отца, и мама написала мне, чтобы напомнить об этом. «Прочти для него кадиш», — писала она. Вспомни его. Вспоминай мертвых и надейся, что живущие вспомнят нас после нашей смерти. Мне было девять, когда умер папа, и сейчас я спрашивал себя: может ли он видеть нас, свою вдову и детей, разбросанных по всей Европе. Страдает ли он, видя, в какой опасности мы находимся?
В ту студеную зиму страх висел в воздухе. Во Франции правительство Петена определило несколько городов, в которых разрешалось жить евреям и где они обязаны были регулярно, через определенные промежутки времени, отмечаться у властей. Так мы были всегда в их поле зрения. Альтернатива была — вообще не регистрироваться, но тогда ты лишался возможности получать продовольственные карточки. Таким образом ты был прикреплен к месту. Тех, кто пытался убежать, сажали в тюрьму. Лагеря смерти стали набирать обороты, и до нас стали доходить первые, вселяющие ужас, слухи.
Нас направили в Котре, маленький городок, расположенный километрах в тридцати на юго-запад от Баньера, недалеко от испанской границы. Это была Мекка для лыжников. Город насчитывал около тысячи жителей, большинство из которых ни разу в жизни не видело евреев. Йозеф Фрайермауер и его брат нашли для нас дом, и мы вновь упаковывали наши пожитки. Это походило на исход, и я думал о предстоящем празднике Песах, во время которого евреи вспоминают исход из Египта. «Помните, — говорят нам раввины, — что когда-то мы были рабами в Египте и Бог вывел нас из рабства». Где был сейчас этот Бог?
Прибыло новое письмо из Вены, снова через моего кузена Герби из Швейцарии, с подарком к моему двадцать первому дню рождения: фотографией моей сестренки Дитты. Фото согрело мне сердце, так как подтвердило, что она жива. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это была она, Дитта, ее широко открытые глаза, ее взгляд, застенчивый и милый, — именно такой я помнил ее. Но фотография показала и то, как много времени утекло. Прошло уже более трех лет, как я оставил Вену, и за это время сестренка стряхнула с себя последние черточки детства. Разрыв длиной в эти три года обострил чувство отдаленности наших жизней.
Я упаковал свой рюкзак, и прежде чем уехать из Баньера в Котре, мы попрощались с теми, кого оставляли: с Менделем Спирой и его радиоприемником, с его женой и двумя дочерьми, с певцом Альбертом Гершковичем.
В Котре мы въехали в дом на холмистой улице. Поскольку рацион был скудным, Йозеф Фрайермауер стал выращивать овощи. Жители города были дружелюбны, и мы беззаботно проводили лето. Я ходил в горы с Йозефом Гишлидером и играл с ним в бильярд в местном кафе. Мы размышляли о бегстве, но, уйдя достаточно далеко от города, смогли увидеть укрепленную колючей проволокой границу между Францией и Испанией и поняли, что часовые Франко охраняют ее. Хотя нам удалось спрятаться от мира, полного смятения, нам некуда было деться от тех опасностей, которые, несомненно, надвигались на нас.
— Идите погулять, — сказала мне и Анни Рашель, привычно добавив, — и Нетти возьмите с собой.
Мы с Анни переглянулись. Итак, мы гуляли по окрестностям, притворяясь беззаботными молодыми людьми, и уверяли друг друга, что выживем среди этого безумия.
Однако все новые и новые слухи и сообщения обрушивались на нас, как удары. В Дранси, пригороде Парижа, был организован лагерь. Сообщали, что оттуда шли товарные поезда, груженные людьми. Они шли на восток. Доходили слухи об ужасах, происходящих в лагерях на востоке.
В июле маршал Петен установил классификацию евреев. Во Франции были теперь французские евреи, менее французские и иностранные евреи. В тот момент французские евреи могли чувствовать себя в безопасности, но это не касалось иностранных евреев.
В августе начались облавы. Аресты, заключения. Механизм организованных убийств приобретал новые чудовищные размеры. Лагерь в Дранси заполняли, а затем, после того как заключенных в товарных поездах отправляли на восток, заполняли снова. В конце августа от мэра Котре месье Салль-Лафо просочилась информация, что на следующий день состоится большая облава на евреев. Предупреждение с быстротой молнии распространилось в еврейской общине, и мы лихорадочно строили предположения: правда ли это, можно ли доверять мэру. Началась паника. В течение нескольких часов нужно было решить вопросы жизни и смерти. Одни слухи следовали за другими. Да, облава будет, но местное население готово спрятать нас. Прекрасно! Но можно ли им довериться? Или это только часть громадной паутины лжи? Не полагайся ни на кого, говорила мне мама.
Мэр, говорили нам, человек надежный, закоренелый социалист, участвовал в последней войне и ненавидел немцев. Он неслучайно способствовал распространению предупреждения.
Мы собрались все вместе дома и приняли срочное решение: с этого момента каждый идет своей собственной дорогой, прячется как можно лучше и пережидает облаву; затем, когда все снова успокоится, возвращается назад.
Мы с Йозефом Гишлидером и еще двумя парнями, прихватив с собой одеяла и еду, достаточную на день, спрятались в горах. Горы были покрыты почти непроходимыми зарослями. Мы карабкались вверх около получаса и остановились на поляне, окруженной со всех сторон густым кустарником, чувствуя себя защищенными, в безопасности, радуясь хорошей погоде. Оставаясь незаметными, мы могли видеть верхушки красных крыш и силуэт колокольни. Было послеполуденное время душного августовского дня.
Этой ночью мы спали на земле. Засыпая, я мечтал провести остаток войны в таком же безопасном месте. Возможно, мы могли бы построить здесь хижину или даже крестьянскую усадьбу. Когда рассвело, мы решили еще немного подождать. День сменился вечером, а когда стемнело, мы начали осторожно спускаться.
В городе было спокойно, и мы вздохнули с облегчением. Улицы выглядели пустынно, нигде не видны жандармы, не слышны голоса, и вскоре мы были дома — нервные, вспотевшие, с колотящимися сердцами, но живые.
Эту ночь я спал на койке в кладовке на чердаке. Поскольку у Фрайермауеров было бельгийское гражданство, их пока не трогали. В первую очередь арестовывали немецких, польских и русских евреев, а также евреев, не имеющих гражданства.
— Мы тебя запрем, — сказал Йозеф Фрайермауер следующим вечером.
Он закрыл висячим замком деревянную дверь, ведущую в мое укрытие. Дверь состояла из трех вертикальных досок, скрепленных поперечной планкой, но между досками были щели, сквозь которые можно было смотреть наружу. С кровати была видна лестница. Я заснул, а проснувшись, думал об Анни.
Милая Анни. Она пообещала принести мне утром завтрак. Любимая Анни, она держала меня за руку, когда мы гуляли по улицам, и поглаживала по плечу, когда мне было тяжело на душе. Она будила во мне очень нежные чувства, светлые и романтические, но одновременно и желание защитить ее.
— После войны, — говорил ее отец, — ты будешь жить в Бельгии.
Остальное подразумевалось, мы перемигивались, как счастливые заговорщики: я буду жить у них в семье и, возможно, женюсь на Анни, если, конечно, мы все останемся живы.
Я лежал на кровати, когда услышал голоса, а потом шаги, поднимающиеся по лестнице. Это была Анни, разговаривающая с кем-то по-французски. Я весь сжался. Фрайермауеры всегда говорили между собой по-фламандски или на идише. Голос Анни становился все громче и возбужденнее.
— Его здесь нет, — сказала она.
— Посмотрим, — ответил мужской голос.
Я медленно поднялся с кровати, стараясь не издать ни единого звука, который бы выдал меня. Один скрип, один-единственный шорох — и я пропал. На четвереньках я прополз от кровати к двери и посмотрел сквозь щели почти у пола. Сердце мое безумно билось. Голоса умолкли, но я мог видеть Анни. Она стояла на лестничной площадке как раз перед дверью, и жандарм прижимал ее к стене. Дрожь в моем теле перешла в конвульсии.
— У вас должен быть ключ, — сказал жандарм. Его голос звучал властно, и одновременно с нескрываемым пренебрежением.
— У нас его нет, — ответила Анни.
— Как же вы входите в это помещение? — спросил он.
Искал ли он действительно меня или только свободную комнату, где мог бы соблазнить Анни? Тошнота подкатила у меня к горлу.
— Мы не ходим туда, — сказала Анни.
— Знаешь, я ведь могу взломать эту дверь.
Я огляделся по сторонам, надеясь найти укрытие в укрытии.
— Мы не пользуемся этим помещением, — уточнила Анни. — Это чулан хозяев. Мы здесь только съемщики.
Жандарм подошел к двери. Я остался стоять на четвереньках, боясь шелохнуться и вызвать этим хор скрипящих досок. Жандарм потряс висячий замок, положил руки на деревянную панель и сильно надавил. Я чувствовал, как он пытается заглянуть в кладовку, и надеялся, что он не заметит меня внизу под дверью.
— Пожалуйста, — произнесла Анни умоляюще.
Ответа не последовало — жандарм не тронулся с места. И снова Анни:
— Прошу вас, может быть, пойдем? Его здесь нет. Он убежал, и мы не знаем куда.
Жандарм сделал несколько шагов от двери, и я вновь мог видеть его, стоящего рядом с Анни. Он обнял ее за талию. Я подавил импульс заорать на него, выбить дверь и свалить его ударом кулака. Он прижал Анни к стене и пытался поцеловать ее. Она поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, стараясь избежать поцелуя и в то же время не рассердить его. Беспомощный, я корчился на полу без сил, умирая от отвращения.
— Прошу вас, не надо, — говорила Анни.
В Вене я стоял и смотрел, как евреев на улицах ставили на колени.
— Не надо, — повторяла она, когда жандарм сильнее прижимал ее к себе.
В Вене, стоя в толпе, я наблюдал, как евреев принуждали мыть мостовые зубными щетками, и был так же беспомощен спасти их, как и сейчас.
— Один поцелуй, — требовал жандарм.
— Позже, — ответила Анни, — внизу.
— Если поцелуешь меня, — сказал он, — я не вернусь сюда.
Я слышал неясное бормотание, когда они спускались по лестнице. Она заботливо уводила его, оберегая меня, в то время как это я должен был бы защищать ее.
Тяжело дыша, борясь со страхом и тошнотой, я дополз до кровати, повалился на нее и замер, обессилев. Анни спасла меня, думал я. Она обладала хорошо развитой интуицией, не по возрасту большим жизненным опытом и к тому же была храбрее меня, и я понял, что пришло время уходить и не подвергать ее больше опасности.
Чуть позже Рашель Фрайермауер сняла замок с двери. Анни отдыхает в своей комнате, сказала она. Я поделился, что слышал шум, но не стал вдаваться в подробности.
Позже, когда я увидел Анни, мы крепко обнялись. Ни слова, ни намека о том, что я видел и слышал.
— Лео, — сказала она после долгого молчания, — ты понимаешь, что это значит. Тебе нельзя больше оставаться в Котре. Они найдут тебя и арестуют. И нас вместе с тобой.
Найденных накануне евреев задержали и отправили в Дранси. Отец Анни тоже согласился, что мне пора бежать. Я вернулся на чердак и стал ждать вечера. Время тянулось бесконечно. Замок опять висел на двери. «Иди назад в Баньер, — сказал Йозеф Фрайермауер, — и найди там Менделя Спиру». Спира получил временную отсрочку благодаря тому, что с ними жила парализованная родственница.
— У Спиры, — сказал восхищенно Йозеф, — всегда были связи.
Я вынужден был идти пешком, так как вокзалы кишели жандармами. Дойти туда можно было за день. Все это означало прощание с Фрайермауерами, и на этот раз у меня было чувство, что я не вернусь к ним. Мы грустно поужинали вместе в последний раз. В Антверпене, когда я должен был идти в полицию, Йозеф был уверен, что я скоро вернусь. Теперь ни у кого из нас такой уверенности не было.
За последние два года мы стали одной семьей. И вот опять прощания, прощания, прощания… Женщины рыдали, мы с Анни обнялись напоследок так крепко, как никогда прежде.
Когда стемнело, я пошел вниз по холмистой улице, махнул еще несколько раз на прощание, пока не потерял их из виду. Дорога была темная и пустынная. Мне нужно было преодолеть километров пятьдесят, и никто не ждал меня. Вот удивится Спира, думал я, если меня, конечно, не арестуют в пути. Темнота была моим союзником, скрывая от всех, но она же морочила меня, разыгрывая шутки. Формы и расстояния представали в искаженном виде. Ветви деревьев, превратившись в паучьи лапы, тянулись ко мне. Сможет ли дух отца найти меня в такой темноте? Вдали, на обочине дороги, куст стал похож на человека. Чем ближе я подходил, тем больше, казалось, он отдалялся. Мало-помалу мне стало жутко.
Вблизи маленького городка Пьерфит-Несталас я отдохнул, спрятавшись в кустах. Следующий раз, устроившись отдохнуть в безопасном месте на краю поля за кустарником, я заметил вдали мерцающий свет. Приближались два оживленно разговаривавших жандарма на велосипедах. Затаив дыхание, я прятался за кустами, пока не исчез вдали красный свет задних фар их велосипедов. Немного поспав, я отправился дальше. На рассвете я добрался до Лурда и, увидев большое дерево позади придорожного ресторана, решил еще раз передохнуть.
Я был голоден и съел бутерброд, который положила мне в дорогу Рашель. На дне пакета я нашел записку от Анни. «Мысленно я с тобой», стояло там. Она желала мне счастья и выражала надежду на будущую встречу. Я вспомнил прошедшее утро, вспомнил, как Анни рисковала собой ради меня. Душа моя разрывалась на части, и я все пытался представить себе ее лицо. Я шел около часа, когда услышал позади приближающуюся повозку. Молодой фермер ехал в направлении Баньера.
— Откуда идете? — спросил он, когда я залез в повозку. Он был в берете, во рту у него на месте переднего зуба зияла дыра.
— Из Лурда, — соврал я. К счастью, по пути к городу он не задал больше ни одного вопроса.
Поздним утром я добрался к Спирам. Большие железные ворота на двух бетонных колоннах вели в сад. Вспоминая, как мы по ночам слушали здесь радио, я надеялся, что Спиры приютят меня хотя бы на короткое время.
Соседка Спиров мадам Леруа, француженка, католичка, живущая вместе со своим четырехлетним сыном, была порядочным человеком. Ее муж был военнопленным. Я позвонил к Спирам, ожидая увидеть за дверью дружеские лица.
Спира, появившийся в дверях вместе с дочерью, весело вскрикнул, увидев меня, и уже в следующее мгновение предложил остаться у них. Да, сказал я. Мне было не до церемоний. Спира жил вместе с женой Хелене и двумя дочерьми Решой и Сюзи. У них жила также сестра Хелене Бине, частично парализованная после родов сына Хенри, которому было сейчас только полтора года. Бине и ее муж находились в лагере для интернированных, когда получили известие о выездной визе. Но у беременной Бине случился инсульт, и она впала в кому. Малыш все же родился, но парализованная Бине путешествовать не могла. Ей разрешили жить у Спиров, и было решено, что ее муж поедет в Америку в надежде, что позже сможет жену с ребенком забрать к себе.
Пока же я ночевал на чердаке квартиры мадам Леруа, а дни проводил у Спиров. Спира каждый день приносил газеты, и я их читал. Иногда удавалось даже раздобыть книги. Порой мы играли в джин-рамми, по вечерам вместе ужинали, а потом слушали радио. Реша и Сюзи ежедневно массировали парализованную левую руку Бине. Мы всё ждали и ждали, устав от ожидания, и не знали, как долго еще нужно ждать и чего мы, собственно, ждем.
— Не вздумай выйти из дома, — сурово сказал Спира, почувствовав мое нетерпение.
Он был высокого роста, с редкими волосами и очками в темной оправе. От волнения его голос повышался, а нос нервно подергивался. С его мнением в семье считались. Дочери знали это, и я учился поступать так же.
Спиры были дружной семьей. Озорная четырнадцатилетняя Сюзи часто от души смеялась, а семнадцатилетняя Реша была задумчива и прилежна. Их мать, хрупкая седовласая женщина, выглядела грустной и рассеянной, но расцветала, взяв на руки сына Бине Хенри. Я завидовал их близости и спрашивал себя, кто заботится о моей собственной семье в Вене, да и в Вене ли они еще или уже отправлены туда, где ни я, ни дух моего отца никогда не сможем их найти.
Я не слышал о них с февраля, когда получил фотографию Дитты к своему дню рождения, а сейчас уже был сентябрь. По радио продолжали сообщать о депортациях на восток. Я смотрел на фото и вспоминал, как она стояла у больничного окна, когда я видел ее в последний раз. Я думал о маме. А вдруг и ее бросили в поезд, идущий на восток?
Однажды Спира рассказал о друге, который мог достать удостоверение личности. Движение Сопротивления изготовляло их так быстро, как только могло, поскольку новости из лагеря в Дранси становились все хуже.
— И куда же мне идти, — спросил я, — даже если бы у меня было такое удостоверение?
Спира пожал плечами. Куда идти во время войны? Нужно всегда опережать на шаг своего преследователя. Опасно сейчас везде, но, возможно, кто-нибудь из Сопротивления что-нибудь придумает. Потом он назвал знакомое мне имя: Альберт Гершкович, певец; он тоже пытается получить удостоверение. Затем Спира впервые упомянул Швейцарию.
Через несколько дней у меня было удостоверение личности на новое имя. Вместо Лео Бретхольца я стал теперь Полем Мёнье. Местом рождения вместо Вены стал Страсбург. Мне вдруг снова вместо двадцати одного года волшебным образом стало восемнадцать. Я всегда выглядел моложе своих лет, а теперь мог это официально доказать. Что касается Страсбурга, то, прежде чем делать фальшивые документы, Спиру спросили, могу ли я говорить по-французски. Да, ответил он, но с немецким акцентом. Ладно, ответили Спире. Фамилия же Мёнье была очень распространенной. Вместе с Альбертом Гершковичем, который тоже получил фальшивые документы на новое имя, мы решили направиться в Швейцарию.
Итак, опять прощания. Мы расставались сквозь слезы.
— Надеюсь, швейцарские девочки тебе понравятся, — поддразнила меня Сюзи.
— Спасибо, что разрешили ночевать на вашем чердаке, — сказал я мадам Леруа.
— Если вернешься, — ответила она, — можешь опять им пользоваться.
— Благодарю вас, — сказал я, — надеюсь, в этом не будет необходимости.
Я надел берет и вышел на улицу. Было воскресенье, четвертое октября 1942 года. Спира проводил меня на вокзал, где уже ждал Альберт. Он тоже был в берете. Мы оба старались выглядеть обыкновенными французами. Или, во всяком случае, не теми, кем мы были на самом деле: двумя евреями, пытающимися бегством спасти остатки своих изломанных жизней.
— Будь осторожен! — сказал Спира, обняв меня за плечи.
Потом он повернулся и ушел, не оглядываясь. Когда наш поезд отошел от станции, я повернулся к Альберту и сказал:
— Вот и кончается наше бегство.
— Будем надеяться, — ответил он.
У него был голос ангела и сердце фаталиста. Некоторые детали бегства были мне известны. Подполье разработало для нас планы, но кто мог с уверенностью сказать, сработают ли они? Мы опять вступали в неизвестность, оставляя наших близких далеко позади, полагаясь на чужих, помогающих нам сохранить свободу.
У нас был адрес в Эвиан-ле-Бане, курорте на Женевском озере. Там мы должны были связаться с французом по фамилии Со, который организует нам переход через границу в Швейцарию.
Мы добрались до Эвиана вечером и нашли месье Со в маленьком доме на холме. Он выглядел лет на тридцать, был спокойным, вызывающим доверие. У нас возникло чувство, что он уже неоднократно помогал при нелегальном переходе границы.
Нам нужно было пересечь Альпы. Я любил подниматься в горы, хорошо их знал, но немного нервничал, беспокоясь о своей паховой грыже. Пришлось соорудить самодельный бандаж, и я надеялся, что он мне поможет. Альберт был нервным и замкнутым.
— Я буду вашим проводником, — сказал месье Со, — пока мы не доберемся до Швейцарии. Там я возьму плату. Пятьдесят франков с каждого. Это только за то, что я доведу вас до границы. Сегодня вы можете переночевать в моем доме как гости.
В Германии и Бельгии моим проводником был Беккер. «Принеси плату монетами, — сказал он, — чтобы деньги не размокли». Каждый раз вспоминая это, я смеялся. Теперь нам нужно было пересечь горы, и я надеялся, что этот Со знает свое дело. Вечером, укладываясь спать, Альберт, казалось, оживился. Потушив свет, мы легли в кровати, и он стал напевать итальянскую народную мелодию, потом еще одну, пока мы не погрузились в сон.
На рассвете следующего дня мы, погрузив в рюкзаки еду и термос с горячим кофе, отправились в путь. От Эвиана до швейцарской границы по шоссе меньше двадцати километров — на велосипеде это около часа езды. Но мы не могли воспользоваться ни шоссе, ни велосипедом. Наш путь лежал через горы, и на него нам требовался целый день и еще ночь.
Мы были в высоких горных ботинках и теплых пальто. Месье Со энергично шагал через лесистую местность. Чем выше мы поднимались, тем уже становилась дорога. На высоте тысяча двести метров она достигала своей наивысшей точки. Дорога шла через густой лес, и низкие ветви деревьев вынуждали нас все время наклоняться. Вид был захватывающим, но мы почти не смотрели по сторонам, а наклоняли головы, сгибали плечи и руками защищали глаза от ветвей.
В полдень мы, немного запыхавшиеся, с легким головокружением, расположились на поляне пообедать. Ноги у меня болели. Они замерзли и были натерты до волдырей. Нужно было надеть носки потолще. Мы отдохнули минут тридцать, а потом до сумерек продолжали подъем.
— Ну, самое трудное позади, — сказал Со, — дальше будет только вниз.
Вид снова был величественный — внизу лежало мерцающее Женевское озеро. Когда сгустился сумрак, огни на швейцарской стороне заиграли, отражаясь в темной воде. Сам факт огней был потрясающим. Вся Европа была затемнена, но нейтральная Швейцария сияла морем огней, которые я воспринимал как знак гуманности, как конец моего бегства.
Мы шли в темноте еще несколько часов, после чего решили отдохнуть. Ноги у меня ужасно болели. В стремлении поскорее попасть в безопасную Швейцарию я не хотел останавливаться, чтобы проверить их, и теперь они горели огнем. Альберт, поскольку был полнее меня и старше на пятнадцать лет, очень устал. Он стонал и потел, несмотря на холодный горный воздух.
Месье Со достал из своего рюкзака два пледа, и мы легли в густую траву луга, идущего немного под уклон рядом с нашей тропой. Я разулся, давая ногам отдых, но носки оставил, чтобы не озябнуть. На рассвете наши береты и пледы были покрыты изморозью и холод пробирал меня до костей. Кофе в термосе был еще горячим, и это очень помогло. Но мои ноги так опухли, что, когда я попытался натянуть ботинки, удалось мне это с большим трудом. Каждый шаг отдавался во мне острой болью, и все же я надеялся, что смогу добраться до долины.
— Последний этап, — сказал Со.
Он имел в виду себя. На востоке виднелось Женевское озеро, восходящее солнце сверкало, отражаясь в его воде. Когда мы добрались до узкого горного ручья, месье Со торжественно объявил: «C’est çа. C’est ici. La frontière». — «Пришли. Вот она, граница». Здесь он покинет нас. Я все больше нервничал, пока он пояснял дальнейший путь: через ручей — границу между Францией и Швейцарией и дальше в том же направлении по узкой тропе до пограничного села Сен-Гингольфа.
— В деревню не входите, — сказал он. — Обойдите ее и идите дальше по дороге в сторону северо-восточного берега озера. В направлении Монтрё.
— А как мы узнаем, что пришли в Монтрё?
— По ориентиру, — ответил он. — Замок Шато де Шильон виден на побережье издалека. Будьте очень осторожны.
Он ждал денег. Мы расплатились, попрощались, пересекли ручей и оказались в Швейцарии. Я широко улыбался, Альберт запел. Даже боль в моих ногах, казалось, в тот момент уменьшилась. Тридцать чудесных минут Швейцария была великолепной и свобода — удивительной. Но вдруг появился швейцарский пограничник с немецкой овчаркой.
Я был в шоке, но пытался скрыть это. Месье Со предупреждал нас о такой возможности. Пограничник, в зеленой форме и жесткой фуражке, держал собаку на поводке. Он потребовал наши документы и на прекрасном французском объявил:
— Следуйте за мной. Вы находитесь в Швейцарии незаконно.
Мы это и сами знали. В тот момент я понял, что питал слишком большие надежды, но и отчаиваться пока рано. Мы были задержаны как беженцы. Возможно, они отправят нас в соответствующий приемный лагерь, где поручат выполнять какую-нибудь простую работу и где мы до конца войны сможем остаться в мире и безопасности, как мой кузен Герби, находящийся в трудовом лагере с 1938 года.
Пограничник был настроен дружески — швейцарская версия люксембургских жандармов четыре года назад. «Расслабься», — пытался я жестами успокоить Альберта, я уже имел дело с такими чиновниками. Вскоре мы пришли на пограничную станцию в Сен-Гингольфе. Деревня была наполовину французской, наполовину швейцарской, граница проходила сквозь село. Нас оставили у сержанта, руководящего охраной границы, а пограничник, задержавший нас, ушел, дружески помахав рукой.
Внезапно все переменилось. Сержанта звали Арретас. Неизменно садистское выражение лица он носил как награду.
— Документы фальшивые, — с издевкой сказал он. — Я уже видел такие.
— Да, месье, — быстро признал я, понимая необходимость капитуляции, — эти документы фальшивые. С их помощью мы только добрались до границы.
— С ними нельзя въехать в Швейцарию, — грубо оборвал Арретас.
— Да, месье, — сказал я.
Я полез в рюкзак и протянул ему мои бельгийские документы. Альберт сделал то же самое. Я чувствовал жестокость в этом человеке и мучительно искал слова, которые могли бы все изменить в этот момент предельного нервного напряжения. Я хотел рассказать ему о нацистах, сгоняющих евреев лишь за то, что они — евреи, рассказать о нашем долгом походе через холодные Альпы, о моих болящих ногах и том, как мы восхищаемся Швейцарией за ее гуманность. И уже заранее знал, что все слова не имеют ни малейшего значения.
— Меня зовут Бретхольц, Лео Бретхольц, — проговорил я.
— Месье Бретхольц, — сказал он, — вы должны вернуться во Францию. Вы не имеете права оставаться в Швейцарии.
Я едва сдерживал слезы.
— Я родился в Вене, — пояснил я. — Бежал от фашистов. Я оставил в Вене мать и сестер.
Я хотел произвести на него впечатление своими искренними словами. Я прикидывался, что не заметил его упоминания о Франции, в надежде, что и он забудет об этом. Я слышал, как Альберт эхом повторял мои мольбы.
— Месье, меня зовут Гершкович, — говорил он. — Я родился в Польше, в Лодзе…
С тем же успехом мы могли разговаривать с ледяными стенами Монблана. Арретас оставался жестким, непреклонным, безжалостным. «Фальшивые документы», — повторил он язвительно. Мы принялись опять умолять его. Казалось, он испытывал садистское удовольствие от нашего унижения. Я тянулся к его руке, умолял о позволении объяснить мою ситуацию судье, как о милости просил об отправлении в трудовой лагерь. Он пялился на меня злорадно. Да есть ли у него семья?! В Вене евреи стояли на коленях на улице. Я встал на колени. Умоляя его, я даже поцеловал ему руку. Но он был непоколебим.
Альберт стоял рядом безучастный, чувствуя фатальность происходящего. Он видел тщетность моих усилий. Арретас высвободил свою руку и самодовольно передал нас полиции Виши недалеко от границы на французской стороне Сен-Гингольфа. Меня провели в одну тюремную камеру, Альберта в другую.
Я лег на жесткую койку и осторожно разулся. С прошлой ночи мои ноги отекли еще сильнее. Я попытался снять носки, но не смог. Они пропитались кровью и высохли, прилипнув к ногам. Ткань как бы срослась с моей кровоточащей кожей и стала частью меня.
Жандарм принес мне немного еды, и я попросил у него теплой воды для ног. После Арретаса этот мужчина казался олицетворением человечности. Медленно я отдирал носки и мыл свои окровавленные ноги. Немного позже я погрузился в тревожный сон.
Утром жандармы доставили нас на другой вокзал. Нас отправили в лагерь для интернированных в Ривзальте. С нами ехала молодая женщина из Люксембурга по имени Милли Кахен. Она тоже была задержана на границе. Находясь под угрозой депортации, она вместе с семьей в 1940 году бежала из Люксембурга. Семья пряталась где-то во Франции, Милли не знала где.
Под вечер мы приехали в Ривзальт, расположенный километрах в тридцати от лагеря для интернированных Сен-Сиприен. Я был подавлен, осознав очевидное: за многие месяцы борьбы за выживание мне не удалось, в сущности, добраться никуда. Круг замкнулся.
Ривзальт был клоакой, сравнимой с Сен-Сиприеном. Во время Первой мировой войны он был построен как перевалочный центр для войск из Сенегала и Марокко и представлял собой множество деревянных бараков, покрывающих несколько километров каменистой местности. Средиземное море было рядом, и иногда свирепые ветры дули через лагерь. Скоро мы обнаружили, что воды для питья, равно как и для всего остального, не хватает, а мыла нет вообще. Было очень грязно.
Заключенные с тупо-равнодушным видом апатично бродили по лагерю в грязной одежде. Многих неоднократно пересылали из лагеря в лагерь. Все ухудшающиеся условия, казалось, надломили их. Даже больные вынуждены были преодолевать несколько сот метров от больничного барака до отхожего места во дворе. Еда после долгой перевозки поступала к нам холодной. В отличие от Сен-Сиприена здесь спали на матрасах, но это были всего лишь матерчатые чехлы, чуть наполненные соломой. Детей поместили отдельно от матерей, разрешив лишь короткие встречи.
И все же во время нашего там пребывания условия в лагере были несколько лучше, чем раньше. Предыдущей зимой топлива почти не было. У заключенных не было подходящей одежды — некоторые вместо одежды просто укутывались в одеяла, у некоторых не было обуви. Умерло больше ста человек.
Сейчас, когда до зимы было еще несколько месяцев, самыми большими проблемами для нас были голод, неопределенность и скука. Я подружился с Милли Кахен. Часто, стоя у колючей проволоки, разделявшей лагерь на две части — мужскую и женскую, мы обсуждали, как пережить войну. У Милли были волнистые каштановые волосы и нежная сияющая улыбка. Она сочиняла стихи и играла на пианино. Мы охотно разговаривали о музыке. Альберт, проходя мимо, приостанавливался, что-нибудь напевал и шел дальше. Я смотрел на людей, бесцельно бродящих по лагерю, и мне казалось, что многие из них навсегда разучились улыбаться.
Мне не хотелось стать одним из них. Неотступно я думал о побеге и представлял бесконечные горизонты, которые откроются передо мной. Я искал отверстия в окружающей нас колючей проволоке, но не находил. Глядя на охранников, я пытался понять, так же ли они безразличны к нам, как те, в Сен-Сиприене.
— Нам надо бежать, — сказал я Милли через колючую проволоку.
— Конечно, — ответила она спокойно. — Но как?
У нас не было документов и почти не было денег. В Ривзальте нам разрешили оставить свои вещи, но их было ничтожно мало.
— В таком месте, как это, мы могли бы отсидеться до конца войны, — сказал Альберт.
— Тебя это устраивает?
— Нет, — ответил он, взглянув через плечо, — но дождаться конца войны в таком месте все-таки можно.
Я не был готов согласиться с такой перспективой. Однажды, лежа на кровати, я пристально рассматривал перекрытие над собой. Оно было скошено, и, несомненно, над ним было небольшое пространство. Я был уверен, что настанет день, когда мы будем депортированы. Смогу ли я там прятаться и если да, то как долго?
Двадцатого октября, на двенадцатый день моего пребывания в лагере, нас известили о переводе в… Дранси, откуда отправлялись поезда в зловещие лагеря на востоке. В последнюю ночь, стоя у колючей проволоки, я нашел в темноте Милли. Ее оставляют здесь, сказала она. Это была короткая отсрочка для жителей Люксембурга.
— Увидимся ли мы когда-нибудь еще?
— Конечно, — мягко ответила Милли.
Однако мы оба знали правду. Не скрывая рыданий, мы прощались при свете луны. Одиноким и потерянным я вернулся в барак и, лежа в кровати, долго не мог заснуть, чувствуя, как страх овладевает мной. Утром, с бьющимся сердцем, я наблюдал, как других собирали для депортации. Взяв рюкзак, я влез наверх по деревянным балкам, горизонтально прибитым к стене, отодвинул часть перекрытия и протиснулся в убежище.
В темноте я изо всех сил старался сохранять спокойствие, замереть и, несмотря на клубы пыли, не чихать. Распластавшись на спине, с рюкзаком под головой, я прислушивался к звукам внизу, но не слышал ничего, кроме биения собственного сердца. Во дворе охранники пересчитывали заключенных, назначенных к пересылке в Дранси. Разумеется, результат не сходился, и тут же послышались голоса внизу.
— Он должен быть тут, — сказал кто-то из охранников, но в голосе слышалась неуверенность.
Я чувствовал, что малейшее движение, просто дыхание, может выдать меня.
— Выходи из своего убежища! — вдруг решительно крикнул другой.
Я понял, что они не отправятся, пока не найдут меня, и с испугом представлял, что мне сделают: изобьют, унизят или расстреляют. Послышался шум. Тонкие доски, на которых я лежал, начали трещать под тяжестью моего тела. Голосов стало больше: «Эй, ты, там, наверху!» Конец света. «Быстро спускайся!» Они точно убьют меня. «Мы не будем ждать вечность».
Я отодвинул кусок перекрытия и свалился вниз. Падение вызвало боль в паховой области. Я отчаянно искал слова оправдания.
— Ты что, действительно считаешь себя особенным? — спросил охранник.
— Нет, месье.
Он вывел меня во двор. Никто не бил меня и даже не толкал. Они просто выполняли свою работу, и сегодня она состояла в депортации ста семи человек в лагерь Дранси — последний пункт перед концом света.
9 ДРАНСИ (октябрь 1942)
Лагерь в Дранси, отдаленный от Ривзальта более чем на тысячу пятьсот километров или на четыре дня пути в переполненном товарном поезде, был «комнатой ожидания» перед Аушвицем. Сам по себе Дранси являлся мрачным рабочим пригородом на северо-востоке Парижа. Огромный заброшенный овальный комплекс недостроенных зданий с дырами вместо окон и дверей был сплошь обнесен колючей проволокой и сторожевыми башнями. Бесцельно бродящие по лагерю заключенные — отчаявшиеся, углубленные в себя — выглядели как лунатики. Здесь человек инстинктивно начинал думать о побеге, или воображал себе сверхъестественную возможность окончания войны в ближайшие тридцать секунд, или внутренне капитулировал, смиряясь с мыслью о смерти.
«Да, — думал я, — бежать!»
Но внутренний голос раздраженно возражал:
«Да? А куда?»
Мы приехали 22 октября 1942 года, когда Дранси был уже грудой развалин. Пятнадцать месяцев назад в Париже немцы приказали конфисковать все радиоприемники, принадлежавшие евреям. Потом все велосипеды. Затем начались полицейские облавы. Одиннадцатый район Парижа, где проживало много евреев, был оцеплен французской жандармерией, чтобы дать возможность немецкой полиции и инспекторам французской префектуры начать аресты. Тогда, в августе 1941 года, четыре тысячи евреев были помещены в Дранси.
В следующем мае приехавший в Париж Рейнхард Гейдрих с помощью главы французской жандармерии разработал планы депортации евреев, не имеющих гражданства. Первые поезда с заключенными из Дранси двинулись на восток. Три недели спустя, 29 мая 1942 года, был издан указ: все евреи из рейха, Франции, Польши, Голландии, Бельгии, Чехословакии и Румынии обязаны носить желтую еврейскую звезду. Утром 16 июля, за три месяца до нашего приезда, французы согнали в район Парижа еще тысячи евреев. Были составлены поименные списки, в которых прежде всего шли евреи без гражданства и из-за границы. Состояние здоровья в расчет не принималось. Дети были взяты вместе со взрослыми, и только домашних животных оставили на свободе. Арестованным разрешили взять провиант на два дня. Их присоединили к тысячам евреев, которых доставляли в Дранси с августа прошлого года.
Облава была проведена девятью тысячами французских жандармов и длилась два дня. Стало известно, что на этой неделе более ста евреев покончили жизнь самоубийством. Немцы, рассчитывавшие на двадцать восемь тысяч арестов, должны были довольствоваться тринадцатью. За несколько дней до этих событий кое-кто из сочувствовавших евреям жандармов начал распускать слухи о предстоящих облавах. Подпольная газета советовала евреям бежать. Некоторые парижане симпатизировали евреям, особенно детям. Бывало, жандармы заходили предварительно в дома евреев и сообщали, что вернутся через несколько часов. Евреи поняли. Это был крик, предостерегающий от гибели.
Но не все услышали его. Почти семь тысяч человек доставили на парижский стадион Velodrôme d’Hiver и оставили там без еды, воды и санитарных условий. Некоторые умерли, многие сошли с ума.
Те, кого доставляли в Дранси, приходили в ужас от нищеты, которая ожидала их. Лишь тысяча двести кроватей было там для четырех тысяч человек, привезенных первыми. В каждую комнату впихнули сорок-пятьдесят заключенных. Когда через месяц после приезда они обратились с просьбой о соломе, чтобы спать на ней, и туалетной бумаге, им сообщили, что поставки будут, но не раньше чем через месяц.
Люди начали умирать. Больные дизентерией выглядели скелетами. Когда 22 октября мы прибыли в лагерь, увиденное потрясло нас. Мы, сто семь человек, были доставлены сюда на поезде. На нас была та же совершенно грязная одежда, которую мы бессменно в течение двух недель носили в Ривзальте. Чувство одиночества и усталости охватило меня. Я видел несчастных старых людей, которых несли в лагерь на носилках, одиноких детей, обреченных супругов, которые ничего не могли сделать для спасения друг друга.
Последние шесть месяцев до нас доходили слухи о Дранси: депортации отсюда на восток, трудовые лагеря, смерти. После многочисленных перевозок в сентябре последний поезд покинул Дранси в начале октября. Но кто мог знать, куда направлялись эти поезда? Бурно разрастались мрачные предположения, но никто из нас не знал тогда всю правду: Дранси был последней станцией перед газовыми камерами Аушвица.
Я предполагал самое плохое, хотя и слышал, как другие пытаются убедить друг друга в обратном. Немцы — народ практичный, говорили они, они могут использовать наши навыки. В основном так рассуждали те, у кого были пользующиеся спросом профессии: врачи, воображавшие, что немцам понадобится их опыт; парикмахеры; портные; учителя, которые полагали, что могли бы обучать немецких детей, если их самих пощадят.
Мы быстро учились покорности. Как только мы приехали, офицеры, краснолицые и вспыльчивые французские garde-mobiles, быстро оформили нас, выдали желтые еврейские звезды, которые мы должны были носить на рубашках и куртках, и конфисковали все ценности. Нам вручили за них расписки, сразу же потребовав не терять их. Их цель была — убаюкать нас иллюзией безопасности, прекратив тем самым зарождающуюся истерию, которая могла бы вызвать стихийные беспорядки. Они хотели убивать нас точно тогда, когда решат они, и ни днем раньше.
— Следующий! — кричали французские жандармы с перекошенными лицами.
— Не задерживайтесь! — орали они.
При малейшем промедлении они мгновенно впадали в ярость, но успокаивались так же быстро. Их гнев был, так сказать, механический. Если что-то из ценностей падало на пол, мы быстро поднимали, избегая рыка жандармов. В очереди толкали. Один старик уронил палку, и жандарм, подняв ее, ударил ею старика. Но в следующее мгновение, когда старик, защищаясь, поднял руки, офицер просто отдал ему палку.
Некоторые из вновь прибывших хранили в сумках фотографии родных и близких. Чиновники со злостью швыряли их на пол. Фотографии были последним, что осталось от исчезнувшей жизни, и в действиях жандармов содержался сокрушающий сигнал — вчерашний мир больше не существует. Часто они мучили стариков, часть из которых были слишком слабы, чтобы ходить, или смертельно испуганы. Не было ни улыбок, ни доброжелательности, ни сострадания.
— Откуда вы?
Это неизбежно был первый вопрос заключенных, доставленных сюда несколько недель назад и мрачно ожидавших следующего транспорта отсюда. Они хотели услышать что-нибудь неформальное, какие-нибудь новости из дома, получить какой-нибудь знак, что мир еще не окончательно обезумел. Затем неизменно следовал вопрос: «Как вы думаете, долго они будут нас здесь держать?» Они спрашивали, как будто мы, только что прибывшие, в отличие от них, имели какое-то представление о том, что происходит, как будто мы, сгрудившись ночью у радиоприемника, услышали по Би-би-си о каком-нибудь чуде. У Менделя Спиры был радиоприемник — слышит ли он сообщения о Дранси, когда он включает его сейчас? На самом деле, находясь в Ривзальте, мы кое-что слышали о Дранси, но это были только слухи. Сообщали о жестокой расправе над семьюстами тысячами польских евреев. За два дня до нашего прибытия в Дранси подпольная французская газета J’accuse сообщила, что «фашистские палачи сжигают и удушают газом тысячи мужчин, женщин и детей, депортированных из Франции…» В листовке движения Сопротивления сообщалось о поездах, прибывших в Польшу: «Привезенных женщин, стариков, больных и детей — словом, всех, кто был непригоден к работе, убили ядовитым газом». Через несколько дней после нашего приезда в Дранси коммунистическая газета L’Humanité сообщила об экспериментах с ядовитым газом, проведенных над тысячами депортированных из Франции евреев.
Однако я ничего не знал ни об этом, ни о реакции союзников: власти США говорили о «диких слухах», британцы расценивали слухи о массовых убийствах как преувеличенные. Великие западные нации-спасительницы решили, что есть более неотложные проблемы, чем последовательное, как на конвейере, уничтожение целого народа.
Итак, я слушал вопросы заключенных, находившихся здесь уже несколько недель, и качал головой — ответов не было. У меня, так же как и у них, не было доступа к истине.
— Что с нами сделают?
Я пожимал плечами — мне нечего было ответить. И они сами отвечали на свои вопросы: «Куда уж хуже, если детей тоже привозят сюда?!»
Заключенные выглядели изможденными и растерянными. Не получив ответов, они шли дальше. Я вынул из кармана брюк клочок бумаги — расписку, данную мне за ценности, изъятые жандармами. Вспомнились их слова: «Не потеряйте ее, иначе не сможете получить назад ваши вещи». Эти расписки давали проблеск надежды — зачем им нужно было бы вручать их нам, если они собирались нас ограбить или намеревались убить. Снова и снова я слышал отзвуки этого от тех, кто уже стоял на пороге смерти.
Нас кормили водянистым капустным супом, что неизбежно вело к поносам. Почти не было воды, а когда она все же была — не было мыла. Нас поселили в недостроенных помещениях с бетонными полами, покрытыми соломой, в которой обитали вши и другие паразиты. Так было и в Сен-Сиприене, и в Ривзальте. Но здесь было еще хуже. Трубы и электрическая проводка были обнажены. Война прервала все строительные работы, и шестиэтажные здания выглядели заброшенными и мрачными. Они «складировали» тут евреев с августа 1941 года. Туалеты здесь были общие: горизонтальные ряды дыр в досках, без каких бы то ни было перегородок. Мужчины, женщины — не имело значения.
С ностальгией я стал вспоминать Ривзальт с вечерним морским бризом, дующим со стороны Средиземного моря. Он казался курортом по сравнению с Дранси. Здесь десятки людей помещали в одну маленькую комнату, и каждый из них выглядел отчаявшимся и преждевременно состарившимся.
Недалеко от моей комнаты я неожиданно встретил Тони и Эриха Гутфройндов. Сердце у меня подпрыгнуло от радости, когда я их увидел. Тони была дочерью сестры моей тети Шарлотты. Она и ее муж Эрих приехали из Вены. Мы не виделись пять лет, и теперь обнялись, не скрывая слез, и разговаривали до поздней ночи. Как могло такое произойти? Никто не знал. Тони была миниатюрной брюнеткой в синем берете. Даже в этой ужасной обстановке сохраняла она достоинство. Эрих, стройный и сдержанный, не показывал своих эмоций. Мы долго сидели вместе, вспоминая лучшие времена, и Тони пришивала к моей куртке желтую звезду Давида, которую мне выдали жандармы.
— Подожди секунду! — сказал я, когда Тони осталось сделать последние стежки. У меня была спрятана ирландская полуфунтовая банкнота, подаренная мне тетей Олей Бретхольц перед ее эмиграцией в Ирландию в 1938 году. Мне удалось сохранить ее, и теперь я засунул банкноту между звездой и курткой, прежде чем Тони закончила шитье. Кто знает, может быть, настанет день, когда она мне пригодится?
В ранние предутренние часы я упомянул о бегстве. Тони ободряюще улыбнулась, но Эрих считал саму идею слишком рискованной. Я высказал свои опасения, что нас всех убьют.
— Мы останемся вместе, — сказала Тони, крепко сжимая руку Эриха, — и посмотрим, что будет.
Они находили утешение друг у друга, а я черпал его из своего одиночества. Прощай, Анни, прощай, прощай… Я тосковал по маме и сестрам и тревожился, не имея от них известий долгие месяцы. Они находились в своем кругу ада, я — в своем. Я видел Дитту, стоящую у больничного окна, выглядевшую, как если бы ее сердце разрывалось от горя. Но я был один, и Дитта была недосягаема. Я отвечал только за себя самого. И это давало мне некоторую эмоциональную свободу. Я не был обременен ничем, кроме моего собственного ареста и желания охранников удержать меня здесь.
Выйдя утром, я увидел уныло слоняющихся людей. Охранники мрачно смотрели на нас издалека. И опять, как эхо, те же вопросы: откуда ты? Что они с нами сделают? Иногда вопросы приводили к некой заносчивости, и среди заключенных стала даже складываться своеобразная иерархия.
— Мои заслуги?! — оскорбленно кричал мужчина в костюме и галстуке, пытаясь подчеркнуть свою исключительность. Во время Первой мировой войны он воевал за Францию, его дедушка служил при Наполеоне III. Такого рода чувство оскорбления стало постоянной темой среди французских евреев, которые воображали, что они отличаются от евреев из Германии, Австрии или Польши. Без сомнения, для французских властей, управлявших вместо немцев этими лагерями, французское гражданство и французское происхождение должно значить больше, чем досадная принадлежность к «неудачной» религии. Произошла ошибка — все прояснится, и исключения, разумеется, будут сделаны.
Пожилой мужчина обратился на идише к своей тихо плачущей жене.
— Wein, wein. Nor es wet gornisht helfen, — сказал он. Он говорил мягко, но выглядел слегка растерянным. — «Плачь, плачь. Только это не поможет».
Дети бродили в поисках знакомых лиц. Их вырвали из яслей, из детских садов, выдернули из классных комнат средних школ и велели следовать за представителями власти, сказав, что родители уже ждут их. Многие из них были совсем малыши. Их одежда была ужасно измазана. Они были испуганы, растеряны и плакали навзрыд.
В Дранси их дюжинами запихивали в пустые комнаты с ведрами в качестве унитазов, так как многие из детей не могли преодолеть длинные коридоры до туалетов или просто боялись идти без сопровождения взрослых. А ходить туда они должны были часто. Постоянный капустный суп вызывал сильный понос. Они пачкали одежду, матрацы, на которых лежали, жалобно хныкая день и ночь. Когда одежду отдавали в стирку, дети, несмотря на все более холодный осенний воздух, голые лежали на кроватях и ждали, когда она высохнет. Они носили маленькие деревянные собачьи жетоны, чтобы можно было узнать, кто они.
По ночам издалека слышен был плач из их комнат. Они звали матерей или просто плакали, потому что мир был невыносимо жесток к ним и лишь рыданиями они могли выразить это.
Однажды я увидел, как женщина, склонившись к маленькому, лет четырех, мальчику, спросила его:
— Quel est ton nom? — «Как тебя зовут?»
— Sais pas, — ответил он, глядя ей в глаза. — «Не знаю».
Какое значение имели теперь наши имена? Мир забыл наши имена, наши лица, наши истории. Прошлое закрыло за нами дверь. За этой колючей проволокой мы перестали существовать.
Старики в изношенной обуви без шнурков вопрошали на идише: «Wu is Gott?» — «Где Бог?»
Я не знал ответа и, отвернувшись, вдруг увидел лицо, показавшееся мне знакомым. Миновав посыпанную гравием территорию, я подошел к мужчине и хлопнул его по плечу.
— Ты Эпштейн? — спросил я.
— Да, Артур Эпштейн.
— Ты же учился портняжному делу, работая у моего отца в Вене.
Эпштейн был вне себя. Бросившись ко мне, он обнял меня и осмотрел с головы до ног. Он был старше меня на пятнадцать лет. Мне было девять, когда мы виделись последний раз в день смерти моего отца.
— Mon dieu, tu es Leo! — воскликнул он. — «Боже мой, ты — Лео!»
Он вспомнил моих сестер, упомянул их кудрявые волосы. Я был тронут, что он помнил это. В своем последнем письме, сказал я ему, моя мать прислала мне ко дню рождения фотографию. Но это было прошлой зимой, пояснил я, и с тех пор писем не было.
Как и я, Артур в 1938 году бежал из Вены во Францию один, без семьи. Я помнил его хрупким молодым человеком с редкими волосами и печалью, застывшей на лице. Теперь он был еще более худым, и война превратила его в отчаявшегося и угрюмого человека.
— Из того, что мы слышим, — сказал он, — ничего хорошего ожидать не приходится.
Меня затошнило. Артур сказал, что он здесь уже несколько недель. Мы шли по территории лагеря, и, оглядываясь, я не заметил вблизи ни одного часового. Я упомянул о возможности бегства.
— Ты с ума сошел! — воскликнул он быстро.
Он отвел меня в угол двора, частично загороженный маленькой бетонной конструкцией. Некоторые считают, сказал он, что здесь можно начать строить туннель на ту сторону. Мое сердце подпрыгнуло от такой перспективы.
— И? — спросил я.
— И, — мрачно ответил он, — ничего. Все это лишь болтовня, Лео.
Дни шли, я ходил по лагерю, разыскивая знакомые лица среди тысяч заключенных. Здесь были Тони и Эрих, был Артур, был и Альберт Гершкович, как и раньше по соседству, он все так же напевал арии из итальянских опер.
Внешне Альберт казался беззаботным и немногословным. За этим скрывалось внутреннее смятение, которое мы оба ощущали в течение двух недель, проведенных в лагере Дранси. Мы наблюдали за охранниками на вышках и с облегчением отмечали, что они далеко, но в то же время боялись, что они могут спуститься и начать мучить нас. Каждый раз, глядя на них, тысячу раз в день, я давал себе клятву — бежать.
С наступлением ноября настроение стало еще более раздраженным.
— Что с нами будет? — спрашивал кто-нибудь.
— Откуда мне знать?
— Когда нас заберут отсюда? — допытывался другой.
— Я знаю не больше вас.
Многие оставались в комнатах. Они лежали на бетонном полу оцепенелые, подавленные, с застывшими лицами, не замечая, что дни стали короче и холоднее. Дети бродили по лагерю, одни — под присмотром женщин, другие — одинокие и смертельно несчастные.
Самые старые знали то, в чем другие не хотели признаваться даже себе. Они поняли эвфемизмы. «Переселение» предназначалось не для них. «Трудовые команды» были для сильных. Пожилые и больные, в измятой, свисавшей с их похудевших тел одежде, с трудом передвигались по лагерю. Они чувствовали приближающийся конец.
Их возраст давал мне ощущение эмоциональной дистанции. Я не был одним из них. Я был не стар, не ребенок, со мной не было ни матери, ни сестер, ни Анни. Не проходило ни одного мгновения, когда бы я не думал о побеге. Эти чудесные фантазии день и ночь сопровождали меня и помогали не сойти с ума от ужаса. Мне было проще — я был один, и в этом был мой шанс.
Однажды приехали новые заключенные с севера Франции. Они поделились слухами из Вестерборка, голландского лагеря для интернированных. Туда вернули людей после железнодорожных работ где-то на востоке.
— И никого не убили?
— Тяжелая работа, — сказали они, — но выдержать можно.
— А еда?
— Были нормы. Кормили регулярно. Лучше, чем этот суп.
Однако они слышали и другие истории, отличавшиеся от этой, похожие на те, которые мы уже знали. В Аушвице и Биркенау производили селекцию. Одних оставляли жить, других убивали. Одни работали, другие исчезали. Но какие истории были правдивыми — о тяжелой работе или о смерти? Слухи жили своей собственной жизнью. Кто верил в лучшее, был полон надежд, тот же, кто предполагал худшее, был объят ужасом.
Однажды ночью, лежа на соломе, я повернулся к мужчине, лежащему рядом. Он был вдвое старше меня, фаталист. Говорил он, как правило, набором клише. «Будь что будет», — сказал он тихо. Но я горел желанием бежать, кроме того, постоянно чувствовал потребность рассказывать всем, как давно я ничего не слышал о маме, словно посторонние люди могли разумно объяснить это и убедить меня, что все будет хорошо.
Однажды, в очереди за супом, двое мужчин в кипах заговорили о своих семьях. Один упомянул сестру, арестованную в Париже.
— У меня там живет тетя, — сказал я, изголодавшись по человеческому общению.
— Да?
— А две мои сестры живут в Вене. Я ничего не слышал о них с февраля. Думаю, там происходит что-то страшное.
Мне хотелось услышать, что я ошибаюсь. Я стал таким же, как другие, — ждал поддержки от людей, знавших так же мало, как я сам. Молодой мужчина, подняв палец, указал им в небо, как бы говоря: там я ищу опору и надежду. Позже, встретив его в лагере, я поделился с ним, что так напуган, что хочу отсюда бежать, при первом удобном случае.
— Если Бог захочет, он даст тебе такую возможность и сделает попытку успешной.
— А ты? — спросил я. — Попытаешься ли ты убежать?
— У меня здесь семья, — ответил он мягко и добавил, — я буду полагаться на Бога.
Я встретил парня по имени Манфред Зильбервассер, выросшего недалеко от нашего дома в Вене. Сейчас ему еще не было двадцати. Во время одного из обширных рейдов Манфред был арестован в квартире, принудительно назначенной ему правительством Виши, и отправлен в Ривзальт. Тщедушный блондин с волнистыми волосами и желтоватыми зубами, он и в лучшие времена выглядел истощенным. Улыбка, казалось, всегда готова была появиться на его лице.
Как-то утром, находясь в нашей комнате на третьем этаже, мы услышали пронзительный звук свистков снаружи и подошли к окну. Во дворе мы увидели охранников, уводящих двух парней, скрутив им руки за спины. Остальных, находящихся неподалеку, отправили в комнаты. Парней задержали за драку во дворе — нарушение правил, развешанных на досках по всему лагерю. Теперь оба должны были расплатиться за это.
— Не завидую им, — сказал Манфред.
Он пояснил, что в дальнем конце лагеря есть камера, куда отводят нарушителей порядка для дисциплинарных наказаний. Манфред сказал, что уже два раза видел, как туда отводили людей. Всегда одно и то же: драки между заключенными. Недопустимо, считали немцы. Да, да, драки были определенно недопустимы, тем более во время войны.
— А что с ними происходит дальше?
Манфред не мог ответить, лишь знал, что они не возвращались. Его передернуло от ужаса. Потом сказал, что боится будущего и чувствует себя пойманным в паутину. Он упомянул бегство. Это объединило нас. Бежать, конечно, но когда?
Потом, в первые дни ноября, появился новорожденный — «пришелец будущего». Одна из женщин родила ребенка. В лагере Дранси было уже более трехсот младенцев. Мы с Манфредом находились возле окна, когда услышали выстрелы во дворе. Мы увидели людей, бегущих в один из углов лагеря, и охранников, отгоняющих их назад. Выйдя во двор, мы увидели лежащего на земле окровавленного ребенка и его мать, тоже залитую кровью, неподвижно лежащую на нем.
Нас отправили в комнаты. В следующие дни рассказы о произошедшем, как огонь, распространились по всему лагерю: один из охранников поднял вверх новорожденного, подбросил его и выстрелил в него из пистолета. Мать, вне себя от горя, напала на него, и охранник убил ее.
В Вене я видел людей, стоящих на коленях на улицах, и стоял рядом бессильный. Во Франции, сам стоя на коленях, я наблюдал, как жандарм грубо прижимал Анни к стене. В Дранси я вновь стоял бессильный в обществе обреченных людей, не в состоянии прекратить наши страдания.
Через несколько дней нас известили о нашей депортации в Аушвиц. Это был последний шанс для побега.
10 ТРАНСПОРТ № 42 (5–6 ноября 1942)
Пятого ноября, через две недели после нашего приезда в Дранси, нам приказали собрать вещи, мужчины в форме обрили наши головы наголо, и раздался лай французских жандармов: иди сюда, стой там, пошевеливайся.
Однако на этот раз в их голосах не было пыла, пропали небрежные оскорбления, которыми они осыпали нас в день приезда. Тогда жандармы вели себя грубо и агрессивно, как будто составляли набор угроз, необходимых им в течение следующих недель. Теперь они действовали решительно и эффективно — рабочие на конвейере, выполняющие рутинные обязанности обычного рабочего дня, в то время как немецкие охранники наблюдали за ними с расстояния в несколько метров.
— Сюда!
— Стоять!
— Быстрей, быстрей!
Мое сердце мчалось в ритме команд охранников, и я не мог унять охватившую меня дрожь.
— Nouvelle colonisation, — шептал кто-нибудь, когда мы собирались вместе («Новая колонизация»). — «Переселение». Станет ли после этого еще хуже?
Переселение! В это верили только наивные люди… Это выражение было ложью, запущенной в наши ряды, чтобы держать нас под контролем, не допустить паники и массовых волнений. Итак, мы метались между слухами о безобидных переселениях и трудовых лагерях и ужасными намеками, сквозившими в небрежной жестокости по отношению к нам.
Внутренний двор лагеря был покрыт смесью из гравия и бетона. Я шел, опустив глаза. Заключенные плакали, но старались скрыть это. Кто знает, вдруг рыдания считались теперь тяжким преступлением? Матери пытались успокоить детей. Был промозглый, холодный, серый день. Около двух часов дня охранники погнали тысячу евреев к старым автобусам и военным грузовикам с серо-зелеными камуфляжными крышами — стволы автоматов направлены нам в спины и вокруг рычание: «Vite, plus vite!» — «Быстрей, быстрей, быстрей!» Я не мог унять дрожь. Один старик упал, и кто-то из заключенных помог ему подняться. Тех, кто двигался слишком медленно, конвоиры толкали или били прикладами. Вновь и вновь раздавались окрики пошевеливаться.
— Но мне нужно в туалет, — крикнул кто-то.
— Пошевеливайся, быстрей, быстрей! — был ответ.
Охранники унижали нас, выкрикивая: «Грязные евреи», «Жидовские морды», чтобы выслужиться перед немецкими надзирателями и одновременно оскорбить нас.
Ужасно. Невозможно было облегчиться, не считались ни с женщинами, родившими накануне, ни с женщинами с менструацией. Быстрей, быстрей! Ноги двигались, мысли, бешено кружась, лихорадочно искали хотя бы ничтожную возможность побега.
В каждую машину поместили около сорока человек. Нас перевезли к вокзалу Дранси-ле-Бурже, расположенному километрах в трех от аэропорта, на котором лишь пятнадцать лет назад Чарльз Линдберг стал знаменитым. Где сейчас ликующие массы людей, приветствовавшие Линдберга? Когда мы медленно ехали по улицам Дранси, казалось, большинство прохожих вообще не замечало нас. Такие конвои, как наш, являлись просто еще одним фрагментом войны, от которой они уже устали; они отворачивались, заботясь о своих собственных жизнях. Поезда, идущие на восток, не имели к ним отношения. Это был мир, из которого мы были вырваны, и ему не было дела до наших страданий.
Изредка возникали мимолетные проблески человечности — кто-нибудь махал нам рукой. Некоторые из нашего грузовика робко махали в ответ в надежде установить связь и в последнюю секунду быть спасенными теми возмущенными французами, чьи души не принадлежали пока фашистам. Затем на нашем грузовике произошло нечто неожиданное: слово тут, там… намек на мелодию… И вдруг я понял, что происходит, и мне стало тепло на душе. Настал момент сопротивления.
«Allons enfants de la patrie…» («Вставайте, дети Отечества…»)
Слова Марсельезы, опасливо сорвавшиеся с одних губ, были подхвачены еще несколькими голосами, и вдруг весь грузовик наполнился пением. Мое сердце помчалось с бешеной скоростью. Мы пели, чтобы приободриться, чтобы сообщить миру, что мы еще существуем. Может быть, если мы будем петь достаточно громко, наши голоса, проносясь по улицам, разбудят сердца равнодушных французов и вдохновят их прийти, чтобы освободить нас. Однако вскоре голоса умолкли и вернулся страх. Тишина в грузовике была ужасной. Знаменитое французское свободолюбие находилось, вероятно, в отпуске.
Приехав через несколько минут на маленький железнодорожный вокзал, мы увидели лишь товарный поезд, на котором нас доставят в Аушвиц: транспорт № 42. В шесть часов вечера мы были единственными штатскими на перроне. Тут же нас начали окончательно пересчитывать, отделяя по пятьдесят человек в каждый вагон, исходя при этом просто из порядкового номера. Некоторых стариков несли на носилках. Я думал об Артуре Эпштейне, подавленном, погруженном в себя, — целые миры отделяли его теперь от того времени, когда он учился портняжному делу у моего отца. Два дня назад он был депортирован из Дранси в Аушвиц. Я видел Манфреда Зильбервассера с загадочным выражением лица, граничащим с улыбкой. Я видел беременных женщин и матерей, кормящих грудью новорожденных детей. Малышей, неуверенно шагавших вместе с другими, и охранников, подгонявших их тычками. Некоторые дети хныкали, но сохраняли при этом следы достоинства. Многие открыто рыдали, крепко прижимая к себе маленькие игрушки и кукол. Некоторым помогали женщины, заменившие им матерей и присматривающие, чтобы дети не терялись. Никогда раньше я не видел такого сострадания. Казалось, они предчувствовали приближение конца.
Маленький мальчик уставился невидящим взором в пустоту. Искал ли он лик Бога? Двое детей — мальчик и девочка, ища поддержки, цеплялись друг за друга, как будто предчувствуя ужас будущего. Некоторые дети, осознав серьезность положения, пытались вести себя как взрослые. Кое-кто утешал младших братьев и сестер, изо всех сил старавшихся вскарабкаться в вагоны для перевозки скота. Несколько женщин, родивших в последние дни, оставались в лагере под присмотром медсестер. Их отъезд был перенесен на сегодняшнюю перевозку. Сейчас я видел младенцев в картонных коробках, завернутых в грязные пеленки и одежду. Жизнь, которая только началась, будет скоро оборвана. Одна «колыбель» стояла рядом со стариком, доживавшим последние часы своей долгой жизни. Теперь они уйдут вместе.
Слишком много печали было здесь, чтобы все это выдержать. Ожидая, пока меня направят в вагон, я услышал взволнованные голоса из машины, стоящей впереди: мальчик был оторван от семьи и кричал, что хочет остаться с ними. Ему не разрешали. Он брыкался, пиная своими худыми ногами охранника, удерживающего его, обхватив за грудь.
— Prends moi! — кричал мальчик. — «Возьмите меня с собой! Заберите меня!»
Семья кричала в ответ, но охранники были безжалостны. Отец, сломленный и бессильный, тянул руки, умоляя вернуть ему сына. Но мальчика впихнули в один вагон, семью — в другой. В Вене Дитту разлучили с мамой, и меня не было там, чтобы защитить ее. Я видел маму, простирающую руки ей вслед, и крики этого мужчины превращались в мамины крики.
Я был беспомощным и ненавидел себя за это. Тяжесть в моем сердце перешла в оцепенение, в страх, что всякое проявление чувств может привести к наказанию, публичному унижению или к чему-то еще худшему. Я поклялся никогда больше не быть беспомощным. Я убегу, убегу, убегу. Никто и ничто не остановит меня — ни охранники, ни близкие, ни война. Слезы выступили у меня на глазах, я отвернулся от плачущей семьи, лихорадочно размышляя, когда же подвернется возможность побега.
Нужно было ждать. Нас погнали в товарные вагоны — снова команды пошевеливаться, снова автоматы наготове. Смеркалось, и глазам необходимо было несколько мгновений, чтобы привыкнуть к темноте внутри.
Там почти не было места, чтобы стоять, сидеть или примоститься на корточках. Я глубоко вдохнул. Раз. Еще раз. Дети ревели от страха. Некоторые мужчины были в костюмах и галстуках, цепляясь за некое призрачное ощущение своего социального статуса, тоскуя об утраченной элегантности. Я вспомнил дядю Исидора в костюме-тройке, сидящего в своей квартире и ожидающего, когда гестапо заберет его. Многие женщины модно оделись и накрасили губы. Когда мы доберемся к следующему месту назначения, сразу будет видно, что они из хороших семей — безусловно, этот статус что-нибудь да значит.
— Мальчик и семья будут вместе, — бормотал кто-то в тесноте тел. Явно оптимист.
Откуда-то доносился голос, шепчущий молитву. Еще один оптимист. Везде царила война, и, казалось, у Бога были более неотложные дела, чем забота о евреях. В этом вагоне для скота мы и в самом деле были его пропавшим коленом.
Поезд не двигался. Серость вечерних сумерек перешла в ночную тьму. Я чувствовал себя животным в стаде. Кто-то включил и тут же выключил маленький карманный фонарик. В середине вагона находилось ведро для испражнений. Через час или два оно было переполнено. Не было возможности опорожнить ведро и слышно было, как беспомощные люди отправляют естественные потребности на пол.
Вонь в вагоне стала почти нестерпимой, и мы боролись с позывами к рвоте. Не всем удавалось сдержаться. Блевота прилипала к одежде, и это еще больше отравляло воздух. «Где Бог?» — воскликнул кто-то. Я вспомнил монахинь в поезде из Вены четыре года назад и подумал, являет ли их Бог свое существование более ясным образом. Люди были тесно прижаты друг к другу. У меня зачесалось в брюках и подмышками. Расстегнув пояс, я заметил крошечных насекомых в швах брюк — вши. Какие там вопросы о существовании Бога — тело мое кишело паразитами, хотелось содрать кожу до костей.
Запах в вагоне усиливался. Лишь немного воздуха поступало через два крошечных окна. Одно располагалось наискосок от меня, впереди справа, второе — у меня над головой, на левой стороне в задней части вагона; два горизонтально идущих стальных прута защищали каждое из них. К утру пол был сплошь залит мочой.
— Legion d’Honneur — «Орден Почетного легиона», — пробормотал француз в костюме и галстуке, как будто его былое высокое положение в мире еще что-то значило. Он пытался убедить себя, что произошла ошибка, что его жизненные достижения значат больше, чем его еврейская кровь.
— Croix de Guerre, — послышался другой голос. — «крест „За боевые заслуги“».
Подобные звуки наполняли длинную ночь: слово, рыдание ребенка, чье-то уверение в ошибочности его пребывания здесь и чье-то «заткнись» в ответ. Две женщины, вынужденные в тесноте тел растаскивать мужей, затеявших драку. После полуночи резкий женский крик, вспоровший воздух. Следом громкие рыдания женщины, заботящейся о температурящем младенце. Никто не пытался заставить их замолчать. Рыдания являлись предохранительным клапаном для всех нас. Поезд простоял всю ночь на запасном пути. Мы слышали шаги офицеров, которые должны были не только пресекать любые попытки к бегству, но и препятствовать просачиванию любого известия из поезда, чтобы не осталось ни следа о наших последних часах.
Каждому из нас дали кусок серого хлеба, клинышек сыра из Грюйера «La vache qui rie» (Улыбающаяся корова) и банку сардин. Пить было нечего. В Дранси мы тосковали по относительному покою Ривзальта. Но здесь было еще хуже, чем в Дранси, где мы могли, по крайней мере, видеть небо. Мы ждали, и боролись с зарождающейся боязнью замкнутого пространства, и все больше и больше приходили в отчаянье.
В голове моей лихорадочно бились мысли о побеге. Когда первые лучи солнца просочились сквозь маленькие оконца, я увидел пепельно-серые лица своих попутчиков. Я увидел Тони и Эриха, все еще поддерживавших и утешавших друг друга. Мы с Анни тоже держались за руки в той, другой жизни, что закончилась лишь несколько недель назад. Я увидел старуху с костылем, с ногой, ампутированной по колено, державшую на руках маленького, по-видимому, не своего ребенка. Держал ли кто-нибудь посторонний Дитту теперь, когда ее разлучили с мамой?
У многих в поезде, казалось, помутилось сознание. Некоторые тихо разговаривали сами с собой. Один мужчина все повторял какие-то непонятные слова и, видимо, галлюцинировал. Снаружи было туманно и моросило. Альберт прислонился к стене. На нем была рубашка с открытым воротом, пуловер и спортивная куртка. Голова обрита. Он тревожился о сестре и семье, которых видел последний раз в Баньере. Вид у него был, как всегда, невозмутимый, и теперь он начал, по привычке, тихо петь — частично для себя самого, частично, чтобы вернуть себя в прежнее великолепное время, когда миром его была сцена, а не убогий вагон для скота.
— Non ti scordar di me: la vita mia legate te a te, — пел он. — «Не забудь обо мне, я отдал тебе свою жизнь».
Я прислушивался, меняя одновременно положение, чтобы устроиться поудобнее. Через некоторое время снаружи послышались приглушенные голоса — говорили на немецком и французском. Было около девяти часов утра. Внезапно раздался глухой шум, поезд начал двигаться, людей тесно прижало друг к другу. Огромный поезд-монстр наконец пробудился.
— Çа у est, — подавленно воскликнул кто-то, провозглашая начало конца. — «Вот и все».
Некоторые старые люди запричитали.
— Тссс, тише, тише, — зашептала мать своему плачущему ребенку.
Молодой человек с сильно инфицированной, зловонной, возможно, уже гангренозной забинтованной ногой сидел под одеялом, съежившись и прижавшись к своей подруге. Они обнялись. Он нежно поцеловал ей глаза и лоб.
Манфред жестом указал на девочку, и я кивнул. Нам не нужны были слова, мы ощущали одно: мы хотели быть свободными. Мы были утопающими, рвущимися к воздуху, и не желали, чтобы что-нибудь остановило нас. Прощай, Анни, прощай, прощай…
В вагоне губы людей двигались, шепча молитвы. У восточной стены вагона стоял ортодоксальный мужчина, голову которому обрили, не тронув, однако, бороду. Его руки простирались к небесам, тело раскачивалось взад-вперед, и голос возносился умоляюще: «Оу, ribono shel olam» — «О Бог мой…»
— Если Бог позволяет такое… — пробормотал в ответ голос, едва слышный в громыхании поезда.
— Пусть молится, — возразил кто-то.
Мы были сообществом обреченных. Поневоле я вспомнил свою Бар-мицву восемь лет назад, как рабби Мурмельштейн возложил руки мне на голову и провозгласил: «Да благословит и сохранит тебя Бог». Что означали эти слова сейчас? Почему Бог не сохранял жизни всех этих невинных людей? В Германии сожгли синагоги, и Бог, должно быть, погиб в пламени. Я взглянул на женщину с костылем, пытавшуюся успокоить маленького мальчика, сидящего у нее на коленях. Малыш дрожал от утреннего холода. Он выглядел безучастным, погруженным в себя. Гладила ли мама в это мгновение Генни, или они были разлучены и их отдельно впихнули в жуткие товарные вагоны?
При движении поезд трясло, и это приносило своеобразное чувство облегчения. По крайней мере, нас не оставили здесь и не задушили. Мы могли чувствовать слабое дуновение утреннего воздуха из окна в передней части вагона. Мы двигались, и движение несло с собой более свежий воздух, и перемены, и кто знает что еще…
Я вспоминал свое детство, исчезнувшее в прежней, более надежной жизни, когда я мечтал о поездах, мчащих меня в неописуемо красивые места. Такие мысли казались сейчас ужасно наивными. Я слышал плач испуганных детей, обрывки разговоров — упреки себе, что не спрятались от полиции, догадки о будущем. Разговоры велись на французском, идише, немецком, на разных восточно-европейских языках и сливались здесь в единый хор обреченных на смерть. Многие молчали, устав, и, казалось, примирились со своей участью.
Мы с Манфредом стояли под окном слева в задней части вагона. Без сомнения, это был наш последний шанс. Вытянувшись вверх к окну, мы могли видеть сельский пейзаж Франции — деревья, птиц, сидящих на телеграфных столбах, виноградники, фермы и пасущийся скот.
— Окно, — сказал я.
— Когда?
— Перед тем как въедем в Германию, — ответил я. — Ночью, когда можно будет спрятаться в темноте.
— Вы о чем? — донесся под стук колес голос человека, смирившегося со своей судьбой. — Нельзя ни в коем случае…
— Вперед, смелее! — раздался другой.
— Вы можете погибнуть, пытаясь спрыгнуть, — сказал третий.
Вмешались другие голоса, все мужские, — никто не кричал, никто не настаивал. Это был ничего не значащий, разрозненный и случайный обмен мнениями, который никто пока не принимал всерьез. Побег? Ну что за ребячество! А что с другими, уже пытавшимися бежать, спросил кто-то. Ходили слухи о мужчинах, погибших при попытке спрыгнуть с поезда, или попавших под идущий мимо состав, или пойманных охраной и подвергшихся пыткам. Что мы мним о себе?
Ритмичный стук колес звучал как погребальная песнь, но одновременно успокаивал. Пока поезд двигался, мы были живы и могли попытаться бежать. Время и темнота могли стать нашими союзниками.
Старая женщина с костылем пристально смотрела на нас и гладила малыша, сидящего у нее на коленях. Она укрыла его своим пальто. Мальчику было четыре года; свою семью он больше не увидит. Женщина была седа, лет шестидесяти, одинока. Она не была знакома с малышом, пока судьба не свела их здесь случайно, и теперь, в последние часы их жизни, они стали друг другу единственной семьей.
— Если вы сбежите, — сказал какой-то мужчина, — они выместят это на нас.
— Что бы болтаете? — послышался хриплый голос другого. — Они нас так и так убьют.
— Зачем же тогда они дали нам квитанции за наши ценные вещи?
Даже сейчас некоторые верили в эту ложь. Я взглянул на Альберта, прислонившегося к стене. Он похлопал меня по щеке, как старший брат, пытающийся утешить. Все больше и больше голосов, все больше мнений раздавалось вокруг — каждый мнил себя экспертом. Пытаться бежать, не пытаться… Голова у меня пошла кругом от этого обилия слов. Я жаждал кусочка свободного места на полу, где я мог бы прилечь и поспать. Устало закрыв глаза, я услышал женский голос:
— Если вы спрыгнете, возможно, вы сможете рассказать нашу историю. Кто еще расскажет, что с нами произошло?
Я не знал, кто произнес это, но, подняв глаза, увидел старую женщину с мальчиком на коленях. Она, пристально глядя на меня пылающими глазами, указывала на меня костылем. Ей довольно было всех этих аргументов и опасений, и как библейский судья высказала она приговор. Из этого покалеченного тела, из этой отчаявшейся души, хранимой лишь мудростью лет, пришли окончательные слова.
— Allez-y, et que dieu vous garde, — провозгласила она усталым надтреснутым голосом. — «Идите, да хранит вас Бог».
В этот момент она была матерью, отсылавшей своих детей в безопасность. Она была мать каждому. Она была матерью всем нам. Невольно я вспомнил свою маму, как она четыре года назад, когда фашисты становились все опаснее, требовала, чтобы я покинул Вену. Тут я внезапно понял — другого шанса у нас не будет.
Я взглянул на Альберта и указал на окно над нами. Он жестом показал на свою талию: слишком широка для узкого отверстия. Я весил килограммов пятьдесят пять и был достаточно тонким, при условии, что нам удастся отогнуть стальной прут. Альберт был намного плотнее. Но дело было не только в его размере — он просто устал и смирился со своей судьбой. Одно дело — пересечь Альпы, совсем другое — протиснуться сквозь игольное ушко. Он жестом указал на окно, как бы говоря: «Вперед!»
Я дотянулся до стального прута и дернул его изо всех сил. Прут не шелохнулся. Манфред попытался тоже — ничего не вышло. «Бесполезно», — пробормотал кто-то. «Все это болтовня», — сказал другой, ничего не выйдет. Мы яростно бились, чтобы раздвинуть прутья. Кровь стучала в висках и горле. Прутья не двигались. Здесь была наша последняя надежда, и она обращалась в ничто. Побег возможен только в темноте, а стемнеет уже через несколько часов, и только во Франции, где можно найти хоть какое-то укрытие. Но эти проклятые прутья не двигались.
— Пуловеры, — посоветовал кто-то.
— Что?
Да, пуловеры. Мы стянули их с себя, зацепили за прутья, как жгуты, и тянули, скручивая, изо всех сил. Ничего не изменилось. Проклятые пуловеры, проклятая идея, проклятые наши жизни. Мы попробовали ремни, но они были слишком гладкими. Черт побери эти ремни, черт побери бессмысленность этой затеи! Потом пришла мысль о веревке, но не нашлось достаточно прочной. Нужна была сила трения — необходимо было увлажнить пуловеры, чтобы они плотно прилегали к прутьям.
Пол!
Только на полу была жидкость, в которой мы так нуждались: скопившиеся выделения наших попутчиков, плещущиеся при движении поезда.
— Давай! — крикнул Манфред.
Мгновение я колебался. Поезд катил по прелестной сельской местности Франции. Борясь с отвращением, я нагнулся и окунул пуловер в мочу. В ней плавал кал. Я чувствовал себя униженным, ничего более омерзительного я не делал никогда. Чтобы спасти свою жизнь, я должен был сначала осквернить ее способом, выходящим за пределы того, что я мог вообразить себе в моем предыдущем существовании.
Мы выжимали пуловеры и наматывали их на прутья. Держа за оба конца, я скручивал дальше. Теперь пуловеры туже обхватывали прутья, но от рывков моча выдавливалась из них и текла по моим поднятым рукам прямо мне на шею. Вонь была непереносимой. Хотелось прекратить и попробовать что-нибудь другое. Но ничего другого не было. Это была последняя возможность спасения.
Мы с Манфредом сменяли друг друга у прутьев. Мы были измучены, до нас доносилось все больше голосов, советовавших прекратить, убеждавших в бессмысленности наших усилий. Поезд громыхал и качался. Мое горло пересохло от жажды и волнения. Пот тек по нашим лицам, моча нескончаемо капала из пуловеров и стекала по нашим телам… Время неудержимо проходило. Под нашими закатанными рукавами собирались кусочки кала и высыхали на наших руках, липкие, вонючие, вызывающие тошноту. Мне хотелось вытереть пот с лица, но как? Руки, рубашка были покрыты мочой и калом.
Внезапно, чудом, сквозь усталость и отчаянье, мы почувствовали на руках еще что-то, ощущающееся как песок. Это были частички ржавчины с мест, где стальные прутья крепились к оконной раме. Прутья начали очень медленно поддаваться, и ржавчина, казалось, давала нам знак: не прекращайте.
Час проходил за часом — минуло пять часов, может быть, больше — поезд скользил дальше через Шампань, регион на востоке Франции. Скоро совсем стемнеет. Мы тянули и крутили, тянули и крутили, и наши руки отяжелели. Все больше скепсиса слышалось в словах попутчиков, наблюдавших за нами, двумя тщедушными парнями, стремящимися переломить ход событий. И все же прутья изогнулись и сдвинулись, и мы поняли, что побег возможен.
Поезд скрипел и сотрясался. Мы присели на корточки, чтобы перевести дух. В вагоне голоса затихли, перейдя в шепот. Манфред устало прислонился к стене, глядя перед собой отсутствующим взглядом.
— Я немного нервничаю, — сказал он, слабо улыбнувшись.
Я не знал, действительно ли мы близки к свободе. Всего месяц назад, добравшись до швейцарской границы, я считал себя свободным, но свобода тут же бесследно испарилась. Прошло уже четыре года, как я покинул дом, и девять месяцев, как я последний раз слышал о семье. Существует ли хоть какая-нибудь возможность, пусть ценой тысячи лет усилий, вновь найти друг друга? В висках стучало, я поклялся идти до конца. Меня затошнило, и вновь послышались вокруг бормотания: нужно остановиться, нас могут задержать, мы можем пораниться, из-за нас накажут всех.
Постепенно многие уснули. Их лица казались преждевременно призрачными. Стук в моей голове перешел в головокружение, в скрытую и дурманящую эйфорию. Я задрожал.
Около семи вечера, приближаясь к немецкой границе, мы поднялись. Я потянулся к рюкзаку на полу и вручил его Тони, которая была мне теперь как сестра. Она посмотрела на меня ободряюще. Мы были друг для друга последним связующим звеном нашей семьи, являющейся сейчас лишь воспоминанием.
— Bonne chance et sei vorsichtig, — сдавлено сказала она на двух языках. — «Счастливо, и будь осторожен».
Эрих издалека махнул рукой на прощание и отвернулся. Манфред поднял свой маленький вещевой мешок. Повернувшись, я увидел рядом Альберта.
— Значит, ты сделаешь это, — сказал он на идише.
Я кивнул. Он положил руки мне на плечи, притянул меня к себе и обнял. В Швейцарии они лишили его сердце мужества. Мое сердце бешено колотилось.
Был сумрачный вечер, холодный и сырой. Мы с Манфредом отогнули верхний прут вверх, нижний вниз. Расстояние между прутьями едва ли составляло тридцать сантиметров, но мы были убеждены, что этого достаточно, чтобы протиснуться наружу.
Во рту у меня стало сухо и горячо. Холодный пот выступил на лбу. Я стянул берет со своей бритой головы, чтобы ветер не сорвал его, и засунул в карман брюк. Сложив в кучу немного вещей, я полез на них, устремляясь к отверстию. Я оступался и скользил вниз. Манфред и Альберт схватили меня, придержали мне ногу, помогая вскарабкаться — подъем в несколько сантиметров, равный восхождению, превосходящему переход через Швейцарские Альпы.
Теперь моя талия находилась на уровне окна. Сквозь окно я ухватился за выступ — металлическую водосточную трубу, проходившую прямо над окном, где стена вагона соединялась с нижней частью крыши. Высунув голову наружу, я почувствовал, как ледяной ветер хлещет по моей лысой голове. Я подтягивался на руках, одновременно изгибаясь вперед и назад, и втягивая живот. Изнутри поезда Альберт и Манфред толкали мои ноги, и медленно, сантиметр за сантиметром, я протискивался через вагонное окно.
И вот я снаружи. Мышцы напряжены. Держась руками за выступ над окном, я вытянул правую ногу к заднему углу вагона и нащупал сцепление, соединявшее наш вагон со следующим.
— Порядок, — шепнул я в вагон как можно тише.
Я опасался, что охранники услышат меня. Еще я боялся попасть в свет прожекторов, освещавших обе стороны. Одновременно я почувствовал прилив восторга, что пока все удается, и сказал в окно:
— Подайте мой рюкзак, — и удивился звуку своего голоса.
Держась правой рукой за металлическую лестницу, ведущую на крышу вагона, левой я схватил рюкзак. Вскоре появился Манфред, протиснувшийся с помощью Альберта. Когда он приблизился ко мне, я осторожно посторонился вправо, освобождая ему место.
В темноте, крепко вцепившись в шатающуюся лестницу, обдуваемые сильным ветром, мы закричали:
— C’est fait! — «Мы сделали это!»
Спрыгнуть нужно было точно на повороте, в момент, когда поезд замедлит ход, а прожекторы охраны не смогут нас осветить. Поезд шел со скоростью около шестидесяти километров в час. Наши тела раскачивались на лязгающих сцеплениях. Мы крепко держались, чтобы не соскользнуть между вагонов под колеса поезда. Прошло не менее пяти минут. Сильный ветер не давал дышать, а в голове, как кинохроника, проносились воспоминания: я задыхаюсь в разбушевавшейся реке Сауэр; я, затаив дыхание, проползаю под колючей проволокой в лагере Сен-Сиприен; я стою ночью под моросящим дождем на пересечении улиц в Вене, не находя нужных слов для прощания с мамой. Прошло уже четыре года. Я думал о Тони и Эрихе, находящихся внутри вагона, об Альберте, о пожилой женщине с костылем, давшей нам последний эмоциональный толчок, в котором мы нуждались. Казалось, все они принадлежат уже к другой, прошедшей жизни.
Мы собирались спрыгнуть с левой, северной стороны, где не было параллельных путей. Хотелось, чтобы поезд повернул так, чтобы прожекторы не захватили нас, но трудно было предугадать, когда наступит подходящий момент.
— Хотел бы я знать, где сейчас мой брат, — сказал Манфред под громыхание поезда и ветра. Он оставил его во Франции, находящейся под контролем Виши.
— Я как раз думал о маме и сестрах, — воскликнул я.
— Не могу дождаться, чтобы рассказать все это брату, — сказал он. Мы почувствовали, как поезд замедляет ход, начиная поворачивать.
В этот момент он был виден весь, с первого до последнего вагона. Охранники повернули яркие прожекторы, освещавшие левую сторону, направо. Момент настал.
Я глубоко вдохнул, как перед прыжком в воду. Кивнув Манфреду, я увидел, как он спрыгнул и тут же исчез из виду. Секундой позже я тоже прыгнул в кромешную тьму.
11 ПАРИЖ, БАНЬЕР-ДЕ-БИГОР (ноябрь — декабрь 1942)
В темноте пришла беда.
Пронзительный свисток вспорол ночь, послышался треск выстрелов. Я прижался как можно плотнее к земле, прислушиваясь к грохоту поезда, и не услышал ничего. Было абсолютно тихо. Поезд, очевидно, стоял в нескольких сотнях метров от места, где мы с Манфредом спрыгнули с него. Вновь раздались выстрелы в воздух. Я затаил дыхание, услышав шаги, быстро приближавшиеся к нам со стороны поезда, затем обрывки речи. Гневно говорили по-немецки:
— Давай искать…
— Попробуем…
— …здесь…
Прошло несколько минут. Прожектор, должно быть, уловил тень, оторвавшуюся от поезда, возможно, мою или Манфреда. А может быть, еще кто-нибудь попытался бежать. Не приведи Господь, чтобы из поезда, везущего тысячи обреченных человеческих существ, один-единственный еврей избежал немецких печей.
Проходили минуты — минуты, казавшиеся вечностью.
— Сюда! — раздался крик.
— Вы здесь смотрели? — послышалось в ответ.
Я искал место, чтобы спрятаться, какое-нибудь углубление в земле, куда можно было бы зарыться. Внезапно все стихло, не стало слышно ни звука. Ловушка? Я мог бы бежать, но, возможно, охранники затаились рядом. В Дранси младенцы умирали такими маленькими, что едва могли плакать. Что же они сделают со мной, попытавшимся соскользнуть с мощного конвейера лагерей смерти?
Наконец шум — не голоса, а какие-то металлические звуки вдали: лязг колес о рельсы, тяжелый грохот товарных вагонов, медленно и со скрипом приходящих в движение. Изможденный пройденным расстоянием, поезд двинулся вперед, угрюмо преодолевая оставшийся путь.
Пока поезд на Аушвиц не исчез в темноте и его грохот не поглотила полная тишина, я лежал в ласковых объятиях земли. Оказалось, что лежу я в мокрой канаве, в высокой траве. Я глубоко порывисто вздохнул и подумал о Манфреде, где он может быть. Немного пошевелив мускулами, чтобы убедиться, что нигде не болит, я снова надел берет на свою бритую голову. Я почувствовал себя потрясающе свободным, свободнее, чем когда-либо в жизни, но внезапно возник вопрос: свободным для чего? Свободным идти куда?
Мы с Манфредом нашли друг друга в темноте и пошли по тропинке, что вилась рядом с железнодорожным полотном. Руками содрали мы с отворотов наших курток обличительные знаки — желтые еврейские звезды.
Молча, все еще немного задыхаясь, шли мы в холодной ноябрьской ночи. Наша одежда насквозь промокла от травы и ужасно воняла после поезда. Мы опасались немецких охранников, которые могут вынырнуть из ниоткуда, чтобы покарать нас за дурацкую попытку убежать от своей судьбы.
Миновав несколько крестьянских хуторов, мы увидели впереди силуэты небольших домов — деревня. Мы не проронили ни слова. По пути не было света, даже в домах. Тишину нарушал только лай собаки в отдалении. Тут мы заметили узкий тротуар, проходящих мимо людей, и переждали, затаившись в тени. Затем мы подошли к булочной с окнами, закрашенными темно-синей краской — защита от ночных бомбардировок. Позади струился слабый свет.
Я постучал в дверь, и мы стали ждать. Ответа не было. Я постучал немного громче, боясь, однако, что любой шум в тишине ночи может разбудить не только булочника, но и всех в этом городе, где любой, в принципе, может выдать нас. Дверь открылась, и в ней появился угрюмый молодой человек в белом пекарском фартуке:
— До утра хлеба не будет.
— Мы не хотим хлеба, — поспешно сказал Манфред.
Мне хотелось, чтобы он сказал это потише, но и не слишком тихо. Слишком громко — начнутся проблемы; слишком тихо — возникнет подозрение, что мы что-то скрываем. Во время войны любой чужак внушает подозрение.
— Где мы находимся? — спросил Манфред.
— Недалеко от Мюсси, — ответил булочник. — Вы сбились с пути?
— Мы хотели бы узнать, где живет деревенский священник, — сказал я.
Молодой человек взглянул на тени на наших лицах и сказал:
— Минутку, я провожу вас к нему, — и захлопнул дверь.
Мы нервно ждали, пока он не появился снова, в куртке, накинутой поверх пекарской одежды. Мы миновали несколько домов; булочник — спокойно и молчаливо, мы с Манфредом тоже молчали, так как говорили по-французски с австрийским акцентом.
Когда мы подошли к ризнице священника, мне пришла в голову еще одна проблема: священнику обязательно нужно оказать почтение — снять головной убор. Но снять береты означает продемонстрировать наши бритые головы и тем самым объявить: я — беглец, я — еврей. Однако выбора у нас не было. В мире, где нельзя доверять священнику, остается только добровольно сесть на ближайший поезд, идущий в Аушвиц. В общем, мы доверились. Священник, мужчина средних лет, был совершенно ошеломлен, увидев нас.
— Эти молодые люди интересовались, где вы живете, — сказал булочник и ушел, так как не хотел иметь к этому никакого отношения.
— В чем дело? — спросил священник.
— Мы спрыгнули с поезда, — сказал я, махнув в направлении железной дороги.
Сейчас нельзя было медлить ни секунды. Я снял берет, и он увидел мою бритую голову. Я слишком устал, чтобы убраться прочь, подумал я.
— Ах да, — сказал он тихо. — Три раза в неделю. Мы знаем о поездах. Вы убежали из поезда?
— Да. Можно у вас переночевать?
Он внимательно посмотрел на нас, пригласил войти и закрыл за нами дверь. Потом он поморщился: должно быть, из-за времени, проведенного в переполненном товарном поезде, от нас чертовски воняло. Мы сильно потели, часами пытаясь разогнуть металлические прутья. От нас несло рвотой и экскрементами, прилипшими к нашим телам и к одежде, от нас несло страхом.
— Первое, что вам нужно, — сказал он, — это вода и мыло.
Мы были не только грязными и завшивевшими, но и голодными как собаки. Священник разогрел на плите кастрюлю молока, положил на кухонный стол хлеб и сыр.
— Утром, около шести, — продолжил он, — здесь бывает патруль. Я оставляю вас на ночь, но до шести вы должны уйти.
Когда мы наелись досыта, он проводил нас в ванную, затем дал нам чистые постели. В Трире у монахов были такие же простыни, и я спокойно спал рядом с немецким солдатом по имени Хайнц. Утром сюда придут другие немецкие солдаты. Наш поезд скоро прибудет в Аушвиц, без нас. Тони и Эрих были в этом поезде, и Альберт, и маленький мальчик, разлученный со своими родителями, и люди, все еще молящиеся своему незримому Богу, и женщина с костылем, сказавшая нам: «Продолжайте. Действуйте!»
Совершенно измученный, я провалился в глубокий сон и проснулся перед рассветом, услышав голос доброго ангела, говорившего по-французски. Это был священник, сказавший: «Пора». Мне не хотелось расставаться с постелью. Под одеялом было тепло и безопасно. Я хотел навсегда остаться в этой комнате завернутым в простыни, отгородиться от мира. Я хотел закрыть глаза и спрятаться в темноте закрытых век, пока не закончится война. Но было уже пять утра, и скоро придет рассвет, а вместе с ним немецкий патруль.
Священник покормил нас и дал записку. Поблизости есть деревня, сказал он, там живет его друг, тоже священник. Он дал нам в дорогу еды и немного франков. Когда мы распрощались, мне пришло в голову, что мы не узнали его имени, так же как и он наши. Это облегчало «преступление» для каждого из нас.
Мы добрались до следующей деревни в первой половине дня и нашли там дом священника. Он ненадолго вышел, сказала служанка. Вблизи мы увидели кладбище и решили, что там мы сможем подождать в безопасности. На кладбище, посещая могилы, люди, как правило, не задают вопросов. В ожидании священника мы бродили среди мертвых, завидуя их спокойствию. Я думал о своей семье, о том, существуют ли они еще на земле, и если нет, смогу ли я когда-нибудь найти место их последнего упокоения.
Священник принял нас на эту ночь и разрешил переночевать в хлеве. Мы спали между двух коров, на соломе, насыпанной на пол, под их уютные жующие звуки. Я чувствовал себя в безопасности.
С утра началось обычное: пора было уходить, может прийти патруль. Священник дал нам два билета на поезд до Парижа.
— Это безопасно?
— Сегодня воскресенье, — сказал священник. — Даже для немцев это день, когда они не проверяют пассажирские поезда. До Парижа у вас все должно быть нормально.
— А там?
— А там… — сказал он. — Если вы смогли сбежать из этого поезда, то и в Париже у вас не должно быть проблем.
Он произнес это как полицейский в Люксембурге, подшучивающий надо мной после того, как я переплыл Сауэр. Все познается в сравнении: если ты смог переплыть реку, то преодолеешь проблемы и на суше. Если ты смог убежать из товарного поезда, идущего в Аушвиц, то уж поездку в Париж переживешь.
В Париже я постараюсь найти свою тетю Эрну. Она, самая младшая сестра моей мамы, переехала в Париж в 1930 году, выйдя там замуж. Последний раз я видел ее в 1936 году, когда она вместе с сыном Полем приезжала в Вену. Теперь Поль прятался где-то во Французских Альпах, а тетя Эрна нашла надежное убежище у одного священника, знакомого с доброжелательным лейтенантом полиции. Я знал, где она живет.
— Манфред, — сказал я, когда поезд покатил в направлении Парижа, — через тридцать лет, когда мы будем это вспоминать, нам будет все это представляться сном.
— Ты с ума сошел? — оборвал он меня. Слегка глуповатое выражение, которое было на его лице даже в самые тяжелые времена, пропало. — Ты дурак.
— Почему ты так говоришь?
— Через тридцать лет… — сказал он саркастически. — Как можно думать, что будет через тридцать лет, когда неизвестно, что будет завтра?
— Потому что, — ответил я, — ничего невозможного больше нет. После этого прыжка из поезда. Ничего.
— Ничего, — передразнил он. — У нас даже документов нет. Мы вообще не знаем, куда нам идти, когда приедем в Париж.
— Улица Сен-Мор, — сказал я. — Номер 49.
Девятого ноября 1942 года мы приехали в Париж, через день после того, как войска стран антигитлеровской коалиции высадились в Северной Африке. Прошло ровно четыре года с той ночи, когда Беккер остановил на шоссе машину и мы смотрели на небо, охваченное пламенем от огней Хрустальной ночи. Сегодня немцы оккупировали уже всю Европу. В Париже на Восточный вокзал прибывали немецкие солдаты, получившие отпуск, другие отправлялись отсюда на фронт. Город медленно приобретал вид оккупационной зоны. Мы отворачивались, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Бросилось в глаза невообразимое: немецкие солдаты, крепко обнимающие французских девушек.
— Ради всего святого, не снимай перед ними шляпу, — язвительно сказал я.
Снять береты означало обнажить перед всеми наши бритые головы. У нас не было документов, не было волос на головах, не было еврейских звезд на куртках. Мы блуждали по улицам Парижа в поисках жилища тети Эрны, пока не нашли его в одиннадцатом arrondissement (районе). Было уже далеко за полдень.
Одиннадцатый район Парижа всегда населяло огромное число евреев, однако вследствие депортации еврейское население значительно сократилось. Мы увидели несколько человек с желтыми звездами на куртках. Нам доводилось видеть это уже и в Дранси, но Дранси был лагерь. А это был Париж, родина Виктора Гюго, Эмиля Золя, Луи Пастера, родина людей милосердных. Город света стал городом, где евреи были заклеймены для убиения.
Никто не ответил на наши звонки в тетину входную дверь, но открылась дверь на третьем этаже, и женский голос спросил:
— Вы кого ищете?
— Мадам Шерер, — ответил я. — Я ее племянник.
Женщину звали мадам Анжель. Приблизившись к нам, она внимательно вгляделась в наши лица.
— Ее сегодня нет дома, — сказала она. — Я не знаю, где она.
Потом добавила осторожно:
— Я не знала, что у нее есть племянник.
— Она сестра моей матери, — пояснил я. — Мой кузен Поль с ней?
Я знал, что его нет, но употребляя его имя, я надеялся завоевать ее доверие. Мадам Анжель стала менее напряженной. Она была седоволосая, полная и немного угрюмая. Она повернулась и исчезла в квартире. Когда она появилась снова, на ней были пальто и шарф.
— Подождите здесь, — сказала она. — Посмотрю, смогу ли я ее найти.
Полчаса спустя появилась тетя Эрна. «Моп Dieu, mon Dieu! — воскликнула она. — Боже мой, Боже мой!» Когда мы обнялись, она заплакала. Мадам Анжель и Манфред смотрели на нас. До этого я видел тетю только три раза, но наши объятия сразу же стерли любую отчужденность между нами. Она была тридцатипятилетняя симпатичная брюнетка. Ее муж, военнопленный, бежал, добрался до Парижа, в Париже был снова арестован и депортирован. Больше он никогда не вернулся. Мы с Манфредом пошли за ней в ее крошечную квартиру на четвертом этаже.
Мы не ложились допоздна, и она рассказала мне о Поле. Она его отослала, когда французская полиция начала массовые аресты. Сейчас он живет на ферме.
— Мне его очень не хватает, но я хочу, чтобы он выжил, — пожала она плечами.
Наша одежда кишела паразитами. Тетя Эрна забрала ее, положила в мешок и что-то туда побрызгала. Утром она постирала одежду, пропарила ее и дала каждому из нас новую рубашку. Это были рубашки мужа. Потом она показала нам дорогу к общественным баням, рядом с площадью Тампль.
— Отмоете грязь, — сказала она.
— А не опасно выйти наружу?
— Боюсь, что необходимо, — ответила тетя. — Баня не может прийти к вам.
В ее квартире, да и во всем доме, не было ванных комнат. Туалеты располагались в коридоре. Тетина квартира была маленькой, но она хотела, чтобы я остался у нее. Она была одинока. Наша семья была теперь рассеяна по всей Европе, и никто из нас не знал, кто еще жив, а кто нет.
— Мы хотим пробираться на юг, — пояснил я.
Я был сыт по горло от убежищ на чердаках, от укрытий в крохотных каморках, от поездок в товарных поездах, переполненных людьми, которые не могут протиснуться сквозь окно с металлическими прутьями.
Недели две мы оставались в квартире у тети Эрны. Мы читали в ежедневных газетах информацию о войне и ждали нужный момент. Гитлер заявил маршалу Петену, что Германия не может далее сохранять перемирие, что должны быть приняты новые меры, чтобы остановить агрессию со стороны антигитлеровской коалиции. Не прошло и нескольких дней, как премьер-министр Пьер Лаваль поклялся еще более плотно сотрудничать с Германией. Он сказал: Британия и Америка «разрывали Францию на части… Соглашение с Германией — основа гарантии мира в Европе». Немецкие войска маршировали теперь по всем областям Франции, исключая средиземноморское побережье.
Казалось, жизнь на улицах в некотором роде похожа на довоенную. Были открыты французские театры, так же как ипподром и биржа. На площади Республики и на Монмартре мы видели много французских девушек, прогуливающихся за руку с немецкими солдатами. Они открыто льнули к ним, полагая, вероятно, что поступают мудро, встав на сторону победителей.
Однажды утром тетя обмолвилась об удостоверениях личности. Она знала человека по имени Давид Рапопорт, на улице Амело, недалеко от нас. Рапопорт был легендой подполья — человек, родившийся на Украине, стал активистом в рядах сионистских социалистов. Он перебрался в Париж и помогал евреям, цепляющимся за последние крохи свободы и достоинства.
— Он хорошо разбирается в фальшивых документах, — сказала тетя Эрна. — Но я не понимаю, почему ты не можешь остаться здесь, у меня.
Мы встретились с Рапопортом на следующий день. Ему было около шестидесяти — небольшого роста, сутулый, седой, он казался по-отечески добрым. Он внимательно осмотрел нас и придумал нам новые имена. Манфред стал Роже Савари, я — Марсель Дюмон.
— Как вы придумали эти имена? — спросил я.
Он пожал плечами.
— Ты выглядишь как Дюмон, а он — как Савари.
Так — значит, так. На следующий день мы забрали удостоверения и пятьдесят франков, которые нам сунул Рапопорт, и никогда больше его не видели. Вооруженные новыми документами, мы с Манфредом чувствовали себя прямо-таки непобедимыми. Рапопорт дал нам также адрес в центре Франции, недалеко от города Тур на реке Луаре. Там вам помогут, сказал он.
Снова последние объятия. Пока мы с тетей прощались, Манфред стоял рядом, сгорая от нетерпения. Будь осторожен, поддерживай связь. Это было как повторение прощания с мамой.
— Не забывай меня! — сказала тетя.
— Никогда.
В этот же день после обеда мы прибыли в Тур и пошли в ресторан, чтобы найти человека, сидящего за столиком на открытом воздухе и читающего газету. Мы быстро нашли ресторан, но снаружи не было никого, так как было слишком холодно. Мы вошли внутрь и увидели нескольких посетителей. Светловолосый конопатый мужчина трудился над кроссвордом в газете. Он был в рабочей одежде и курил трубку.
— Нас прислал Амело, — сказал я.
— Ладно, — ответил он, не выказав особого интереса, однако поднялся и предложил следовать за ним.
Мы шли минут десять по направлению к окраинам города, пока не добрались до двухэтажного фермерского дома у проселочной дороги.
— Утром, — сказал мужчина, — очень рано, мы пойдем вдоль реки Луары. На юг.
Вечером за ужином мы слушали радио «Свободная Франция». Адмирал Жан Луи Дарлан призывал французов: «Сражайтесь на стороне американцев и союзников». Пока бушевали бои в Северной Африке, его слова звучали как сигнал горна для нации, расколотой в своей преданности; это возродило нашу веру в завтрашний поход.
Еще не рассвело, когда мы двинулись в путь к реке Луаре и добрались до нее минут за двадцать. Утром было холодно и пасмурно. Густой туман лежал на реке, и было легче незаметно пересечь ее на маленькой весельной лодке. Не прошло и получаса, как мы пристали к пологому берегу. «Свободная» зона. Здесь наши фальшивые документы могут помочь нам пережить войну в безопасности и неком подобии душевного равновесия, в случае если наш подлог не будет раскрыт.
Наш провожатый пояснил нам, как дойти до близлежащей автобусной остановки возле города Жуэ. Мы смотрели ему вслед, как он греб, пересекая назад реку Луару, пока через несколько метров его не поглотил туман.
Манфред хотел добраться до департамента Дордонь, где жил его брат. Я собрался в Баньер. До Лиможа мы могли оставаться вместе. Только несколько недель назад я бежал из Баньера, но я не знал, куда мне еще пойти. Кроме Фрайермауеров, Милли Кахен и Спиров, я не знал никого в зоне, подконтрольной режиму Виши, а евреев преследовали везде. Может быть, в Баньере я застану еще Спиров. Я оставил у них кое-какие вещи; возможно, я смогу найти у них убежище на короткое время, пока я решу, куда мне двигаться дальше. Это казалось надежнее, чем Париж, и поближе к Анни.
Через несколько минут мы нашли автобусную остановку. Там стояли дети с учебниками в руках. Моя младшая сестра тоже могла бы ходить в школу. Несколько женщин болтали между собой. Моя мама тоже могла бы быть здесь. Мы стояли среди них, стараясь выглядеть незаметно. Мягкое утреннее солнце развеяло туман. Вдруг подошли два жандарма.
— О боже! — воскликнул Манфред, стараясь скрыть панику.
Я коротко взглянул на него, как бы говоря: «Сохраняй спокойствие». Обычные проверки вблизи демаркационной линии. Но мы удалились уже достаточно далеко оттуда и имели французские документы. Это будет всего лишь наше первое испытание.
— Papiers? — Документы? — произнес один из офицеров.
Они миновали детей, но проверили женщин и нескольких рабочих, подошедших к остановке. Они вежливо благодарили каждого, но, когда очередь дошла до нас, молча уставились в наши документы. Затем приказали отойти в сторону. Остальные, тоже не говоря ни слова, таращили на нас глаза. Жандармы сказали нам отодвинуться подальше.
— Смотри-ка, — сказал один из них, посмеиваясь. — Ну можно ли этому верить?! Еще один Дюмон.
Я приказал себе не впадать в панику. Это очень распространенное имя. Вблизи демаркационной линии они наверняка встречали много Дюмонов, Дюпонов, Дювалей.
— Пожалуйста, следуйте за нами.
Чувство поражения пронзило меня ножом. Молча нас доставили в полицейский участок вблизи Жуэ. Там — простые вопросы: ваши настоящие фамилии? В Люксембурге правда привела к успеху. Но не так вышло в Швейцарии. А здесь? Я предъявил свои бельгийские документы. Откуда вы прибыли? Париж. Голос был сухим. Мы не стояли на коленях, не умоляли о пощаде, не целовали руки. Мы решили говорить чистую правду.
— Мы сбежали из поезда, — сказал я.
— А, поезд.
— Из Дранси.
— А, но сейчас вы в свободной Франции.
— Да, — быстро подтвердил я.
Свободная Франция, неоккупированная Франция — не Германия, не Швейцария и не Аушвиц. Необходимо уметь различать. Это не гестапо, а просто французские жандармы под управлением Петена, это — «свободная» Франция.
Но их разговор начал меня беспокоить. Они произносили слова, которые я слышал и раньше. Они сказали, что мы арестованы и наш случай должен рассматриваться обычным служебным порядком. Не переживайте, сказали они. Но я переживал. Они употребили слово «disposition». Они сказали: «Centre d’Acceuil».
Я знал, что означают эти слова: лагерь для интернированных, а затем депортация. Наибольшая вероятность — назад в Дранси, где ожидает смерть. Они держали нас за дураков. Они дали нам laissez-passer, охранный документ, дающий право добраться из одного конкретного пункта в другой без сопровождения полиции.
— Вы должны просто зарегистрироваться, когда прибудете, — сказал жандарм.
— Да-да, — ответили мы, как бы соглашаясь с ним, что это чистая формальность.
Это была часть громадного обмана, разыгрываемого с евреями по всей Европе. Доверьтесь нам, мы ничего вам не сделаем. У них не было людей для сопровождения нас — они хотели, чтобы мы чувствовали себя так комфортно, что не порывались бы сбежать.
Нам дали проездные документы и талоны на еду на два дня. Да, подтвердили мы, мы предъявим эти документы в Centre d’Acceuil. Почему мы должны убегать, когда все вокруг ведут себя так цивилизованно?
Но с первого же мгновения нашей свободы мы с Манфредом бросились спасаться бегством. Мы сели на первый же поезд, идущий дальше на юг. Казалось, мир бешено вращается вокруг оси: мы так много пережили за эти несколько часов, и вот опять очутились в поезде, и снова едем в новом направлении.
Через несколько часов мы должны были расстаться. В Брив-ла-Гайарде, южнее Лиможа, Манфред пошел своей дорогой, я — своей: в Баньер к Спирам, где хотел разузнать, находится ли Анни еще поблизости. Мы с Манфредом крепко пожали друг другу руки, и он дал мне адрес своего брата. Мы сказали: «Увидимся еще». То, что мы вместе пережили, уже сейчас выходило за рамки одной жизни.
Оставаясь сидеть, я наблюдал, как в Брив-ла-Гайарде Манфред покинул поезд. Была ночь 27 ноября. Спиры могли еще находиться в Баньере, это всего несколько километров от Анни. У меня остались теплые воспоминания, как мы прогуливались после обеда по улицам, взявшись за руки. Я прошел через станцию к темному тротуару снаружи, где меня поджидал полицейский, чтобы задержать.
12 ТЮРЬМА В ТАРБЕ (декабрь 1942 — сентябрь 1943)
— Не так быстро, молодой человек.
В первое мгновение я сделал вид, что не услышал.
— Pardon, monsieur.
Теперь он говорил громче и настойчивее. Игра закончена. На этот раз, думал я, они расстреляют меня на месте и, наконец, со мной будет покончено.
— Рюкзак, — сказал он.
Он хотел проверить, нет ли у меня в рюкзаке продуктов с черного рынка: яиц, кофе или вина. У меня их не было. Но у меня не было также и документов; я уже видел следующий поезд на Аушвиц, ожидающий меня, и на этот раз мне не удастся убежать.
— Откройте, — приказал он.
Из-за военного затемнения улица была очень плохо освещена, лишь слабый луч света шел от маленькой железнодорожной станции. Я открыл рюкзак. Жандарм заглянул внутрь, но не смог ничего увидеть в темноте. Метрах в тридцати от нас другой жандарм проверял чемодан у мужчины. У него был фонарик. Я быстро огляделся вокруг.
— Можно на минутку фонарик? — спросил жандарм своего коллегу.
— Подойдите, возьмите, — был ответ.
Когда жандарм повернулся ко мне спиной, я мгновенно удрал. Никогда в жизни я не принимал решения так быстро. После побега из поезда все представлялось мне детской игрой. Я был теперь непобедимый атлет, профессиональный король побегов, постоянный беглец. Я был неукротим. К тому же я был слишком испуган, чтобы не бежать сломя голову.
Я помчался в темноту. Было лучше рискнуть, чем снова увидеть Дранси и поезд; лучше убежать от этих глупых немолодых мужчин в униформе, чем столкнуться с неизвестностью.
Я не слышал шагов позади, не слышал голоса, окликающего меня. Жандарму было тысяча лет или, возможно, тридцать пять. Все равно. Я был юный и пытался сохранить мою единственную жизнь. Я бежал, пока не достиг дома Спиров. Ворота в сад были заперты. Тяжело дыша, обливаясь потом, я вскарабкался по витиеватому кованому орнаменту наверх и спрыгнул по ту сторону. При этом я порвал штаны, а приземлившись, почувствовал старую, хорошо знакомую боль: грыжа. Шатаясь, я добрался до дверей дома. Мендель Спира, увидев меня, был потрясен. Громко зовя домочадцев, он втянул меня в дом.
Мы проговорили полночи, и я рассказал им о Швейцарии и о неумолимом офицере на границе, о Ривзальте и Дранси, о поезде на Аушвиц и о священниках, укрывших нас с Манфредом, о жандармах на железнодорожной станции, которые в этот момент ищут меня.
— Ну а вы как? — спросил я, радуясь их присутствию.
— Хорошо, — ответил Спира.
— А Фрайермауеры?
— Все еще в Котре.
Значит, Анни в Котре, всего в нескольких часах отсюда, но казалось, это так же далеко, как Америка. Спира сказал, мне нельзя выходить из дома. В этот момент, с болями от грыжи, я мечтал только о сне.
Скоро все вошло в прежнюю колею, как три месяца назад. Днем мы читали газеты, по вечерам слушали радио. Однажды ночью услышали выступление сэра Энтони Идена, британского министра иностранных дел. Выступая перед палатой общин, он сказал: «Германия приводит теперь в исполнение часто повторяемое Гитлером намерение уничтожить еврейское население Европы». Итак, для всего мира это больше не было тайной. Евреев из оккупированных стран отправляют в Восточную Европу, сказал Иден, где они «смертельно надрываются на работах в трудовых лагерях или сознательно безжалостно уничтожаются в массовых экзекуциях».
Казалось, стены небольшой квартиры Спиров сомкнулись еще теснее. Ночью я спал на чердаке мадам Леруа вместе с младшими дочерьми Спиры Решой и Сюзи. Они спали на двуспальной кровати, а я — на матрасе на полу. Как-то ночью я проснулся, почувствовав какую-то возню возле своего бедра — казалось, кто-то крадется по моему одеялу. Я потянулся вниз — движение прекратилось. Вскоре я опять почувствовал ерзанье и какие-то усилия. Я протянул руки вниз и прижал что-то изо всех сил, пока вся возня, все признаки жизни не исчезли. Это была крыса, сдохшая под моими руками. Вспотевший, лежа в темноте, я боролся с подступающим омерзением. Крыса была отвратительная и мерзкая, но она делала только то, что делают крысы: рылась в отходах, хотела выжить и сдохла, потому что те, кто находился вокруг нее, захотели, чтобы ее не было.
Я становился все более и более тревожным. Я спросил Спиру о Броке, дружелюбном пекаре из Баньера, который давал мне дополнительные порции хлеба, когда отпуск по карточкам был особенно скудным.
— Не сходи с ума, — ответил Спира. — Тебе нельзя выходить.
Но я едва слушал его. Брока был лишь первым шагом. Если я к нему пойду, а потом смогу вернуться домой, я мог бы когда-нибудь попробовать пойти дальше, возможно даже в Котре, чтобы найти Анни. Побег из поезда сделал меня дерзким. Теперь я мог убежать от всего, даже от собственной судьбы.
Вопреки здравым советам Спиры я отважился выйти. День был солнечный и свежий, и я заглянул на рынок, где фермеры предлагали продукты и домашние вещи. Я попытался затеряться в толпе. Я пробыл там лишь несколько минут. Когда я заметил двух жандармов на велосипедах, убежать далеко было уже невозможно. Один из них крикнул: «Я уверен — это он!» Я бросился в близлежащий дом, где они меня и схватили. Теперь я не был больше непобедимым и бессмертным атлетом. Я был жалкой крысой, неспособной к побегу в момент, когда крысоловы готовятся уничтожить ее.
— Ну и куда ты собирался на этот раз убежать? — спросил жандарм.
Это был человек с вокзала. Он надел мне наручники, проводил меня в камеру, и в течение часа я отвечал на вопросы капитана. Я чувствовал себя глупым и пристыженным. Капитан казался заинтересованным, чуть ли не сочувствующим. Я рассказал ему о поезде на Аушвиц и верил, что приобрел союзника.
— Но побег… — сказал он, сознавая свое бессилие. — Это было в оккупационной зоне. Не мой участок.
Я нарушил закон, когда несколько недель назад оставил Котре, назначенное мне место пребывания. — «Abandon de résidence assignée», — сказал он, и больше ничего. Меня отвели в камеру. Утром пришли два посетителя: жандарм и адвокат по имени Ипполит Салью.
Я был удивлен, что здесь еще фактически действует закон, что все еще сохранились оазисы цивилизации во Франции, находящейся под контролем Виши. Салью был небольшого роста, в очках, с редкими черными волосами. Он говорил тихо, и я внимательно прислушивался. Он сказал, что закон ясно указывает наказание: за убытие с назначенного места пребывания положен год тюремного заключения. Он сказал, мы будем просить признать меня виновным.
— Год тюрьмы? — спросил я, падая духом.
Уже в квартире Спиров я начал чувствовать страх замкнутого пространства; в тюремной камере я мог сойти с ума.
— Я действую в ваших интересах, — сказал он.
Он имел в виду — как еврея. Салью рассматривал год тюрьмы как год, когда я не смогу бывать на улицах, год — вдали от риска опасного задержания, интернирования и депортации.
— Ко времени вашего освобождения, — добавил он, — война, возможно, уже закончится.
Холодным декабрьским утром, ровно через год, как была отклонена американская виза, два жандарма отвели меня в поезд, идущий в Тарб, а там — в каменное строение с вывеской Maison d’Arrêt de Tarbes — «Дом предварительного заключения города Тарб». У меня взяли отпечатки пальцев, обыскали с головы до ног и дали бланк, который я должен был заполнить, указав сведения о моей жизни. Меня переодели в тюремную одежду из грубой коричневой ткани. Забрали те небольшие деньги, что были у меня, так же как и конверт с фотографиями мамы и сестер. Никто не издевался надо мной. Я был частью заведенного порядка на неком спокойном методичном складе людей, в то время как вокруг неистовствовала война. Здесь я должен был ожидать судебный процесс.
Охранник провел меня по коридору на первом этаже в камеру и крикнул внутрь:
— Либетрау, вот тебе сокамерник, теперь тебе будет с кем поговорить.
— Спасибо, Палисс, я уже чувствовал себя одиноко, — раздался голос из камеры.
Тяжелая дверь камеры закрылась за мной. Я затосковал по большой свободе маленького дома Менделя Спиры; по открытым просторам зловонного пляжа в Сен-Сиприене; или даже по тесноте поезда на Аушвиц с его маленькими окнами, через которые я мог ускользнуть. Я снова хотел бы убежать от своих преследователей — на этот раз меня бы ни за что не остановили.
Я увидел перед собой две узкие кровати, крошечную раковину, зарешеченное окно, выходящее на тюремный двор. Был также маленький туалет. В стальной двери, закрывшейся позади меня, находилось небольшое отверстие, через которое давали еду и почту. Либетрау кивнул мне. Он выглядел лет на сорок, щетина на его щеках уже немного серебрилась. Лицо его было красным и рябым, а зубы испорченные и кривые.
— За что ты тут? — спросил он.
— Родился евреем, — пожал я плечами. — А ты?
— Убийство, — ответил он.
Я забеспокоился, доживу ли я до утра. Он был больше меня и, без сомнения, сильнее — настоящий преступник, и, наверняка, еще больше ожесточившийся за годы, проведенные за решеткой. Я вообразил удар ножом в горло в темноте и решил, что наилучшим будет — показать, что я крепкий малый, и рассказал ему свои приключения. Когда я подошел к аресту швейцарским офицером, он был взбешен.
— Мне стыдно за это, — заключил он.
Он был швейцарским гражданином, арестованным за то, что в порыве ярости убил свою неверную французскую подружку. Отсидевший уже несколько лет, он ожидал освобождения. До сих пор он был примерным заключенным, сказал он, и был уверен в скором выходе на волю.
Проснувшись следующим утром, я с облегчением понял, что еще жив. Нам принесли жидкий чай, совершенно без какого-либо вкуса. В раковине была только холодная вода. На обед мы ежедневно получали или овощи, или фасолевый суп. Фасолевый суп давал нам материал для каждодневных занятий: мы считали фасолины, чтобы установить, у кого больше. Часто была ничья.
— Должно быть, они пересчитывают фасолины еще на кухне, — сказал я.
— Да, им тоже нужно чем-то заняться, не только нам, — ответил Либетрау.
По воскресеньям мы получали порцию мяса, которая была так мала, что сразу помещалась во рту. Сыр и хлеб давали нам в течение недели. И все время этот безвкусный чай.
— Бром, — сказал Либетрау.
Он имел в виду, что так подавляют нашу сексуальную энергию.
— Можешь мне поверить, — добавил он, — я здесь уже достаточно долго.
Я проводил время за написанием коротких писем Спирам и Фрайермауерам. Однажды после обеда меня посетил адвокат Салью и снова повторил свой план: я должен признать свою вину перед законом.
— Я понимаю, — сказал я, — что в камере безопаснее, чем снаружи. Но что, если условия изменятся? Немцы уже сейчас, как известно, берут заключенных из камер, чтобы наказать в назидание другим.
Он кивнул, но, казалось, остался при своем мнении.
— Я постоянно думаю об этом, — настаивал я.
— Будем надеяться, что этого не произойдет, — ответил он.
Когда Салью ушел, Палисс, охранник, который в первый день сопровождал меня, отвел меня назад в камеру. Это был беззлобный парень, называвший меня Малыш. Высокий, тяжелый, с большим животом, Палисс при ходьбе шаркал ногами. Другой охранник, Грифф, был большим неуклюжим парнем, на лице которого всегда блуждала ухмылка. Был там еще Лебон, неприветливый и циничный; он не смог бы улыбнуться, даже если бы ему за это заплатили.
Утром восьмого января я ожидал в специальной комнате, чтобы меня отвезли в суд. Туда же завели одну заключенную, которая была арестована за сделки на черном рынке. Во время нашего короткого переезда на поезде в Баньер, в здание суда, мы были скованы друг с другом наручниками. Там меня уже ждал Салью вместе с Менделем Спирой и его дочерьми.
Судебное заседание было таким коротким, что я почти не имел времени оглядеться. Салью пояснил, что я покинул предписанное мне место проживания из опасения быть депортированным. Судья, слушая безучастно, пробормотал над своими документами: «Год тюрьмы».
Мое сердце упало. Минутой позже, стоя в коридоре судебного здания, я увидел проходящего мимо Спиру. Он указал на находящийся рядом мужской туалет и вошел внутрь.
— Можно мне в туалет? — спросил я охранника.
Казалось, он сочувствовал мне.
— Я подожду здесь, — сказал он, расстегивая мне наручники.
Внутри Спира дал мне пятьдесят франков.
— Тебе это может пригодиться, — сказал он.
— Один год! — вырвалось у меня, как ругательство.
— Странным образом может оказаться, что там для тебя будет более безопасно.
— А что, если немцы начнут освобождать камеры? Что, если им нужен будет акт возмездия и они придут в тюрьмы?
На это Спира не мог ответить ничего.
Чуть позже, в коридоре, меня опять сковали наручниками с женщиной, осужденной за сделки на черном рынке. Небольшая группа людей таращилась на нас. Реша и Сюзи Спиры робко помахали мне, я махнул в ответ, стараясь не показать своего мрачного состояния.
Поезд должен был отвезти нас назад в Тарб, но отправлялся он только через два часа. Жандармы решили ожидать в бистро, и мы с женщиной, связанные наручниками, сидели там же. Жандармы заказали красное вино. Такое может происходить только во Франции, думал я и представлял себе, что это, возможно, то самое вино, которое я когда-то помогал делать в Каркасоне. Вчетвером мы сидели за столом, и охранники беседовали об однообразии своей работы. Я же думал об ожидавших меня месяцах заключения. Они говорили о позднем возвращении с работы домой. Их больше заботила женщина, чем я, и я вновь подумал о побеге.
— Туалет, — сказал я, — можно мне сходить?
— Не задерживайся долго, — сказал тот же жандарм, который разрешил мне сходить в туалет в здании суда.
Он был дружелюбен, но не снял наручники с моего запястья. Куда я мог бежать с этими штуками, висящими на руке так откровенно?
Но мне было все равно. Я нашел в туалете расположенное вверху окно, быстро подтянулся и пролез наружу. В Баньере моросил небольшой дождь. Я помчался, пытаясь как можно дальше убежать от охранников. Я думал о Спирах и знал, что мне следует их избегать. Бежать к ним значило подвергнуть их опасности. В висках стучало. Фрайермауеры были слишком далеко. Мое бешено стучащее сердце вызвало головокружение, сопровождающееся тошнотой. Я несся, пока не добежал до бакалейного магазина, и готов был уже открыть дверь. В этот момент меня вырвало, в глазах поплыло, и все погрузилось во мрак.
Когда я очнулся, хозяин магазина и его юный помощник очистили мою одежду и поднесли воду к моим губам. Я сидел в кресле на кухне позади торгового помещения. Они напоили меня чаем и стали расспрашивать; я вполне доверился им и рассказал правду.
— У меня друзья в Баньере, — сказал я. — На улице Бассэр.
Взгляд бакалейщика посветлел.
— Не Спиров ли ты имеешь в виду? — спросил он.
— Да, — подтвердил я и почувствовал, что силы возвращаются ко мне. — Вы их знаете?
— Знаю ли я их? — переспросил он очень обрадованно. — Да они у нас постоянные покупатели.
Я был действительно счастлив: по чистой случайности я нашел во всем Баньере лучшее место, чтобы потерять сознание.
— Ты можешь побыть здесь, — сказал хозяин, — пока не стемнеет.
Он принес ножовку, и через несколько минут я был свободен от наручников. Молодой человек был послан в дождь к Спирам с известием: «Лео в безопасности». Спиры прислали ответ: «Сюда не приходи. Пиши нам, но без обратного адреса». Не прошло и нескольких часов, как к ним пришли жандармы, чего Мендель Спира и ожидал с момента, как узнал о моем побеге.
Куда идти? Я думал о Тулузе, городе достаточно большом, чтобы в нем можно было затеряться. Леон Остеррайхер, помогший мне бежать из лагеря в Сен-Сиприене, мог быть все еще там. К тому же недалеко от Тулузы находились друзья тети Эрны, бежавшие из Парижа несколько лет назад. Когда стемнело, я поблагодарил бакалейщика и выскользнул в дождь. В Тулузу, пойду туда. Проходя мимо булочной моего друга Броки, сквозь дверь я увидел, что покупателей нет.
— Месье Брока.
— О боже, Лео!
Я думал, беднягу хватит инфаркт, когда я открыл дверь. Последний раз я был здесь месяцев десять назад. Я рассказал ему о суде и моем побеге из бистро.
— Так это был ты? — спросил он. — Я уже слышал, что молодой беженец удрал из здания суда.
— Не беженец, — сказал я. — Я теперь беглец. И произошло это не в суде, а в бистро. Это наверняка достаточно щекотливая ситуация для жандармов.
— Могу я тебе помочь? — спросил он.
— Хлеб может мне помочь, — ответил я. — Но у меня нет продуктовых карточек.
Брока улыбнулся. Он завернул хлеб в кусок ткани, чтобы уберечь от дождя, и дал мне двадцать франков. Мы обнялись, и я снова отправился в путь. Всю ночь я шел под дождем. Я устал, но боялся, что жандармы ищут меня. Я садился под какое-нибудь дерево, немного дремал, просыпался и шел дальше. Внимательно придерживаясь дорожных указателей, я надеялся, что нахожусь по пути в Тулузу. Я съел немного хлеба и мечтал о глотке чая, чтобы его запить. Тут я подошел к развилке и, не имея представления, какая дорога приведет меня в Тулузу, пошел по правой в надежде, что это правильно.
На рассвете я увидел указатель с названием Капверн, что километрах в пятнадцати от Баньера. Сердце упало. Я шел всю ночь, но оказалось — двигался по кругу. Снова начался дождь, и я укрылся в заброшенной лачуге; вокруг лежали сельскохозяйственные инструменты. Измученный и промокший, я погрузился в отчаянье. Я не представлял, как пережить следующий день.
Как только дождь утих, я пошел дальше. Я добрался до маленькой деревни и зашел в таверну. Одежда была мокрой насквозь. Внутренний голос сказал: здесь может быть опасно. И сам себе тут же возразил: в настоящий момент тюрьма кажется убежищем. Хозяин таверны стоял за стойкой бара. «Могу предложить напитки, — сказал он, — но кухня еще закрыта». Было восемь часов утра. Я спросил, нет ли чего-нибудь поесть? Он принес мне тарелку бобов, я ел их с хлебом, который дал мне Брока. Я чувствовал на себе взгляд хозяина.
У меня не было больше сил бежать. Подойдя к двери, я стоял, и смотрел на непрерывно падающий дождь, и знал, что не могу идти дальше. Я вернулся, чтобы доесть бобы, и увидел хозяина у телефона. Он повернулся ко мне спиной, повесил трубку и ушел на кухню.
Трус, думал я, не может даже смотреть мне в лицо. Что я сделал ему? Он ведь даже не знает меня.
Я знал, жандармы неминуемо будут здесь, и не мог сдвинуться с места. Усталость охватила меня. Вскоре вошли два жандарма и одели мне наручники. Один из них увидел бобы на моей тарелке и спросил, хочу ли я их доесть. В комнату вошел хозяин.
— Пусть останутся ему, — ответил я. — Я больше не голодный.
— Он расплатился? — спросил жандарм.
— Еще нет.
— У меня пока не было возможности, — сказал я, показывая на телефон. — Он был очень занят.
— Где деньги? — спросил второй жандарм.
Я застыл. У меня были деньги от Спиры и Броки. Как я мог объяснить это жандармам? На самом деле у меня не должно быть денег, так как они забрали их все, когда месяц назад посадили меня в тюрьму. Мне необходимо было оградить моих друзей. Я указал на карманы брюк, я не мог в них залезть скованными руками.
— Откуда у тебя деньги?
— Они у меня были.
— Исключено, — сказал жандарм. — Деньги у тебя забрали в тюрьме.
— Я спрятал немного в заднем проходе.
— Мы сообщим об этом тюремным охранникам.
И снова мы вышли на дождь. Прежде чем посадить меня в камеру на ночь, меня осмотрели с головы до ног, включая задний проход — к заключению добавилось еще унижение. Они решили отплатить мне за мою ложь.
Рано утром поезд повез меня назад в Тарб. Два жандарма сопровождали меня, но ни один не проронил ни слова. Молчание казалось зловещим. На жандармском посту меня встретили с грубой злостью. Я скомпрометировал их друга. Его строго наказали за мой побег по его недосмотру.
Полдюжины жандармов окружили меня плотным кольцом. Некоторые стали толкать меня. Я извинился и сказал, что очень сожалею. Они передразнивали мои извинения. Легкие толчки перешли в удары. Кто дал тебе деньги? Я попробовал снова извиниться. Кто помогал тебе? Простите за все, что я сделал. Почему ты нам соврал? Простите, я очень сожалею. Я сказал, что я один за все в ответе. Я рассказал им, что заблудился и шел по кругу. Теперь они били меня ногами, и я тщетно искал на полу место, где мог бы, как еж, свернуться в клубок.
— Значит, убегаешь, — сказал один из жандармов. — Быстрые ноги, да?
Он подошел к открытому камину и взял железную кочергу. Я поднял руки, чтобы защитить голову. «Быстрые ноги», — еще раз повторил он. Его лицо исказила ярость. Он наносил удары кочергой по моим бедрам, по ногам. «Быстрые ноги!» Я осел на пол. Сапоги пинали меня в спину, в грудь, по ногам и в пах. Теперь это уже превосходило наказание — это была месть за друга, мрачный урок всем остальным, вынашивающим идею побега.
Наконец, двое мужчин подняли меня под руки, надели мне снова наручники и отвели назад в тюрьму. Снова меня подвергли унизительному обыску и дали тюремную одежду. На этот раз меня поместили в камере на одном из верхних этажей, без сокамерника. Я снова был под надзором охранников Палисса, Гриффа и Лебона.
Я вытянулся на жесткой кровати и ощутил побои своим избитым телом. Спать, думал я. Погружайся в сон, и пусть твое тело само лечит себя. Но пришел не сон, а повернулся ключ и в камеру вошел Лебон. Значит, они прислали громилу, подумал я. Я встал, приветствуя его, — тюремное правило. Он спросил без тени сочувствия в голосе, как я себя чувствую.
— У меня все болит, — сказал я покорно.
— Ах, все болит. И ты знаешь почему?
— Да, месье, знаю.
— Ну а деньги? — спросил он. — Кто тебе их дал?
Он не ждал ответа:
— Скажи нам. И чем скорее, тем лучше.
Слова продолжали звучать, и теперь он начал приближаться ко мне.
— Я жду, — сказал он.
Я подумал о Спире, который ради меня подвергал себя опасности, о Броке, который был так щедр ко мне. Тело мое сильно болело. Лебон угрожающе вращал цепью с ключами.
— Никто мне денег не давал, — сказал я. — Они всегда у меня были.
Лебон зажал ключи в кулак и приблизился. Я почувствовал удар кулаком в правый висок.
— Врешь! — сказал он.
Слово, казалось, донеслось откуда-то издалека и как эхо рассыпалось по камере.
— Врешь!
— Нет, месье, я…
— У тебя они были при себе, да? — он ухмыльнулся. — Ты думаешь, я этому поверю?
Он ударил меня опять. От удара моя голова отшатнулась назад. Я схватился за ближайшую стену, твердо решив не падать, и почувствовал острую боль под правым глазом.
— Это правда, — сказал я.
Как долго будет это продолжаться, спрашивал я себя. Будет ли он бить меня, пока я не умру? Лебон держал кулак перед моим лицом.
— Тебя обыскивали, — кричал он. — Мы тебя всего осмотрели, когда привели сюда первый раз. Где были деньги?
— Здесь, месье, — сказал я, указывая на задний проход.
— Ах ты свинья! — заорал Лебон, схватил меня за плечи, повернул лицом к стене и придавил коленом мой копчик. Затем одним быстрым движением стянул с меня штаны.
— Давай посмотрим, что прячешь ты там на этот раз! — сказал он.
Он пришел убить меня, думал я. Он переломает мне все кости и оставит тут лежать, пока я не умру. Я повернулся и увидел его с огромным ключом, нацеленным мне в обнаженный зад. Он хочет вспороть меня. Я буду истекать кровью, а он будет разрезать меня дальше, пока я не скончаюсь здесь, в камере.
— Не делайте это! — услышал я собственный крик. — Не надо, не надо! Вы там ничего не найдете!
Лебон пнул меня еще раз сапогом в ягодицы и перевернул. Теперь он свирепо пинал меня в пах. Его сапог попадал точно в область грыжи, боль пронзала меня, как острый нож. Затем от удара между ног я скорчился от безумной боли. Лебон отвернулся с отвращением и пошел к двери камеры.
— Ты, свинья, я еще вернусь, — ухмыльнулся он.
Я поднялся с пола и дотащился до кровати. В паху пульсировало, и любое мое движение вызывало боль во всем теле. Я лежал так до ужина: травяной чай и кусок хлеба. Обмакнув хлеб в чай, я смочил им свое лицо. Потом я лежал в темноте и ждал сна, который все не шел.
Ночью кто-то из охранников заглядывал в камеру через дверь. Я делал вид, что сплю. Что будет, если вернется Лебон, думал я. Утром пришел Грифф. Сейчас тело мое было в еще худшем состоянии, и дорога в туалет через камеру показалась мне далеким путешествием.
— Сам напросился, — сказал Грифф без особых эмоций.
Я молча стоял перед ним. Он сказал, приказано держать меня в течение месяца в одиночной камере. В течение недели я буду получать только хлеб и суп. Не будет также ежедневных прогулок по тюремному двору. Я могу получать почту, но не могу отправлять. Датой моего освобождения будет теперь девятое сентября 1943 года, на два дня позже, чем первоначальный срок. Это — наказание за побег и за мою короткую свободу.
На следующий день на дежурстве был добродушный Палисс. Он просунул хлеб и суп через узкое отверстие в двери и покачал головой, увидев меня. Под правым глазом у меня отекло и болело. Ягодицы болели так, что сесть было невозможно, и я ходил и ходил по камере. Вы будете за решеткой в безопасности, говорил мне Салью. Не выходи на улицу, говорил мне Спира. Оставайся в Париже, умоляла меня тетя Эрна. Как много голосов, более разумных, чем мой, но я не послушал никого. Не полагайся ни на кого, сказала мне мама. Где она сейчас, где сейчас мои сестры, так любившие меня, где Анни?
Через несколько дней пришел тюремный парикмахер: мои волосы отросли, их нужно было снова сбрить. Я вздрагивал, когда он прикасался к местам побоев на моей голове.
— Как выглядит мое лицо? — спросил я.
— Непривлекательно, — ответил он.
Он подмел с пола волосы и вышел из камеры. Ни слова больше. Но звук этих коротких слов показался мне музыкой и долгое время снова и снова раздавался у меня в голове, просто потому, что это были звуки. Время стало моим врагом. Медленно подступала скука, проникая все глубже в меня и вытесняя все: страх и стремления, маму, и сестер, и Анни; вытесняя жандармов, и гитлеровскую армию, и саму войну.
День за днем тело мое выздоравливало, боли отступали. Только грыжа мучила меня: один день — ужасно, не так сильно на следующий, затем боли опять возобновлялись. У меня была одна цель: не освободиться, а освободиться из одиночного заключения и переместиться в другую камеру, с еще одним человеческим существом. Возможно, сокамерник имел бы доступ к радио, или к газете, или хотя бы к слухам от кого-нибудь, кто читал газету или слушал радио и знал, о чем сообщалось.
Однажды пришло письмо от Сюзи Спиры. Она писала, они знают о моем бедственном положении и пришлют мне еду, как только закончится мое заключение в одиночной камере. Они были все еще в Баньере, Фрайермауеры — в Котре. Итак, мир не полностью покинул меня: все еще были вблизи любимые люди. Я лег на кровать и представил, как буду писать письма из новой камеры. Я вспоминал Милли Кахен, стоящую по другую сторону колючей проволоки в последнюю ночь в Ривзальте; Манфреда, как он попрощался со мной и вышел из поезда. Может быть, я смогу написать им обоим из моего нового жилья.
Я больше не спал. Ночи тянулись бесконечно, лишь изредка прерываемые маленькими развлечениями: коротким звуком собачьего лая, обрывками разговоров во дворе под моим окном или лязгом металлических дверей. По прошествии двух недель я попросил Палисса помочь мне не умереть от скуки. Не мог ли бы он принести мне хотя бы бумагу и чернила, чтобы я мог рисовать? К полудню он принес мне несколько листов бумаги, ручку и пузырек чернил.
Последние две недели в одиночестве я занимался тем, что переносил возникающие в моей голове рисунки, каракули и всякую чепуху на бумагу.
Наконец, меня перевели на первый этаж в камеру с еще одним заключенным. Он был вежливым, но через три дня исчез. Утром его забрали в суд, и больше он не вернулся. Потом был другой сокамерник, посаженный за деятельность на черном рынке. Он оставался несколько недель. Они приходили и уходили, полдюжины сокамерников за месяцы и месяцы.
Теперь мне было разрешено ежедневно выходить в тюремный двор на прогулку. Свежий воздух возвращал мне силы. Ноги у меня еще болели, но движения шли на пользу. Легкий ветерок действовал целительно на мое все еще разбитое лицо. Однажды утром на тюремном дворе я увидел Либетрау, и мы поприветствовали друг друга как старые друзья. Его скоро освободят, сказал он, и он вернется в свою родную Швейцарию.
— Что у тебя с лицом? — спросил он.
Уже больше чем месяц у меня не было зеркала. Я рассказал ему об избиении. Он вытащил из кармана крышку от жестяной консервной банки, отполированную им до зеркального состояния. Я глянул и пришел в ужас от увиденного. Мое лицо представляло собой причудливую палитру цветов: темно-синее вокруг глаз, зеленое и желтое в остальных местах — следы жестокости Лебона. И это по прошествии месяца!
Мои контакты с другими заключенными были минимальными. В одной части тюрьмы я увидел женские лица, выглядывавшие из окон камер. Я не видел женщин с момента, как скованный наручниками сидел в бистро неподалеку от суда. Я вспомнил Анни — хорошо, если бы она все еще была в Котре.
Однажды я получил письмо с незнакомой мне фамилией Мари-Луиз Ларруи из Тарба. Она писала, что услышала о моей ситуации от своей подруги Ривки, приходящейся Анни тетей. О том, что Анни больше нет в Котре. Семья была вынуждена расстаться. Я с горечью думал об Анни, окончательно ли она исчезла из моей жизни. Несколько дней спустя я получил пакет от мадемуазель Ларруи: различные фрукты, печенья, зубную пасту, носки и носовые платки. Все это было упаковано в бумагу с рекламой напитка к завтраку. Рисунок был выполнен в светлых тонах. Бумагу как произведение искусства я повесил в своей камере. Когда я на нее нагляделся вдоволь, я снял ее, разорвал на небольшие куски и использовал пустую обратную сторону для рисунков.
К концу весны пришла новость: Фрайермауеры перед очередной большой облавой вынуждены были покинуть Котре. На этот раз разыскивали всех евреев, вне зависимости от вида их документов. Анни была теперь в Ницце и жила там под именем Мари Бенедетто. Она пряталась в монастыре. В Трире монахи скрывали меня у себя. В Ницце Анни пряталась у монахинь. Я узнал, что родители Анни вместе с Нетти живут в Межеве под именем Лабатю.
За это время положение евреев по всей Европе драматически ухудшилось. В Польше плохо вооруженные голодные евреи в течение нескольких недель сражались с войсками СС, поддерживаемыми тысячами танков, пока в конце концов не потерпели поражение. Варшавское гетто превратилось в кладбище. В Германии Геббельс похвалялся, что Берлин теперь «свободен от евреев». Во Франции в 1943 году из Дранси в Аушвиц было отправлено семнадцать составов, семнадцать тысяч евреев были переданы немцам правительством Петена.
Четырнадцатого июля, в день освобождения Бастилии, празднование великой истории свободы во Франции обошлось без исполнения Марсельезы. Мы получили на ужин по маленькой порции мяса. Это был единственный знак, что этот день чем-то отличается от других.
Либетрау был уже на свободе, но один из заключенных упомянул, что он охотно разгадывает кроссворды. Мы стали составлять их сами, а потом обменивались ими в попытке стимулировать наши мозги и сократить бесконечные часы безделья.
В конце лета у меня на теле появились нарывы, болезненные фурункулы под подбородком, на руках, на спине, под коленями и в паху. Я не мог спать. Я пытался смачивать эти места теплым чаем, который получал каждое утро, но нарывы оставались, и боли становились хуже. После одной тяжелой ночи на дежурстве был Лебон. Когда я рассказал ему о нарывах, он посмотрел на меня холодно и сказал: «Пойдем в лазарет».
Диагноз был фурункулез. Мне дали мазь, потом еще одну, когда первая не подействовала. Кожа у меня была настолько болезненна, что я не мог по ночам укрываться одеялом. Фурункулы начали плохо пахнуть.
Однажды я получил письмо от Манфреда. Потом пришло одно от Милли Кахен и одно от Анни с вложенной фотографией. Она скоро присоединится к семье в Межеве. Каждое письмо я ощущал как спасательный круг, брошенный мне из далекого и исчезающего мира.
В первый день августа я соорудил особый календарь, расчертив сетку, чтобы отмечать последние недели моего тюремного пребывания. Есть ли на белом свете место, куда я могу пойти? Если в тюрьме мне безопаснее, чем снаружи, нужно ли мне здесь остаться? Нет, я сойду с ума. Я становился все более нервным от волнения.
Рано утром девятого сентября Палисс отвел меня в комнату охраны. Там были два жандарма. Вручив мне мою гражданскую одежду и мои немногочисленные вещи, жандармы отвели меня в наручниках в другую камеру в одном из близлежащих полицейских постов. Моя новая свобода, думал я. Я был слишком испуган, чтобы спрашивать, куда они меня отправят.
На следующее утро жандармы отвели меня к поезду и мы втроем поехали к моему новому месту назначения. Это вовсе не была свобода. Это был лагерь для выполнения тяжелых работ.
13 СЕТФОН, ТУЛУЗА (сентябрь — декабрь 1943)
Наш поезд остановился на станции в деревне Сетфоне. Здесь не было ничего, кроме крошечного здания вокзала, двух скамеек для ожидающих пассажиров и окна билетной кассы. Но никто не продавал и не покупал билеты, не было ни приехавших, ни отъезжающих. Это выглядело как последний пост на краю земли.
Дорога, покрытая щебенкой, вела к металлическим воротам лагеря в Сетфоне; позади ворот на ровной пустынной местности располагалось двадцать бараков, окруженных колючей проволокой. У меня возникло ощущение, что я уже был здесь раньше. Дранси тоже был огорожен колючей проволокой, как до этого Ривзальт, а еще раньше Сен-Сиприен. Может быть, мне удастся сбежать отсюда, как удавалось из других лагерей.
Жандармы отвели меня к досматривающему офицеру на контрольно-пропускном пункте. Тот просмотрел папку, содержащую историю моих задержаний, моих удавшихся и неудавшихся попыток к бегству. Он не выглядел довольным.
— Побег из поезда, — перечислял он вслух, как бы желая мне напомнить. — Пересечение Луары… побег от блюстителя закона… арест… побег после судебного приговора… тюрьма…
Подняв глаза, он произнес:
— Из ряда вон выходящее досье, молодой человек.
С его стороны это не было комплиментом.
Искры юношеской гордости пронзили меня, но я спрятал все под маской покорного смирения. Покажи им, Лео, какой ты теперь покладистый. Не настраивай их против себя. Покажи им, что ты простой парень, забитый до полного подчинения, чтобы больше никто в изоляции одиночной камеры не пинал тебя сапогами по гениталиям.
Рассеянно перебирая мои бумаги, офицер пояснил, что это трудовой лагерь и меня будут загружать работой. Работа эта бессмысленна, цель ее одна, чтобы я был занят. И я должен придерживаться правил. Одно из них — «Больше никаких побегов». Я серьезно кивнул, но без подобающей уверенности. Затем меня отвели в барак, где десятка два кроватей выстроились в ряды вдоль двух стен. Два больших окна выходили на территорию лагеря. Похоже, здесь вряд ли предоставится случай к побегу.
Следующие дни показали, что мы достаточно свободно могли передвигаться по лагерю, несмотря на напряженную работу, занимавшую большую часть дня. Меня прикрепили к группе из шести человек, чьим заданием было дробить большие куски скальной породы на маленькие камни. Мы, собравшись вдоль дороги, выслушали угрюмого охранника, пояснившего нам «тонкости» этой деятельности: берете молот. Бьете по скале, пока не отколется кусок. Этот кусок разбиваете на более мелкие фрагменты, те — на еще более мелкие, те — еще мельче. Не все заключенные получали такую работу. Некоторые имели другую, но тоже скучную и утомительную: они тащили тачки с большими кусками скальной породы к месту нашей работы, а от нас вывозили размельченные камни. Однажды меня включили в команду с тачками.
— У меня паховая грыжа, — объяснил я.
Лагерный доктор сразу подтвердил это, и меня отослали продолжать дробить камни; работа, добавившая мне к болям от грыжи еще и боли в спине. Миллионы ехали на товарных поездах навстречу смерти, мои же заботы ограничивались грыжей.
Жизнь в Сетфоне была намного приятнее, чем в предыдущих лагерях или в тюрьме. Здесь был свежий воздух, а не только четыре стены. Охранники были общительны и так внимательны, что приносили нам воду в знойные часы дня. Как и мы, они были тоже лишены свободы, несчастны и умирали от скуки на этом уединенном посту, и, казалось, некоторые из них отождествляли себя с нами. Разговоры велись расслабленные и иногда звучали как непринужденная беседа старых знакомых о событиях дня.
Один из наших надзирателей казался разговорчивее других. Его фамилия была Кауфман. Однажды утром, когда мы дробили молотами крупные обломки породы, он медленно прошел мимо и пробормотал: «Италия. Вышла из войны». Я поднял глаза, пытаясь понять, что означают его слова. «Им никогда нельзя было доверять», — сказал Кауфман, все еще отождествляя себя с немцами. Он был из Эльзаса.
Так получали мы неясные вести о войне, которые без конца обсуждали, черпая в них надежду или безысходность, в зависимости от их содержания или нашего настроения в тот момент, пока новые обрывки информации извне не переводили нас на новые круги света или тьмы.
Вечерами я писал короткие письма Манфреду, Милли, Спирам, друзьям тети Эрны Жаку и Жении Эстрайх, живущим в Бланьяке. К сожалению, я не имел представления, где сейчас Фрайермауеры. Я писал много писем, однако ответов не получал. Возможно, все забыли меня или судьба их складывается сейчас намного хуже, чем моя. В состоянии изоляции, охваченный чувством покинутости, я ощутил потребность вырваться из-за колючей проволоки, окружающей меня.
Однажды в ту осень воскресным утром пришел посетитель: Манфред, немного более полный, чем я его помнил, и поздоровевший. На лице его блуждала все та же глуповатая улыбка, что была даже при прыжке с товарного поезда в темноту. Теперь он пришел из темноты и нашел меня снова в заключении. Я поздоровался с ним через колючую проволоку, разделяющую нас. Манфред сказал, что они с братом переехали, и дал мне свой новый адрес. Теперь военные события стали лучше, сказал он. Потом добавил, что мог бы организовать мне документы.
— Если бы ты был на свободе, — тихо сказал он и оглянулся.
— Я уже думал об этом, — ответил я.
Через несколько минут Манфред ушел, а я вернулся на кухню, где дежурил вместе с Вернером, немецким евреем, убежавшим во Францию с женой и двумя детьми. Он был арестован полицией правительства Виши и отправлен сюда. Его семья пряталась в убежище где-то поблизости. Он был постоянно очень встревожен, что они могут потерять друг друга из виду.
— Они уедут отсюда, — говорил он, — или нас увезут. Одно из двух.
— Нас? — спросил я.
— Сетфон не навечно, — ответил он. — Это только транзитный пункт.
А я-то полагал, что это последняя станция перед освобождением. Вернер упомянул Дранси. Я рассказал ему, что уже был в Дранси и бежал из поезда. Вернер был ошеломлен.
— Я попытаюсь убежать прежде, чем нас отправят в Дранси, — сказал я.
Вернер, бесконечно мучающийся по поводу своей семьи, не мог позволить себе таких мыслей. Я сказал, что уже более полутора лет ничего не слышал о своей семье.
— Это наша история, — сказал он. — Всё в руках Бога.
Он был задумчивый и религиозный человек, и хотя я его чувства уважал, разделить их не мог. Все было в руках Божьих, но, казалось, Бог умыл руки в отношении евреев, в отношении других невиновных, в отношении всего человечества. Я разбивал камни в унылом трудовом лагере, наказанный за преступление — попытку остаться в живых. Моя мать и сестры были живы или мертвы не благодаря Богу. Вернер был смертельно обеспокоен судьбой своих родных и готов был вручить ее в руки божьи, но у меня не было таких намерений.
В середине октября воскресным утром к нам в барак пришел Кауфман со списком из четырнадцати фамилий. Среди них было имя Вернера и мое. На следующее утро нас должны были в составе рабочей команды перевезти на берег Атлантического океана. Я понял, что речь идет о тяжелых строительных фортификационных работах на берегу. Было очевидно, с моей грыжей мне этого не выдержать. Я буду признан «бесполезным» и отправлен в Дранси.
— При малейшей же возможности я попытаюсь бежать, — сказал я Вернеру, веря, что это останется между нами.
— Ты чрезмерно тревожишься, — ответил он. — Не делай глупостей.
— Вернер, я был в Дранси, — сказал я. — Я боюсь этого.
Я не мог второй раз испытывать судьбу в Дранси. Это был кошмар, который все еще обрушивался на меня в темноте: плачущие дети, блуждающие вокруг; семьи, медленно умирающие в присутствии своих родных; люди, преждевременно превратившиеся в призраков. В Дранси болезнь закрадывалась в душу и никогда больше не покидала ее.
В понедельник утром, когда мы собрались возле барака, четверо охранников с оружием за плечами отвели нас к открытому грузовику. Оставляя позади себя клубы пыли, мы ехали к маленькому вокзалу в Сетфоне по той же самой покрытой щебенкой дороге, по которой неделю назад меня доставили в лагерь. У охранников не было с собой запаса боезаряда. Я спрашивал себя, заряжено ли их оружие? Кауфман близко склонился к моему лицу.
— Сегодня я охраняю тебя, — сказал он. Он знал мою историю. — Забудь о побеге.
— Месье Кауфман, — ответил я, — я убегал, чтобы сохранить себе жизнь. Разве это преступление — хотеть жить?
— Нет, нет, конечно, нет.
— Убегу я или нет, зависит только от меня, — сказал я с легким налетом хвастовства. Кауфман не ответил ничего.
Наша поездка от вокзала в Сетфоне до Тулузы заняла меньше часа. Я был здесь после побега из лагеря Сен-Сиприен, когда, приподняв стальную проволоку, пролез под ней и помчался к Анни. Я был здесь еще раз после моего не оправдавшего надежд путешествия в Марсель, когда из-за бомбардировок в Пёрл-Харборе я за несколько часов потерял все шансы попасть в Америку.
Когда мы стояли на железнодорожной платформе — четырнадцать человек, тесно прижатых друг к другу, охранники сняли оружие с плеч. Кауфман, думал я, вы застрелите меня? Они держали оружие наготове. Кауфман, вы приносили мне воду, когда я дробил камни под палящим солнцем, принесете ли вы мне теперь страдание? Пассажиры, проходя мимо, глазели на нас настороженно, но без страха. Кого еще во Франции Виши беспокоило несколько дополнительных смертей? Кауфман, думал я, не стреляйте, я еще не убегаю.
Нас посадили в старый европейский поезд, некоторые двери которого открывались в коридор, разделяя его на отдельные купе. В каждом было окно. Окна сулили многое. В каждое купе поместили двух заключенных. Свое я делил с Вернером. Для меня это выглядело, как будто мне дали билет на свободу. Когда за нами заперли двери, четверо охранников встали снаружи вагона, наблюдая, чтобы никто из нас не выскочил со стороны железнодорожной платформы. Глядя в окно, мы с Вернером видели Кауфмана, непринужденно болтающего с другими охранниками.
— Вернер, посмотри-ка сюда, — сказал я, указав на окно позади нас. — Это просто. Ты можешь пойти со мной.
— Нет! — сказал он непреклонно.
— Ты ведь не знаешь, куда тебя этот поезд везет.
— Нет, — повторил он.
Он оцепенел от страха, и я знал, что я должен бежать, пока его страх не передался мне.
— Тогда сделай для меня одну вещь, — попросил я. На дебаты времени не было. — Останься у окна. Посторожи! Если кто-нибудь из охранников начнет подниматься в вагон, крикни мне: «Стой!»
Такой возглас избавил бы Вернера от соучастия. Для меня это был бы крик из преисподней, предупреждение бежать быстрее. Вернер был слишком напуган, чтобы ответить. Я повернулся к другой стороне вагона. Я знал этот момент. Сам создавал его. Я вспомнил Манфреда, и мне захотелось, чтобы он мог видеть меня сейчас. Открыв окно, я увидел поезд, стоящий на параллельных путях. Манфред бы решил, что после Дранси — это детская забава. Я полез через открытое окно. Поезд на Аушвиц шел в темноте. Здесь же я мог видеть все как на ладони. Трюк был — не позволить увидеть себя.
Я вывалился из поезда на землю. Мой берет слетел вниз, я поднял его и натянул на свою бритую голову. Я бежал между двух стоящих поездов, чувствуя постоянную ноющую боль в паховой области. От сотрясения при падении моя грыжа снова дала знать о себе. Я бросился на землю и пополз под вторым рядом поездов. Сердце колотилось, пот струился по лицу, грязь налипла на одежду.
Платформа заканчивалась лестницей. Я не слышал свистков позади себя, окриков остановиться. Лестница вела в подземный переход. Избегай главного входа, Лео, избегай пассажиров и проводников и найди все-таки врача, который осмотрит твою грыжу, пронзающую тебя болью. А пока старайся не встречаться взглядом с идущими мимо.
Я увидел вывеску со словом «Багаж» и вошел в складское помещение. Служащий в униформе стоял позади большого стола. Любой униформы необходимо было избегать. Служащий вручал картонную коробку пассажиру. Я прикинулся, что ищу багажную квитанцию в кармане. Служащий не обращал на меня внимания. Я прошел через комнату к двери — сердце готово было выпрыгнуть, — открыл ее и увидел перед собой центр Тулузы.
Свернув на маленькую улочку, я нырнул в дверной проем, чтобы перевести дыхание. Сейчас Кауфман, несомненно, подсчитывает присутствующих. Начнется розыск. Прошло около десяти минут, как я вылез через открытое окно. Я подавил импульс бежать сломя голову по улице. Не привлекай внимания, Лео. Иди энергично, занятый своими личными делами. Мне хотелось скрыться от всего мира. Мне хотелось затеряться в огромной толпе или в безбрежной пустыне. Я хотел найти дорогу из города. В миг просветления я вдруг вспомнил, что рядом находится Бланьяк, где живут друзья тети Эрны Жак и Жениа Эстрайх. Я зашел в бистро и спросил бармена, где я могу найти автобус на Бланьяк. Перед вокзалом, ответил он. Сердце у меня упало.
— Это единственная остановка?
— Рядом с рынком есть еще одна, — сказал он, — недалеко от улицы Каналь.
«Рынок», — повторил я про себя и быстро вышел. Прошлый раз, когда я зашел в бистро, бармен подошел к телефону и, пользуясь моей усталостью, выдал меня.
Около получаса ехал автобус от улицы Каналь до Бланьяка, маленького города у северной границы Тулузы. Было жарко, я истекал потом, а грыжа беспокоила меня все сильнее. Я нашел дом Эстрайхов на улице Феликс де Бакс в нескольких минутах от автобусной остановки. Жак открыл дверь. Увидев меня, он побледнел.
— Полчаса назад здесь были жандармы, — сказал он, затаскивая меня в квартиру.
Я должен был бы догадаться. Несколько раз я писал Жаку из тюрьмы, и они, должно быть, переписали его адрес и сохранили его.
— Подожди-ка, — сказал я, — ты писал мне в Сетфон?
— Да, два раза.
— Я ни разу не получал там почты. Ни от кого. Они наверняка сохранили все адреса.
Мы оба почувствовали себя в опасности. Жак был портной — стройный, лысеющий, с очками в темной оправе. Рукава его рубашки были засучены, и я увидел кусок одежды, разложенный на швейной машине в кухне.
— Я как раз перешивал кое-что для жандармов, когда они пришли, — сказал он, указывая на свою работу.
— Прости?
— Они мои приятели, — пояснил он. — Пришли рассказать мне о твоем побеге.
Вся полиция в регионе была оповещена. Они уже закинули сеть для поимки меня. Оставаться здесь слишком рискованно, сказал Жак. Жениа пошла за покупками и скоро будет дома. Их дочь отсутствовала, она оставалась в католической школе для девочек — надежном месте до конца войны. Моя мама тоже хотела надежного места для меня. Теперь я скрывался у людей, подвергавших себя опасности из-за меня.
Я был изможден. Жандармы вернутся, и повезут меня назад в тюрьму, и будут бить меня смертным боем за то, что я снова скомпрометировал их коллег.
— Немного отдохни, — сказал Жак.
Он отвел меня наверх, на чердак.
— Без сигнала от меня, — добавил он, — вниз не спускайся.
Я быстро уснул и был разбужен через несколько часов.
— Пока ты спал, тут был второй визит, — сказал Жак. — Приходил еще один жандарм. «Если он появится здесь, — предупредил он, — вы должны отвести его в полицейский участок, или рискуете потерять свой статус зарегистрированного еврея». И ушел.
Жак отвел меня вниз и сказал, что мне нельзя оставаться у них. Жениа вернулась домой и готовила горячий ужин. Они рассказали мне о друзьях, приехавших сюда из Парижа, месье и мадам Маркс, у которых я мог бы найти убежище на короткое время. Мне стало легче, но одновременно я почувствовал себя виноватым, что еще больше людей подвергаю опасности. Марксы жили рядом, минутах в пяти, и у них была маленькая комната для гостей.
Мыс Жаком быстро пошли по темным пустынным улицам, два человека, боящихся собственной тени. Он шел широким шагом, озабоченный тем, что в любую минуту отовсюду могут вынырнуть жандармы. Когда мы пришли к Марксам, они встретили меня так, как будто мы были знакомы уже несколько лет. Обоим больше шестидесяти, оба маленького роста, седые и в очках. Оба в домашних тапочках. Здесь царила атмосфера уюта.
Они показали мне спальню с окном, выходящим в сад, — окно без решетки и сад без колючей проволоки! И это в квартире незнакомых людей, рискующих собой ради меня.
Вспомнив, что Манфред говорил о фальшивых документах, я тут же написал ему. Я чувствовал, что обосновался здесь как король: у меня была своя собственная кровать и горячая вода в ванне. Уже давно не наслаждался я такой чистотой. Мадам Маркс дала мне кусок старого полотенца, который я засунул в носок, смастерив себе бандаж, поддерживающий мою грыжу. Вечером мы слушали радио «Свободная Франция», позывными которого были первые такты Пятой симфонии Бетховена. Три короткие ноты и одна длинная: буква V морзянкой. V означала Victoire (Победа).
Я думал о тринадцати, оставшихся в поезде в Тулузе, — что с ними произошло после моего побега. Ищут ли еще меня жандармы? Будут ли они тратить свое время на кого-то столь ничтожного, как я, здесь, где евреи изначально признаны виновными по причине своего происхождения?
Как-то ноябрьским днем пришло письмо от Манфреда со свидетельством о рождении — для меня!
Свидетельство о рождении было единственным необходимым документом для получения французского удостоверения личности.
Вместе с этим свидетельством Манфред прислал инструкции для встречи с человеком в Сен-Валье, который помог мне «стать» французом и подарил свою форму члена Compagnons de France[11]. Через четыре дня я получил новые документы, и моя «новая личность» была подтверждена. Теперь я не был больше Лео Бретхольц. На время войны я стал Максом Анри Лефэвром, родившимся 28 октября 1925 года в Сен-Жуен-сюр-Мер, родители Мария Антуанетта Дебунлле и Марсель Огюст. Вместе с удостоверением я получил карточки на еду и одежду. Я написал Манфреду, чтобы поблагодарить его, и никогда больше о нем не слышал. Тетя Эрна, которой я написал, ответила, что я должен вернуться в Париж, и напомнила, что мне не нужно было уезжать оттуда. Я поблагодарил Марксов и в очередной раз двинулся в путь.
В Париж я прибыл за день до Рождества 1943 года. В городе было спокойно. Париж приспособился к присутствию немецких солдат. Я шел по улицам, ощущая тревогу, — мне не хотелось подвергать проверке мои новые документы. Волосы у меня снова отросли, и я не носил на куртке еврейскую звезду. За прошедшие две недели были отправлены два состава с заключенными из близлежащего Дранси в Аушвиц.
— Перенести такие тяготы! — воскликнула тетя Эрна, увидев меня.
Это было проявлением не сочувствия, а раздражения: скольких проблем можно было бы избежать, кричала она, драматически жестикулируя. Почему я не послушал ее и не остался в Париже?
— Если в Париже так безопасно, — сказал я, — почему ты отправила отсюда Поля?
— Он же еще мальчик! — крикнула она.
Но было еще кое-что страшное. Тетя Эрна получила известие о своем брате, моем дяде. Дядю Леона Фишмана, чья дочь Соня была направлена в Биркенау и Аушвиц, забрали в лагерь для интернированных в Гюрсе. Гюрс был ужасным местом у подножия Пиреней. Деревянные лачуги, протекающие и холодные, были переполнены истощенными от недоедания заключенными. У дяди Леона произошел эмоциональный надлом, и он был отправлен в психиатрическую клинику Сен-Люк в городе По. Из клиники пришло письмо. В нем было написано, что дядя Леон страдает психическим расстройством с манией преследования и не осознает окружающий мир.
Я помнил его в лучшие времена, человека с высоким интеллектом, говорившего на нескольких языках, успешного бизнесмена в Вене, сердечно относившегося к моей маме, когда она овдовела. Он был ее младший брат. Его дочь Соня пыталась выстоять, находясь пятнадцать месяцев за колючей проволокой.
Когда я окидывал взором сломанные жизни моей семьи, я понимал, что бежал только на шаг впереди своих палачей. Со все возрастающим чувством отчужденности я шел по улицам. Я видел евреев с желтыми звездами с надписью «Juif», но сам был без звезды. Они были париями, я — просто обманщиком, человеком, временно прикидывающимся кем-то другим, кем-то, кто верит в другого Бога. Впрочем, все изображали что-то. Немцы изображали, что убийство евреев просто по причине их происхождения — законно. Человечество изображало, что душевно здорово, тогда как все вокруг доказывало обратное. А о евреях, таких, как Леон, говорили, что они страдают «манией преследования». Какая же это мания?
В январе 1944 года в Париже четыре дня подряд были воздушные налеты: самолеты стран антигитлеровской коалиции — один день, немецкие — на следующий. Однажды мы наблюдали даже воздушный бой. Оглянувшись вокруг, я заметил, что лишь несколько человек пошли в убежище. Остальные смотрели в небо, кое-кто размахивал руками, возможно полагая, что его увидят сверху. Некоторые стояли на балконах, махали руками и кричали, выражая свою радость при виде самолетов союзников. Это выглядело как какой-то большой национальный праздник, на котором воздушный бой разыгрывался как вид смертоносного зрелищного спорта.
Однажды я получил письмо от Анни. Она покинула Ниццу, чтобы присоединиться к семье в Межеве, находящемся в то время под контролем итальянцев и поэтому относительно безопасном для евреев. Но потом в него пришли немцы, и Анни с семьей бежали в деревню Шалю, вблизи Лиможа в Центральной Франции. Она, как и я, все еще была в бегах. Однажды она меня спасла. Сейчас она сама была в опасности, а меня не было рядом.
— Тетя Эрна, — сказал я как-то, — я опять уезжаю.
Я был ей очень благодарен за убежище, но мое сердце было с Анни и ее семьей, той семьей, что заменила мне мою собственную. Возможно, думал я, мы сможем вместе дождаться окончания войны.
Второго марта, оставив Париж, я отправился в Шалю, с одной остановкой по пути: в По, курортном городе на юго-западе Франции, проведать дядю Леона в психиатрической клинике. В поезде я сидел рядом с двумя немецкими солдатами. Я притворился спящим и прислушался к их разговору. Они сказали, что голодны, вытащили банки сардин из рюкзаков, но консервного ножа не было. Тогда один из них взял свой штык, чтобы открыть банку.
— Этот француз, — сказал солдат, указывая на меня и полагая, что я их не понимаю, — должно быть, удивляется: «И это победоносные немцы?»
Этот жест самоуничижения навел меня на мысль, что, возможно, война теперь действительно развернулась в пользу антигитлеровской коалиции. Однако, увидев дядю Леона, я понял, что ущерб, причиненный войной, непоправим.
Я представился в клинике как Анри Лефэвр, друг дяди Леона, надеясь, что он не станет демонстрировать наши родственные отношения. Мы не виделись шесть лет. Я ожидал в маленькой комнате и вспоминал его, одетого с иголочки, одного из чрезвычайно утонченных людей в Гомбурге, говорящего на рафинированном немецком с мягким произношением. Тот, кого я увидел входящим в комнату, был совсем другим. Он таращился не мигая. Его лицо было серое, небритое, с отросшей бородой. Я едва сдерживал слезы. Сиделка не говорила ничего. Дядя Леон выглядел заброшенным и неспособным к связной речи. Я подумал, не уйти ли мне, и посмотрел вопросительно на сиделку. Она пожала плечами. Тут дядя Леон повернулся к ней и сказал на чистейшем французском:
— Это мой племянник.
Я не знал, как мне из этого выпутаться. Позовет ли сиделка кого-нибудь на помощь, чтобы меня арестовали за то, что я выдавал себя за нееврея? Я посмотрел на нее, и она подмигнула мне. В ответ я заговорщически улыбнулся. Мы дали понять друг другу, что он точно сумасшедший и сказанное — проявление его безумия. На самом деле это были едва ли не единственные здравые слова дяди Леона, произнесенные им за час моего посещения. Сиделка оставила нас одних, и я рассказал дяде, что видел тетю Эрну. Казалось, он не понимал меня. Твоя сестра, пояснил я. Он никак не отреагировал. Я осторожно подыскивал другую тему для разговора. Вдруг дядя Леон начал возбужденно выкрикивать куски предложений.
— Семья, — гремел он. — Эрна. Твоя мать, которую я любил. Марта, гуманистка. Моя собственная дочь Соня. Не рассказывай мне о семье.
— Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— Все они против меня, — кричал он хрипло, лицо его все больше краснело. — Они обвиняют меня в войне. Война давно закончилась, а они не говорят мне.
— Дядя, — ответил я мягко, — война еще идет.
Я сказал ему, что немцы проиграют войну и все будет хорошо. Тогда он вернется домой, как и все мы, сказал я как можно спокойнее. Я рассказал ему, что моя мама и сестры пропали без вести, так же как и его дочь Соня. Добавил, что его племянница Марта в Англии, а Эрна в Париже и что в один прекрасный день мы опять соберемся все вместе.
— Никто не против тебя, — сказал я. — Все тебя любят и желают поскорее выздороветь.
Услышав имя Соня, дядя Леон тихо заплакал. Потом, уткнувшись лицом в ладони, он заплакал сильнее, содрогаясь от рыданий. Какая-то часть его сознания знала, что его дочь находится за колючей проволокой, что все мы стараемся не сойти с ума и что даже после конца войны грандиозного воссоединения семьи не состоится.
Я гладил его по плечам, пытаясь успокоить. Зашла сиделка и сказала, что время посещения закончилось. Мы молча обнялись на прощание — Леон Фишман и Анри Лефэвр, каждый по-своему потерявший свою идентичность на своем собственном пути через эту бесконечную войну. Покидая клинику, я удивлялся, почему больницы не переполнены мужчинами и женщинами, евреями и неевреями, сошедшими с ума под беспощадным прессом войны.
Несколько недель спустя тетя Эрна получила письмо из клиники о том, что дядю Леона оттуда вывезли.
«Пришли два офицера гестапо, чтобы забрать его и отвезти в Тулузу, — сообщалось в письме. — Мы не знаем ничего о его дальнейшей судьбе. Несмотря на то, что мы сообщили офицерам о психическом состоянии господина Фишмана, они тем не менее забрали его с собой, на машине…»
Печальная насмешка судьбы: я последним из нашей семьи видел дядю Леона; его дочь Соня — последняя, кто видел мою маму в Вене перед ее депортацией.
14 ЛИМОЖ (январь — июнь 1944)
В лице дяди Леона я увидел печальное подтверждение безвозвратного распада моей семьи. В утешение по пути в Шалю я рисовал себе встречу с Анни и ее родными. Я смогу взять Анни за руки. Там же увижу ее отца — он обнимет меня так, как никто не обнимал меня с детства. Ее мать тоже там. Я нуждался в матери. Пять лет назад началось мое бегство, и сейчас я выдохся. Когда я смотрел на себя в зеркало, я видел отражение дяди Леона в состоянии разрушения. А мне было только двадцать два года.
Когда поезд скользил по провинции Лимузен с ее предгорьями, холмистыми полями и густыми лесами, я думал о Фрайермауерах. Восемнадцать месяцев прошло с момента, как мы виделись последний раз. У нас были новые имена и новые адреса. Я был Анри Лефэвром, Фрайермауеры были теперь Лабатю. Наша встреча представлялась мне счастливой, но оказалось, мы отдалились дальше, чем наши имена.
— Почему ты не искал меня в Ницце? — спросила Анни вскоре после моего приезда.
Ее тон показался мне слишком жестким. В то время, когда она была в Ницце, я или прятался, или был в тюрьме. Находясь в Ницце, она жила в монастыре под именем Мари Бенедетто. Визит в Ниццу был сродни катастрофе. Власти задерживали пассажиров на железнодорожном вокзале и приказывали спустить штаны. Ходили слухи, что обрезанных расстреливали на месте. Я попытался ослабить напряжение момента.
— Какая разница? — сказал я. — Теперь мы вместе.
Но атмосфера нервозности нависла над нашей встречей, пришло осознание, что прошло много времени и многих в нашем маленьком сообществе, скрывавшемся вместе в Котре, теперь недостает. Некоторые были депортированы в лагеря: кузены Анни Вилли и Йозеф, братья Йозефа Фрайермауера Ицик и Хиллел, Альберт Гершкович и брат Рашель Якоб. Сестра Рашель Ривка теперь пряталась под вымышленным именем в Викен-Бигоре, а ее муж Итцек, который скрывался на ферме, был обнаружен и отправлен в Дранси. Траурная пелена окутывала нашу встречу.
В Котре Йозеф Фрайермауер был уверенным в себе человеком и источником неизменной стойкости для нас. Мы все черпали у него силы. Теперь вместе с новым именем Лабатю он, казалось, приобрел и новый характер, утратив свою былую жизненную силу. Мне хотелось вновь войти в эту семью, но изменения ощущались во всем. Война растерзала каждого из нас. Возможно, я уже слишком обременял Фрайермауеров. А может быть, я сам нуждался в некоторой дистанции. Мне хотелось сделать что-нибудь для окончания войны, а не только для своего собственного спасения. В Шалю была, правда, местная организация движения Сопротивления, но более крупная находилась в Лиможе.
— Я собираюсь в Лимож, — сказал я Анни.
Я рассказал ей, что хочу вступить в Сопротивление, но не упомянул о том, что мне надоела ее раздражительность и я к ней охладел. К тому же я не хотел быть связанным ни с Анни, ни с кем-нибудь еще. В Дранси каждый, кто имел близких, оплачивал верность к ним ценой жизни. И в Сетфоне Вернер отказался прыгнуть со мной из поезда — решение, возможно стоившее ему жизни.
В апреле я попрощался с Фрайермауерами и отправился в Лимож, имея имя для контакта: раввин Абрахам Дойч. Рабби Дойч бежал из Страсбурга после немецкого вторжения. Ему было около тридцати пяти — высокий, худой, с небольшой бородой клинышком. Когда я пришел к нему в квартиру на третьем этаже дома, где квартиры сдавались внаем, я увидел там несколько молодых людей, едва распрощавшихся с юностью. Квартира гудела от живых дискуссий, люди приходили и уходили, все выглядело очень по-деловому. Итак, это была часть Сопротивления.
Мы с рабби Дойчем проговорили несколько часов. Я рассказывал ему о своем бегстве и к концу почувствовал, что почти задыхаюсь. Он медленно кивал головой, как бы пытаясь меня успокоить.
— Анри, — сказал он, — твое бегство уже позади.
— Раз вы так говорите, — обессиленно сказал я, — значит, это правда.
Рабби написал на клочке бумаги имя: мадам Маргерита Бержо, владелица дома 13 по улице Рошшуар.
Мадам Бержо сдавала комнаты и являла собой фигуру матери-защитницы; теперь такие люди известны как праведники мира. Вдова в свои пятьдесят, седоволосая, она была полна сострадания и каждый день заботилась о своих подопечных. Брак ее был коротким. Ее молодой муж погиб в последней войне, сражаясь под французскими флагами. Больше она не выходила замуж. Любовь, затаенную в сердце, она щедро расточала на тех, кто теперь пытался пережить эту войну в ее доме. Она встретила меня с распростертыми объятиями и поселила в комнате вместе с двадцатилетним парнем, конопатым, с рыжими вьющимися волосами, по имени Бастине.
— Раньше Басс, — засмеялся он. — Эжен Басс.
Он доверял мне, так как работал у рабби Дойча, пославшего меня сюда. Я оценил его откровенность, и мы быстро стали друзьями. Бастине был из Саарлуиса в Сааре, немецкой федеральной земле, что граничит с Францией. Его овдовевшая мать находилась в убежище в маленьком городке Сен-Жюньен на западе от Лиможа.
— У тебя есть семья? — спросил он в первый вечер.
Я пожал плечами, я просто этого больше не знал.
Утром я снова встретился с рабби Дойчем и Бланш Александер, его кузиной и ближайшей сотрудницей, чтобы познакомиться с нашей работой в Сопротивлении. Иногда необходимо было доставить фальшивые удостоверения личности; иногда отнести какие-нибудь вещи по удаленным адресам; в другой раз доставлялась целая пачка документов в сиротский дом или какое-нибудь убежище, где ожидали дети. Глядя на них, я видел лица своих сестер. Я шептал короткие молитвы далекому, занятому, очевидно, другими делами Богу в надежде, что они достигнут чьих-нибудь ушей, пока еще есть время.
Бланш координировала основную часть нашей деятельности. Иногда она вызывала такси, и мы ехали вместе. Всегда один и тот же таксист в пежо. Беккер тоже водил пежо. Пежо, река Сауэр, жандармы в Люксембурге — все это казалось теперь частью ушедшей в далекое прошлое эры. Переплывал ли я действительно эту реку? Действительно ли я без конца убегал? У меня больше не было энергии для таких подвигов, и я надеялся, что в этом никогда не возникнет необходимость.
То там, то здесь можно было услышать термин La Sixi me — «Шестая». Он упоминался редко, иногда только шепотом, но «Шестая» — это были мы, осуществлявшие связь с органами управления, с жандармерией, с сочувствовавшими людьми, желавшими, как и мы, победы над фашистами. Мы доставляли фальшивые документы, изготовленные людьми, которых никогда не встречали, людям, чьи имена и предыдущие биографии мы изменяли до конца войны. Термин «Шестая» происходил от выражения «Пятая колонна», которым называли предателей, сотрудничающих с фашистами. Это выражение было написано на вагонах поезда, везущего нас из Бельгии, и послужило причиной большого презрения к нам.
Предатели были «Пятой», а мы — «Шестой». Мы пытались блокировать их деятельность фальшивыми документами или тем, что подкупали чиновников, покупали пломбы и печати, подбирали новые подходящие имена и биографии людям, имеющим иностранный акцент. Целая акция могла быть поставлена под угрозу, если кому-то с явно выраженным акцентом неверно подобрать фальсифицированное происхождение. Я понял теперь, что мое собственное фальшивое свидетельство о рождении, полученное от Манфреда Зильбервассера, по всей вероятности, было изготовлено «Шестой».
В спокойные дни я гулял по улицам Лиможа. Иногда на выходных я ездил на автобусе в Шалю повидаться с Лабатю. Время от времени приезжали ко мне Анни и Нетти. Однако моя любовь к Анни перешла в дружеские чувства. Я находил теперь удовлетворение в помощи Сопротивлению.
— Не убаюкивайте себя чувством ложной безопасности, — внушал нам рабби Дойч в дни, когда выпадало мало работы.
Главное региональное отделение гестапо располагалось в отеле возле Жардин де Шамп де Жюлье, недалеко от вокзала. Я много раз проходил мимо вместе с Бастине, когда мы встречали молодых людей, проезжавших через Лимож. Мы отвозили их в дом мадам Бержо, где они ночевали на чердаке: они спали в старом мягком кресле или стелили себе на полу.
По пятницам мы часто собирались вечером в доме рабби Дойча. Его жена готовила сладкие угощения, и мы пели песни на иврите. Последним всегда был Hatikvah, еврейский гимн надежды. Это связывало нас и напоминало о тех, чья надежда уже угасла. Часто я едва сдерживал слезы. Очень давно, всего за несколько часов до вступления Гитлера в Вену, я пел там эти песни с друзьями.
В пятницу 28 апреля 1944 года рабби послал меня на местную железнодорожную станцию. Из надежных источников мы узнали, что на восток будут перевозить заключенных. Одних забрали из тюрьмы, других из больницы, остальные были схвачены во время облав. Рабби Дойч хотел, чтобы я по лицам определил, нет ли среди заключенных членов «Шестой». Он надеялся, что в моей униформе члена Compagnons de France я не возбужу особого подозрения.
— Будь осторожен, — предостерег он.
Только месяц назад немцы казнили в Лиможе около тридцати человек, подозреваемых в партизанских действиях или в торговле на черном рынке. Многие другие были арестованы. Теперь предстояло узнать, эти ли люди будут перевезены поездами.
Добравшись до вокзала, я прошел через большие открытые металлические ворота на товарный двор и увидел лишь железнодорожного рабочего, складирующего грузы. И ничего больше. Товарный поезд ожидал на запасном пути. Я знал этот вокзал достаточно хорошо. На одном из верхних этажей был туалет с окнами, выходящими прямо на товарный двор. Через них я мог все наблюдать, оставаясь сам незамеченным. Прячась за рамой одного из окон, я дожидался знакомого зрелища: немцев в униформах, апатичных заключенных, ощущение еле сдерживаемой жестокости в воздухе.
Через короткое время подошли грузовики и зазвучали приказы. Заключенных вывели на товарный двор. Стоя в нескольких шагах от окна туалета, я сосчитал заключенных — их было около сорока. Офицер СС в черной форме был ответственным, а шесть немецких солдат с оружием наготове стояли в охране.
Перед глазами опять возникло промозглое утро в Дранси: маленький мальчик, разлученный со своими родителями, женщины с младенцами в картонных коробках, старики на носилках. Здесь в Лиможе мы уже слышали, что немцы близки к поражению, что у них недостаточно рабочей силы, не хватает транспортных средств, чтобы перевозить войска на фронт. Но для перевозки евреев в лагеря смерти поездов все еще хватало.
Я приблизился к окну и стал искать знакомые лица. Кованые железные ворота на товарный двор были все еще широко открыты. Я увидел провиант, предназначенный для заключенных, и вспомнил сыр и сардины, полученные нами на вокзале в Дранси. И ни капли питья. Снова я должен был со стороны бессильно наблюдать людей в критической ситуации. В памяти всплыло: мама, пытающаяся защитить моих сестер во время моего бегства; Анни на лестнице вместе с мокрым от пота жандармом и я, затаивший дыхание, на полу на чердаке; поезд, полный невиновных, на пути в Аушвиц, и мы с Манфредом, выпрыгнувшие из него в темноту и, полные ужаса, прячущиеся в траве.
Тут я увидел, что офицер СС указал на меня. Вдруг я оказался не «со стороны», не вне критической ситуации, а в центре ее.
— Там, наверху, — крикнул офицер и указал на мое лицо в окне туалета.
Времени убежать не было — два солдата быстро поднимались по лестнице. Я подошел к ближайшему писсуару и сказал себе, я должен вести себя так, как будто у меня нет причин прятаться. Что может быть нормальнее, чем человек, отправляющий естественные потребности в туалете? Когда солдаты вошли в туалет, я, непринужденно как мог, писал.
Они встали по обе стороны от меня.
— Заканчивайте и пойдем с нами, — сказал один. Я почувствовал, как меня крепко схватили за плечо.
— Я делаю только то, что тут делают, — ответил я, указывая на писсуар и надеясь, что меня не будут осматривать.
— Это вы расскажете внизу.
Они повели меня вниз, один впереди, другой сзади. Я быстро нарисовал себе картину побега через ворота терминала не только от солдат, но и от их пуль и от судьбы, что ожидает заключенных, как раз сейчас поднимающихся в товарный поезд.
Внезапно я побежал. Я слышал их окрики за спиной, но продолжал бежать к кованым железным воротам товарного двора. Но там меня ожидал страшный сюрприз, чуть не стоивший мне жизни: кто-то закрыл ворота и запер их.
Я карабкался, цепляясь за вертикальные прутья. Солдаты орали. Я слышал их позади себя. Через мгновение они со своим оружием были прямо подо мной.
— Вниз! — крикнул один из них. — Немедленно! Или стреляем!
Я свалился на землю и почувствовал пронизывающую боль при ударе о твердый асфальт. Моя грыжа снова вспыхнула и запульсировала. Чувствовалось, что на этот раз повреждение было серьезным. Солдаты схватили меня под руки и потащили к своему командиру.
— Документы, — сказал он.
Я открыл бумажник и протянул ему мое французское удостоверение личности. Он бегло взглянул на него. Я подумал: «Он не понимает язык». Но потом мне пришло в голову, что язык тут не играет роли — он хочет убить меня просто за мою наглость, за то, что его солдаты потеряли контроль.
— Что вы делаете на этом вокзале? — спросил он на ломаном французском.
— Ожидаю приезда друга. Я поднялся наверх в туалет. Услышав шум во дворе, выглянул, чтобы увидеть, что случилось.
Он передал мои документы одному из своих солдат. Без этих документов я был «ничто». Без них для меня существовала опасность быть опять депортированным. Я подумал, на этот раз они убьют меня, но сначала накажут.
— Вы говорите, что просто выглянули, — сказал офицер, — а я уверен, что вы наблюдали за нами.
— Нет, месье, мне было просто любопытно.
Он был лет сорока, с золотой коронкой на переднем зубе.
— Почему же вы тогда бросились убегать?
— Я испугался, месье.
Тут я воспрянул духом. Он говорил со мной и давал мне возможность отвечать — это хороший знак. Он мог бы просто депортировать меня вместе с заключенными. Офицер шагал взад и вперед, и я чувствовал, как боль в такт пульсировала в моем паху.
— Вы лжете! — воскликнул офицер. — Кто вас послал сюда?
Он с трудом говорил по-французски, и мне показалось, что он из-за этого чувствует себя неловко. Он не мог адекватно общаться и начал раздражаться. Ситуация ухудшается, подумал я. Меня убьют, потому что у этого офицера проблемы с французским языком.
— Я могу говорить по-немецки, месье, — рискнул я.
— Ах так? — сказал он чуть более удовлетворенно. — Откуда вы знаете немецкий?
— Я родился в Сен-Жуин. Моя мать родом из Мюлуз в Эльзасе. Когда я был ребенком, мы несколько лет жили там и я учил немецкий в школе. Кое-что у меня осталось. Надеюсь, вы можете меня понимать?
— Вы говорите вполне хорошо, — ответил он.
Вдруг прорвалась другая интонация — интонация офицера СС.
— Du bist doch ein Jude! — «Да ты же еврей», — воскликнул он тоном, не терпящим возражений.
Мускулы моего лица расслабились; этим я пытался показать, что это «обвинение» — последнее, чего я мог ожидать.
— Этого мне только не хватало! — сказал я с презрением.
Он или рассмеется, подумал я, или сейчас, простым приказом спустить штаны, чтобы он сам смог убедиться, кто я, положит конец моей жизни. Но он не сделал ни того, ни другого. Он повернулся к солдату, держащему мои документы, и приказал вернуть их мне.
— Никогда больше не попадайся мне на глаза, — сказал он.
И совершенно неожиданно он дал мне две сильные пощечины, одну ладонью, другую — тыльной стороной кисти. Моя голова дернулась сначала в одну сторону, потом в другую. Я ушел с лицом в кровоподтеках и с болью в паху, но счастливый, что остался живым.
Этим вечером во время встречи Шаббата рабби Дойч произнес благодарственную молитву за спасение моей жизни и, будучи мудрым, добавил к ней благодарность офицеру СС.
— Возможно, он не хотел тебя задерживать, — сказал рабби. — Но он не мог терять свой авторитет перед подчиненными. Твое лицо пострадало, зато он сохранил свое лицо. Если и бывает хороший офицер СС, то тебе встретился именно он.
Этой ночью, поднимаясь по лестнице в свою комнату в доме мадам Бержо, я почувствовал, что боли в паховой области становятся все сильнее. Перед тем как идти спать, я приложил самодельный бандаж и подумал, как долго еще можно жить с нелеченной грыжей. Я срочно нуждался в операции, но кто бы сейчас отважился на это? Мои документы были фальшивыми, я был еврей, и моя тайна сразу бы открылась под больничной одеждой.
Стали распространяться слухи о планируемом нападении стран антигитлеровской коалиции, о конце немецкой чумы. Однако пока еще присутствие немцев было подавляющим, и без документов лучше всего было спрятаться в какой-нибудь уголок и ждать. «Шестая» работала совместно с Organisation de Secours aux Enfants (Организацией помощи детям), которая управляла детским домом вблизи Лиможа. Восьмого мая 1944 года после обеда я должен был встретиться с Бланш Александер у нее в квартире: нужно было забрать удостоверения личностей для детского дома и отдать фотографии, чтобы дети могли быть незаметно переправлены из страны.
По пути к Бланш я вдруг почувствовал жгучую боль в правой стороне паха. Я попробовал поправить бандаж. При этом я ощутил пальцами опухоль и попытался вправить ее назад. Ничего не вышло. Я присел на скамейку, ожидая, что боль немного утихнет. Бланш была лишь в нескольких кварталах, но я не мог даже встать. Боль нарастала, и меня затошнило. Я вытянулся и закрыл глаза. Тошнило все сильнее. Меня начало рвать, и с каждым позывом боль становилась все хуже.
Это было ущемление грыжи, опасное для жизни. Может быть, мне нужно просто умереть здесь, думал я, и избавить больничный персонал от возможности мучить меня за то, что я еврей, прежде чем убить во время хирургической операции извращенным арийским способом. Я откинулся на спинку скамейки и услышал голос: женщина в накидке, склонившись надо мной, сказала, что я выгляжу больным. Я попытался отмахнуться от нее. Она настаивала, что мне нужно в больницу. Я ответил, что это невозможно. Однако, вопреки моему желанию, моя жизнь снова оказалась в руках постороннего человека.
Через несколько минут подъехала скорая помощь. Эта женщина работала в Красном Кресте. В машине мне дали наркоз — сознание покинуло меня; на следующее утро я очнулся в отделении Centre Hospitalier Régional de Limoges (Центральной областной больницы Лиможа).
В больнице работали монахини. Я почувствовал дренажную трубку в паху и горячий кирпич у ступней. Лежа в дремоте, я задавался вопросом, что они знают обо мне. Безусловно, они видели, что я обрезанный. Не ясно было, передадут ли они меня теперь властям. Я открыл глаза, и снова закрыл, и опять уснул. Открыв их снова, я увидел два больших черных глаза, пристально вглядывающихся в меня, — лицо монахини в белой одежде. Я опять закрыл глаза. Монахиня протянула руки под одеяло и поправила кирпич у моих ног. Я старался прикрыть руками паховую область.
— Я сестра Жанна д’Арк, — сказала монахиня.
Орлеанская дева? Теперь я был уверен, что это сон. Это анестезия и война сделали со мной то же, что и с дядей Леоном. Я попытался сфокусировать свое сознание.
— Пока я нахожусь в этом отделении, — тихо добавила она, — вы можете ничего не бояться.
Я слабо улыбнулся. Когда я погрузился в сон, ее голос, голос ангела-хранителя, вернулся эхом: ничего не бояться, ничего не бояться. Проснувшись, я был поражен, что все это действительно правда, что я оказался в безопасном месте, чтобы прооперировать грыжу, и могу некоторое время побыть в покое.
Мне было интересно, на самом ли деле существует эта сестра. Я думал о Бланш Александер и детях, ожидающих бумаги, которые я им не принес. Я думал о мадам Бержо, ждущей моего возвращения. Я снова уснул.
Вечером сестра Жанна д’Арк опять подошла к моей постели. Она вновь заверила меня, что я в безопасности, пока она здесь. Очаровательно улыбнувшись, она ушла легкой танцующей походкой. Проходя по большому отделению, мимо кроватей с больными и ранеными, Жанна д’Арк счастливо насвистывала.
Поздно вечером в больницу пришла Бланш Александер. Она вспомнила о моих неприятностях с грыжей, о жалобах на боль после происшествия на товарной станции и пришла сюда по наитию.
— Слухи о войне хорошие, — сказала она.
По радио намекали о предстоящем вторжении союзников.
— Бланш, — сказал я, — в этот день мне хочется быть не в больнице.
Это было девятое мая, ровно четыре года с момента, как я лег в бельгийскую больницу на операцию грыжи. Немцы напали на следующее утро. Теперь позади было бегство длиной в сотни километров, изношено несколько самодельных бандажей — освобождение я хотел встретить на своих ногах.
— Отдохни, — сказала Бланш.
— Хорошо, — ответил я.
Здесь было безопасно. Так сказала мне хорошая сестра, парящая по отделению успокоительно посвистывая.
Этой ночью, лежа в постели, я думал о друзьях, собиравшихся в квартире рабби Дойча. Вечерами по пятницам мы пели «Chant des Camps», в память о невзгодах и страданиях депортированных на восток.
Loin dans l’infini s’étendent Les grands prés marécageux…(«Далеко в бесконечность простираются безбрежные болота…»)
Я лежал на этих заболоченных полях рядом с рельсами, ведущими в Аушвиц.
Pas un seul oiseau Ne chante dans les arbres Secs et creux…(«Ни одна птица не поет в этих чахлых искореженных деревьях…»)
Но охранники здесь, они ищут Манфреда и меня, в то время как товарный состав катится дальше на восток, полный ни в чем не повинных людей в последние часы их жизни. В момент исполнения этой песни у меня все вставало перед глазами: депортированные с согнутыми спинами; полные презрения охранники; приговоренные к смерти узники, которых принудили самим себе копать могилы.
Я спрашивал себя, что такого совершили моя мама и сестры, чтобы испытывать такие страдания, и не мог найти никакой вины в их жизнях.
Mais un jour dans notre vie Le printemps refleurirera…(«Но однажды в нашей жизни снова расцветет весна…»)
…Пение продолжалось:
«Однажды, однажды… однажды страшный враг исчезнет».
О terre enfin libre Ou nous pourrons revivre, Aimer, aimer.(«О, земля наконец свободна, где мы можем снова жить и любить, любить».)
В больнице у меня был рюкзак, а в нем дневник, который я время от времени заполнял, пока шла война. Лежа в больнице, я написал: «Анни сегодня не пришла. Может быть, завтра». Но она больше вообще не пришла.
В конце мая я оставил больницу и сестру Жанну д’Арк и вернулся в свою комнату у мадам Бержо. Вечерами мы с Эженом Бастине слушали радиопередачи из Лондона. Новости наполняли нас надеждой. Хотя все еще продолжались убийства и депортации в лагеря, вести о высадке союзников становились все более правдоподобными.
Наша комната всегда была полна беженцев. Бывали ночи, когда более дюжины спало на полу и четыре или пять — сбоку на кроватях.
В ночь на пятое июня мы услышали передачу о генерале Эйзенхауэре и метеорологической обстановке. Уклончиво упоминалось об «активности» в районе Ла-Манша. Всю предыдущую неделю передаваемые новости были недвусмысленно зашифрованными: «Бабушка на велосипеде объезжает вокруг сарая три раза. Повторяем, три раза». Или что-то, выглядящее абсолютно бессмысленным: «Если кролик опростоволосится, за дождем последует солнце».
Это были шифрованные сообщения, направляющие конкретные группы Сопротивления к определенным целям. Специально обученные подразделения декодировали эти сообщения. Некоторые из них просачивались к нам на нижние уровни. Мы слышали о парашютистах и сбрасываемом вооружении. В ночь на шестое июня 1944 года, перед днем «Д», одна из кодированных инструкций призывала к диверсионным действиям: выведению из строя железнодорожных путей, возведению дорожных заграждений, использованию всех возможных средств для замедления или полного блокирования движения немецких войск.
Утром шестого июня мы узнали о вторжении. Сначала нас охватила эйфория, но мы быстро вернулись к реальности. На улицах все еще были немецкие солдаты. От вокзалов поезда по-прежнему везли евреев в лагеря смерти.
Через три дня после высадки союзнических войск немецкая танковая дивизия СС «Райх», размещенная на юго-западе Франции, двинулась в направлении Нормандии навстречу высадившимся войскам антигитлеровской коалиции. По пути они понесли большие потери от нападавших бойцов Сопротивления. В ответ на это немцы учинили массовые карательные акции над гражданским населением. Так, командир дивизии приказал повесить в Туле девяносто девять французов. Их тела повесили на деревьях, балконах и фонарных столбах, заставляя семьи наблюдать это зверство.
В Лиможе мы с Бастине готовились к поездкам для передачи фальшивых документов евреям, прятавшимся у фермеров в близлежащих деревнях. Эжен должен был ехать в Шабане, поскольку рядом был Сен-Жюньен, где находилась в убежище его мать. Ранним утром в субботу, десятого июня, он поехал на пригородном поезде до станции Сен-Жюньен, где был арестован солдатами передовых подразделений дивизии «Райх». У них был приказ подавлять любое сопротивление в зародыше.
Я должен был ехать в Орадур. Как стало позже известно, немцы подозревали, что в Орадуре находятся бойцы Сопротивления и склад с оружием.
Орадур был идиллической деревней на берегу реки Глан и в обычные времена насчитывал едва ли шестьсот пятьдесят жителей. Вместе с семьями, которые скрывались теперь там, население возросло почти до девятисот человек. Я отправился из Лиможа на поезде тоже десятого июня. Было чуть больше двенадцати часов. Отъехав совсем немного от вокзала, я увидел на улице, идущей параллельно железнодорожным путям, немецкое моторизованное подразделение. Я не имел представления, куда они направляются, но у меня возникло предчувствие чего-то зловещего. Напротив меня сидел фермер.
— Не хочу ехать с ними в одном направлении, — сказал я, указывая на немцев.
— Да, — ответил он. — Особенно после вчерашнего в Туле.
Мы оба вышли из поезда, не доехав одну остановку до Орадура, и я поехал на попутных машинах назад в Лимож. На следующий день, в доме мадам Бержо, мы услышали новости: все пассажиры, прибывшие в Орадур, были убиты. Это было частью массовой расправы над жителями деревни. Мужчин согнали в сараи, женщин и детей в церковь. И все подожгли. Тех, кто пытался бежать, расстреливали с машин. Горстке людей, ужасно обожженных, удалось убежать из огня: лишь трое из них выжили. Мэр города, просивший пощадить людей, был публично казнен на площади Плас де Шамп де Фуар, куда собрали всех жителей перед тем, как они были убиты.
Новости ужаснули нас. Скоро пришли новые трагические вести. До конца недели Бастине не вернулся из Сен-Жюньена. У мадам Бержо мы узнали о его судьбе. В Сен-Жюньене, по дороге в убежище своей матери, он был задержан солдатами дивизии «Райх» и обыскан. В его рюкзаке были найдены уличающие его материалы. Он был убит на месте двумя пулями в голову.
Мы с мадам Бержо сидели на диване и плакали. Союзные войска уже высадились, но война еще не закончилась.
15 ОРАДУР-СЮР-ГЛАН, ЛИМОЖ (июнь 1944 — январь 1947)
Через несколько недель после зверских убийств я поехал в Орадур и нашел там обитель смерти. Под ярким летним солнцем стояли столы с обугленными вещами жертв: детскими колясками, обувью, игрушками, взятыми детьми в церковь перед тем, как все были сожжены. Лишь горстка выживших осталась от сотен, кто еще недавно мирно жил здесь. Жители ближайших деревень бродили по пепелищу с лицами, застывшими от ужаса, и рассказывали каждому, кто хотел слушать, что произошло.
— Мэр, — произнес кто-то.
Еще в Лиможе мы слышали, что мэр умолял нацистов взять его собственную жизнь взамен жизней жителей города. Однако на этом история не закончилась. Нам рассказали, что мэра привязали к столу в центре города. Двое его сыновей умоляли сохранить ему жизнь. В ответ немцы убили сначала сыновей, а затем, крепко держа отца, мэра этого маленького города, отпилили ему пилой ноги.
Некоторые из нас, из «Шестой», испытывали особые родственные чувства к этому городу. Несколько раз мы привозили сюда фальшивые документы, чтобы несчастные загнанные души могли выйти из своих укрытий, получив свободу передвижения. Все эти усилия обратились теперь в ничто.
Однажды вечером, в июле, после ужина с Бланш Александер и ее семьей, мы услышали по радио «Свободная Франция» сообщение о попытке покушения на Гитлера его собственных офицеров. У нас был не восторг, а изумление. Мы представляли себе различные возможности. Казалось, луч света озарил нашу жизнь. Если собственные офицеры Гитлера отвернулись от него, несомненно, должны закончиться все эти организованные зверства.
В августе французское Сопротивление взяло под контроль Шалю и выпустило письменное воззвание: «Мы обращаемся к патриотам Шалю с призывом участвовать в обороне территории. Встанем все, чтобы продолжить освобождение страны!» Фрайермауеры жили в Шалю. После воззвания мне стало ясно, что они могут не бояться больше немецких облав. Освобождение Шалю было лишь началом, за которым наверняка последует освобождение других городов. В Лиможе находилось еще несколько сот немецких солдат, но после высадки союзных войск в Нормандии их присутствие стало менее ощутимо. СС по-прежнему имело там региональную штаб-квартиру, и солдаты все еще занимали большую часть местного отеля, однако после дня «Д» многие были отправлены в Нормандию.
Однажды над городом были сброшены листовки. Они были похожи на конфетти перед новогодним вечером, на рис во время свадьбы или на телеграммы от самого Бога. В них сообщалось, что союзники продвигаются в направлении Парижа. Что Шербур уже освобожден и союзные войска проходят по городу. Я чувствовал, как усталость буквально покидает меня. На листовках были фотографии. На одной — Уинстон Черчилль в открытом автомобиле во время инспекционной поездки по Нормандии. Восторженный француз протягивает огонек к его сигаре. На другой — передвижение русских танков. Мы бросались на листовки, как будто это были свежеотчеканенные франки. Некоторые застряли на деревьях, и дети лезли наверх, пытаясь их достать. На главной улице Лиможа бегали, громко крича, подростки, а их родители радостно размахивали листовками, подняв их над головами. Головокружительное чувство торжества охватило всех, и ни один немецкий солдат не смел показаться на глаза. Они все еще были здесь, но сейчас они были не видны. В этот день, за девять месяцев до конца войны в Европе, воздух был наполнен этими восхитительными листовками и запахом свободы.
В середине августа, утром, был освобожден Лимож. Совместные войска двух частей Сопротивления Forces Françaises de l’Intérieur и Franc-Tireurs Partisans Français, которые курировали действия «Шестой», вступили в бой с немецким гарнизоном и одержали победу. Несколько сотен немецких солдат были проведены по улицам города в сопровождении вооруженных бойцов Сопротивления. Мышь, пожирающая коршуна.
Это была немыслимо экипированная разношерстная толпа: плохо одетые истощенные люди с винтовками — у некоторых даже не заряженными. Немцам, казалось, было все равно. Они были измучены войной и полностью деморализованы тем, что дело приняло такой оборот. Они шли строем, руки подняты, ладони за голову.
Стоя на тротуаре, я с удивлением наблюдал за трансформацией личностей. Только несколько дней назад немцы были господами, а жители Лиможа — подчиненными. Теперь солдаты, казалось, вздрагивали, слыша крики, вспарывающие воздух: «Грязные немцы», «Сраные фрицы», «Помните Орадур».
Я наблюдал их, марширующих по бульвару до железнодорожной станции, а потом, устав от переполнявших меня эмоций, понял, что больше не могу смотреть.
Однажды я встретил человека по имени Юлиус Принц, австрийского еврея; много лет назад он оставил Вену и вступил во французский Иностранный легион. Сейчас он был капитаном, советником Сопротивления, осуществлявшим допрос пленных немцев.
— Я хочу, чтобы ты увидел этих немцев, — сказал он мне как-то. — Ты только взгляни на них.
Мы подошли к заброшенному складу, в котором содержались немецкие солдаты. Принц хотел показать мне, как теперь он властвует над господствующей расой. Они лежали на постелях из соломы, но тут же встали, когда мы вошли. Принц был небольшого роста, но он умел себя подать.
— Как вам нравится здесь? — спросил он немецкого офицера.
Тот не ответил, и Принц повторил вопрос:
— Как вам нравится?
Офицер пожал плечами. Какой ответ был правильным? Этого не знал никто из них, точно так же, как не знали мы, евреи, в течение прошедших шести лет, что было правильным, а что нет; мы знали одно — необходимо бежать.
— Как вам нравится здесь?
Игра Принца доставляла мне удовольствие. Я с ненавистью вспомнил, как евреи сгибались перед немцами, и сейчас испытывал удовлетворение, глядя на этого немецкого офицера, когда-то столь высокомерного, съежившегося теперь перед маленьким евреем.
Франция была освобождена и вместе со свободой получила беспрепятственный доступ к информации. Мы услышали теперь сообщения об ужасах в концентрационных лагерях и в моем сердце угасали остатки надежды увидеть маму и сестер.
Летом 1944 года «Шестая» продолжала действовать. Детей нужно было разместить в детских приютах. Семьи искали потерянных родственников. Появлялись дети, спрашивающие, где их матери и отцы. Мы спрашивали себя о том же.
В конце 1944 года я восстановил подлинные документы и снова стал Лео Бретхольцем, хотя мои друзья до конца войны называли меня Анри.
Рабби Дойч отправил некоторых из нас для работы в Еврейском бюро помощи и восстановления (Comité Juif d’Assistance Social et de Reconstruction). Позже вместе с Юлиусом Принцем я посетил места захоронения солдат союзнических войск. Я думал о месте захоронения моей собственной семьи, хотя цеплялся за слабую надежду, что они все же живы. Я еще долго их искал, но не нашел.
Однажды утром в бюро я услышал знакомый голос и увидел человека, о котором думал, что он давно мертв: мой старый друг по лагерю в Сетфоне Вернер. Последний раз я видел его оцепеневшим от страха, когда убегал из поезда в Тулузе. Мы бросились друг к другу и крепко обнялись. Было поразительно, что он жив.
— Поезд, — сказал я немного погодя.
После моего побега их отвезли на юго-западное побережье Франции, недалеко от Бордо, где они строили взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов.
— Многие погибли, — сказал Вернер. — Слабое здоровье. Тяжелые условия, грязь. А другие…
Его голос сорвался.
— Ну?
— Отправлены в Дранси, — сказал он.
Значит, было правильно, что я попытался второй раз обойти судьбу на повороте. Через несколько дней после завершения работ высадились союзнические войска. Вернер был отправлен в лагерь в Мериньяк, вблизи Бордо, откуда позже был освобожден. Теперь он вернулся в дом рядом с Сетфоном, где все еще скрывались его жена и дети.
— Поезд, — повторил я.
Мне хотелось знать, что произошло после того, как жандармы обнаружили, что я убежал. Лицо Вернера осветила улыбка. Охрана поднялась в поезд для последнего подсчета. Итог не сходился. Кауфман обошел все туалеты, чтобы проверить, не там ли я.
— Я не знал, что он сделает, — сказал Вернер. — Он спросил нас всех, не знаем ли мы, где ты. В ответ — полная тишина, Лео. Я беспокоился, что они взвалят ответственность на нас. Они могли расстрелять нас за помощь тебе. А потом, да… потом Кауфман сам прервал молчание. «Этот парень, Бретхольц, — сказал он, — говорил мне, что, если он только захочет, он убежит».
Однажды я встретил молодого человека Фредди Кноллера, родившегося в Вене. Он был арестован во Франции и депортирован в Дранси в 1943 году. Он пережил Аушвиц и приехал в Лимож, где мы оба ожидали эмиграционные документы для отъезда в Америку. Моя предполагаемая эмиграция послужила причиной окончательного разрыва с Анни. Уже давно мы все больше и больше отдалялись друг от друга; несущественные внешние разногласия имели глубокие внутренние причины. Я хотел поехать в Америку — Анни чувствовала себя покинутой. Я хотел забыть Европу. Континент был кладбищем, и я сам побывал на краю могилы; в мыслях я все еще бежал куда-то, сам уже не понимая куда.
Как-то утром я пошел в бюро Comité Juif d’Assistance Social et de Reconstruction и увидел там газету с огромным заголовком на первой полосе: война в Европе закончена. Кто-то включил радио — там тоже снова и снова сообщалась эта новость. Война была позади. Это был миг восторга, но непродолжительный. В такие мгновения хочется связаться с близкими, чтобы разделить с ними радость. Но моих близких не было в живых, и вместо того, чтобы целовать их любимые лица, я чувствовал на сердце страшную пустоту. В бюро некоторые крепко обнимались, и мы поздравляли друг друга, что дожили до этого момента. Потом мы взяли себя в руки: кругом тысячи бездомных, тысячи разбросанных по всей земле людей… может, среди них и наши собственные семьи.
Окончание войны не было похоже на выигрыш в спортивных соревнованиях или на новогодний праздник. В Лиможе это ощущалось как ослабление бесконечного изнурительного напряжения и начало великой неизвестности. Однажды я навестил Фрайермауеров, и Анни сказала, что они возвращаются в Бельгию.
— Может быть, увидимся там, — с надеждой сказала мать Анни.
Я кивнул, но мы оба знали, что этого не случится.
Я хотел в Америку, хотел вновь обрести себя. Из Балтимора я получил письмо от тети Софи. «Наберись терпения», — писала она. С помощью Hebrew Immigration Aid Society она готовила аффидевит — поручительство. Но таких, как я, — тысячи, и процесс шел медленно.
В августе 1945 года, после капитуляции Японии, мы почувствовали скорее облегчение, чем восторг. Я проводил свои дни в поисках крова для бездомных, но все мои мысли и чувства были уже в Америке. Восемнадцатого марта 1946 года я получил письмо из американского консульства в Бордо, в котором мне сообщали, что мне присвоен нижеследующий номер: 531. Это наполнило меня чувством важности. Мой друг Фредди Кноллер был в аналогичном положении. Он тоже не хотел возвращаться в Вену. Два его брата в Нью-Йорке оформляли ему аффидевиты, и сейчас в Лиможе он ожидал получения документов на отъезд.
В декабре мы получили наши французские выездные визы. Неделей позже United States Lines зарезервировали нам с Фредди билеты на пароход свободы John Ericsson, отплывающий 19 января 1947 года.
Я поехал в Париж навестить тетю Эрну.
— Тебе нельзя было покидать Париж! — закричала она, увидев меня.
— Я жив, на что нам жаловаться?! — воскликнул я в ответ.
Эта наша словесная дуэль уже стала традицией.
Тетин сын Поль был уже дома, и мы вместе поехали в мою прощальную поездку в Бельгию. Восемь лет прошло с той ночи, как мы с Беккером подъехали туда на его загруженной маленькой машине, и теперь список тех, кого больше не было с нами, казался бесконечным.
В Антверпене мы навестили Фрайермауеров. Мы вспоминали только хорошее, не давая горечи выйти наружу. Анни я не видел. Нашлись отговорки: ее нет — у нее много дел. Потом с неловкостью сообщили, что она обручена и выходит замуж.
— Выходит замуж? — повторил я.
Подавив смятение, я выразил радость за Анни. Все слова и чувства остались невысказанными. Когда-то я представлял, что проживу свою жизнь с Анни. Сейчас я жаждал расстаться с этим знакомым мне миром и желал Анни самого лучшего, что только возможно в жизни, тем более что моя собственная жизнь казалась такой неопределенной.
Через несколько часов мы с Полем покинули Фрайермауеров и поехали на поезде в Брюссель повидаться с дядей Давидом. Он пережил войну, его сын Курт — нет. Я помнил их обоих в тот знойный день, когда я собирал свои вещи в лагере Сен-Сиприен. Через несколько месяцев после моего побега в лагере вспыхнула дизентерия. Охранники, и до этого уделявшие мало внимания заключенным, отвернулись совсем. Однажды были открыты ворота и заключенные побежали в близлежащие фермерские хозяйства, на железнодорожные станции. Охрана просто позволила это. Дядя Давид и Курт вернулись в Брюссель к своей семье. Курта вновь арестовали. Он был отправлен в Аушвиц и там убит.
Дядю Давида я нашел сильно изменившимся. Человек, никогда больше не пришедший в себя после смерти сына, он совершенно не мог слышать звуки его имени.
— Вот, — сказал он, протягивая мне маленький пакет. — Давно пора. Нужно было отдать тебе это еще для твоей Бар-мицвы. Открой, открой.
Внутри был перстень с печаткой с моими инициалами. Мы с дядей обнялись впервые с момента нашей встречи в шумной столовой в Антверпене в 1938 году. Обедая в семейном кругу, никто не возвращался к событиям военных лет: слишком много было открытых ран.
Три недели спустя мы с Фредди Кноллером сели в Париже на поезд, доставивший нас к пароходу John Ericsson в Ле Авре. Тетя Эрна провожала нас до железнодорожного вокзала. Мне пришло в голову, что она — последняя из моей сильно уменьшившейся семьи, кого я вижу на этом континенте. Когда-то нас было так много. Мы оба плакали, не скрывая слез, и когда мой поезд отходил от вокзала, махали друг другу на прощание, пока не потеряли из виду, — точно так же, как дядя Исидор и тетя Роза махали мне на железнодорожном вокзале в ту дождливую ночь, когда я оставил Вену; точно так же, как махали мне мама и Генни той же ночью на остановке трамвая; точно так же, как махала мне Дитта из окна больницы.
Прощайте, прощайте.
В январе в Северной Атлантике штормило. Огромные волны перекатывались по палубе John Ericsson, на ограждениях и спасательных ботах повисли ледяные сосульки. Когда мы достигли Гольфстрима, где температура была выше, а океан спокойнее, сосульки растаяли и пассажиры, еще накануне страдавшие морской болезнью, вышли на палубу, радуясь солнечным лучам. В основном на борту была молодежь. Некоторые женщины плыли в Америку к мужьям: они вышли замуж за американцев во время войны. Это было счастливое общество. Оркестр наигрывал танцевальные мелодии, а молодой француз исполнял джазовые импровизации на расстроенном пианино.
Ранним утром 29 января 1947 года мы с Фредди увидели чаек, парящих в воздухе. Воздушное приветствие, подумал я. Мы приближались к берегу Соединенных Штатов. После обеда мы достигли нью-йоркского порта, миновав укутанную туманом статую Свободы. Многие из нас стояли изумленные на палубе, все еще не веря, что мы наконец прибыли. Спонтанно мы зааплодировали статуе Свободы, приветствующей нас.
Мой багаж находился в каюте, и стюарду нужно было отвезти его для таможенного контроля. В момент, когда вошел стюард, я через иллюминатор вглядывался в мглистый берег вдали. Стюард — мужчина лет сорока, невысокого роста, с темными глазами — был в фуражке. Он положил багаж на ручную тележку и присоединился ко мне возле иллюминатора. Ему хотелось познакомить меня с Америкой. Несколько мгновений он смотрел через иллюминатор на вид, который наверняка неоднократно возникал перед ним.
— Там я родился, — гордо сказал он, указывая вдаль. — Бруклин.
— Бруклин, — повторил я.
— Как вам это нравится? — спросил он.
Я не знал, что ответить. Он немного подождал и повторил вопрос:
— Как вам это нравится?
Он, должно быть, подумал, что я не понял его. Мой английский был тогда еще достаточно слабым. Но я не хотел выглядеть безразличным или невежливым.
— It’s nice, I like it, — сказал я. — «Замечательно, мне нравится».
— Good, — сказал он. И чтобы быть уверенным, что я его правильно понял, он повторил с нажимом:
— It’s Brooklyn.
Бруклин в Нью-Йорке.
В Соединенных Штатах.
Стюард взял тележку с моим багажом и, выходя из комнаты, сказал:
— Добро пожаловать в Америку!
Я улыбнулся. Он, повернувшись ко мне последний раз, добавил:
— Счастливо!
ЭПИЛОГ
Спустя годы мы раскрываем такие тайны…
Полвека прошло, прежде чем во Франции, Швейцарии и Австрии дети и внуки участников войны сняли последние покровы с тайн того времени. Да, нейтральная Швейцария наживалась на крови жертв. Нет, французы не являлись нацией храбрых бойцов Сопротивления. Нет, австрийцы не были первыми жертвами Гитлера, а наоборот, первыми бросились ему в объятия. Нет, церкви в большинстве случаев не протянули руку своим еврейским сестрам и братьям в их самые мрачные времена. Иногда мир кажется потрясенным тем, что открылось, иногда находится лишь в некотором замешательстве, незаинтересованный или неспособный за сухими цифрами увидеть человеческие лица.
Во всей истории войны моя — лишь маленький штрих. Но именно такие штрихи являются тем, что делает историю правдивой.
Я приехал в Америку в 1947 году и четырнадцать лет не говорил ни слова о войне. Почему я выжил, в то время как столько людей было убито? Произойдет ли чудо и я вдруг получу письмо, сообщающее, что моя мама и сестры остались живыми где-то в разрушенной Европе?
Пятьдесят лет назад мой дядя Сэм Гольдштейн, муж тети Мины, ждал меня на пристани, когда я спускался по трапу USS John Ericsson. За девять лет до этого, на маленьком вокзале в Люксембурге, когда полицейские уводили меня, тот же самый дядя Сэм шепнул мне: «Поверни козырек». Теперь, в новой стране, я снова «поворачивал козырек» — в корне менял свою жизнь.
В ту же ночь мы приехали в Балтимор и собрались в доме моей тети Софи на улице Полл-Молл. Нас было немного оставшихся в живых: эмоциональная тетя Мина; уравновешенный дядя Сэм; тетя Софи, долгое время старавшаяся перевезти в Америку близких; брат моего отца и тети Софи Озиас и его жена Ольга. Тетя Ольга прислала мне почтой ирландскую полуфунтовую банкноту, которую я засунул под желтую еврейскую звезду в день приезда в лагерь для интернированных в Дранси.
— Спасибо, — сказал я с опозданием в пять лет.
Я сказал это по-английски. Язык я начал изучать еще в Вене, и теперь я хотел, чтобы английский стал языком моей будущей жизни. Я хотел быть американцем, даже когда собирал осколки своего прошлого.
Судьба мамы и сестер мучила меня, лишала сна, эмоционально привязывала к Европе. Душа моя оставалась там, хотя я был в Америке. Я стал думать о возвращении. Потом, через три недели после моего приезда сюда, в снежную ночь, дядя Сэм умер от инфаркта.
Мы с дядей Озиасом услышали его крик из ванной и нашли его с головой, склоненной на грудь, пепельно-серым лицом и безжизненным взглядом. Он умер в возрасте сорока трех лет. Девять лет назад он помог мне остаться в живых, а теперь я оказался не в состоянии спасти его. Я чувствовал, что часть меня умерла вместе с дядей, и в следующие дни я много размышлял о хрупкости моей собственной жизни. Мой отец, Макс Бретхольц, умер в тридцать девять лет. Я видел его корчащимся от болей, вызванных кровоточащей язвой желудка. Вспоминая его, лежащего при смерти на больничной койке, я спрашивал себя, была ли его ранняя смерть предвестником моей собственной.
В Балтиморе я нашел работу в магазине готовой одежды на Ганновер-стрит. Затем я перешел в магазин оптовой торговли текстильными изделиями и стал работать коммивояжером. Путешествуя по восточному побережью Мэриленда, я столкнулся с открытыми насмешками над моим европейским акцентом. В одной из таких поездок я встретил двух коммивояжеров, тоже евреев. Один был из Бруклина, другой из Филадельфии.
— Люди смеются над моим акцентом, — пожаловался я им.
— Над моим тоже, — ответили оба, не сговариваясь.
Америка просто подсмеивалась над собой, над бесконечным разнообразием людей со всего мира, каждый из которых пытался теперь найти свой путь в этой стране. Мы все были собраны в единое сообщество Америки и потешались друг над другом вместо того, чтобы внимать крикам какого-то сумасшедшего об арийской чистоте.
Однажды после обеда я вел машину по дороге на северо-западе Балтимора. Город впитал в себя много семей с юга. Они переехали сюда во время войны, чтобы работать на расположенном здесь сталелитейном заводе и в порту. Некоторые из местных называли их «деревенщиной» или «сбродом». Они были здесь чужими, как и я. Как-то я остановился на Либерти-Хайтс-авеню на красный свет светофора. Я был тогда довольно неопытным водителем. Услышав нетерпеливые сигналы сзади, я взглянул и увидел, что свет уже переключился на зеленый. Я съехал на обочину — сигналивший мне водитель тоже остановился.
— Я что-то сделал не так? — спросил я его.
— Убирайся в Теннесси, откуда явился! — заорал он, услышав мой акцент.
Когда он уехал, я подумал: «Из Теннесси, как вам это нравится?!» В этот день, думаю, я действительно стал американцем.
Свою будущую жену я встретил в 1951 году на свадьбе наших друзей Герберта Фридмана и Джойс Херман. Я был свидетелем, а Фло Коэн — подружкой. Мы поженились в июле 1952 года. В августе я стал гражданином США.
Мало-помалу я начал рассказывать Фло о войне и ее последствиях. Ты должен посмотреть в глаза прошлому, сказала она. В апреле 1954 года мы решили поехать в Европу, чтобы те, кто остался из моей семьи, познакомились с моей милой женой. Я же хотел попытаться обрести мир внутри себя.
В Лондоне нас встретила моя кузина Хелен Топор (теперь Мейер). Хелен, дочь дяди Морица и тети Каролы, убежала из Вены в Голландию, а оттуда перебралась в Лондон — это было еще в самые первые дни гитлеровских завоеваний. Вся ее семья погибла. Ее сестра Марта, избежавшая ареста в день вступления Гитлера в Вену, успела уехать в Швейцарию. Она умерла вскоре после войны. Ее сестра Соня, о которой все говорили, что мы с ней похожи как близнецы, была убита в Аушвице вместе со своей трехмесячной дочкой Николь. Дядя Мориц и тетя Карола были депортированы неизвестно куда, и никто больше о них ничего не слышал.
— Война, — сказал я.
— Я не хочу говорить о войне, — ответила Хелен.
Девять лет прошло после окончания войны, но она все еще не могла примириться с судьбой своей семьи.
— Моя мама и твоя, — сказал я, — ты же знаешь, они не разговаривали друг с другом.
Я вспомнил, как дядя Мориц и тетя Карола приглашали меня к себе по пятницам на Шаббат, а мама никогда не ходила со мной. Каждый раз, когда я спрашивал ее об этом, она только отмахивалась от меня.
— Почему, как ты думаешь? — спросил я Хелен.
В ответ она тоже махнула рукой.
Однажды вечером к Хелен приехал мой старый друг Фредди Кноллер, с которым я плыл на корабле John Ericsson в Америку. Несколько лет назад он женился на англичанке, и они поселились в ее родной стране.
— Знаешь, — сказал я Хелен, — раньше мы с Фредди пели в хоре.
— У папы тоже был хороший голос, — задумчиво заметила она, но тут же умолкла, не желая ворошить прошлое.
— Помнишь, — сказал я, улыбаясь воспоминаниям, — как люди говорили, что мы с Соней похожи как две капли воды?
— Хотите чего-нибудь попить? — сказала Хелен, меняя тему.
Как много тайн хранила она. Всякое соприкосновение с прошлым слишком травмировало ее, и мы покинули Лондон, не поговорив ни о годах войны, ни о близких, которых мы потеряли.
В Париже, встретившись с тетей Эрной, мы вспомнили дядю Леона. Из психиатрической клиники в По он, испытывая тяжелые страдания, послал письмо немцам, умоляя приехать и забрать его.
— Положите конец моей ужасной жизни, — просил он.
Итак, немцы забрали его. Из Тулузы он был депортирован в Бухенвальд, где его история, казалось, закончилась. Однако тетя Эрна открыла нам ее странное продолжение. После войны она получила от дяди Леона открытку, написанную карандашом. В ней он сообщал, что его освободили британские войска. Почтовый штемпель был из Вены. Тетя Эрна обратилась к дочери дяди Леона Соне Фишман. Они написали в Красный Крест и в организации, занимающиеся людьми, пережившими лагеря. Но дядя Леон как в воду канул. Несколько месяцев спустя Соня получила сообщение из государственной канцелярии Австрии, приглашающее ее зайти забрать личные вещи отца. В канцелярии ей вручили пакетик с кольцом и документами, удостоверяющими личность. Там же была часть 59-го псалма Давида, написанная на безупречном французском своеобразным почерком дяди Леона:
Избавь меня от врагов моих, Бог мой, от восстающих на меня защити меня. Избавь меня от творящих несправедливость и от людей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо вот, подстерегают они душу мою.Из Парижа мы отправились в Брюссель встретиться с дядей Давидом и тетей Ольгой. Моя кузина Хильде вышла замуж. Дядя Давид был очарован моей женой. Только одно сильно омрачало его настроение: мои упоминания кузена Курта, погибшего в Аушвице. Разговоры о войне были невозможны. Девять лет прошло, как она закончилась, а мы все еще боролись с воспоминаниями и пытались от них убежать.
Дальше мы с Фло поехали поездом в Антверпен повидаться с Фрайермауерами. Встреча была дружеской, но не более того. Анни держала себя вежливо, но сдержанно. Мы беседовали об Америке и избегали разговоров о войне. Огромная трещина пролегла между нами.
Затем мы поехали в Швейцарию, чтобы увидеться с моей кузиной Соней. Она жила в Вене, однако я пока не был готов вновь увидеть Вену, и Соня приехала в Швейцарию для встречи с нами. Шестнадцать лет минуло с той дождливой ночи, когда я покинул город, в котором родился, и начал бегство, но Вена все еще хранила для меня слишком много призраков. Швейцария тоже всколыхнула неприятные воспоминания: обмороженные и кровоточащие ноги во время перехода через Альпы; презрительно усмехавшийся сержант Арретас, которого мы с Альбертом Гершковичем умоляли освободить нас. Я вспомнил Альберта Гершковича. Последний раз я видел его, когда вылезал из товарного поезда, идущего в Аушвиц. Альберт остался внутри.
Гуляя с Фло и Соней по Интерлакену в Швейцарии, я вспомнил, что был последним, кто видел отца Сони дядю Леона, а Соня последней видела мою маму.
— Твоя мама была счастлива, — сказала Соня.
— Счастлива?
— Что ты находился в безопасности.
Что я находился в безопасности.
Соня вернулась в Вену, а через несколько дней мы с Фло поехали в Лимож, где все еще жила мадам Бержо, где на вокзале эсэсовский офицер дал мне пощечину, где сестра Жанна д’Арк стояла у моей кровати, произнося слова, казалось, льющиеся прямо с небес: с ней я в безопасности. Мы с Фло бродили по открытому рынку, и в послеобеденной толкотне я увидел мадам Бержо.
— Вот она! — воскликнул я.
Мы долго и крепко обнимались, плакали и снова обнимались. Мадам Бержо была хозяйкой дома и замещала мне мать все те месяцы, когда мы с Бастине делили комнату на верхнем этаже и ночь за ночью приводили туда беженцев.
— Боже мой, ты здесь! — воскликнула она, плача. — Мой сын, сынок.
Теперь и Фло плакала с нами, и мы втроем пошли назад к моему бывшему убежищу. Комната на чердаке, в которой я прожил три года, во время войны и мира, выглядела сейчас меньше, но ее хорошо знакомые стены по-прежнему дарили чувство безопасности.
— Здесь мы жили — Бастине и я, — сказал я Фло.
Это был единственный раз, когда мы произнесли его имя. Как и я, Эжен Басс был «приемным сыном» мадам Бержо, и у нас не было сил говорить о его убийстве или о той боли, которую мы испытали, услышав эту страшную новость.
Возвращаясь в Америку, я утешал себя словами моей кузины Сони: в конце своей тяжелой жизни моя мама была счастлива, что я находился в безопасности. Она была убеждена, что поступает правильно, отсылая меня. После этой продолжительной поездки со множеством встреч стало ясно, что каждый из нас все еще сражается с демонами военного времени, все еще хранит так много тайн.
Для меня война закончилась через семнадцать лет после официального прекращения убийств. Последнее сообщение о жертвах войны пришло ко мне, когда в 1962 году я получил короткое письмо от Израильского общества по делам образования и религии в Вене (Israelitische Kultusgemeinde) с окончательным известием о маме и сестрах:
«Настоящим подтверждаем, что согласно нашим записям госпожа Дора Бретхольц, дата рождения 23.04.1893, последнее место жительства Вена 2, Хаммерпургшталльгассе, 1/11, 9 апреля 1942 года была депортирована в лагерь Избица. В картотеке вернувшихся ее имя не значится». Две другие бумаги содержали такие же сведения о моих сестрах.
«В картотеке вернувшихся их имена не значатся». Потребовалось семнадцать лет, чтобы обнаружить это и создать эвфемизм для актов убийства. Дата письма — 26 октября 1962 года. Прошло ровно двадцать четыре года, как я покинул Вену, и все же сейчас я был в шоке от необратимости этой правды. Они действительно умерли. Чувство определенности не принесло мне утешения — я не знал и никогда уже не узнаю места их последнего пристанища.
Летом 1970 года, через двадцать пять лет после окончания войны, пришло время встать лицом к лицу с городом моего рождения. Вместе с Фло и нашими детьми Майроном, Дэнис и Эди я поехал в Австрию. Я не был в Вене с той дождливой ночи 1938 года. Мы оставались там почти неделю, и я чувствовал себя чужим. Больше всего меня сбивало с толку, что все осталось прежним: здания, парки, Венский лес на краю города; места, где я играл в детстве. Все было таким, как будто войны никогда не было. Все было здесь, не было только тех, кого я знал и любил.
Мы пошли к дому, где я оставил маму. Во дворе была все та же шелковица, тот же куст сирени, деревянная перекладина, на которой мама выколачивала пыль из ковров и половиков. Это был все тот же двор, где когда-то безработные скрипачи играли за мелочь. Бродя по городу, я чувствовал за спиной тени моей семьи, и воспоминания неотступно преследовали меня. Когда мы уезжали, мне казалось, что мы покидаем кладбище.
Мы поехали в Страсбург повидаться с Бланш Александер, с которой я работал в Лиможе. Ее кузен рабби Дойч, руководивший нашей группой Сопротивления, был теперь главным раввином Страсбурга. Наши дети отстраненно слушали некоторые из наших старых рассказов о войне. Для них все это выглядело древней историей.
Дальше мы направились в Люксембург, к реке Сауэр, которую я переплыл холодной осенней ночью 1938 года, в начале моего длинного бегства. Я вспомнил, как Беккер посоветовал мне снять носки и потом мы смеялись над этим. Спустя столько лет я стоял здесь со своей семьей и смотрел на узкую, бодро журчащую речку. Семьи с детьми, радуясь послеобеденному солнцу, расположились на берегу.
Лео, будь осторожен в воде, — услышал я мамин голос.
Однако сейчас в реке было очень мало воды, и когда я рассказывал своим близким, что в 1938 году это был бурный, стремительный поток, они кивали, соглашаясь, но я сомневался, что они верили мне.
В Эхтернахе я пошел в маленький отель с рестораном, принадлежавший Милли Кахен и ее мужу. Я помнил Милли в последнюю ночь в Ривзальте — утром меня отправляли в Дранси. Мы стояли у колючей проволоки и плакали, потому что не знали, останемся ли мы в живых. Теперь я узнал, что она умерла: погибла несколько месяцев назад в автомобильной катастрофе. Среди моих знакомых Милли была одной из самых сердечных.
Затем мы поехали в Трир и нашли монастырь, в котором я останавливался перед пересечением Сауэра. Теперь там располагалась реабилитационная клиника. Мы уехали в Париж повидаться с тетей Эрной, и туда же прилетела моя кузина Хелен из Лондона. На этот раз, спустя столько лет, нам было немного легче вспоминать прошлое.
Весной 1992 года мы с Фло вновь посетили Европу. Прошло двадцать два года с нашей последней поездки сюда. Моя кузина Хелен потеряла мужа; кузина Хильде была тяжело больна и лежала в больнице в Брюсселе; тете Эрне было почти девяносто, но она все еще была полна сил и жила в Париже; ее сын, мой кузен Поль, умер несколько лет назад в возрасте пятидесяти пяти лет; а кузина Соня все еще была в Вене. Появилась новая, вынудившая меня вернуться сюда, причина: я получил письмо из Англии от Хелен. Пока она выздоравливала после операции, у нее оказалось много времени подумать о прошлом; о своем отце, моем дяде Морице; о матери, моей тете Кароле, которая никогда не разговаривала со своей сестрой, моей мамой.
Хелен почувствовала, как быстро пролетают годы, и ей захотелось освободиться от бремени. Спустя годы мы раскрываем такие тайны… Она написала:
Наши письма непременно пересекались, и это еще один знак того, что мы намного ближе друг к другу — не в пространстве, а в наших душах. Телепатия.
Наконец-то я могу высказать то, что неотступно преследовало меня долгие годы… Мой отец был одним из тех особо привлекательных парней, кто мог очаровать любую птичку на дереве — с оперением или без. Он одерживал победы не только над совсем невинными девицами, но и над опытными женщинами, не сумевшими устоять перед его шармом.
Как-то, в то время как мою маму вместе с детьми и очень верной домработницей Лизль отправили в деревню, где было больше еды, чем в городе, твоя мать, тетя Дора, вела домашнее хозяйство у нас дома. После трех месяцев отсутствия — июнь, июль, август — мы вернулись домой, отъевшиеся и с кучей продуктов для нашей пустой кладовой. Тут выяснилось, что тетя Дора была сражена шармом моего отца или стала его жертвой, как это ни называй.
Вспышки гнева моей мамы были хорошо известны. Разумеется, она и теперь дала себе волю. Неудавшаяся попытка самоубийства держалась в тайне, и необходимо было срочно найти решение.
Макса Бретхольца, некоторое время выполнявшего портняжные работы в нашем магазине, не особо привлекательного, но очень порядочного парня, убедили жениться на тете Доре и взять на себя финансовую ответственность за новорожденного. За это ему многое пообещали плюс дали квартиру позади магазина и постоянную работу.
Уверяю тебя, он был более доволен, чем Дора, но это было лучшее решение в сложившейся ситуации. Оно было согласовано со всей семьей Бретхольцев.
Когда ты родился, мой папа — после трех дочерей — был в восторге, что теперь у него есть сын. Марта, когда подросла, узнав об этом, всегда защищала папу и находила ему оправдания.
Да, Лео, это — правда. Несколько лет назад я поделилась этим с твоим другом Фредди. Он поклялся ничего не рассказывать тебе, учитывая твои тесные и прекрасные отношения с семьей Бретхольц, в Штатах. Мы считали, что лучше держать все в тайне. Между тем я сомневаюсь, что кто-нибудь из этого поколения Бретхольцев еще жив.
Что бы ты об этом ни думал — ты был ребенком любви, и как бы мне ни было тогда трудно простить папу, я рада, что это произошло, потому что появился ты — мой брат.
Я перечитал письмо несколько раз, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. «Да, Лео, это — правда», — писала Хелен. Понадобилось всего пятьдесят лет добровольно взятого на себя молчания, чтобы раскрыть тайну. Теперь я знал происхождение своей жизни и свое подлинное лицо. Во время войны я старался изо всех сил скрыть его от врагов и становился Марселем Дюмоном, Полем Мёнье и Максом Анри Лефэвром. В то время как истина была скрыта от меня самого. Теперь я узнал, что кузина Хелен, которую я всегда особенно любил, была мне также сестрой. Я понял, почему был похож с Хелен, а особенно с Соней так, что люди иногда принимали нас за близнецов. Теперь стало ясно, почему дядя Мориц покровительствовал мне после смерти Макса Бретхольца и почему не разговаривали между собой моя мама и тетя Карола.
И наконец-то я понял, о чем шептались взрослые в день похорон Макса Бретхольца: тайны нужно сохранить.
К тайне, раскрытой Хелен, добавился еще иронический постскриптум. В письме она выражала сомнения, что кто-нибудь из старшего поколения Бретхольцев еще жив. Я получил это письмо как раз в тот день, когда вернулся с похорон тети Мины, которая так ужасно рыдала на похоронах своего брата — Макса Бретхольца, ставшего моим отцом, чтобы уладить задним числом объяснение моего зачатия. Тетя Мина была последней из этого поколения Бретхольцев.
В заключение мы с Фло отправились в поездку, которую я должен был совершить: в Дранси — последнюю остановку перед Аушвицем, последнюю остановку перед предназначенной мне смертью во время войны. Мы поехали туда на метро и вышли на станции рядом с большой площадью с названием Place des Deportées (Площадь депортированных). Лагерь стал теперь жилым массивом с административными учреждениями на первых этажах. Здесь был мемориал, напоминающий о преследованиях и депортации почти восьмидесяти тысяч евреев из Франции. Здесь же был товарный поезд, такой же, как те, везшие тысячи несчастных на смерть. Мы вошли во внутренний двор зданий, являвшихся некогда жильем для людей в последние дни их жизни. Сейчас на месте, где когда-то выстраивали детей для их последней поездки, находилась детская площадка. На первом этаже — табличка, призывающая к заботе о детском здоровье и безопасности. Когда я ее читал, женщина открыла окно и спросила, ищем ли мы кого-нибудь.
— Нет, — ответил я. — Меня привели сюда воспоминания. Эта табличка призывает к заботе о детях. Когда я был здесь в 1942 году, детей…
Женщина громко захлопнула окно. Бывает, мир не хочет слушать о вчерашних страданиях и считает, что об этом уже сказано слишком много.
Сменилось несколько поколений после войны, когда федеральный канцлер Австрии Франц Враницки обнародовал заявление, в котором признавал виновность своей нации. Несколькими годами позже Вена начала организовывать поездки туда для своих бывших жителей. В 1996 году мы с Фло приняли приглашение посетить Вену.
Приехав туда, я отыскал могилу Макса Бретхольца. Он не был моим родным отцом, но стал и до самой своей смерти оставался мне отцом и защитником и был родным отцом моих сестер. На кладбище, где он похоронен, мне понадобилось несколько минут, чтобы очистить могилу от бурно разросшейся сорной травы и плюща, прежде чем я нашел его имя на тронутом временем надгробном камне.
Склонив голову, я прочитал Каддиш, поминальную молитву, и положил маленький камень на его надгробную плиту. Прощай, прощай, мой дорогой отец. Макс Бретхольц был добрым человеком, и я благодарен ему за ту любовь, которую он дарил мне, — любовь настоящего отца к сыну и за то, что он сохранил от меня свою тайну.
Я вспомнил об удаче, сопутствовавшей мне среди ужасов войны, и подумал о тех, кто помог мне выжить. Я отправил письмо в Centre Hospitalier Régional в Лиможе с просьбой разыскать сестру Жанну д’Арк. В ответ мне прислали ее последний известный адрес, порекомендовав написать ей. Я написал несмотря на то, что не знал, жива ли она.
Работая медсестрой. Вы, я уверен, встречали тысячи людей и заботились о них. Хорошо понимаю, Вам было бы трудно удержать каждого в памяти. Однако я никогда в жизни не забуду момент, когда я впервые оказался в Вашем присутствии. 8 мая 1944 года скорая помощь привезла меня в больницу с ущемленной грыжей. Мой «псевдоним» был тогда Анри Лефэвр. Я был еврей, работающий для Сопротивления, и надеялся выжить с фальшивыми документами. Я боялся, что во время операции откроется, что я еврей. Когда я очнулся от наркоза, нежный голос прошептал мне прямо в ухо слова утешения и поддержки: «Пока я в этом отделении — Вам нечего бояться».
Я понял, что встретил ангела. Это Вы прошептали эти слова поддержки и сострадания. Я никогда не забуду их. И никогда не забуду ту радость, с которой Вы заботились о больных; иногда Вы насвистывали ритмичные мелодии. Любите ли Вы и сейчас свистеть? Надеюсь, что мое письмо застанет Вас в добром здравии и хорошем настроении.
Я отправлял письмо так, как бросают в океан сообщение, закупоренное в бутылке. Возможно, его никто никогда не прочтет; возможно, сестра Жанна д’Арк давно уже умерла. Но однажды, дождливым ноябрьским днем 1997 года, в мой дом на северо-западе Балтимора пришло письмо из Франции, из Кастре, от сестры Жанны д’Арк.
Вы не можете себе представить, как меня тронуло Ваше письмо. А также Ваши усилия, чтобы найти мой адрес.
Я не ответила сразу на письмо — прошу простить меня за это — но моя жизнь изменилась. Из медсестры я сама превратилась в пациентку, что не очень способствует переписке.
Но, поверьте, я не утратила чувства дружбы, связывающего меня с больными. Я счастлива, что смогла помочь Вам, утешить и молиться за Вас в то время, когда Вас окружало так много ненависти.
Теперь я плохо слышу — не слышу даже телефонный звонок рядом с моей кроватью. Но Вам приятно будет узнать, что я все еще умею свистеть и попробую это сделать, прямо сейчас.
Полная приятных раздумий, я еще раз благодарю Вас за Ваши воспоминания. Думайте обо мне не как о медсестре той давней поры — на нее я давно не похожа, а как о немощной сестре, которая шлет Вам свою симпатию и благодарность за радость, доставленную Вашими воспоминаниями.
С сестрой Жанной д’Арк мы продолжали переписываться. Ее сердечные письма всегда отражали дух, не поддающийся возрасту, и уверенность в нашей дружбе: Теперь, когда мы опять нашли друг друга, ни океан, ни расстояния не смогут разлучить нас.
Все время я лелеял надежду, что рано или поздно встречусь со своим ангелом-хранителем. Надеялся, что смогу обнять ангела, ухаживавшего за мной с такой нежной заботой.
В августе 1999 года, когда мы с Фло поехали во Францию, моя мечта исполнилась. Главным событием этой поездки стало для меня, без сомнения, свидание с сестрой Жанной д’Арк в доме для пожилых монахинь «Мэзон Сен Жозеф» в городе Кастре. Наша первая встреча после всех прошедших лет, полная ностальгии и воспоминаний, насыщенная эмоциями, навсегда останется в моей душе. Когда я немного смущенно спросил, знала ли она тогда, что я еврей, она ответила: «Я была старшей сестрой. О своих пациентах я знала все».
Сестра Жанна д’Арк Сардин занесена в список «Праведников народов мира» в мемориальном комплексе Яд-ва-Шем. Это звание присуждается неевреям, спасавшим евреев в годы холокоста, рискуя при этом собственной жизнью.
* * *
Спустя годы мы раскрываем такие тайны… Летом 1978 года я нашел французскую книгу le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Огромная, как телефонный справочник, книга содержала подробные списки всех, кто был вывезен из Франции в лагеря смерти. Дрожащими руками я отыскал вывезенных шестого ноября 1942 года. Транспорт № 42. Когда я нашел среди них свое имя, мороз прошел у меня по коже. Имена выживших были отмечены звездочкой. Рядом с моим именем звездочки не было — не сводя глаз, я рассматривал извещение о собственной смерти.
Я числился одним из призраков Аушвица.
Я числился вместе с теми, кто стоял в последние часы их жизней в транспорте № 42, — с их голодом и жаждой, со страхами и покрасневшими глазами, с плачущими младенцами и простым желанием — прожить свою жизнь нормально, до конца. Но варвары лишили их жизни.
Я до сих пор вспоминаю своих попутчиков: мальчика, оторванного от родителей во время посадки в товарный поезд; старика, молящегося незримому Богу; моих друзей Тони и Эриха, поддерживавших и утешавших друг друга; молодого человека с гангренозной забинтованной ногой, нежно целующего слезы на лице своей подруги; моего друга Альберта, поющего грустную народную песню; маленького мальчика, сидящего на коленях старой женщины, которая, подняв костыль, крикнула нам с Манфредом: «Кто еще расскажет, что с нами произошло? Идите! Вперед!»
И мы сбежали.
Теперь, по прошествии стольких лет, вот моя последняя тайна, которую я открываю тем, кто думал, что лишил меня жизни, и ошибочно причислил к мертвым:
Я — жив.
Спасибо мама, твое желание исполнилось — я это сделал. И это — моя история.
Иллюстрации
Лео со своей сестрой Диттой, кузиной Соней Топор и сестрой Генни, 1935
День Бар-мицвы Лео, март 1934. Слева направо: Генни, дядя Сэм, тетя Мина, Дитта, Лео и его мать Дора
Дитта (Эдит), 1931
Семья и друзья. Слева направо: (стоят) Франц Новотни, Мари Новотни, Леон Фишман, Макс Бретхольц; (сидят) Карола Топор, Мориц Топор, Дора Бретхольц (беременная Лео); (первый ряд) Марта Топор, Соня Топор, Лизль (няня), Хелен Топор, Чая Фишман. Вена, 1920
Подростки из гитлерюгенда и жители Вены смотрят, как еврейских мужчин и женщин заставляют, стоя на коленях, мыть тротуары. Вена, 1938. Фотография из Яд ва-Шем фотоархива, любезно предоставленная Мемориальным Музеем Холокоста в США
Свадебная фотография Мины и Сэма Гольдштейнов, 1927
Связь Лео с прошлым: фотографии (Генни и мать Лео), которые были повреждены, когда Лео переплывал Сауэр
Лео в Антверпене, 1940
Лео и семья Фрайермауеров — Нетти, Рашель, Йозеф и Анни. Бланкенберге, август 1939
Бельгийские документы, удостоверяющие личность Лео. С ними он был зарегистрирован в Люшоне в качестве временного жителя
Фотография, которую Лео получил в день рождения. На фото Дитта в возрасте тринадцати лет
Нетти, Лео и Анни во время прогулки по Котре
Милли Кахен. Находилась в Ривзальте одновременно с Лео, 1942
Еврейская звезда Лео, сорванная с куртки
Тетя Эрна Шерер, ок. 1950
Здание суда в Баньере, 1999.
Фотография любезно предоставлена Сюзи Спирой-Перниц
Один из рисунков Лео, нацарапанный им в одиночной камере
Кроссворды, составленные Лео вместе с сокамерником
Анни. Фотография, полученная Лео в тюрьме
Фальшивое свидетельство о рождении, давшее Лео возможность получить французское удостоверение личности на имя Макса Анри Лефэвра
Удостоверение личности Лео под новым именем Лефэвр
Члены «Шестой» в Шалю, 1944. Аео первый слева во втором ряду снизу
Принадлежащее Лео удостоверение члена организации Compagnons de France. Это удостоверение и униформа позволяли Лео практически беспрепятственно передвигаться по Франции, выполняя поручения «Шестой»
Одна из листовок, сброшенных над Лиможем, август 1944
Лео и Фредди Кноллер идут в американское посольство в Бордо, чтобы получить визы в США, декабрь 1946
Софи Альберт (тетя Лео), 1944
Лео со своей невестой Фло незадолго до их свадьбы, 1952
«Дядя» Мориц, ок. 1910
Юный Лео Бретхольц в 1938 году стоял на венской улице среди толпы, встречающей Гитлера. Тогда он еще не догадывался о том, что его мать и сестры будут сожжены, а его самого ждут шесть лет отчаянных побегов из тюрем и концлагерей, участие во французском Сопротивлении.
В 1947 году Лео приехал в Америку, поселился в Балтиморе и четырнадцать лет не говорил ни слова о войне. Пока не встретился с Майклом Олескером, который в течение многих лет записывал за ним его историю.
Эти полные любви чудесные мемуары должны быть прочитаны каждым, кого волнует судьба евреев, настигнутых холокостом. История Лео Бретхольца захватывает вас и не отпускает, пока книга не дочитана до конца. В мягкой сдержанной манере он излагает множество глубоко прочувствованных фактов.
Дебора Дворк, профессор по истории холокоста, университет Кларка Соавтор книги «Аушвиц: с 1270 до наших дней»Примечания
1
Anschluss (нем.) — присоединение (ист. политика насильственного присоединения Австрии к гитлеровской Германии). — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Shvitzer (идиш) — человек, который сильно потеет.
(обратно)3
Ein Volk, ein Reich, ein Führer! (нем.) — Один народ, один рейх, один фюрер!
(обратно)4
Песах — еврейская Пасха.
(обратно)5
Штефансдом (Stephansdom) — кафедральный собор Святого Стефана.
(обратно)6
«Елки-палки! Откуда у тебя такие очки?» (обратно)7
«Скрип-скрип; Зеленая и желтая корзинка…» (обратно)8
«Для меня ты красива…» (обратно)9
1 унция ~ 28,35 граммов.
(обратно)10
Чарльз Линдберг — американский летчик, в мае 1927 года совершил первый беспосадочный одиночный перелет через Атлантический океан.
(обратно)11
Compagnons de France — военизированная молодежная организация, вышколенная и политически руководимая лидерами, назначенными Виши. Ее слоган был: «Объединенные служить».
(обратно)

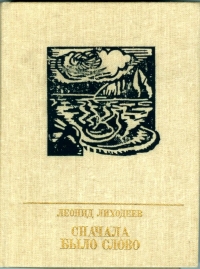

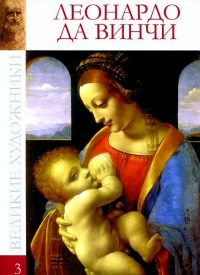
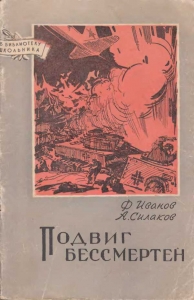



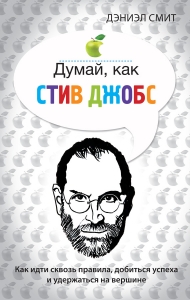
Комментарии к книге «Прыжок в темноту. Семь лет бегства по военной Европе», Лео Бретхольц
Всего 0 комментариев