А. Л. Субботин Фрэнсис Бэкон
Я завещаю свое имя и свою память суду милостивых людей, чужим народам и отдаленному будущему.
Фрэнсис БэконГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Субботин Александр Леонидович (1927 года рождения) — доктор философских наук, старший научный сотрудник Института философии АН СССР. Работает в области формальной логики, методологии науки, истории философии. Основная монография: «Традиционная и современная формальная логика» (М., 1969). Составитель, редактор и автор вступительной статьи издания: Ф. Бэкон. Сочинения в двух томах (М., 1971–1972).
Введение
У начала новой европейской философии возвышается колоритная фигура Фрэнсиса Бэкона. На нем пышные одежды в стиле барокко, его мысли отмечены великой культурой Ренессанса, в отдельных его привязанностях сквозит даже что-то от средневековья, но живет в нем душа, устремленная в будущее. Вряд ли кто-либо, кроме немногих специалистов, заинтересуется сейчас его юридическими трактатами, политическими выступлениями или теологическими спекуляциями. Остались вне истории и его многочисленные опусы на конкретные естественнонаучные темы. Однако до сих пор живы в сознании многих его броские афоризмы, максимы его практической философии и слова торжественного гимна в честь всемогущества человеческого знания и экспериментальной науки. По крайней мере три идейных фактора определили формирование и характер новой европейской философии — возрождение античных культурных ценностей, религиозная реформация и развитие естествознания. И воздействие всех их отчетливо прослеживается в воззрениях Бэкона — последнего крупного философа Возрождения и зачинателя философии нового времени.
От античной философии новая заимствовала задачу исследования последних оснований бытия, познания и деятельности человека и постижения всей реальности в ее связи с этими основаниями. В эпоху Реформации, когда была подорвана монополия церкви и ее идеологии на духовную жизнь общества и высшей религиозной целью стало внутренне-интимное отношение человека к богу, философия превращается в существенно светскую область свободного знания. Наконец, развитие науки, и прежде всего нового естествознания, побуждает ее постоянно согласовывать свои представления и умозрения с данными и методами, принятыми в точном знании, и в этом смысле делать своей предпосылкой те проблемы и результаты, которые достигнуты наукой ее времени.
Однако, если первый фактор конституирует в философии прежде всего традиционное содержание, если второй — способствует освобождению философии от теологической проблематики и того служения религии, которому она отдавалась в средневековый схоластический период своего существования, то именно третий — связь с наукой — выступает поистине ферментом ее развития. При этом уже с первых же шагов влияние новой науки поляризует философские воззрения. С одной стороны, математика и математизированное естествознание воздействуют на философию в направлении преобразования ее в абстрактную рациональную дисциплину, стремящуюся развить свои положения из небольшого числа принятых за очевидные постулатов. С другой стороны, эмпирическая методология подсказывает совершенно иную архитектонику философских представлений. Декарт и Бэкон — два пионера новой философии достаточно выразительно иллюстрируют собой эти тенденции.
Через эти идейные факторы и в рамках условий, которые предписываются самой проблематикой философии, на последнюю, вообще говоря, оказывает влияние как общее, так и специфичное для той или иной нации общественнополитическое и экономическое развитие. Без учета этого социального фактора трудно понять и дух новой европейской философии в целом, и многие устремления во взглядах ее выдающихся представителей. Ведь философы — «продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях» (1, стр. 105)[1]. И в качестве таковой духовной квинтэссенции времени философию надлежит рассматривать не только как определенную систему по отношению к другим, в частности предшествующим, философским системам, но и во взаимодействии с политическими, юридическими, моральными и культурными идеями, стремлениями и ценностями современного ей мира. Это понимание — истинная альтернатива взглядам и старого, и нового позитивизма, измеряющего духовную культуру прямолинейными масштабами точного знания и усматривающего в истории философии серию претенциозных заблуждений, нечто вроде безвыходного лабиринта, в котором бесперспективно блуждали по извилистым стезям ее представители. То, что по существу чуждо позитивизму, так это исторический метод и подлинно исторический образ мышления. Между тем ознакомление с историей прививает скептицизм и нигилизм лишь слабым умам, сильные оно делает мудрыми.
Но что же представляет из себя собственно философия Бэкона, каковы ее идейные источники и каков его индивидуальный почерк как философа? Ответить на эти вопросы должна вся книга. Натурфилософия Возрождения наряду с крепкой традицией английского номинализма и эмпиризма подготовила почву для бэконовской философской реформации. Его философия была продолжением натурализма Возрождения, который он вместе с тем освобождал от пантеизма, мистицизма и различных суеверий. Продолжением и вместе с тем его завершением. Остатки органистических воззрений сочетались в ней с началами аналитического метода, поэтичность с трезвым рационализмом, критицизм с нетерпеливым желанием охватить все и обо всем высказаться. Она удивительно концентрированно воплотила в себе тот последний мощный всплеск культуры Возрождения, который породил запоздалый, кратковременный и напряженный английский Ренессанс, этот яркий закат всего западноевропейского Ренессанса, почти слившийся с зарею грядущего Просвещения.
И по своим намерениям, и в действительности Бэкон играл в философии роль реформатора. Но обставлена она была классическими декорациями. Провозгласив принципиально новую ориентацию и значимость философии, Бэкон в понимании если не задач, то объема ее компетенции примыкал к классической античной традиции, одновременно придавая этому понятию и то широкое значение научного знания вообще, которое надолго укоренится в англосаксонском обиходе. Он включал в философию почти всю совокупность наук и видел ее задачу в изучении как природы, так и человека с некоторой методологически единой точки зрения. И вместе с тем этот родоначальник сциентизма в философии, если только он не обсуждает специальные естественнонаучные проблемы и опыты, в своих рассуждениях умел сохранить тот особенный аспект подхода, который соотносится с непосредственным значением этого древнегреческого термина «философия» — любомудрие. В частности, в этом обстоятельстве, так же как и в стиле Бэкона, порой вычурном и нарочито образном, но литературно точном и впечатляющем, сказалось его классическое образование — его умственное воспитание на произведениях античных авторов. Энтузиаст новых экспериментальных исследований и естественнонаучной методологии, провозгласивший, что отныне открытия надо искать в свете Природы, а не во мгле Древности, не мог разорвать пуповину, связывающую его с этой Древностью, и она питала его радикальные новаторские замыслы своими понятиями, образами и аргументами.
Размышляя сегодня над наследием Фрэнсиса Бэкона — философией далекого английского Возрождения, мы находим в нем самые различные элементы и напластования — новаторские и традиционалистские, научные и поэтические, мудрые и наивные, те, корни которых уходят в глубь веков, и те, которые протягивают во времени свои вечнозеленые побеги в миры иных социальных структур, проблем и умонастроений.
Такова уж судьба классической философской мысли — долгая жизнь, в отличие от эпигонских и плоских философствований, претенциозность которых болезненно ощущается уже современниками. Анализ и оценка последних обычно не представляют труда и легко могут перекрыть их убогое содержание. Оригинальная же мысль содержит в себе тайну метаморфозы, возможность многократного и неожиданного преломления в умах будущих поколений.
Время. Все более и более отдаляя от нас эпоху, в которую жил и творил Бэкон, оно скрадывает отдельные детали его взглядов, стушевывает контекст, в котором формировались и развивались его идеи, превращает в несущественное то, что он сам счел бы существенным, и таким образом провоцирует на упрощение и модернизацию. Ведь разве задача историко-философского исследования, конечно предполагающая тщательный анализ текстов произведений, в которых воплощены взгляды мыслителей, их сопоставление и выяснение связей между ними, сводится только к такому анализу? И тогда мы сталкиваемся с проблемой. Не означает ли понимание философа «изнутри», становясь на его точку зрения и целиком переносясь в его эпоху, предпочтения исторической истины перед философской и volens-nolens[2] забрасывания на ниву философии семян дилетантизма и скептицизма? А с другой стороны, ведь каждой философии присуще свое отношение к истории и разве мало примеров того, как в угоду тех или иных философских систем искажались и деформировались взгляды стольких мыслителей? Избежать и той и другой крайности — дело не только простой добросовестности, но прежде всего таланта исследователя, глубины тех идейных и методологических принципов, которые он принимает, и меры его исторического и философского вкуса.
И то же время проявило и сделало более отчетливым для нас, чем для его современников и непосредственных продолжателей, основное историческое значение взглядов Бэкона. Да, в век бурного научно-технического развития мы не можем не вспомнить того, кто предвещал его наступление, разглядев его первые отдаленные зарницы, чье scientia est potentia[3] стало одним из девизов людей нашего времени — девизом их труда, мировоззрения и сотрудничества. Это правда, он не стоял в рядах тех, кто своим повседневным, кропотливым трудом камень за камнем возводил грандиозное здание современного научного и технического знания. Он не стал ни архитектором, ни инженером этого строительства, но он дал ему несравненную рекламу. Он и сам сравнивал себя с герольдом: я всего лишь трубач и не участвую в битве; я, наверное, один из тех, о ком Гомер сказал:
«Здравствуйте, мужи — глашатаи, вестники бога и смертных!…И наша труба зовет людей не ко взаимным распрям или сражениям и битвам, а, наоборот, к тому, чтобы они, заключив мир между собой, объединенными силами встали на борьбу с природой, захватили штурмом ее неприступные укрепления и раздвинули… границы человеческого могущества» (5, 1, стр. 251).
I. Жизнь, личность, стремления
Он родился 22 января 1561 года в Лондоне, в Йорк-Хаузе на Стренде, в семье одного из высших сановников елизаветинского двора, сэра Николаса Бэкона.
Сын управляющего овцеводческим поместьем аббатства Бери Сент-Эдмундс, Николас Бэкон выдвинулся благодаря своей юридической и политической деятельности и получил от короны в собственность конфискованную монастырскую землю, на которой его отец служил у монахов в должности бейлифа. Он поднялся в своей карьере до хранителя большой печати Англии и почти двадцать лет, вплоть до самой смерти, занимал этот высокий пост в правительственном кабинете. Его вторая жена, мать Фрэнсиса Бэкона, происходила из семьи сэра Антони Кука — воспитателя короля Эдуарда VI. Анна Кук была весьма образованной женщиной. Она хорошо владела древнегреческим и латынью, интересовалась теологией и перевела на английский язык несколько религиозных сочинений, в том числе проповеди о судьбе и свободе воли Бернардо Окино — одного из тех итальянских церковных реформаторов, от которых ведет свое начало социнианская ересь. Сестра Анны была замужем за Вильямом Сесилем, лордом-казначеем Берли, первым министром в правительстве королевы Елизаветы.
Это была «новая знать». Бэконы, Сесили, Расселы, Кавендиши, Сеймуры и Герберты вытесняли из придворной и общественной жизни страны старую родовую аристократию, обескровленную в многолетней «войне Роз» и потерявшую былое политическое значение перед лицом торжествующего абсолютизма Тюдоров. Выходцы из сельских джентри, они не наследовали ни титулов, ни обширных поместий, не имели ни свит, ни укрепленных замков. Всем, что они имели, они были обязаны абсолютистской монархии и за это платили ей служением не за страх, а за совесть. В их бдительной преданности, расчетливой умеренности и трезвом стремлении к порядку корона нашла стойкую поддержку своим мероприятиям и умело противопоставляла эти добродетели как строптивости старых ноблменов, ревниво оберегавших остатки своих средневековых вольностей, так и двуличию духовных пэров, более преданных своей касте, чем королю и отечеству.
Такова была та среда, в которой рос и воспитывался будущий философ и лорд-канцлер Англии.
Весной 1573 года мальчика посылают учиться в Тринити колледж в Кембридж. Реформация в значительной мере ослабила зависимость от церкви и монашеских орденов двух основных национальных центров науки и образования Англии. Оксфорд и Кембридж приобретали светский характер, и здесь обучалась молодежь, желающая в будущем получить какие-нибудь государственные должности. И хотя еще при Генрихе VIII комиссары Томаса Кромвеля формально изгнали отсюда схоластиков, Аристотеля продолжали изучать теперь уже без фривольных вопросов и темных толкований средневековых комментаторов. Известный гуманист и педагог Роджер Ашэм с восторгом писал о развитии классического образования в Кембридже, который «стал совсем другим… Аристотель и Платон читаются даже мальчиками… Софокл и Эврипид теперь авторы более знакомые, чем в наше время был Плавт» (35, стр. 86). Печать этой классической выучки отметит все последующее творчество Фрэнсиса Бэкона, и все же он ушел из колледжа с сохранившейся на всю жизнь неприязнью к философии Аристотеля, по его мнению, пригодной для изощренных диспутов, но бесплодной в отношении всего, что могло бы служить пользе человеческой жизни.
Желая подготовить сына к государственной службе, Николас Бэкон отправляет шестнадцатилетнего юношу в Париж, где он приобщается к составу английского посольства. Потрясаемая междоусобной борьбой католиков и гугенотов, Франция могла ему дать превосходный урок политического образования. Дипломатическая работа позволила юному Бэкону ознакомиться с политической, придворной и религиозной жизнью и других стран континента — итальянских княжеств, Германии, Испании, Польши, Дании и Швеции, результатом чего явились составленные им заметки «О состоянии Европы».
Но вот смерть отца в феврале 1579 года заставляет Бэкона возвратиться в Англию. Как младший сын в семье, он получает скромное наследство и теперь вынужден серьезно задуматься о своем будущем положении. Бэкон поступает в юридическую корпорацию Грейс-Инн, где на протяжении ряда лет изучает юриспруденцию и философию. По-видимому, именно в эти годы у него начинает созревать тот план универсальной реформы науки, который он впоследствии будет реализовывать в своих философских сочинениях.
В 1586 году Бэкон становится старшиной юридической корпорации. Он обзаводится в Грейс-Инне новым домом, пишет ряд трактатов по праву и ведет обширную судебную практику. До нас дошло свидетельство современника, известного английского драматурга Бена Джонсона, о том впечатлении, которое производило выступление на суде Бэкона-юриста. «Никогда и никто не говорил с большей ясностью, с большей сжатостью, с большим весом и не допускал в своих речах меньше пустоты и празднословия. Каждая часть его речи была по-своему прелестна. Слушатели не могли ни кашлянуть, ни отвести от него глаз, не упустив что-нибудь. Говоря, он господствовал и делал судей по своему усмотрению то сердитыми, то довольными. Никто лучше его не владел их страстями» (27, стр. 21).
Между тем юриспруденция была далеко не главным предметом интересов широкообразованного и честолюбивого молодого юриста. По своему рождению и воспитанию Бэкон имел шансы получить выгодную должность при дворе и именно этими мотивами пронизана почти вся дошедшая до нас его частная переписка тех лет. «Я сейчас как сокол в ярости — вижу случай послужить, но не могу лететь, так как я привязан к кулаку другого, — такими словами сопровождает он свой новогодний подарок королеве Елизавете. — Я использую свое преимущество преподнести вашему величеству это скромное одеяние, столь же недостойное, как и ваш слуга, который его посылает, хотя приближение к вашей превосходной милости может придать ценность и тому и другому; в этом и состоит все счастье, к которому я стремлюсь» (54, II, стр. 1).
Его не удовлетворяет ни назначение экстраординарным королевским адвокатом на должность почетную, но не обеспеченную жалованием, ни зачисление кандидатом на место регистратора Звездной палаты, которое он смог бы занять лишь через двадцать лет. Неоднократно обращается Бэкон с покорными просьбами к своим высокопоставленным родственникам Сесилям. «Я отлично вижу, что суд станет моим катафалком скорее, чем потерпят крах мое бедное положение и репутация» (54, II, стр. 3), — жалуется он в одном из писем к дяде — лорду-казначею Берли. А вот отрывок из другого письма к Берли, которое не только раскрывает нам умонастроение Бэкона того периода, но и содержит намек на обстоятельства, побуждавшие Сесилей тайно препятствовать его карьере.
«Моим всегдашним намерением было в какой-нибудь скромной должности, которую я мог бы выполнять, служить ее величеству; не как человек, рожденный под знаком Солнца, который любит честь, или под знаком Юпитера, который любит деловитость, ибо меня целиком увлекает созерцательная планета, но как человек, рожденный под властью превосходнейшего монарха, который заслуживает посвящения ему всех человеческих способностей… Вместе с тем ничтожность моего положения в какой-то степени задевает меня; и хотя я не могу обвинить себя в том, что я расточителен или ленив, тем не менее мое здоровье не должно расстраиваться, а моя деятельность оказаться бесплодной. Наконец, я признаю, что у меня столь же обширные созерцательные занятия, сколь умерены гражданские, так как я все знание сделал своей областью. О, если бы я мог очистить его от двух сортов разбойников, из которых один с помощью пустых прений, опровержений и многословий, а другой с помощью слепых экспериментов, традиционных предрассудков и обманов добились так много трофеев! Я надеюсь, что в тщательных наблюдениях, обоснованных заключениях и полезных изобретениях и открытиях я добился бы наилучшего состояния этой области. Вызвано ли это любопытством, или суетной славой, или природой, или, если это кому-либо угодно, филантропией, но оно настолько овладело моим умом, что он уже не может освободиться от этого. И для меня очевидно, что при сколь-либо разумном благоволении должность позволит распоряжаться с большим умом, нежели это может сделать человеческий ум сам по себе; это как раз то, что меня сейчас волнует более всего. Что же касается вашей светлости, то в такой должности вы не найдете большей поддержки и меньшего противодействия, чем в любой другой. И если ваша светлость подумает сейчас или когда-нибудь еще, что я ищу и добиваюсь должности, в которой вы сами заинтересованы, то вы можете назвать меня самым бесчестным человеком» (54, II, стр. 2).
В этом письме, датированном 1591 годом, мы уже узнаем всего Бэкона — реформатора, одержимого далеко идущим замыслом преобразования всей науки, и вместе с тем царедворца по природе, тоскующего от сознания своей непричастности к полноте придворной и политической жизни. Правда, потом, когда его карьера сановника потерпит скандальный крах, он будет утверждать, что был рожден скорее для литературной, чем для какой бы то ни было иной, деятельности и оказался совершенно случайно «вопреки склонности своего характера на поприще практической деятельности» (5, 1, стр. 494). Но так будет потом, через тридцать лет, и это, быть может, будет правдой его старческой реминисценции, но не правдой всей прожитой им жизни. Теперь же и еще долгое время потом он будет гореть настойчивым желанием применить свои силы на государственной службе.
В 1593 году мы видим Бэкона заседающим в палате общин от Мидлсекского графства, где он вскоре приобретает славу выдающегося оратора. На короткое время он даже возглавляет оппозицию, когда палата общин пытается отстаивать свое право определять размер субсидий короне независимо от лордов. Вот что он говорил, выступая в парламенте против правительственного предложения об увеличении подати: «Прежде чем все это будет уплачено, джентльмены должны будут продать свою серебряную посуду, а фермеры — медную, что же касается нас, то мы находимся здесь не для того, чтобы слегка ощупывать раны государства, а для того, чтобы их исследовать. Опасность заключается в следующем. Во-первых, мы возбудим недовольство и подвергнем риску безопасность ее величества, которая должна основываться более на любви народа, чем на его богатстве. Во-вторых, если мы допустим это в данном случае, другие государи станут потом требовать того же, так что мы продемонстрируем плохой прецедент для себя и для своих потомков; история же убеждает нас, что англичане менее всех других народов способны подчиняться, унижаться или быть произвольно облагаемы податью» (27, стр. 22). В правительственных кругах речь Бэкона была воспринята как оскорбительная, и он поспешил в письмах к высокопоставленным лицам объяснить, что выступал с наилучшими намерениями, что только завистник или официальный доносчик могли бы обвинить его в стремлении к дешевой популярности или оппозиции. Он просил «сохранить хорошее мнение о нем», «признать искренность и простоту его сердца» и «восстановить в добром расположении ее величества» (54, II, стр. 4–5).
Между тем доброе расположение к Бэкону ее величества не простиралось далее милостивых бесед и консультаций по правовым и другим государственным вопросам. Как замечает его духовник и первый биограф В. Раули, хотя королева и «поощряла его со всей щедростью своей улыбкой, она никогда не поощряла его щедростью своей руки» (54, I, стр. IV). Настойчивые и многолетние попытки влиятельных друзей и покровителей заполучить для Бэкона высокие должности коронного адвоката не приводили ни к каким результатам. Ничего не добился здесь и граф Эссекс, молодой королевский фаворит и новый соперник дома Сесилей, искренне привязанный к Бэкону и употребивший в этом деле всю свою силу, влияние и связи. Они сблизились — этот блестящий, порывистый генерал и внешне незаметный, гибкий и предусмотрительный королевский поверенный. Чтобы как-то материально поддержать Бэкона, граф подарил ему свое поместье в Твикнем-парке. Но вот спустя несколько лет этот герой испанской войны, провалив ирландскую кампанию, теряет былое доверие королевы, все свои должности и доходы от винной монополии. Эссекс негодует и не очень-то внемлет благоразумным советам своего друга Фрэнсиса. В конце концов он решается даже на демонстративный антиправительственный бунт. И тогда в суде выступит экстраординарный королевский адвокат Бэкон. Он обвинит графа в обдуманном и заранее подготовленном заговоре, сравнит его ни много ни мало как с самим герцогом Гизом, а безрассудный эксцесс в Сити с днем парижских баррикад; и после его казни напишет обнародованную правительством «Декларацию о действиях и изменах, предпринятых и совершенных Робертом, графом Эссексом».
При Елизавете он так и не поднялся ни на одну ступень придворной служебной лестницы. Зато он — подающий надежды писатель. В 1597 году вышли в свет произведения, принесшие Бэкону литературную известность, — томик небольших эссе на религиозные, моральные и политические темы. В нем содержался и первый вариант его «Опытов или наставлений нравственных и политических», состоящих пока всего из десяти эссе. Позднее он дважды переиздаст свои «Опыты», всякий раз перерабатывая и пополняя их новыми очерками. За год до смерти в посвящении к третьему английскому изданию он признается, что из всех его сочинений «Опыты» получили наибольшее распространение. «Они принадлежат к лучшим плодам, которые божьей милостью могло принести мое перо» (5, 2, стр. 351).
Иные перспективы открыло перед ним правление Якова I Стюарта. Тщеславному и мнящему себя мудрецом монарху, этому запоздалому теоретику абсолютизма и автору трактатов о предопределении, колдовстве и о вреде табака, весьма импонировали литературная известность, остроумие и образованность до сих пор еще не оцененного по заслугам юриста. В день коронации короля Бэкона жалуют званием рыцаря. В следующем году он назначается штатным королевским адвокатом, в 1607 году получает пост генерал-солиситора, а еще через пять лет — должность генерал-атторнея — высшего юрисконсульта короны. Эти же годы ознаменовались и подъемом его философско-литературного творчества. В 1605 году Бэкон публикует трактат «О значении и успехе знания, божественного и человеческого», в котором обосновывал великую роль наук для жизни людей и набрасывал идею их классификации. Это был прообраз его труда «О достоинстве и приумножении наук», начало воплощения плана «Великого Восстановления Наук». Параллельно шло обдумывание и других разделов «Великого Восстановления». В ряде так и незаконченных, а то и едва начатых работ, над которыми он трудился в течение 1603–1612 годов, мы находим много идей и положений, получивших впоследствии развитие в «Новом Органоне». В 1609 году вышел его сборник оригинальных толкований античных мифов «О мудрости древних». В 1612 году он подготавливает второе, значительно расширенное издание «Опытов или наставлений». По-видимому, в то же время им были закончены «Описание интеллектуального мира» и «Теория неба».
Бэкон по-прежнему активно участвует в работах суда и парламента, хотя в палате общин, где он заседает, и раздаются голоса против присутствия в ней королевского поверенного и других чиновников короны: «…глаза у них становятся слабыми, королевский паек застилает зрение» (22, стр. 172). Бэкон уже не фрондирующий парламентарий, а угодливый царедворец, ловко сочитающий свои благоразумные советы Якову I держаться союза с органом «народного представительства» с самыми льстивыми восхвалениями его абсолютистских писаний и политической мудрости. Он трудится над упорядочением и собранием в единый свод законов Англии и вместе с тем, используя свое служебное положение, не раз побуждает судей применять законы в выгодном для короны смысле. В своем усердии генерал-атторней не останавливается и перед применением недозволенных средств дознания. Впоследствии, став лордом-канцлером, Бэкон будет всячески усиливать значение административного канцлерского суда, так называемого «суда справедливости» — одной из опор неограниченной монархической власти, в противовес базирующимся на английском национальном законодательстве «судам общего права».
В 1614 году разъяренный требованием прекратить сбор всех неутвержденных палатой налогов, Яков I распускает парламент и в течение почти семи лет правит страной единолично, опираясь лишь на группу своих фаворитов, среди которых на первый план выдвигается Джордж Вилльерс, впоследствии герцог Бекингем и лорд-адмирал Англии — одна из самых одиозных фигур в политической жизни того времени. В этот период начинается новое служебное возвышение Бэкона. В 1616 году он назначается членом Тайного совета, на следующий год — хранителем большой печати, а в 1618 году становится лордом-верховным канцлером и пэром Англии. Король явно благоволит к Бэкону, фамильярно называя его «своим добрым правителем», и, уезжая в Шотландию, поручает ему на время своего отсутствия управление государством. В свою очередь лорд-канцлер является послушным орудием в руках королевского любимца «до сумасшествия высокомерного» Бекингема и волей-неволей оказывается втянутым в целый ряд его неприглядных махинаций. Эти годы канцлерства Бэкона совпадают с самыми позорными годами царствования Якова I. Интриганство, взаимная подозрительность, всесилие фаворитов и выскочек делаются почти что нормами придворной жизни. Продаются и должности и дворянские титулы, в государственном аппарате процветает казнокрадство и взяточничество, в стране усиливаются политические и религиозные гонения. В эти годы в жизни английского двора происходит тот роковой поворот, то крайнее обострение феодальной реакции и изменение во внутренней и внешней политике, которые через двадцать пять лет с неизбежностью приведут страну к революционному взрыву.
В начале 1621 года, остро нуждаясь в субсидиях, Яков I вновь созывает парламент. Его депутаты выражают решительное недовольство ростом монополий, с раздачей и деятельностью которых было связано множество злоупотреблений. Парламент привлек к судебной ответственности наиболее ненавистных предпринимателей-монополистов и повел расследование дальше.
Комитет нижней палаты, ревизовавший дела государственной канцелярии, предъявил обвинение во взяточничестве лорду-канцлеру. Король в своем послании общинам предложил образовать специальную комиссию по расследованию этого дела из членов обеих палат. В эти дни барон Веруламский и виконт Сент-Албанский Фрэнсис Бэкон писал Якову: «Было время, когда я приносил вам стон голубицы от других, теперь я приношу его от себя… Я никогда не был, как это лучше всех знает ваше величество, автором каких-либо неумеренных советов и всегда стремился решать дела наиприятнейшим образом. Я не был корыстолюбивым притеснителем народа. Я не был высокомерным и нетерпимым в своих разговорах или обращении; я не унаследовал от моего отца ненависти и родился хорошим патриотом… Что же касается подкупов и даров, в которых меня обвиняют, то, когда откроется книга моего сердца, я надеюсь, там не найдут мутного фонтана испорченного сердца, растленного обычаем брать вознаграждения, чтобы обмануть правосудие; тем не менее я могу быть нравственно неустойчивым и разделять злоупотребления времени. И поэтому я решил, когда мне придется держать ответ, я не буду обманывать относительно моей невиновности, как я уже писал лордам, заниматься крючкотворством и пустословием, но скажу им тем языком, которым говорит мне мое сердце, оправдывая себя, смягчая свою вину и чистосердечно признавая ее» (54, II, стр. 122).
Лорды поддержали обвинение против Бэкона, и он предстал перед судом. Он сознался в продажности и отказался от защиты. Приговор пэров был суров, но они знали, что он будет смягчен королем, и могли проявить всю свою принципиальность. Бэкона приговорили к уплате 40 тысяч фунтов штрафа, заключению в Тауэр, лишению права занимать какие-либо государственные должности, заседать в парламенте и быть при дворе. Через два дня он был освобожден из заключения, а вскоре освобожден и от штрафа. Позже он добился и полного помилования — ему было разрешено являться ко двору, и в следующем парламенте он уже мог занять свое место в палате лордов. Но его карьера государственного деятеля кончилась. «…Возвышение требует порой унижения, а честь достается бесчестьем. На высоком месте нелегко устоять, но нет и пути назад, кроме падения или по крайней мере заката, а это — печальное зрелище», — писал Бэкон в одном из своих эссе — «О высокой должности» (5, 2, стр. 373). Справедливость этих слов подтвердила и жизненная судьба их автора. Из двух всепоглощающих стремлений, которыми была одержима эта натура, осталось лишь одно — занятия наукой.
В 1620 году Бэкон опубликовал свой знаменитый «Новый Органон», содержащий его учение о методе и теорию индукции, по замыслу вторую часть так и незавершенного генерального труда своей жизни «Великого Восстановления Наук». Теперь он весь отдается творчеству. Он работает над кодификацией английских законов и над историей Англии при Тюдорах; готовит третье английское и латинское издания «Опытов или наставлений» и цикл работ по «Естественной и экспериментальной истории»; печатает свой самый объемистый и систематический труд «О достоинстве и приумножении наук» (1623 г.), первую часть «Великого Восстановления» и сборник «Изречения, новые и старые» (1625 г.). В эти же годы он работал, так и не успев их окончить, над трактатами «О началах и истоках в соответствии с мифами о Купидоне и о небе, или о философии Парменида и Телезио и особенно Демокрита в связи с мифом о Купидоне» и окончательным вариантом «Новой Атлантиды».
Его поместье Горхамбури заложено, а быт в Грейс-Инне, где он теперь живет, скромен и прост по сравнению с роскошной обстановкой Йорк-Хауза времен его канцлерства, и Бэкону трудно с этим примириться. Он чувствует стеснение в средствах, так как привык жить на широкую ногу, и в своем письме к королю проникновенно умоляет о помощи, «чтобы я не был вынужден на старости лет идти побираться». Последнее время он много болеет. Однажды холодной весной 1626 года Бэкон решает проделать опыт с замораживанием курицы, чтобы убедиться, насколько снег может предохранить мясо от порчи. Собственноручно набивая птицу снегом, он простудился и, пролежав около недели, умер в доме графа Аронделя в Гайгете 9 апреля 1626 года. В своем предсмертном письме он не упустил блеснуть броским сравнением: «Мне грозит участь Плиния, приблизившегося к Везувию, чтобы лучше наблюдать извержение», сообщая, что опыт с замораживанием «удался очень хорошо».
II. Великий замысел
До нас дошло только название этого произведения, по-видимому, написанного Бэконом еще в годы пребывания в корпорации Грейс-Инн. Но, кажется, именно в нем, многозначительно названном «Величайшее порождение времени», он впервые сформулировал свою идею универсальной реформы человеческого знания на базе утверждения опытного метода исследований и открытий. Ссылка на время не была простым риторическим оборотом. Бэкон и впоследствии считал замысел «Великого Восстановления Наук» — Instaurationis Magnae Scientiarum — скорее порождением времени, чем своего ума. Его план он опубликовал в 1620 году вместе с «Новым Органоном». Это был грандиозный замысел.
Его первая часть «Разделение наук» призвана была дать обзор и классификацию уже достигнутых человечеством знаний и указать темы, которые прежде всего нуждаются в дальнейшем изучении. Первоначальная разработка этой части была дана Бэконом во второй книге трактата 1605 года «О значении и успехе знания, божественного и человеческого», а систематическая и полная — в трактате 1623 года «О достоинстве и приумножении наук». Сегодня было бы слишком неблагодарно по отношению к Фрэнсису Бэкону скрупулезно обсуждать и оценивать все его многочисленные соображения о тех или иных научных проблемах, все его предложения поставить такие-то эксперименты и осуществить такие-то изобретения. Некоторые из них представляются нам наивными и несостоятельными, за ними чувствуется и дилетантизм, и скороспелость выводов. Некоторые порождены архаичными, уже канувшими в Лету естественнонаучными и философскими представлениями. Он, например, считал нужным опровержение теории Коперника и не принимал открытия Кеплера. И вместе с тем то тут, то там вдруг блеснут прозрения такой глубины, как будто они выхвачены лучом его жадной фантазии не из хаоса еще полусредневековой науки, а из непосредственного или даже отдаленного ее будущего. И, не говоря уже о том, что его трактат содержит много глубоких и здравых соображений, он пронизан самой живой заинтересованностью в успехах развития знания. Природа, человек, общество, история, политика, мораль, психология, поэзия — все интересует его, во всем он хочет обнаружить нечто поучительное, важное и полезное. И мы не можем не отдать должное его поистине энциклопедическому труду, оказавшему влияние на целую эпоху философского и научного развития, труду, на который ссылался еще Д’ Аламбер, приводя его подробную схему в своей вступительной статье к знаменитой французской «Энциклопедии, или Толковому словарю наук, искусств и ремесел».
Вторую часть составлял «Новый Органон или указания для истолкования природы». Здесь излагалось учение о методе познания как «законном сочетании способностей опыта и разума» и «истинной помощи» разума в исследованиях вещей. В противоположность дедуктивной логической теории аристотелевского «Органона» Бэкон выдвигает индуктивную концепцию научного познания, в основе которой лежат опыт и эксперимент и определенная методика их анализа и обобщения. Эта часть — философско-методологический фокус всего бэконовского замысла и вместе с тем последний систематически разработанный раздел его «Великого Восстановления Наук».
Третья часть предполагала кропотливую и не свойственную таланту Бэкона работу по изучению и систематизации различных природных фактов, свойств и явлений, естественнонаучных наблюдений и экспериментов, которые, согласно его концепции, должны были стать исходным материалом для последующего индуктивного обобщения. Он, конечно, вправе был жаловаться на случайный и несовершенный характер опытов тогдашнего естествознания, оно только вырабатывало методику точного эксперимента. Он вправе был критиковать и существовавшие литературные источники натуралистических сведений — античные и средневековые — за легковесность и скудость содержащихся в них фактов, к тому же перемешанных с фантастическими вымыслами и суевериями. Он разумно требовал, чтобы для каждого нового эксперимента давалось описание способа, которым он производился, дабы, во-первых, его можно было повторить и проверить, а во-вторых, усовершенствовать его методику. Но предлагаемые им самим конкретные исследования порой страдали аналогичными недостатками. Небольшой набросок этой части «Приготовление к естественной и экспериментальной истории, или План естественной и экспериментальной истории, способной служить надлежащим основанием и базой истинной философии» появился в 1620 году в одном томе с «Новым Органоном». Развернуть ее он хотел в большой работе «Естественная и экспериментальная история для основания философии или явления мира», состоящей из шести трактатов, но успел опубликовать только два — «Историю ветров» (1622 г,) и «Историю жизни и смерти» (1623 г.). Трактат «История плотного и разреженного и о сжатии и расширении материи в пространстве» был издан Раули в 1658 году. К остальным трем — «Истории тяжелого и легкого», «Истории симпатии и антипатии вещей» и «Истории серы, ртути и соли» (знаменитой триады ятрохимии) — Бэкон успел написать только предисловия. К тому же циклу следует отнести наброски «Исследование, касающееся магнита» (издан Раули в 1658 г.), «Вопросы и исследование, касающееся света и светящейся материи» (издан Грутером в 1653 г.) и ряд других. Наконец, назовем еще его обширный труд с трудно переводимым названием «Sylva Sylvarum, или Естественная история в десяти центуриях» (дословно это значит «Лес лесов»), который был опубликован Раули вместе с «Новой Атлантидой» в 1627 году. Он состоит из 1000 параграфов, разбитых на десять центурий (сотен). Каждый параграф содержал описание тех или иных наблюдаемых природных явлений и некоторых условий, объясняющих их. Факты были взяты из различных источников — из собственных наблюдений Бэкона, из сообщений других лиц, многие — из книг. При этом главными литературными источниками служили: «Метеорология» Аристотеля, псевдоаристотелевские «Проблемы», «Естественная история» Плиния, «Натуральная магия» Порты, «Путешествия» Сэндиса, «О тонкости» Кардано и «Против Кардано» Скалигера.
В четвертой части «Лестнице разума» на частных, но типичных и разнообразных примерах должен был быть продемонстрирован весь тот развернутый ход исследования и порядок научного открытия, методика которого изложена в «Новом Органоне». К этой части Бэкон написал лишь небольшое вступление. Только предисловие им было написано и к пятой части «Предвестию, или Предварению второй философии». Она должна была содержать предвосхищения подлинно научного объяснения явлений природы, предварительные результаты собственных наблюдений и открытий автора, еще не проверенные надлежащим образом строго научным методом. Что же касается последней, шестой части «Второй философии, или Действенной науки», то есть взятой в самом широком объеме системы научного знания, построенного на базе сформулированной им методологии, то Бэкон скромно признавался: дать завершающую ее картину — «дело, превышающее и наши силы, и наши надежды» (5, 1, стр. 83). Это дело он оставлял всему последующему развитию человечества.
Такова общая концепция и структура «Великого Восстановления». Она была связана не только с пропагандой научного знания и предчувствием зреющих в нем перемен, но и с утверждением новых целей науки, ее общественного престижа и предвидением решающей роли в будущности человечества. До сих пор состояние наук, да и механических искусств (так называет он различные технические достижения), было далеко не удовлетворительное. Из двадцати пяти столетий едва ли можно выделить шесть благоприятных для их развития. Это — эпохи греческих досократиков, древних римлян и новое время. Все остальное — сплошные провалы в знании, в лучшем случае крохоборческое движение, а то и топтание на одном месте, пережевывание одной и той же умозрительной философии, переписывание одного и того же из одних книг в другие. Конечно, и в отвлеченных размышлениях, и в силе ума древние показали себя достойными уважения. Но если раньше в морских плаваниях люди, определяя свой путь только по звездам, могли обойти берега лишь Старого Света и пересечь его внутренние моря, то, прежде чем переплыть океан и открыть Новый Свет, они должны были узнать употребление компаса. Точно так же все то, что до сих пор найдено в науках и искусствах, добыто узкой и случайной практикой, умозрительным размышлением и простым наблюдением, ибо оно близко к непосредственным чувствам и лежит под поверхностью обычных понятий; между тем, чтобы причалить к более удаленному и сокровенному в природе, необходимо вооружить и чувства, и разум человека более совершенными орудиями. Лорд-канцлер будущей «владычицы морей» умел найти впечатляющие сравнения.
«Не должно считать малозначащим и то, — замечает он, — что дальние плавания и странствия (кои в наши века участились) открыли и показали в природе много такого, что может подать новый свет философии. Поэтому было бы постыдным для людей, если бы границы умственного мира оставались в тесных пределах того, что было открыто древними, тогда как в наши времена неизмеримо расширились и прояснились пределы материального мира, т. е. земель, морей и звезд» (5, 2, стр. 48). И Бэкон призывает не воздавать слишком много авторам, не отнимать прав у Времени — этого автора всех авторов и источника всякого авторитета. «Истина — дочь Времени, а не Авторитета», — бросает он свой знаменитый афоризм.
А время утверждало новую, отличную от античных и средневековых ценностей роль науки. Отныне она не может быть целью самой по себе, знанием ради знания, мудростью ради мудрости. Наукой следует заниматься и не ради забавного времяпрепровождения, не ради любви к дискуссиям, не ради того, чтобы высокомерно презирать других, не из-за корыстных интересов и не для того, чтобы прославить свое имя или упрочить свое положение. Сила науки — сокращать длинные и извилистые пути опыта. Результат науки — полезные изобретения и открытия, способствующие удовлетворению потребностей и улучшению жизни людей, повышению потенциала ее энергии, умножению власти человека над природой. Только это и есть подлинная мета на ристалище знаний, и если науки до сих пор мало продвигались вперед, то это потому, что господствовали неправильные критерии и оценки того, в чем состоят их достижения.
Кажется, Бэкон хотел одним ударом решить эту извечную проблему соотношения истины и пользы — что в действии наиболее полезно, то в знании наиболее истинно. Однако было бы слишком поспешно упрекать его на этом основании в утилитаризме или же прагматизме. Прагматикам он мог бы ответить примерно так же, как отвечал любителям интеллектуальной атараксии, жаловавшимся, что пребывание среди быстро сменяющихся опытов и частностей приземляет их ум, низвергает его в преисподнюю смятения и замешательства, отдаляет и отвращает от безмятежности и покоя отвлеченной мудрости. «…Мы строим в человеческом разуме образец мира таким, каков он оказывается, а не таким, как подскажет каждому его рассудок. Но это невозможно осуществить иначе как рассеканием мира и прилежнейшим его анатомированием. А те нелепые и как бы обезьяньи изображения мира, которые созданы в философиях вымыслом людей, мы предлагаем совсем рассеять… Итак, истина и полезность суть (в этом случае) совершенно одни и те же вещи. Сама же практика должна цениться больше как залог истины, а не из-за жизненных благ» (5, 2, стр. 77).
Итак, только истинное знание дает людям реальное могущество и обеспечивает их способность изменять лицо мира; два человеческих стремления — к знанию и могуществу — находят здесь свою оптимальную равнодействующую. В этом состоит руководящая идея всей бэконовской философии, по меткой характеристике Б. Фаррингтона, — «философии индустриальной науки». И здесь же коренится одна из глубоких причин столь продолжительной популярности его взглядов.
III. Первая вторая и естественная философии
Как особая область знания философия, по Бэкону, существует наряду с историей, поэзией и боговдохновенной теологией. История соответствует памяти, поэзия — воображению, философия — рассудку: «Наиболее правильным разделением человеческого знания является то, которое исходит из трех способностей разумной души» (5, 1, стр. 156). Возможно, в выборе такого психологического основания деления сказалось влияние или заимствование у Платона. Однако в дальнейшем он принимает и другой принцип. Последующее подразделение науки у Бэкона, как и у Аристотеля, основывается на соображении, что у каждой отрасли знания есть специальная сфера бытия. При этом он замечает, «что все деления наук должны мыслиться и проводиться таким образом, чтобы они лишь намечали или указывали различия наук, а не рассекали и разрывали их, с тем чтобы никогда не допускать нарушения непрерывной связи между ними» (5, 1, стр. 251–252).
Как гражданская, так и естественная история имеет дело с индивидуумами, которые рассматриваются в определенных условиях места и времени. И если она, например, в качестве естественной истории и занимается видами природных явлений, то лишь по причине сходства между собой многих индивидуальных вещей. Поэзия — эпическая, драматическая и аллегорическая — тоже говорит об единичных предметах, но созданных силой воображения, подобных тем, которые являются предметами истории, но со значительными элементами преувеличения и произвола в изображении. Философия же имеет дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, а с абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на основе законов природы и фактов самой действительности она и занимается. Философия относится к области рассудка и по существу включает в себя содержание всей теоретической науки. Предмет ее троякий — бог, природа и человек. Соответственно этому она делится на естественную теологию, естественную философию и учение о человеке. Концепция, как мы видим, уязвимая для современной критики, и наша задача — выяснить ее смысл и проследить ее истоки. Реформированная в соответствии с бэконовскими принципами «Великого Восстановления», она призвана составить «вторую философию, или действенную науку» — науку, не созерцающую и констатирующую, а открывающую и изобретающую. «Второй философии» Бэкон противопоставляет «первую философию» или «мудрость», которая выступает некоей всеобщей материнской наукой — собранием и исследованием общих для многих наук аксиом и так называемых трансценденций, или привходящих качеств сущего.
Никто не связывает нас так крепко, как наши противники. Дискуссия способна в чем-то уподобить оппонентов. Антагонист и критик аристотелизма сам воспринял характерные представления того учения, которое он сделал одним ив главных объектов своего опровержения. Мы увидим, что это касается не только понятий «первой» и «второй» философии. Однако, как и в других подобных случаях, Бэкон старается переосмыслить заимствованные понятия и термины и вложить в них иное содержание. Сам он оправдывал это желанием сохранить «связь и преемственность между древней и новой наукой» и приверженностью к тому сдержанному методу проведения реформ в гражданской жизни, «при котором хотя и происходят изменения в государстве, однако на словах все остается по-прежнему» (5, 1, стр. 219).
Задача «первой философии» — показать единство природы путем выявления и систематизации общих и основополагающих принципов и аксиом, применимых в самых различных областях знания. Вот бэконовские примеры. «Если две величины равны третьей, то они равны между собой» — это математическое правило и вместе с тем общелогическое основание умозаключений. «Природа проявляет себя преимущественно в самом малом» — этот физический принцип привел Демокрита к созданию теории атомов, но он же был применен и к политике, когда Аристотель начал изучение государства с семьи. «Изменяется все, но ничто не гибнет» — этот общий принцип в физике формулируется так: «Количество материи не увеличивается и не уменьшается», а в «естественной теологии» он принимает другой вид: «Создать нечто из ничего и обратить нечто в ничто — доступно лишь всемогущему богу». Общефизический принцип сохранения целостности вещей: «То, что сохраняет большую форму, производит более сильное действие» — действует и в политике, ибо то, что способствует сохранению государства, оказывается более сильным, чем то, что способствует благу отдельных его граждан. «Сила действия возрастает благодаря противодействию противоположного» — тоже и физический закон, и политический принцип, ведь ярость любой политической группировки возрастает вместе с усилением враждебной ей группы. «Диссонанс, сразу же сменяющийся созвучием, образует гармонию» — это музыкальное правило имеет свой аналог и в области этики, и в проявлениях различных человеческих аффектов. Эти примеры нетрудно умножить. Так, уже у истоков новой европейской философии мы сталкиваемся с ее сциентистской интерпретацией как обобщения положений конкретных наук.
Другой раздел «первой философии» — учение о всеобщих категориях (трансценденциях или привходящих качествах сущего в терминологии Бэкона), таких, как «много» и «мало», «идентично» и «различно», «возможно» и «действительно», «целое» и «часть», «движение» и «покой», «сущее» и «не сущее» и т. п. «Поскольку все эти вопросы, собственно, не относятся к области физики, а диалектика изучает их скорее с точки зрения развития искусства доказательства, чем познания сущности явлений, то во всяком случае целесообразно, чтобы исследование такого рода вопросов, само по себе весьма важное и полезное, не было совершенно забыто, а нашло себе по меньшей мере хоть какое-то место в нашем разделении наук» (5, 1, стр. 213), — писал он. Исследование категорий здесь не логическая, а реальная «натуралистическая» проблема. Постигнуть понятия «много» и «мало» — значит объяснить, почему в природе существует и может существовать такое обилие одних вещей и так малочисленны другие; разобраться в понятиях «идентично» и «различно» — значит объяснить, почему почти всегда между различными видами существуют промежуточные, обладающие признаками того и другого вида. Поистине знание о природе — это главный всепоглощающий предмет внимания Бэкона, и какие бы философские вопросы он ни затрагивал, подлинной наукой для него оставались изучение природы, естественная философия.
Фундамент естественной философии составляет естественная история. Однако фактическая констатация и описание тех или иных природных и опытных явлений еще не составляют теоретической науки, которая всегда есть знание причин. Таковой в естественной философии выступают физика и метафизика. Физика изучает общие начала вещей, систему и строение Вселенной, а также все многообразие объектов природы. Это последнее учение физики, исследующее многообразие вещей, в свою очередь подразделяется на физику конкретного и абстрактного, или на учение о творениях и учение о природах. Физика конкретного, занимаясь субстанциями со всем разнообразием их акциденций, близка к естественной истории и подобно ей изучает небесные явления и метеоры, землю и море, большие собрания или элементы (огонь, воздух, воду и землю) и меньшие собрания или виды вещей (металлы, растения и животных). Физика абстрактного, занимаясь акциденциями во всем разнообразии субстанций, стоит ближе к метафизике и изучает различные состояния материи (сгущенное и разреженное, тяжелое и легкое, горячее и холодное, летучее и связанное и т. п.) и разновидности ее стремления или движения (сопротивляемость, сцепление, освобождение, бегство, самоумножение, царственное движение, самопроизвольное вращение, дрожание, покой и др.), курьезная классификация которых сложилась у Бэкона в значительной степени под влиянием взглядов перипатетиков. При этом физика интересуется материальными и действующими причинами этих явлений, причинами, более частными и изменчивыми по сравнению с теми, которые составляют предмет метафизики.
Метафизика выявляет в природе вещей нечто более общее и неизменное, чем материальная и действующая причины, а именно форму и конечную причину. Но понятие о конечной причине или цели имеет смысл там, где речь идет о человеческих действиях, а поэтому как раздел естественной философии метафизика должна прежде всего исследовать формы, «охватывающие единство природы в несходных материях» (5, 2, стр. 84), в то время как собственно физика имеет дело с преходящими и как бы внешними носителями этих форм. Вот каким примером поясняет сам Бэкон это различие. «…Если будет идти речь о причине белизны снега или пены, то правильным будет определение, что это тонкая смесь воздуха и воды. Но это еще очень далеко от того, чтобы быть формой белизны, так как воздух, смешанный со стеклянным порошком, точно так же создает белизну, ничуть не хуже, чем при соединении с водой. Это лишь действующая причина, которая есть не что иное, как носитель формы. Но если тот же вопрос будет исследовать метафизика, то ответ будет приблизительно следующий: два прозрачных тела, равномерно смешанные между собой в мельчайших частях в простом порядке, создают белизну» (5, 1, стр. 238). Что бы ни подумал современный читатель об этом рассуждении, оно наглядно иллюстрирует, что именно Бэкон понимал под «метафизикой». Итак, мы опять сталкиваемся с целым комплексом заимствованных у перипатетиков представлений. Однако Бэкон стремился отличить свое определение метафизики от перипатетического, не отождествляя его, как это делали аристотелики, с понятием «первой философии». Бэконовская метафизика является частью науки о природе, как бы высшим, более абстрактным и глубоким разделом физики. «Не беспокойся о метафизике, — напишет впоследствии Бэкон в письме к Баранзану. — Не будет никакой метафизики после обретения истинной физики, за пределами которой нет ничего, кроме божественного» (54, II, стр. 128).
Он хотел вложить новое содержание и в перипатетическое понятие «форма». «Вещь не отличается от формы иначе, чем явление отличается от сущего, или внешнее от внутреннего, или вещь по отношению к человеку от вещи по отношению к Вселенной» (5, 2, стр. 104), — читаем, мы в «Новом Органоне». Понятие «форма» восходит к Аристотелю, в учении которого она наряду с материей, действующей причиной и целью один из четырех принципов бытия. Форма это принцип, делающий вещь тем, что она есть, и в этом смысле — сущность вещи. Будучи сопринадлежной материи и вместе с тем отличной от нее, форма сообщает материи, этой чистой возможности, подлинную действительность, образуя из нее специфичную конкретную вещь. И вместе с тем форма есть принцип общности в вещах, умопостигаемый и определяемый с помощью понятия. Это учение Аристотеля было воспринято средневековой схоластикой. И здесь форма трактовалась как основной принцип, сущность вещи, источник ее действительности, качественной определенности или специфики, выразимой лишь в сверхчувственных понятиях и определениях.
В текстах бэконовских сочинений встречается множество различных наименований «формы»: essentia, res ipsissima, natura naturans, fons emanationis, definitio vera, differentia vera, lex actus puri (14, стр. 39). Все они характеризуют с разных сторон это понятие то как сущность вещи, то как внутреннюю, имманентную причину или природу ее свойств, как их внутренний источник, то как истинное определение или отличие вещи, наконец, как закон чистого действия материи. Все они вполне согласуются между собой, если только не игнорировать их связь со схоластическим словоупотреблением и их происхождения из доктрины перипатетиков. И вместе с тем бэконовское понимание формы по крайней мере в двух пунктах существенно отличается от господствовавшего в идеалистической схоластике: во-первых, признанием материальности самих форм, во-вторых, убеждением в их познаваемости. Форма, по Бэкону, всецело детерминирована материей, это сама материальная вещь, но взятая в своей объективной сути, а не так, как она является или представляется субъекту. В связи с этим он замечал, что предметом нашего внимания должна быть не столько форма, сколько материя: ее состояния и действия, изменения состояний и закон действия или движения. «Ибо, когда мы говорим о формах, то мы понимаем под этим не что иное, как те законы и определения чистого действия, которые создают какую-либо простую природу, как, например, теплоту, свет, вес во всевозможных материях… Итак, одно и то же есть форма тепла или форма света и закон тепла или закон света» (5, 2, стр. 114). Именно это понимание позволило Бэкону поставить задачу исследования форм эмпирически, индуктивным методом.
Вообще Бэкон различает двоякого рода формы — формы конкретных вещей, или субстанций, и формы простых свойств, или природ. Так как любая конкретная вещь есть сочетание, сплав простых природ, то и форма субстанции есть нечто сложное, состоящее из множества форм простых природ. Последние называются им «формами первого класса». Эти формы вечны и неизменны, но именно они — разнокачественные, индивидуализирующие природу вещей внутренне присущие им сущности — придают неповторимое своеобразие бэконовской философской онтологии. «У Бэкона, как первого своего творца, материализм таит ещё в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку» (2, стр. 142–143), — писал К. Маркс.
Собственно простых форм существует конечное число, и они наподобие букв алфавита, из которых составляют всевозможные слова, своим количеством и сочетанием определяют все разнообразие существующих вещей. Возьмем, например, золото. Оно имеет желтый цвет, такой-то вес, ковкость и прочность, имеет определенную текучесть в жидком состоянии, растворяется и выделяется в таких-то реакциях. Исследуем формы этих и других простых свойств золота. Узнав способы получения желтизны, тяжести, ковкости, прочности, текучести, растворимости и так далее в специфичной для этого металла степени и мере, мы сможем организовать соединение их в каком-либо теле и таким образом получить золото. Не правда ли, задача как будто напоминает ту, которую ставили перед собой алхимики и приверженцы натуральной магии? Да и разве сам Бэкон не считал, что, подобно тому как механические искусства составляют практику физики, магия (правда, понимаемая им в «очищенном смысле слова») призвана стать практикой метафизики. Как ни стремился Бэкон выработать принципиально новую философскую систему понятий и терминологии, над ним все же тяготел груз традиционных представлений, словоупотреблений и даже постановок проблем. И все же Бэкона отличает от алхимиков и адептов натуральной магии ясное сознание того, что любая практика может быть успешной, если она руководствуется правильной теорией, и связанная с этим ориентация на рациональное и методологически выверенное понимание природных явлений. И, несмотря на подчас наивную непосредственность его воззрений, мы не можем не оценить того чрезвычайно важного обстоятельства, что Бэкон еще на заре современного естествознания, кажется, предвидел, что его задачей станет не только познание природы, но и отыскание новых, не реализованных самой природой возможностей.
Великим приложением к естественной философии, как теоретической, так и практической (то есть как к физике и метафизике, так и к механике и магии), он считал математику. Строго говоря, математика даже составляет часть метафизики, ибо количество, которое является ее предметом, приложенное к материи, есть своего рода мера природы и условие множества природных явлений, а поэтому и одна из ее сущностных форм. Недаром древние придавали такое большое значение фигурам и числам: Демокрит видел основу всего разнообразия вещей в фигурах атомов, а Пифагор утверждал, что природа вещей складывается из чисел. Между тем среди всех природных форм количество — наиболее абстрактная и легче других отделимая от материи форма, и именно это обстоятельство способствовало более тщательной и глубокой разработке этой категории по сравнению со всеми остальными формами, значительно глубже скрытыми в материи. Ведь человеческий ум от природы предпочитает свободное поле общих истин густым зарослям частных проблем и трудно найти что-либо увлекательнее и приятнее математики для того, чтобы удовлетворить это его стремление выйти на широкий простор свободных размышлений.
И вот, дабы обуздать высокомерие и самодовольство математиков, кичащихся точностью и строгостью своей науки, Бэкон напоминает им о ее великом служебном значении для опытного естествознания и человеческой практики. Его намерение было благородно, но он сам дал повод не очень-то серьезно отнестись к такому назиданию. И дело не только в том, что многие математики искренне и не без оснований считают, что книга Природы написана языком математики и что их идеи и понятия далеко не только лишь вспомогательный аппарат для естествознания и техники, а один из источников и творческих начал в открытии законов природы. Они просто не любят некомпетентных советчиков. А Бэкон не только не сумел по достоинству оценить всю послеевклидову геометрию, оплодотворенную еще в античности новыми идеями Архимеда, Аполлония и Паппа Александрийского, но и обнаружил незнание или непонимание самого замечательного математического открытия своего времени — логарифмов. Через девять лет после выхода в Эдинбурге «Описания чудесных таблиц логарифмов» Джона Непера он в своем трактате писал: «…в арифметике еще не существует ни достаточно разнообразных, ни достаточно удобных способов сокращения вычислений» (5, 1, стр. 249).
И все же сегодня мы не можем не отдать должное его пониманию значения математизации науки. «Предметом смешанной математики (которую Бэкон отличал от чистой математики, исследующей количество, полностью абстрагированное от материи и физических аксиом, — арифметики, геометрии и алгебры. — А. С.) являются некоторые аксиомы и части физики. Она рассматривает количество в той мере, в какой оно помогает разъяснению, доказательству и приведению в действие законов физики. Ибо в природе существует много такого, что не может быть ни достаточно глубоко понято, ни достаточно убедительно доказано, ни достаточно умело и надежно использовано на практике без помощи и вмешательства математики. Это можно сказать о перспективе, музыке, астрономии, космографии, архитектуре, сооружении машин и некоторых других областях знания… Ведь по мере того как физика день ото дня будет приумножать свои достижения и выводить новые аксиомы, она будет во многих вопросах нуждаться все в большей помощи математики; и это приведет к созданию еще большего числа областей смешанной математики» (5, 1, стр. 249–250).
IV. О душе и ее способностях
Представления Бэкона о душе и ее способностях составляют центральное содержание его философии человека и вместе с тем тот пункт, в котором особенно отчетливо прослеживается ряд мотивов, характерных вообще для философских концепций Возрождения. Я имею в виду, в частности, ту зачастую непонятную для более позднего времени разнокачественность воззрений, в которых причудливо сплелись заимствованные из античной философии, ортодоксально христианские и новые натуралистические представления, не вступая между собой ни в органическую связь, ни в явное и открытое противоречие. Конечно, всякое время имеет и неизжитые традиции мышления, и неустранимые при существующем состоянии науки пробелы в миропонимании, но в эпоху Возрождения все контрасты были разительными, и, перефразируя Ларошфуко, можно сказать, что эта философия торжествовала над прошлым и будущим, но настоящее торжествовало над ней.
По-видимому, трудно недооценить влияние в этом пункте на Бэкона знаменитого итальянского натурфилософа Б. Телезио. Он хорошо знал его трактат «О природе вещей согласно их собственным началам» и неоднократно в своих сочинениях обращался к разбору взглядов философа из Козенцы. «…О самом Телезио я имею хорошее мнение и признаю в нем искателя истины, полезного для науки, реформатора некоторых воззрений и первого мыслителя, проникнутого духом современности» (5, 2, стр. 338), — писал он. Бернардино Телезио считал, что материальная душа человека происходит вместе с телом из семени и в своих отправлениях существенно зависит от тела. Субстрат чувственных форм познания, она есть проявление того жизненного духа, который роднит человека с природой. Однако в человеке обитает и высшая, нематериальная и нетленная душа. Божественная по своему происхождению, она является носителем высших духовных потенций человека, его бескорыстной нравственности и благочестия. Так, в одном из решающих пунктов философских воззрений натуралистическая концепция Телезио находила компромисс с ортодоксальной доктриной католицизма.
И Фрэнсис Бэкон различал в человеке две души — разумную и чувственную. Первая — боговдохновенная, вторая — подобная душе животных; первая происходит от «духа божья», вторая — из набора материальных элементов и является органом разумной души. Все учение о боговдохновенной душе — о ее субстанции и природе, о том, врождена ли она или привнесена извне, отделена или не отделена от тела, смертна или бессмертна, в какой степени подчинена законам материи и в какой свободна от них — он оставляет компетенции религии. «И хотя все такого рода вопросы могли бы получить в философии более глубокое и тщательное исследование по сравнению с тем состоянием, в котором они находятся в настоящее время, тем не менее мы считаем более правильным передать эти вопросы на рассмотрение и определение религии, потому что иначе они получили бы в большинстве случаев ошибочное решение под влиянием тех заблуждений, которые могут породить у философов данные чувственных восприятий» (5, 1, стр. 281–282). Англиканская церковь не так ревностно, как католическая и протестантская, защищала свои догматы, но осторожность Бэкон всегда считал лучшей частью мужества.
Гораздо свободнее рассуждает он о природе низшей, чувственной, или созданной, души. Он, конечно, не удовлетворен аристотелевским определением души как энтелехии, некоего активного начала, охватывающего всеединство четырех причин и осуществляющего формирование, изменение и деятельное функционирование живого тела. Для Бэкона душа не просто функция, а материальная, телесная субстанция — носитель способностей к произвольному движению и к чувствованию или ощущению. Он с сочувствием излагает взгляды Б. Телезио и его ученика А. Дониуса, которые рисовали чувственную душу как невидимую телесную субстанцию, разреженную под влиянием тепла — одного из двух основных космических начал, и представляющую собой как бы «дуновение», сходное по природе с пламенем и воздухом. Податливость воздуха дает ей возможность воспринимать впечатления извне, мощь огня делает ее активной; питается такая душа маслянистыми и водянистыми веществами, заключена в телесную оболочку и у высших животных находится, по-видимому, в головном мозге, откуда по нервам распространяется по телу, восстанавливая и поддерживая себя с помощью артериальной крови. Впрочем, считает Бэкон, вопрос о ее природе требует дальнейшего и более тщательного исследования, во-первых, чтобы понять, каким образом сжатия, расширения и волнения духа приводят в движение тяжелое и плотное тело, а во-вторых, чтобы не укрепилось мнение о слишком близком родстве человеческих и животных душ, как и суеверное представление о метемпсихозе — способности души переселяться из одного смертного тела в другое, в частности из тела человека в тело животного, и наоборот. Ведь чувственная душа является высшей способностью у животных и тело животных есть ее орган, у человека же она сама является органом разумной, боговдохновенной души «и скорее могла бы называться жизненным духом, чем душой» (5, 1, стр. 282). И здесь мы опять вспоминаем Б. Телезио, у которого учение о животной душе тесно связано с учением о жизненных духах, а поэтому такая душа именуется у него «духом» (spiritus) в отличие от «души» (anima), данной богом, в то время как Бэкон «духом» называл и разумную, боговдохновенную душу.
Есть и еще одна важная точка соприкосновения воззрений Бэкона с органистической натурфилософией Возрождения. Бэкон различает «перцепцию», или «восприятие» (perceptio), и «чувство», или «ощущение» (sensus). Первое является общим свойством природных тел, второе — принадлежит лишь телам одушевленным. «…Мы видим, — писал он, — что почти всем телам в природе присуща ярко выраженная способность восприятия и даже своего рода выбора, дающего им возможность принимать то, что им приятно, и отвергать то, что им чуждо и враждебно» (5, 1, стр. 287). И он приводит как пример притяжение железа магнитом, стремление пламени к нефти, соединение при сближении пузырьков воздуха, отражение света белыми предметами, усвоение животными одних веществ и выбрасывание других. «…Ни одно тело, приближенное к другому, не может ни изменить его, ни измениться само под его влиянием, если этому действию не предшествует взаимное восприятие. Тело воспринимает пути, которыми оно проникает внутрь; воспринимает силу другого тела, которому оно уступает; воспринимает, отходя назад, удаление другого тела, которое его удерживало; воспринимает разрыв своей целостности, которому оно определенное время сопротивляется. Словом, всюду существует восприятие» (5, 1, стр. 287). Трудно сказать более определенно, что он вкладывал в этот термин «перцепция», вероятно, то, что последующая материалистическая философия назовет отражением как всеобщим свойством материи. Из контекста бэконовского рассуждения ясно, что, устанавливая это различие восприятия и чувства, он возражал против гилозоизма — учения, по которому чувствительность и одушевленность изначально присущи всем телам природы. Однако, возражая тем, кто, по его словам, не понимал, каким образом может происходить произвольное движение без участия чувства и как может существовать восприятие без души, он сам фактически выявлял потенцию ощущения в некоторой всеобщей способности материи и тем самым сохранял тот мост через пропасть между одушевленным и неодушевленным, психическим и материальным, который воздвигла натурфилософия Возрождения и который впоследствии будет разрушать механистический материализм.
Итак, тело и душа — это две различные сущности, однако взаимодействующие и «раскрывающие друг друга». Поэтому, вообще говоря, можно кое-что узнать о теле, исходя из состояния духа, и кое-что о духе, исходя из состояния тела. Первое из этих искусств — толкование естественных снов, второе — физиогномика. И хотя эти искусства обросли суеверными и нелепыми измышлениями, покоятся они на достаточно прочном природном основании. Ведь «если действие какой-то внутренней причины аналогично действию какой-то внешней причины, то это внешнее действие обычно воспроизводится во сне» (5, 1, стр. 256). Так тошнота, вызванная морской качкой, похожа на тошноту, происходящую от внутренних причин, а поэтому ипохондрикам часто снится, что они плывут на корабле и их качает. С другой стороны, по чертам лица, по его выражению, по строению тела, а также жестам и движениям человека можно многое узнать о его душевном состоянии, настроении и желаниях. Ведь мы смеемся, плачем, краснеем, мрачнеем почти одинаково и в большинстве случаев то же самое имеет место и при более тонких движениях души: «Это прекрасно известно множеству проходимцев и подлецов, которые ни на минуту не отрывают взора от выражения лица и движений собеседника и используют это в своих интересах, — ведь именно в этом и состоит в значительной мере их ловкость и мудрость. И конечно, нельзя отрицать того, что выражение лица и жесты человека удивительным образом выдают его притворство и великолепно могут подсказать момент, когда удобнее всего обратиться к нему, а это составляет немаловажную часть житейской мудрости» (5, 1, стр. 255). Принимая физиогномику, предлагая расширить ее за счет изучения не только строения тела и черт лица, но и его выражения, жестов и других телесных движений, Бэкон вместе с тем решительно отвергал хиромантию как «абсолютно несерьезную и пустую вещь».
Что физическое состояние тела действует на душу, давно известно в медицине, поэтому врачи и выписывают лекарства для лечения душевных болезней и изыскивают различные средства для восстановления хорошего настроения, укрепления духа, снятия возбуждения, улучшения умственной деятельности, памяти и т. п. Это же наблюдение лежит в основе и многих религиозных предписаний, касающихся выбора той или иной пищи и питья, соблюдения постов и плотского воздержания. Так что в сущности здесь возводится в ритуал полезный многовековый жизненный опыт людей. Но Бэкон указывает и на другую сторону этой взаимосвязи — и это звучит очень современно — телесное здоровье во многом определяется состоянием духа. Поэтому в медицине учитывают и влияние душевных переживаний, аффектов, представлений и навязчивых мыслей на физическое состояние человека, и все серьезные врачи должны принимать это во внимание при выборе средств и проведении курса лечения.
Итак, чувственная душа взаимодействует с телом — это очевидно. Взаимодействует ли с телом боговдохновенная душа — этого Бэкон специально не уточняет. Но он замечает, что познание субстанции разумной души должно быть почерпнуто из откровения, из того же божественного вдохновения, из которого первоначально проистекла и сама эта субстанция.
Как же тогда может существовать наука о человеческой душе, учение о душе как часть философии? Ведь интеллект, рассудок, воображение, память, воля, способность суждения и предвидения — все это, несомненно, отправления разумной души. Бэкон находит выход в строгом разграничении трех понятий: «субстанция», «способности» и «использование и объекты способностей» души. Что касается способностей души, то они вполне могут изучаться с помощью научного индуктивного метода: «…Мы составляем нашу историю и таблицы открытия как для тепла и холода, света, произрастания и тому подобного, так и для гнева, страха, уважения и тому подобного, а также для примеров общественных явлений, а равно и для душевных движений — памяти, сопоставления, различения, суждения и прочего» (5, 2, стр. 78–79). Применение же — использование и объекты — этих душевных способностей составляет предмет логики и этики. «Логика изучает процессы понимания и рассуждения, этика — волю, стремления и аффекты; первая рождает решения, вторая — действия» (5, 1, стр. 291). И суждения, и действия оплодотворяют воображение, ибо чувство передает воображению разные виды образов, о которых затем выносит суждение разум, а он в свою очередь, отобрав те или иные образы, возвращает их воображению еще до того, как принятое решение будет исполнено. Итак, воображение всегда предшествует произвольному движению и возбуждает его, являясь общим орудием и разума, и воли. Оно как «Янус имеет два лица: лицо, обращенное к разуму, несет на себе отпечаток истины, лицо же, обращенное к действию, выражает добро; однако эти два лица подобны,
…как быть полагается сестрам» (5, 1, стр. 292).
V. Предмет и задачи логики
К середине XVI века перипатетическая диалектика окончательно завязла в логико-грамматических тонкостях той проблематики, которую почти две тысячи лет назад так свежо и оригинально сформулировал Аристотель. На фоне настойчивого стремления возвратить Природе всю человеческую жизнь, на фоне становления новой культуры, призывавшей к трезвому изучению прежде всего Природы и проникновению в ее естественные законы, все эти изощренные формальные определения, различения и правила перипатетиков казались мелкими и ненужными ухищрениями словесной мудрости. Здание схоластической логики оседало и рушилось, и от того, что в продолжение многих веков нарастало на теле аристотелевского «Органона», в конце концов мало что осталось кроме скелета последнего. Поэтому в эпоху Возрождения аристотелевская логика критиковалась и за то, что содержала много ненужных тонкостей, и за то, что не содержала многого весьма важного и полезного.
Среди критиков особенно выделялась фигура Петра Рамуса, пылкого и решительного антиаристотелика, убитого католиками, по-видимому, по наущению его идейных противников в Варфоломеевскую ночь 1572 года. Взгляды Рамуса были широко известны в Европе, на них ссылался и с ними полемизировал и Бэкон. Обычно указывают, что по схеме логики Рамуса построена «Логика, или искусство мыслить» Пор-Рояля: сначала учение о понятии, затем о суждении, далее об умозаключении и, наконец, о методе (см. 21, стр. 434). Однако, некоторые установки этого неутомимого и страстного ученого, выдвинувшего задачу построения новой логики, близкой к «естественному ходу мышления», не могли не импонировать и его младшему современнику Бэкону — реформатору несравненно более радикальному, чем Арно и Николь. Это влияние обнаруживается уже в начале второй книги трактата «О достоинстве и приумножении наук», где Бэкон излагает свои соображения, касающиеся реформы университетского образования, борьбе за которую, как известно, отдал столько сил Рамус. Точки соприкосновения их взглядов можно усмотреть и в общей нетерпимости к схоластике, и в самой постановке проблемы создания нового научного метода, и в определении главной целью знания установления господства человека над природой, и в ряде специальных логико-методологических вопросов.
«Часть философии человека, которая посвящена логике, не очень-то нравится большинству умов, и в ней не видят ничего, кроме шипов, запутанных сетей и силков утонченного умозрения, — замечает Бэкон… — А этот „сухой свет“… неприятен и невыносим для нежной и слабой природы большинства умов. Впрочем, если уж угодно определять каждое явление по степени его достоинства, то следует сказать, что науки, изучающие мышление, безусловно, являются ключом ко всем остальным. И точно так же, как рука является орудием орудий, а душа — формой форм, так и эти науки являются науками наук. Они не только направляют разум, но и укрепляют его, подобно тому как упражнения в стрельбе из лука развивают не только меткость, но и силу, давая возможность стрелку постепенно натягивать все более тугой лук» (5, 1, стр. 293). Он очень широко трактовал предмет и задачи логики. «В процессе мышления человек либо находит то, что он искал, либо выносит суждение о том, что нашел, либо запоминает то, о чем он вынес суждение, либо передает другим то, что он запомнил. Поэтому наука, изучающая мышление, естественно, должна делиться на четыре раздела: искусство исследования, или открытия; искусство оценки, или суждения; искусство „сохранения“, или памяти; искусство высказывания, или сообщения» (5, 1, стр. 293). В целом это напоминает рамусовское подразделение диалектики, грамматики и риторики, но для Бэкона все это части логики.
Существуют два различных рода открытия — изобретение наук и искусств и открытие доказательств и словесного выражения. Об изобретениях первого рода еще нет науки и все открытия здесь до сих пор делались случайно. Бэкон претендует на ее создание в своем учении о научном опыте и приемах истолкования природы, или Новом Органоне. Одним же из разделов открытия доказательств является промптуарий — собрание «общих мест» доказательств, применимых к особенно часто встречающимся в практике случаям. Интересно, что проблеме таких «общих мест», как позиций, с которых можно вести доказательства, уделял внимание и Рамус. Это, конечно, явное заимствование логики у риторики, и сам Бэкон недаром ссылается на древних ораторов — Цицерона и Демосфена, — рекомендовавших иметь наготове заранее отработанные схемы рассуждений, которые можно использовать для обоснования или опровержения тех или иных положений. Второй раздел открытия доказательств — топика, помогающая находить нужную аргументацию и в спорах, и в рассуждениях, и в самостоятельном обдумывании проблем. Ее основная задача — научить правильной постановке вопросов и искусству дискурсивного исследования. Помимо общей топики, разработанной еще Аристотелем и его школой, Бэкон предлагает создать частную топику; ее предмет — своеобразное соединение данных логики и конкретного материала отдельных наук. «Ведь только пустой и ограниченный ум способен считать, что можно создать и предложить некое с самого начала совершенное искусство научных открытий, которое затем остается только применять в научных исследованиях, — писал он. — Но люди должны твердо знать, что подлинное и надежное искусство открытия растет и развивается вместе с самими открытиями, так что если кто-то, приступая впервые к исследованиям в области какой-нибудь науки, имеет некоторые полезные руководящие принципы исследования, то после того, как он будет делать все большие успехи в этой науке, он может и должен создавать новые принципы, которые помогут ему успешно продвигаться к дальнейшим открытиям» (5, 1, стр. 313–314).
Искусство суждения, в котором рассматривается природа доказательств и аргументов, учит умозаключать или путем индукции, или посредством силлогизма. Изложение своей теории индукции Бэкон дал в «Новом Органоне». Что же касается силлогизма, то «эта форма чуть ли не истерта в порошок в исследованиях тончайших мыслителей и изучена до мельчайших подробностей» (5, 1, стр. 319). Силлогистическое доказательство есть редукция предложений к принципам посредством средних терминов. Принципы мыслятся принятыми и не подвергаются обсуждению, нахождение же средних терминов является прерогативой свободно исследующего ума. Бэкон не вдается в формальные тонкости различения силлогизмов по фигурам и модусам. Он выделяет лишь два основных типа силлогистической редукции — прямую и обратную. Ту, когда предложение сводится к самому принципу — остенсивное доказательство, и ту, когда противоречие предложения сводится к противоречию принципа — доказательство от противного, или per incommodum. Силлогистические умозаключения составляют предмет Аналитики, вообще устанавливающей правильные формы дедуктивных выводов и доказательств, отклонение от которых приводит к ложному заключению. Но есть в искусстве суждения и специальная часть, трактующая о заблуждениях ума — учение об опровержении. Она, как и Аналитика, прекрасно разработана Аристотелем, однако лишь в части теории софистических ухищрений — по видимости связных, а в действительности логически несостоятельных, ложных умозаключений. К этому учению Аристотеля об опровержении софизмов Бэкон считает нужным добавить еще два раздела — опровержение толкований и опровержение идолов.
К логике он относил и искусство «сохранения», включающее учение не только о самой памяти, но и о вспомагательных средствах запоминания — фиксации фактического материала в разного рода записях и таблицах, сборники общих мест, вообще все то, что составляет искусство мнемоники. Частью логики он считал и искусство передачи или сообщения знаний, в котором выделял учение о средствах, учение о методе и учение об украшении изложения, то есть риторику. Искусство сообщения охватывает все дисциплины, рассматривающие язык с некоторой формальной точки зрения, абстрагируясь от конкретного смыслового содержания.
Это учение о средствах изложения в свою очередь подразделяется на учение о знаках и учение об устной и письменной речи.
У Бэкона нигде не встречается термин «семиотика» (он вообще предпочитал традицию латинской терминологии), но именно ее он имел в виду, когда говорил об учении о знаках или обозначениях вещей как части логики. Этот термин «семиотика» мы встретим у Локка, который в своей классификации наук вообще будет отождествлять семиотику с логикой, видя задачу последней в изучении природы знаков, которыми ум пользуется для понимания и запоминания вещей или для передачи своего знания другим, и в таком понимании ее задачи усмотрит перспективы развития новой логики, «отличной от той, с которой мы были знакомы до сих пор» (25, 1, стр. 695). Конечно, бэконовское учение о знаках еще очень неразвито и представляет лишь первые начала, запрос семиотики как науки. Но сформулирована задача довольно определенно: поскольку существуют и другие виды сообщения помимо слов и букв, «следует совершенно ясно установить, что все, что способно образовать достаточно многочисленные различия для выражения всего разнообразия понятий (при условии, что эти различия доступны чувственному восприятию), может стать средством передачи мыслей от человека к человеку» (5, 1, стр. 331). Среди знаков вещей, выражающих их значение без помощи и посредства слова, он выделяет знак, в чем-то сходный с самой вещью, и знак чисто условный. К первому роду относятся древнеегипетские иероглифы и жесты, ко второму — знаки, по условности мало отличные от букв, но соотнесенные с корневыми словами и имеющие значение, основанное на соглашении, которое ввело их в употребление.
Устную и письменную речь изучает грамматика: школьная (нормативная) и философская. Первая просто используется при изучении языка, помогая эффективному его усвоению и способствуя выработке правильной и чистой речи. Под философской грамматикой Бэкон понимал установку на исследование «аналогии между словами и вещами», однако не в смысле проблемы возникновения и первоначальной этимологии имен, когда предполагается, что имена изначально даются вещам не произвольно, а как-то существенно связаны с их природой и функцией. Скорее он имел в виду некоторого рода сравнительную грамматику, исследующую особенности различных языков, как древних, так и современных, достоинства и недостатки каждого из них. Исследование, которое могло бы способствовать и взаимному обогащению языков, и вместе с тем дать информацию о психическом складе и нравах народов, говорящих на этих языках. К грамматике относится и все то, что касается метрики, размера, ритмики и стиля речи, так сказать, законов ее благозвучности. Поэтому Бэкон касается здесь и теории стихосложения, замечая, что она не должна ограничиваться только изучением различных жанров стихотворных произведений и их размеров, но и выяснять, какой стихотворный жанр лучше всего соответствует тому или иному содержанию. И если древние поэты писали героическим стихом эпические поэмы и похвальные оды, элегическим — грустные любовные произведения, лирическим — оды и гимны, ямбом — резкие обличительные стихотворения, то нынешние слишком пылкие любители древности должны помнить, что применение к новым языкам античных размеров (гекзаметра, элегического дистиха, сапфической строфы и т. п.) может быть неприемлемо ни для системы самих этих языков, ни для слуха говорящих на них народов. «В делах такого рода на первое место нужно ставить суждение, выносимое чувством, а не правила искусства» (5, 1, стр. 336). Он нигде не упускал случая подвергнуть сомнению каноны и авторитет древности.
Однако основной, главной частью искусства сообщения является учение о методе изложения. До сих пор науки преподаются так, как будто и учитель, и ученик вовлекают друг друга в заблуждения. Кто учит, стремится прежде всего к тому, чтобы вызвать максимальное доверие к своим словам, а не к тому, чтобы найти наиболее удобный способ подвергнуть их проверке и испытанию; кто учится, стремится немедленно получить удовлетворяющие его сведения и вовсе не нуждается в каком-либо исследовании — для него значительно приятнее не сомневаться, чем не заблуждаться. Знание же передается другим, подобно ткани, которую нужно выткать до конца, и его следует вкладывать в чужие умы по возможности таким же методом, каким оно было первоначально найдено. Если, конечно, оно получено по методу, а не является предвзятым, незрелым и трудно сказать, каким именно образом приобретенным. С науками происходит то же, что и с растениями: если просто нужно использовать растение, то судьба корня для нас безразлична, если же нужно пересадить его в другую почву, то с корнями обращаются особенно осторожно.
Итак, первое различение метода: он может быть либо магистральный, либо инициативный. Магистральный метод наставляет. Инициативный приобщает, раскрывая и обнажая самые корни и тайны науки. Магистральный требует веры в слова, инициативный стремится подвергнуть слова испытанию. Для первого цель наук — практическая польза, для второго — продолжение и развитие самих наук. Второе различение: метод бывает экзотерический и акроаматический. Экзотерический метод предназначен для ознакомления с наукой широких кругов и использует доступный, популярный способ изложения. Акроаматический же — более сложный и труднодоступный — предназначен для изложения в узком кругу посвященных, в научной школе. Следующее различение связано с тем, что знания могут излагаться или афористически, или методически. Подчеркивая преимущества афористического изложения, Бэкон хотел не только оправдать метод, принятый им самим в «Новом Органоне», но и обратить внимание на то, что за видимой основательностью, связностью и цельностью некоторых теоретических построений может скрываться в сущности ничтожное и бесполезное содержание. Знания также можно передавать либо в форме утверждений, сопровождаемых доказательствами, либо в форме вопросов, наводящих на строгие определения. Имея в виду, по-видимому, сократический метод, он указывал, однако, на желательность соблюдать меру во всякого рода вопросах и возражениях и использовать их прежде всего в том случае, когда надо разрушить какие-то предрассудки и заблуждения ума. Наконец, метод должен приспосабливаться к предмету изложения. По-разному излагаются математические дисциплины, являющиеся самыми абстрактными и простыми среди наук, и политические — наиболее конкретные и сложные. Вообще невозможно к многообразному знанию применить единообразный метод, и, как Бэкон принимает частные топики в искусстве открытия, он предлагает применять и частные методы при изложении различного научного материала. Например, науку совершенно новую, не знакомую для слушателей преподавать надо иначе, чем ту, которая оказывается близкой и родственной уже имеющимся у них представлениям. В первом случае стоит идти методом аналогий и сравнений, во втором — методом логических рассуждений и доказательств.
Кроме этих методов изложения Бэкон называет и другие, содержавшиеся в «Риторике» П. Рамуса. Но он решительно возражает против «единственного метода» Рамуса и его злоупотребления дихотомическим делением. «Ведь это было какое-то помрачение науки, — пишет Бэкон. — Ибо, когда сторонники такого подхода извращают явления в угоду законам своего метода, а все, что не подходит под их дихотомии, либо отбрасывают, либо, не считаясь с природой, искажают, они тем самым уподобляются людям, выбрасывающим зерна наук и оставляющим себе лишь сухую и никому не нужную шелуху. Такой подход рождает лишь бессодержательные компендии, разрушая самое основание наук» (5, 1, стр. 342). И все же Рамус заслуживает благодарности за то, что он восстановил полузабытые аристотелевские правила построения, обоснования и изложения в науках общих утверждений — требования истинности, существенной общности и первичности (в смысле обратимости или адекватности), которым должно удовлетворять всякое научное высказывание, если оно является таковым, то есть общим и необходимым. Излагая свое учение об индукции — методе отыскания адекватных и обратимых общих положений о взаимном сопутствовании исследуемой природы и искомой формы, Бэкон также ссылается на эти правила П. Рамуса. Но настойчивые попытки Рамуса исправить с точки зрения этих требований практиковавшиеся изложения наук вызывали у него иронию. «…Неизвестно почему… — пишет Бэкон, — всегда самое драгоценное, что существует у людей, поручается самым опасным и ненадежным сторожам. И действительно, попытка Рамуса тщательно обработать предложения привела его ко всем этим эпитомам и посадила его на мель в науке. Ведь нужны поистине счастливые предзнаменования и покровительство какого-нибудь доброго гения тому, кто попытается сделать научные аксиомы обратимыми, не превращая их в то же время в круговые или обращающиеся в самих же себя. Тем не менее я не отрицаю того, что попытка, предпринятая Рамусом в этой области, была несомненно полезной» (5, 1, стр. 348).
Он не мог быть просто снисходителен к авторам, у которых что-то заимствовал. Но если судить по справедливости, его действительно отличало от Рамуса очень многое и весьма существенное. Ведь Рамус только декларировал задачу создания нового научного метода и новой логики и в своем «Установлении диалектики» в значительной мере ограничился перекомпановкой традиционного логического материала, выросшего из «Органона», сближая его с риторикой в духе Цицерона и Квинтиллиана, опуская некоторые разделы и предлагая пояснять оставшиеся отрывками из античных ораторов и поэтов. Бэкон сделал грандиозную попытку сформулировать и обосновать такой метод и придать всей логике совершенно новое направление развития. И если отвлечься от менее существенных нововведений, то именно учение об эмпирическом методе, теория индукции и типология заблуждений человеческого ума являются тем замечательным вкладом, который внес Бэкон в это развитие.
VI. Разоблаченные идолы
Как дополнение к «Аналитике», устанавливающей правильные формы силлогистических выводов и доказательств, Аристотель написал сочинение «Опровержение софистических аргументов» об ошибочных умозаключениях, образцы которых приводил в своих диалогах еще Платон, чтобы устами Сократа показать их несостоятельность и наметить пути их критики. Фрэнсис Бэкон, существенно расширяя представления о заблуждениях ума, предложил более общее учение об опровержении, которое помимо разоблачения софизмов включало бы опровержение толкований и критику идолов разума.
Опровержение толкований, или «Герменеи», имеет дело с категориями, в терминологии Бэкона — трансценденциями, или привходящими качествами сущего. К их числу относятся такие всеобщие понятия, как «много» и «мало», «раньше» и «позже», «идентично» и «различно», «возможно» и «действительно», «обладание» и «лишение», «целое» и «часть», «движение» и «покой», «сущее» и «не сущее». Мы помним, что бэконовская первая философия изучает эти трансценденции с точки зрения физики, герменеи же должны исследовать их с точки зрения логики. «Именно такое исследование мы называем здесь учением об опровержениях ложных толкований, — писал Бэкон. — Это, несомненно, разумная и полезная часть науки, так как общие и широко распространенные понятия неизбежно употребляются повсюду, в любых рассуждениях и спорах; и если с самого начала тщательнейшим и внимательнейшим образом не устанавливать четкого различия между ними, они совершенно затемняют сущность всех дискуссий и в конце концов ведут к тому, что эти дискуссии превращаются в споры о словах. Ведь двусмысленность слов или неправильное толкование их значений — это то, что мы назвали бы софизмами из софизмов» (5, 1, стр. 321–322).
Однако наиболее замечательный вклад Бэкона в учение об опровержении — его теория идолов человеческого разума. Это одна из самых интересных и популярных глав его философии, поистине «очистительная» пропедевтика к доктрине о методе познания. Вообще вопрос об «истинных» и «мнимых», «объективных» и «субъективных» компонентах человеческого знания восходит к самой сущности философии и в античности отчетливо осознается уже элеатами и Демокритом. Этот вопрос живо обсуждался современниками Бэкона — Кампанеллой, Галилеем и Декартом. Вариантом той же темы явилось и бэконовское усмотрение в познании того, что «соотнесено с человеком» и что «соотнесено с миром», выделение целого сонма отягощающих человеческий ум идолов, развернутую критику которых он дал в «Новом Органоне».
Конечно, любопытно проследить истоки бэконовского термина idola, выявить ту философскую традицию, из которой он заимствован. В частности, В. Ф. Асмус в своей работе «Фрэнсис Бэкон» указывает, что термин этот восходит к понятиям атомистического материализма Эпикура. Так Эпикур и его последователи называли маленькие «видики», подобия вещей, будто бы отделяющиеся от их поверхности и мчащиеся во всех направлениях в пространстве. И если на пути до воспринимающих их органов чувств эти подобия не испытывали деформаций и свободно проникали в органы чувств, то у человека возникали истинные, адекватные образы соответствующих им вещей. «Однако, — отмечает Асмус, — взяв термин idola из традиции Эпикура, Бэкон изменяет его значение» (9, стр. 386). Мы уже встречались с этой характерной для бэконовской философии тенденцией переосмысливать заимствованные из прошлого понятия и термины. Он любил молодым вином наполнять старые мехи. У Эпикура idola — это истинные образы вещей, у Бэкона — искаженные, ложные образы. В системе воззрений Бэкона проблема идолов поэтому выступает как проблема очищения интеллекта от ложных, обманчивых образов, возникающих в человеческом уме в силу его внутренней к тому предрасположенности.
Ум, который питают воля и страсти, склонен окрашивать вещи в субъективные тона, «а это порождает в науке желательное каждому» (5, 2, стр. 22). И тогда люди верят в истинность предпочтительного и стараются всячески поддерживать и обосновывать то, что они однажды приняли, к чему привыкли или в чем заинтересованы. Какова бы ни была значимость и число фактов, свидетельствующих о противном, их или игнорируют, или же превратно истолковывают. Как часто отвергается трудное потому, что нет терпения его исследовать, трезвое — потому, что оно угнетает надежду, простое и ясное — из-за суеверий и преклонения перед непонятным, данные опыта — из-за презрения к частному и преходящему, парадоксы — из-за общепринятого мнения и интеллектуальной инертности! И к этому же типу врожденных идолов Рода или Племени Бэкон причисляет идеализирующую способность предполагать в вещах больше порядка и единообразия, чем это есть на самом деле, привносить в природу мнимые подобия и соответствия, осуществлять чрезмерные отвлечения и мысленно представлять текучее как постоянное. Совершенные круговые орбиты и сферы античной астрономии, так же как и аристотелевская абстракция бесконечной делимости, — все это примеры идолов Рода.
Идолы Рода — одно из ярких проявлений того, как «соотнесенное с человеком» способно искажать «соотнесенное с миром» или, прибегая к другому бэконовскому выражению, как представления маленького мира, в котором действуют представители рода человеческого, накладываются на большой и всеобщий мир. Для современного читателя, пожалуй, интереснее примеры, более близкие по времени. Так, «открытые» Скиапарелли и Ловеллом каналы на Марсе едва ли были лишь оптической иллюзией в результате использования несовершенной телескопической техники. О них заговорили, когда в памяти всех еще жив был ажиотаж, связанный с прорытием Суэцкого канала, и когда сооружался Панамский канал. Ряд последующих «открытий» на Марсе в том же роде. Когда на кораблях военно-морского флота в первую мировую войну стали применять прожекторную сигнализацию, астрономы усмотрели световые сигналы и на Марсе; когда появилось радио, то зарегистрировали позывные и с Марса; когда запустили искусственные спутники Земли, то Шкловский выдвинул гипотезу, что Фобос и Деймос искусственно созданы. Именно полеты земных космонавтов — источник представлений Агреста, Казанцева и Дэникена о посещении Земли пришельцами с инопланетных цивилизаций и всех этих тенденциозных и фантастических объяснений гибели Содома и Гоморры, происхождения плит Баальбекской террасы, тектитов и фресок Тассили, завершившихся новой интерпретацией древнейшей истории, мифологии и Библии в стиле одностороннего техницистского мышления.
И разве у человека в силу его индивидуальных особенностей, связанных с характером его психического склада, привычек, воспитания, среды, в которой он жил, и множеством других обстоятельств, не имеется свой неповторимый, только ему присущий угол зрения на мир, «своя особая пещера, которая разбивает и искажает свет природы» (5, 2, стр. 19), как выражается Бэкон, используя знаменитый платоновский образ? Так, одни умы более склонны видеть в вещах различия, другие же — сходство; первые схватывают самые тонкие оттенки и частности, вторые улавливают незаметные аналогии и создают неожиданные обобщения. Одни, приверженные к традиции, предпочитают древности, другие же всецело охвачены чувством нового. Одни направляют свое внимание на простейшие элементы и атомы вещей, другие же настолько поражены созерцанием целого, что не способны проникнуть в его составные части.
По Бэкону, идолы Рода и Пещеры искоренить невозможно, но можно, осознав их характер и действие на человеческий ум, ослабить их влияние, предупредить умножение ошибок и методически правильно организовать познание. Гарантией против их пагубного воздействия на ум является благоразумная мудрость. Поэтому каждому исследующему природу рекомендуется как бы взять за правило считать сомнительным все то, что особенно захватило и пленило его разум. Энтузиаст новой науки отнюдь не усматривал в слепой одержимости фактор, способствующий постижению истины, и склонялся к идеалу уравновешенного и ясного критического понимания.
«…Плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум» (5, 2, стр. 19–20), — писал Бэкон о третьем, по его мнению, самом тягостном виде идолов, о так называемых идолах Площади или Рынка. Эти идолы проникают в сознание исподволь, из естественной связи и общения людей, из стихийно навязываемого этим общением штампов ходячего словоупотребления. К ним относятся и наименования вымышленных, несуществующих вещей, и вербальные носители плохих и невежественных абстракций. Давление этих идолов особенно сказывается, когда новый опыт или же более острый разум открывают для слов значение, отличное от того, которое приписывает им традиция, когда старые ценности теряют смысл и старый язык символов уже перестает быть общепонятным. И тогда то, что объединяет людей, является фактором их взаимопонимания, обращает свою силу против разума (см. 5, 2, стр. 25).
Эту мысль философа можно проиллюстрировать словами поэта — Вильяма Шекспира, также большого мастера изобличения разного рода идолов на театральных подмостках. Героине его трагедии Джульетте Капулетти с младенчества внушили, что ее родовое имя обладает безусловной реальностью и что в нем содержится ее подлинная и высшая честь. Но вот Джульетта полюбила человека, принадлежащего к враждебной ее семье фамилии Монтекки. И она мучительно задумывается:
Не ты, а имя лишь твое — мой враг, Ты сам собой, ты вовсе не Монтекки. Монтекки ли — рука, нога, лицо Иль что-нибудь еще, что человеку Принадлежит? Возьми другое имя. Что имя? Роза бы иначе пахла, Когда бы ее иначе называли?Она хочет доискаться, в чем же в конце концов реальность имени, и, переоценивая ценности, готова утвердить над именем приоритет природы. Джульетта готова ниспровергнуть «идол имени» — один из мировоззренческих устоев ее феодальной среды:
Ромео, если бы не Ромео стал, Свое все совершенство сохранил бы И безыменный. Сбрось, Ромео, имя, Отдай то, что не часть тебя, — возьми Меня ты всю (50, стр. 285).Но основной удар своей критики Бэкон направляет против идолов Театра, или Теорий. Они проникают в разум не тайно, а открыто воспринимаются из надуманных теорий и превратных доказательств. Сколько есть изобретенных и принятых философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Человечество уже видело и еще увидит много таких представлений с Субстанцией, Качеством, Бытием, Отношением и другими отвлеченными категориями и началами в главных ролях. Пьесам этого философского театра «свойственно то же, что бывает и в театрах поэтов, — писал он, — где рассказы, придуманные для сцены, более слажены и красивы и скорее способны удовлетворить желания каждого, нежели правдивые рассказы из истории» (5, 2, стр. 28). Одержимые этого рода идолами стараются заключить многообразие и богатство природы в односторонние схемы отвлеченных конструкций и, вынося решения из меньшего, чем следует, не замечают, как абстрактные штампы, догмы и идолы насилуют и извращают естественный и живой ход их разумения. Бэкона не устраивают философские теории ни рационалистического, ни эмпирического толка: ни Аристотель, ни Гильберт. Первые выхватывают из опыта отдельные тривиальные факты и, тщательно их не изучив, возлагают главное на чистые размышления и изобретения ума. Вторые же, усердно потрудившись над немногими опытами, произвольно измышляют и выводят из них свою философию, превратно истолковывая в ее свете все остальное.
В многочисленных ссылках на Аристотеля, которыми изобилуют философские сочинения Бэкона, можно обнаружить все градации его критического отношения. Иногда это мимоходом брошенные колкости вроде того, что «Аристотель только указал на эту проблему, но нигде не дал метода ее решения» (5, 1, стр. 326), или же: «Аристотель издал по этому вопросу крошечное сочинение, в котором есть кое-какие тонкие наблюдения, однако, как обычно, сам он считал свою работу исчерпывающей» (5, 1, стр. 273). Иногда же это тяжкие обвинения, что Аристотель «своей диалектикой испортил естественную философию, так как построил мир из категорий» (5, 2, стр. 29), что он «много приписал природе по своему произволу», больше заботясь, «чтобы иметь на все ответ и словами высказать что-либо положительное, чем о внутренней истине вещей» (5, 2, стр. 29), что, «произвольно установив свои утверждения, он притягивает к своим мнениям искаженный опыт» (5, 2, стр. 30). Стагириту приходилось отвечать не только за собственные промахи и недоработки, но и за дотошных комментаторов и изощренных схоластиков, за фанатичных теологов и догматиков всех мастей, подкреплявших свои измышления его авторитетом и рассматривавших весь мир исключительно сквозь призму его трактатов.
Есть еще один источник появления идолов — это смешение естествознания с суеверием, теологией и мифическими преданиями. В этом прежде всего повинны пифагорейцы и платоники, а из новых философов те, кто пытается строить естественную философию на Священном писании. И если рационалистическая и софистическая философия запутывает разум, то эта, полная вымыслов и поэзии, льстит ему, подыгрывает его склонности к воображению и фантазии. Такое «поклонение суетному равносильно чуме разума» и его надо тем более сдерживать, «что из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия», между тем как вере следует оставить «лишь то, что ей принадлежит» (5, 2, стр. 31).
Столь критическое отношение к распространенным и даже возможным философским концепциям многие исследователи сравнивают с методическим сомнением Декарта. Последний считал, что коль скоро речь идет о познании истины, универсальное сомнение должно служить первым шагом и условием для отыскания несомненных основ знания. Для Бэкона, как и для Декарта, критицизм означал прежде всего высвобождение человеческого ума из всех тех схоластических пут и предрассудков, которыми он обременен. Для Бэкона, как и для Декарта, сомнение не самоцель, а средство выработать плодотворный метод познания. В дальнейшем их пути расходятся. Декарта интересуют прежде всего приемы и способы математического знания, опирающиеся на имманентные уму критерии «ясности и отчетливости», Бэкона — методология естественнонаучного, опытного познания. Но Декарт, конечно, подписался бы под бэконовским осуждением проповедников акаталепсии — жрецов идола Непознаваемого, как он подписался бы и под его критикой слепого идола Эмпирической науки, ориентирующего не на теорию, а на беспорядочный и частный эмпирический поиск.
И все же значение бэконовской критики не ограничивается разоблачением средневековых или же современных ему схоластических воззрений. Своим развернутым учением об идолах разума он предупреждает о постоянно подстерегающей опасности антропоцентризма и субъективизма в наших представлениях, о склонности некритически следовать традиции или же неправомерно абсолютизировать имеющиеся знания. Таким образом, уже у начала новой европейской науки Бэкон заложил базу для последующего развития открытых научных и философских теорий. И если в последующих столетиях идейное развитие еще не раз ознаменовалось господством замкнутых спекулятивных систем, не было забыто выкованное им первое оружие пресечения их далеко идущих претензий на тотальное знание.
VII. Эмпирический метод
Своеобразие интеллектуального ига схоластики сказывалось не только в регламентации свободы научной мысли религиозными догматами и предписаниями авторитетов, но и в отсутствии каких-либо строгих критериев для отличения истины от вымысла. Схоластика была «книжной» наукой, то есть пользовалась сведениями, полученными из книг. Поэтому натренированные в полемике умы, отстаивая тот или иной тезис или антитезис, чисто умозрительно могли подвергать сомнению любую из общепринятых истин, что порой сопровождалось как отрицанием достоверности самых бесспорных фактов, так и апологией самых фантастических измышлений. Ригоризм и догматизм, таким образом, даже способствовали известной свободе мышления, не способной, однако, побудить к действительно плодотворным исследованиям. Ощущался недостаток не столько в идеях (некоторые из них в результате бесконечных дискуссий были разработаны даже слишком утонченно), сколько в методе для получения новых открытий, в том твердом основании, на котором только и могло быть воздвигнуто здание критически выверенного и вместе с тем позитивного научного знания — в организации эффективного экспериментального исследования. Это обстоятельство было в полной мере осознано Бэконом и положено во главу угла как его критики, так и его метода.
Его заслуга, в частности, состоит в том, что он со всей определенностью подчеркнул: научное знание проистекает из опыта, не просто из непосредственных чувственных данных, а именно из целенаправленно организованного опыта, эксперимента. Более того, наука не может строиться просто на непосредственных данных чувства. Наивный сенсуалистический реализм столь же несостоятелен, как и абстрактно-спекулятивная метафизика. Одно в сущности стоит другого: «…диалектики, — пишет Бэкон, — берут принципы наук как бы взаймы от отдельных наук; далее, они преклоняются перед первыми понятиями ума; наконец, успокаиваются на непосредственных данных хорошо расположенного чувства» (5, 1, стр. 76). Есть множество вещей, которые ускользают от чувств, с другой же стороны, свидетельства чувств субъективны, ибо «всегда покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира» (5, 1, стр. 76). И если чувства могут отказывать нам в своей помощи или обманывать нас, то нельзя утверждать, что «чувство есть мера вещей». Наивный сенсуализм оказывается перед лицом гносеологической антиномии, чреватой крайностями скептицизма и солипсизма. Рационалист Декарт, размышляя о том, насколько адекватно чувственные восприятия соответствуют внешней реальности, апеллировал к «правдивости бога», который, не будучи обманщиком, не мог допустить в наших мнениях лжи без того, чтобы не дать и какой-нибудь способности для ее исправления. Бэкон предлагает гораздо более современное и трезвое решение. Компенсацию несостоятельности чувства и исправление его ошибок дает правильно организованный и специально приспособленный для того или иного исследования опыт или эксперимент. Именно его «мы готовим в качестве светоча, который надо возжечь и внести в природу» (5, 1, стр. 77). И он делает крайне важное разъяснение: «…поскольку природа вещей лучше выражается в состоянии искусственной стесненности, чем в собственной свободе» (5, 1, стр. 80).
Бессистемный, слепой опыт не играет заметной роли в науке. Опыт в науке должен осуществляться по определенному плану, в определенном порядке и вести от экспериментов к новым экспериментам либо от экспериментов к теоретическим аксиомам, которые в свою очередь указывают путь к новым экспериментам. В первом случае бывает достаточно профессиональной проницательности, так сказать, «охотничьего чутья» исследователя — Бэкон этот тип научного опыта так и называет «охота Пана». Во втором, в случае «светоносных» опытов, имеют дело уже с истолкованием природы индуктивным методом, с созданием опосредствующей теоретической концепции. Философ эмпирической науки был далек от недооценки теории как в структуре самого научного знания, так и в ее решающем значении для дальнейших опытных изысканий.
Конечно, Бэкон не был ни изобретателем экспериментального метода в естествознании, ни пионером его применения в новой науке. Задолго до него Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи и Парацельс провозгласили этот метод единственно верным. В то время как он философствовал об опыте, Гильберт и Галилей, успешно применяя экспериментальный метод, создавали основы научной физики. И должно было пройти немало времени, пока ученые преодолели «неясность слишком образной терминологии лорда-канцлера и оценили его старания выяснить необходимые условия для правильности выводов из опытных наблюдений» (44, стр. 57). Впрочем, как мы увидим, некоторые недоразумения на этот счет живы и по сей день. Поэтому не будем, как это не раз делали многие, упрекать Фрэнсиса Бэкона, что он не оставил науке замечательных образцов эксперимента или, что еще хуже, присвоил себе приоритет изобретения некоторых из них, а внимательно и добросовестно разберемся в его рассуждениях о методологии такого исследования.
В трактате «О достоинстве и приумножении наук» мы находим интересный анализ научного опыта типа «охота Пана», где Бэкон разбирает различные способы постановки опытов и модификации экспериментирования, в частности изменение, распространение, перенос, инверсию, усиление и соединение экспериментов.
Изменение эксперимента — это такая операция, когда какой-либо имеющийся опыт осуществляется с другими объектами подобного же рода или с теми же объектами, но при других условиях. Например, широко распространена прививка плодовых деревьев, стоит испробовать ее и на диких. Известно, что янтарь и гагат под влиянием трения притягивают соломинки; а будут ли они притягивать, если их нагреть на огне? Редактор русского издания трактата Вильяма Гильберта «О магните, магнитных телах и о большом магните Земле» и автор сопроводительной статьи к нему А. Г. Калашников, приведя последний пример, замечает, что Бэкону представлялся нерешенным вопрос, который уже был исследован экспериментально Гильбертом и на который Гильберт дал вполне определенный ответ. В связи с этим Калашников даже пишет, что «Бэкон неизвестно из каких побуждений замалчивает приоритет Гильберта» (13, стр. 353). Это кажется курьезом, но в свое время и Мерсенн ставил Бэкону в упрек, что многие эксперименты, которые он предлагал, уже были поставлены. При этом Мерсенн давал понять, что он сам проделал опыт с зажигательным стеклом — опыт, о котором Бэкон упоминает в том же абзаце об изменении эксперимента (впрочем, и во второй части «Нового Органона» он, вообще, часто повторялся): «…как нам известно, тепловые лучи усиливаются благодаря действию зажигательных стекол и зеркал; но происходит ли то же самое и с теплотой темных тел (например, камней или металлов, еще не разогретых добела) или же здесь скорее играют какую-то роль частицы света» (5, 1, стр. 301). Между тем Бэкон не покушался на чей-либо приоритет. Он действительно приводит много чужих опытов и, как правило, без ссылок. Но его вопросы — риторические, они касаются не столько физического результата опыта, сколько характера, способа его постановки как определенной модификации другого опыта.
Следующая операция — распространение эксперимента — связана с повторением и расширением эксперимента или постановкой его в более утонченной форме. Например, винный спирт образуется из вина в результате однократной дистилляции, и он значительно крепче вина; а не усилится ли крепость спирта при вторичной дистилляции и какова та мера, при которой достигается предельное состояние желаемого результата? А вот пример расширения эксперимента. Вода в подвешенном состоянии, вливаясь сверху через горлышко сосуда в находящееся в нижнем сосуде разбавленное водой вино, в конце концов отделит вино от воды, потому что вино будет подниматься в верхний сосуд, а вода оседать в нижнем; нужно проверить, нельзя ли отделить таким же образом с помощью своего рода весовой дистилляции более тонкие от более плотных частиц вина и таким образом в верхнем сосуде получить нечто подобное винному спирту.
Перенос эксперимента бывает троякий: из природы в искусство, из одного технического искусства или вида практики в другой, из одной части искусства в другую часть того же искусства. Так, можно искусственно создавать радугу, пропуская лучи света через облака брызг, подражая таким образом естественной «небесной» радуге. Или: очки изобретены для того, чтобы помочь слабеющему зрению; не стоит ли изобрести инструмент, помогающий восстановлению слуха? «И если говорить об этом вообще, ничто в такой мере не может способствовать этому как будто бы падающему с неба своеобразному ливню полезных и новых изобретений, как может этому способствовать объединение сведений об экспериментах, проводимых во многих видах технических искусств, в уме одного человека или небольшого числа людей, которые развивали бы их во взаимных обсуждениях, чтобы с помощью того, что мы назвали переносом эксперимента, все искусства могли бы взаимно способствовать друг другу и как бы зажигать друг друга взаимным смешением лучей» (5, 1, стр. 305).
Инверсия эксперимента имеет место тогда, когда доказывается противоположное тому, что уже известно из опыта. Например, зеркала усиливают интенсивность тепла, но, может быть, и холода? Такая постановка вопроса вытекала из взгляда Бэкона на холод как на нечто позитивное, противоположное теплу, быть может воспринятого из философии Телезио. Между тем флорентийские академики действительно поставили такой опыт: в фокусе одного вогнутого зеркала помещался кусок льда, в фокусе другого, расположенного напротив, — термометр. При этом наблюдалось понижение температуры.
Под усилением эксперимента понимается доведение его до потери исследуемого свойства. Магнит притягивает железо; будем выяснять, теряют ли они эту свою способность, например, подвергая магнит и железо нагреванию или действию сильных растворов. Сохранится ли способность притяжения, если железо заржавеет или будет превращено в закаленную сталь? Как влияет на силу магнитного притяжения та среда, через которую действует магнит, и существует ли среда, нейтрализующая его силу?
Соединение эксперимента — это объединение в единое целое нескольких экспериментов, «связь и сцепление их применений». Оно используется там, где отдельные опыты не приносят желаемого результата, но в соединении с другими дают нужный эффект. Так, если хотят получить поздние розы или фрукты, то для этого срезают ранние почки; того же результата добиваются, оставляя до середины весны корни растений не покрытыми землей; однако намного вернее цель будет достигнута, если соединить оба этих способа. Или, например, и лед, и селитра вызывают охлаждение; если же их употребить вместе, то результат оказывается еще более значительным.
И Бэкон заключает рассмотрение научного эксперимента такими замечательными словами: «…не нужно падать духом и приходить в отчаяние, если эксперименты, которым отдано столько сил, не приводят к желаемому результату. Конечно, успех опыта значительно приятнее, но и неудача часто обогащает нас новыми знаниями И нужно всегда помнить о том (мы повторяем это непрестанно), что к светоносным опытам следует стремиться еще настойчивее, чем к плодоносным» (5, 1, стр. 310). Теорию «светоносных» опытов Бэкон изложил в «Новом Органоне», она по существу смыкается с его учением об индукции.
VIII. Теория индукции
Формулируя теоретические аксиомы и понятия об изучаемых природных явлениях, не следует полагаться на абстрактные обоснования, какими бы заманчивыми и справедливыми они ни казались. Надо расшифровывать тайный язык природы из документов самой же природы, из фактов опыта. Иной альтернативы в научном познании не существует. Самое главное — это найти правильный метод анализа и обобщения опытных данных, позволяющий постепенно проникнуть в сущность исследуемых явлений. Аристотелевская логика здесь бесполезна. И хотя в силлогизме заключена «некая математическая достоверность», достаточно наполнить силлогистические доказательства путаными, опрометчиво абстрагированными от вещей и плохо определенными понятиями, как все рассуждения рушатся. Это по существу. А по видимости такая логическая организация порочных понятий может служить закреплению и сохранению ошибок, создавая иллюзию обоснованности и доказательности там, где нет ни того, ни другого. Так Бэкон изобличает мистификацию схоластической науки, один из приемов любой схоластики — и старой, и новой.
Да и в физике, где задача состоит в анализе природных явлений, а не в создании родо-видовых абстракций и уже, конечно, не в том, чтобы «опутать противника аргументами», силлогистическая дедукция не способна уловить «тонкости совершенства природы». Позднее, в своем письме к Баранзану он выскажет более терпимое отношение к возможности аристотелевской логики. «Силлогизм — это вещь, скорее неприменимая в отдельных случаях, нежели бесполезная в большинстве их» (54, II, стр. 128). Он отметит его роль в математике и согласится с мнением своего корреспондента, что, после того как посредством индукции введены хорошо определенные понятия и аксиомы, вполне безопасно применение силлогизма и в физике.
Но при всем том основным методом исследования в естественной философии является индукция. Это не та индукция, которая заключает лишь на основании простого перечисления ограниченного числа благоприятных случаев. Простая перечислительная индукция чаще приводит к ошибочным, чем к истинным, обобщениям и в лучшем случае имеет эвристическое значение наведения на более или менее вероятное предположение. И Бэкон ставит перед собой задачу сформулировать принцип научной индукции, «которая производила бы в опыте разделение и отбор и путем должных исключений и отбрасываний делала бы необходимые выводы» (5, 1, стр. 75).
Это очень важная установка. В случае индукции мы, вообще говоря, имеем незавершенный опыт, и Бэкон понимает необходимость выработки таких эффективных средств, которые позволили бы, говоря современным языком, осуществлять возможно более полный и глубокий анализ информации, заключающейся в посылках индуктивного вывода. Этот пункт станет основным в построении всех последующих логических теорий индукции, и разные теоретические модели индукции, вообще говоря, будут различаться принятием тех или иных средств и методов такого анализа. Основоположники индуктивной логики — Фр. Бэкон, Дж. Гершель и Дж. Ст. Милль — так же, как и некоторые из последующих и современных нам логиков — Дж. Венн, Г. Греневский и Н. Решер, — стремятся построить индукцию как строгое умозаключение наподобие дедуктивного. Если при этом некоторые из них и допускают неопределенность индуктивного заключения, то не применяют к его оценке функцию «вероятность». Другие же исследователи — П. Лаплас, Дж. М. Кейнс, Р. Карнап и Г. Рейхенбах — подходят к построению ее теории с точки зрения вероятностной оценки индуктивного обобщения.
Бэкону не только была чужда идея вероятностного подхода к индукции, но он, кажется, с излишним оптимизмом считал, что предлагаемые им средства индуктивного анализа являются достаточной гарантией необходимости и достоверности получаемого заключения. Вот в кратких словах суть его индуктивного метода, его Таблиц Открытия — Присутствия, Отсутствия и Степеней. Собирается достаточное количество разнообразных случаев некоторого «простого свойства» (например, плотности, теплоты, тяжести, цвета и т. п.), закон или «форма» которого ищется. Затем берется множество случаев, как можно более подобных предыдущим, но уже таких, в которых это свойство отсутствует. Затем — множество случаев, в которых наблюдается изменение интенсивности интересующего нас свойства. Сравнение всех этих множеств позволяет исключить факторы, не сопутствующие постоянно и обратимо исследуемому свойству, то есть не присутствующие там, где имеется данное свойство, или присутствующие там, где оно отсутствует, или же не усиливающиеся при его усилении (соответственно, не ослабевающие, где оно ослабевает). Таким отбрасыванием в конце концов получают определенный остаток, неизменно и обратимо сопутствующий интересующему нас свойству — его «форму».
А вот схема индуктивного исследования Бэконом формы тепла. Собираются все известные примеры природы тепла в «самых различных материях»: солнечные лучи; огненные атмосферные явления; воспламеняющие молнии; огонь; раскаленные тела; естественные горячие источники; кипящие и нагретые жидкости; горячие пары и воздух; искры, выбитые из кремня; тела, воспламеняющиеся от сильного трения; плотно спрессованные зеленые и влажные травы; смоченная водой негашеная известь; растворяющееся в царской водке железо; внутренности животных и т. д. и т. п. Весь этот список составляет таблицу Сущности или Присутствия. Далее, для каждого примера этой таблицы ищутся наиболее родственные случаи, в которых, однако, тепла не наблюдается: лучи Луны и звезд, северное сияние, зарницы, болотные огни и свечение моря, жидкость в норме, пары масел и воздух в норме, золото в царской водке, внутренности растений. Не ко всем положительным примерам Бэкон находит отрицательные. Он, например, считает, что нет такого осязаемого тела, которое явно не нагревалось бы от трения.
Иногда, не находя прямого отрицательного случая, он приводит не прямой — так раскаленным телам он противопоставляет свечение гнилушек и насекомых-светляков. Иногда же поиск отрицательных примеров заставляет его формулировать задачу дальнейшего исследования: сопровождаются ли теплом огни св. Эльма, в каких местах и в какой почве обычно встречаются горячие источники, почему преет и самовозгорается спрессованное влажное сено? Так составляется таблица Отклонения или Отсутствия в ближайшем. Дальнейшую информацию дает таблица Степеней или Сравнения. В длинном списке примеров этой таблицы мы читаем, что тела животных разогреваются от движения и напряжения, что пламя не может возникнуть и развиться, если нет пространства, в котором оно могло бы двигаться и играть, что и в других случаях движение увеличивает теплоту, как это видно на примере усиления жара горна по мере нагнетания воздуха мехами или нагревания наковальни под ударами молота и др. Здесь, как и в предыдущих таблицах, встречается ряд ошибочных, а то и фантастических утверждений. Бэкон, например, ссылается на тех астрономов, которые считают, что из планет самым горячим после Солнца является Марс, затем Юпитер, затем Венера. Он еще не освободился от перипатетических представлений о «собственной» и «посторонней» теплоте тел и их интуитивной градации различных тел по «наибольшей чувствительности к теплоте» — воздух, снег и лед, ртуть, растительные и животные масла, дерево, вода, камни и металлы. На основе этих трех таблиц можно приступить к исключению, отбрасыванию многих предположений о форме тепла. Ввиду как наличия, так и отсутствия тепла в лучах разных небесных тел его форма не может быть специфически небесной. Аналогично, она не может быть специфически связана с природой земного. Далее, из формы тепла исключаются свойства светимости, быть живым и т. д. и т. п. В конце концов Бэкон приходит к выводу, что сущность или форму теплоты составляет распирающее быстрое движение малых частиц тела, стремящихся к расширению занимаемого ими объема, однако затрудненного и сдерживаемого, а поэтому не равномерного и происходящего в малых частях. «Если ты сможешь вызвать в каком-либо природном теле движение распространения или расширения, обуздать это движение и направить его в себя само таким образом, чтобы расширение не происходило равномерно, но поочередно, то допускаясь, то подавляясь, то ты, без сомнения, произведешь тепло» (5, 2, стр. 123). Впоследствии историки науки только поражались, как из столь случайно набранных и подчас ложных данных при такой грубой их обработке Бэкон вообще мог прийти к сравнительно верному определению теплоты (см. 38, стр. 105).
Аналогия и исключение составляют главные приемы этого метода. По аналогии подбираются эмпирические данные для Таблиц Открытия. Она лежит как бы в фундаменте индуктивного обобщения, которое достигается посредством отбора, выбраковки ряда обстоятельств из обилия первоначальных возможностей. Этому процессу анализа могут способствовать исключительные ситуации, в которых исследуемая природа по тем или иным причинам обнаруживается более очевидно, чем в других. Бэкон насчитывает и излагает 27 таких преимущественных примеров (прерогативных инстанций). Сюда относятся те случаи, когда исследуемое свойство существует в предметах, совершенно различных между собой во всех других отношениях. Или, наоборот, это свойство отсутствует в предметах, совершенно подобных между собой. Или это свойство наблюдается в наиболее явной, максимальной (соответственно минимальной) степени. Или же выявляется очевидная альтернативность двух или нескольких причинных объяснений и тогда дело остается лишь за experimentum crucis[4] и т. д.
Но вот особенности бэконовской трактовки индукции, связывающие собственно логическую часть учения Бэкона с его аналитической методологией и философской метафизикой. Во-первых, средства индукции предназначаются для выявления форм «простых свойств», или «природ», как называет их Бэкон, на которые, вообще говоря, разлагаются все конкретные физические тела. Индуктивному исследованию подлежат, например, не золото, вода или воздух, а такие их свойства или качества, как плотность, тяжесть, ковкость, цвет, теплота, летучесть и т. п. Такой аналитический подход в теории познания и методологии науки впоследствии превратится в прочную традицию английского философского эмпиризма. И вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что физика (и не только в XVII столетии) занималась изучением как раз такого рода феноменов, исследуя природу плотности, упругости, тяготения, теплоты, цвета и магнетизма. Во-вторых, задача бэконовской индукции — выявить «форму», в перипатетической терминологии «формальную» причину, а отнюдь не «действующую» или «материальную», которые, по его мнению, частны и преходящи и поэтому не могут быть неизменно и существенно связаны с теми или иными простыми свойствами. Он мыслил индукцию не как средство узкоэмпирического исследования, в каковое она фактически превращается уже в представлении Дж. Ст. Милля, а как метод выработки фундаментальных теоретических понятий и аксиом естествознания, или, как он выражался, естественной философии.
Итак, бэконовское учение об индукции тесно связано с его философской онтологией, с аналитической методологией, с учением о простых природах и их формах, с концепцией разных видов причинной зависимости. И здесь создатель первого варианта индуктивной логики преподает нам еще один урок, который должен быть особенно поучителен для тех, кто до сих пор придерживается в логике формалистических и номиналистических позиций. Выражаясь современным языком, логика, понимаемая как интерпретированная система, то есть как система с заданной семантикой, всегда имеет какие-то онтологические предпосылки и по существу строится как логическая модель некоторой онтологической структуры. Сам Бэкон еще не делает столь определенного и общего вывода. Но он определенно замечает, что логика должна исходить «не только из природы ума, но и из природы вещей» (5, 2, стр. 220), и пишет о необходимости видоизменений «способа открытия применительно к качеству и состоянию того предмета, который мы исследуем» (5, 2, стр. 79). И бэконовский подход, и все последующее развитие логики свидетельствуют, что для существенно различных задач, вообще говоря, требуются и различные логические модели, что это справедливо как для дедуктивных, так и для индуктивных логик. Поэтому при условии достаточно конкретного и деликатного анализа мы будем иметь не одну, а множество систем индуктивных логик, каждая из которых выступает специфической логической моделью определенного рода онтологической структуры.
Как метод продуктивного открытия индукция должна работать по строго определенным правилам, как бы по некоторому алгоритму, не зависящему в своем применении от различий индивидуальных способностей исследователей, «почти уравнивая дарования и мало что оставляя их превосходству» (5, 2, стр. 76). Так, циркуль и линейка при начертании окружностей и прямых линий нивелируют остроту глаза и твердость руки. В другом месте, регламентируя познание «лестницей» строго последовательных индуктивных обобщений, Бэкон даже прибегает к такому образу: «…разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет» (5, 2, стр. 63). Сегодня это может быть воспринято как метафорическая характеристика той определенной регламентации, которая всегда отличает научное знание от обыденного, как правило, недостаточно ясного и точного и не подлежащего методологически выверенному самоконтролю. Однако, поскольку речь идет о наиболее творческом и интимном акте теоретической деятельности, следует отдавать себе отчет, что какая-либо универсальная и общезначимая система принципов научного исследования здесь вряд ли возможна; она может затемнить существо дела, представляя вещи в упрощенном свете и связывая интуицию исследователя множеством ненужных, а то и невыполнимых предписаний.
И все же мысль рассматривать индукцию как систематическую процедуру исследования и сформулировать ее точные правила жива до сих пор. Правда, предложенная Бэконом схема не гарантирует определенности и достоверности получаемого результата, не давая даже уверенности, что процесс исключения доведен до конца. Попытка обрести эту уверенность на пути создания исчерпывающего и точного списка всех «простых природ» была бы бесперспективной и метафизической затеей. Реальной коррективой к его методологии было бы более внимательное отношение к гипотетическому элементу при осуществлении индуктивного обобщения, всегда имеющему здесь место хотя бы в фиксировании исходных для выбраковки возможностей. Любопытно, что три столетия спустя в самой индуктивной логике произойдет характерное смещение в анализе — проблема индукции «дедуктивизируется» и на первый план в ней выдвинется задача подтверждения (верификации или фальсификации) гипотез.
В пылу своей критики умозрительных абстракций и спекулятивных дедукций перипатетиков Бэкон недооценил и роль гипотез, и возможности гипотетико-дедуктивного метода в науке. А этому методу, состоящему в том, что выдвигаются определенные постулаты или гипотезы, из которых затем выводятся следствия, проверяемые на опыте, следовал не только Архимед, но и Стевин, Галилей и Декарт — современники Бэкона, заложившие основы нового естествознания. Опыт, которому не предшествует какая-то теоретическая идея и следствия из нее, просто не существует в науке. Бэкон же целиком был поглощен сугубо качественным рассмотрением эксперимента и индукции; он фактически не связывал их в системе предложенной им методологии ни с количественной обработкой результатов опыта, ни с математической дедукцией, хотя и понимал необходимость такой связи. Между тем математические схемы могут выступать как сокращенные записи обобщенного физического эксперимента, моделирующие исследуемые процессы с точностью, позволяющей предсказывать результаты будущих экспериментов. Соотношение того и другого (эксперимента и математики) для различных отраслей науки, вообще говоря, различно и зависит от развития как экспериментальных возможностей, так и имеющейся в нашем распоряжении математической техники. И надо сказать, что во времена Бэкона экспериментальная физика уже заговорила языком математической дедукции, приобретающей значение логической основы науки.
Привести философскую онтологию в соответствие с этим методом нового естествознания выпало на долю ученика Бэкона и «систематика» его материализма Томаса Гоббса. И если Бэкон в естествознании уже пренебрегает конечными, целевыми причинами, которые, по его словам, подобно деве, посвятившей себя богу, бесплодны и не могут ничего родить, то Гоббс отказывается и от бэконовских «форм», придавая значение лишь материальным и действующим причинам. Программа исследования и построения картины природы по схеме «формы — сущности» уступает место программе исследования по схеме «причинности». Соответствующим образом меняется и общий характер мировоззрения. «В своём дальнейшем развитии материализм становится односторонним… — писал К. Маркс. — Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность геометра. Физическое движение приносится в жертву механическому или математическому движению; геометрия провозглашается главной наукой» (2, стр. 143). Так, идейно было подготовлено главное научное произведение века — «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона, блестяще воплотившее в себе эти два, казалось бы, полярных подхода — строгий эксперимент и математическую дедукцию.
Мы не будем ставить в вину Фрэнсису Бэкону, что от его первоначально грандиозного замысла, от претендующей на универсальность методологической концепции последующими поколениями была воспринята лишь общая идея и, быть может, некоторые технические частности. Подобными метаморфозами наполнена и история конкретных наук, что нисколько не исключает того, что эти первоначальные концепции фактически и исторически образуют те леса, с помощью которых возводится величественное и основательное здание научного знания. Бэконовская индукция оказалась недостаточным, можно даже сказать, упрощенным решением сложнейшей проблемы научно-теоретического обобщения эмпирического материала, той проблемы, которая, как мы теперь склонны считать, вообще не имеет своего единственного и универсального способа решения. Но вместе с тем бэконовская индукция содержит в себе в каком-то приближении, в модели те простые качественные схемы экспериментального установления зависимости (или независимости) между явлениями, которые впоследствии были специально выделены Гершелем и Миллем и названы методами сходства, различия и сопутствующих изменений. Эти схемы нетрудно обнаружить и сегодня в реализации многих экспериментальных исследований. И в этом смысле Фрэнсис Бэкон также может быть назван одним из родоначальников современной экспериментирующей науки. Но еще важнее, пожалуй, то, что пионер естественнонаучной методологии не относился к своему учению как к истине в последней инстанции. Он прямо и откровенно ставил его лицом к лицу с будущим. «Мы не утверждаем, однако, что к этому ничего нельзя прибавить, — писал Бэкон. — Наоборот, рассматривая ум не только в его собственной способности, но и в его связи с вещами, мы должны установить, что искусство открытия может расти вместе с открытиями» (5, 2, стр. 82).
IX. Бэкон и античность
Интерес к античности пронизывает всю историю европейской цивилизации. В разные времена и в разных общественных и идейных условиях он принимал различные формы, сосредоточивался то на одних, то на других источниках, воплощался в различном их толковании и использовании в той или другой связи. Даже в периоды мощных социальных и духовных потрясений, когда казалось, что рвется «связь времен» и на авансцену истории агрессивно выступают новое чувство жизни, другие идеи и ценности, эта глубинная связь с прошлым не обрывалась, она только преображалась, обретая и конституируя иные свои лики и формы.
Так, возникнув как антипод «языческой» культуре и философии, христианство вскоре уже пытается заключить их в свои объятия, представить как свое подготовление, а собственную доктрину выдать за высший, завершающий этап их развития. Фанатическая нетерпимость Татиана и Тертуллиана, их красноречивые анафемы в адрес греческих философов сменяются терпеливой созидательной работой Климента Александрийского, Евсевия Кесарийского и Августина Аврелия, стремившихся найти преемственность и установить согласие между Священным писанием и духовным наследием античности. А Лактанций даже намекает, что если собрать воедино истины, рассеянные по отдельным философам и философским школам, то должно получиться не что иное, как подлинное изложение самого христианского учения. Разумеется, при этом из всего философского богатства прошлого была воспринята и усвоена по преимуществу идеалистическая традиция Платона, поздних стоиков и неоплатоников, а результатом явилось создание основ христианской философии. Античная традиция, правда, далеко не вся и не во всем была сохранена ценой «порабощения боговластием». Это двоякое отношение к античному наследию как к altera pars[5] или alter ego[6] пронизало почти все средневековье и для христианской философии имело, пожалуй, не меньшее значение, чем трагические перипетии формирования религиозной догматики. Впоследствии, как известно, завершитель строительства этого здания, Фома Аквинский, обратился к энциклопедисту античного мира Аристотелю, сделав грандиозную попытку систематизировать и обосновать «священное учение» с помощью его философско-логических категорий.
Иную роль, сравнительно с периодом раннего христианства, да и вообще всего христианского средневековья, античное наследие играет в эпоху Возрождения. Само это понятие «Возрождение», означающее обращение к классической древности, приобретает свое поистине историческое значение, лишь распространившись на весь строй новой культуры и образ мыслей, которые складывались в тогдашней Европе, вступившей в полосу кризиса феодальных общественных отношений. «Возрождение древности», конечно, придало всему этому процессу особую окраску, однако главное состояло в том, что с этого времени начинается постепенный закат того типа мировоззрения, культуры и мышления, которые, если и не исключительно, то в значительной мере, питали идеи, образы и догмы христианской религии. Этому способствовала и вновь открытая Ренессансом античность — греческие авторы и сочинения, изданные и прокомментированные учеными-гуманистами и не затертые богословием. Я специально подчеркиваю это, казалось бы, общее место в противовес модным мнениям, что Возрождение было не началом великого Освобождения от клерикально-религиозного сознания, а его обновлением, не первым мощным прорывом к мироощущению будущего, а модификацией средневекового идейного прошлого.
Именно тогда закладываются основы того мировоззрения, которое связало себя с отказом от слепой веры в авторитет и доверием к собственному разуму, с обузданием безудержных спекуляций путем обращения к опыту и принципам научного знания, с заменой догматического видения трезвым и критическим взглядом на вещи, наконец, с признанием посюсторонней значимости всех человеческих и культурных ценностей. Эта работа шла не без издержек. В создававшемся идеологическом вакууме возрождались и рождались фантомы старого и нового суеверия. На первое время оппозиция выбирает в качестве своей хоругви идеалистические идеи пифагореизма, платонизма и неоплатонизма, не чураясь их теософских и мистических тенденций. Возможно, поэтически гибкие рамки этих учений кажутся искателям нового более удобными для собственного творчества, чем сросшиеся со схоластикой рассудочные схемы господствующего аристотелизма. К Платону и Плотину обращались потому, что не хотели тирании Аристотеля, но еще не выработали своего, хотя уже само это было одним из путей его созидания.
И размышления Бэкона постоянно отталкиваются и вновь возвращаются к античной классике. Его сочинения полны ссылок на греческих и римских философов, писателей, историков, поэтов и риторов. Их мнения, сентенции, стихи, рассказы о событиях и лицах он постоянно приводит по памяти и толкует в подтверждение своих соображений. Однако бэконовское отношение к античности отмечено неприязнью не только к схоластике перипатетиков, но и к мистике пифагорейцев, и к обожествленному миру идей платоников. Он открыто солидаризуется с ее материалистической традицией, с древнегреческими физиологами и натурфилософами, с «линией Демокрита». Этот сторонник христианского дуализма «боговдохновенной» души и тела, учение которого еще кишит теологическими отступлениями, вряд ли мог лучше продемонстрировать свои истинные философские симпатии, чем это он сделал, сказав свое похвальное слово греческим досократикам.
Их наивные, но свежие, жадно обращенные на мир взгляды напоминают ему о забытой в схоластической науке природе вещей, о подлинных природных телах и процессах, об опыте, о любезных ему проблемах естественной философии. В том, что «все они определяли материю как активную, как имеющую некоторую форму, как наделяющую этой формой образованные из нее предметы и как заключающую в себе принцип движения» (5, 2, стр. 306), Бэкон видит исходный и единственно плодотворный принцип всякой истинной, то есть опытной, науки. Именно его он и противопоставляет перипатетикам, считавшим материю пассивной и бескачественной, лишь чистой возможностью и придатком другого, активного начала — умопостигаемой формы. Но такая фикция человеческого разума, такая абстрактная материя может быть лишь материей дискуссий, а не материей Вселенной. Так и произошло на самом деле, и наука надолго была ввергнута в пучину бесплодных словопрений.
Грандиозная фантасмагория о сущем как о царстве форм, отвлеченных идей и фиктивной материи отнюдь не способствовала ориентации на терпеливое и строгое опытное исследование природы. Образовывать реальные вещи из воображаемых — разве это означает дать ответ на вопрос об истинных началах вещей? Бэкона интересует не то, каким образом можно мысленно, категориально охватить и определить природу сущего, а то, какова реальная природа тех простых начал, той первоматерии, из которой образуется все в мире. Над его подходом доминирует интерес естествоиспытателя, физика, хотя сам анализ зачастую ведется на спекулятивно-метафизическом уровне и языке. Он не видит ничего положительного в работе великих идеалистов по созданию интеллигибельного мира. Что ж, ведь истина — дочь времени, а не авторитета! Вся значимость и сложность этой проблемы понятийно-категориального строения человеческих концепций и теорий со всей остротой обнаружится позже, когда развившаяся наука уже даст их зрелые образцы. И философия к вопросу о том, что есть сущее, добавит не менее существенный — как выразить его в логике понятий. Но и тогда экстремальные ситуации не раз будут заставлять вспоминать уроки бэконовской критики.
Вот основные установки Бэкона. В основе всего лежит первосущее, и оно должно быть столь же реально, как и то, что из него возникает. А поэтому все рассуждения об абстрактной материи и противопоставленной ей форме имеют не больше смысла, чем утверждения, что мир и все существующее образованы из категорий и других диалектических понятий как из своих начал. Следует отдать предпочтение тем, кто стремится рассекать, анатомировать природу, а не абстрагировать ее, кто полагает материю способной производить из себя всякую вещь, действие и движение, а не абстрактной и пассивной, кто, следовательно, подчиняет свои мысли и слова природе вещей, а не природу вещей мыслям и словам. Именно эти установки лежат в основе отношения Бэкона к античному философскому наследию — его критики перипатетиков и его симпатии к древнегреческим материалистам.
В трактате «О началах и истоках…» Бэкон сплетает аллегорическое толкование мифа о Купидоне (в древнейшем мифологическом сознании греков, олицетворявшем стихийное созидающее начало в природе) с анализом идей ионийских философов. Ведь это они первые представили Купидона одетым, или, иначе говоря, приписали первичной материи, началу всего сущего определенную естественную форму: Фалес — воды, Анаксимен — воздуха, Гераклит — огня. Каждый из них полагал, что это именно и есть та первая природа, о которой можно сказать, что она есть то, чем она кажется. Однако не поддались ли они при этом непродуманному впечатлению о таком совершенстве некоторых тел, что оно окрасило своим цветом все остальное? Ведь в сущности они удовлетворились тем, что среди видимых и осязаемых тел нашли такое, которое казалось им превосходящим все прочие, и назвали его «началом всего сущего». Но если природа этого начала есть то, чем она является нашим чувствам и все вообще вещи имеют ту же природу, хотя она и не соответствует их внешнему виду, тогда встает вопрос, правомерно ли подходить ко всем вещам не одинаково и считать за начало лишь то, что более значительно, распространено или деятельно. Ведь сам Бэкон принимает другую аксиому: «Природа проявляет себя преимущественно в самом малом». И еще возражение. Если в других вещах это начало, хотя бы временно, но утрачивает свою природу, не означает ли это, что за начало принимается нечто преходящее и смертное, то есть то, что противоречит самому понятию «начало». Пионер индуктивной методологии был мастером и спекулятивного анализа.
Он полагает также, что ионийцы мало думали о том, какой стимул, основание и причина заставляют это начало изменять свою природу и снова обретать ее и каким образом это совершается. «В самом деле, — пишет Бэкон, — мы наблюдаем в мире огромную массу противоположностей — плотного и редкого, теплого и холодного, света и тьмы, одушевленного и неодушевленного — противоположностей, которые взаимно сталкиваются и разрушают друг друга; и если предположить, что эти противоположности проистекают как из своего источника из одной материальной субстанции, и при этом не показать, каким образом это может совершиться, то это будет проявлением путаной мысли и отсутствием всякого исследования. Ибо, если такое предположение имело бы за собой достоверность чувств, вы обязаны были бы принять его, если бы даже и оставалось непонятным, каким образом это происходит; с другой стороны, если бы можно было при помощи разума найти соответствующее и правдоподобное объяснение того, как дело происходит, мы, может быть, должны были отказаться от очевидности; но от нас ни в коем случае не могут требовать, чтобы мы согласились с таким предположением, реальность которого не засвидетельствована непосредственным чувством или вероятность которого не доказана на основании разума» (5, 2, стр. 314–315). Таким образом, в проблеме возникновения многообразного из одного начала эти натурфилософы сталкиваются с теми же трудностями, что и перипатетики, вводившие потенциальную и фантастическую материю, с той лишь разницей, что, будучи актуальным и оформленным в отношении одного рода вещей, их начало потенциально в отношении всех остальных. Доктрина перипатетизма довлеет над критическим анализом Бэкона и редукция к позициям аристотеликов равносильна для него reductio ad absurdum[7].
Он разбирает и мнения тех, кто насчитывает несколько начал и объясняет все разнообразие существующего различным их сочетанием и соотношением. Здесь объект его критического анализа — концепция Телезио о началах тепла и холода и приписываемая Пармениду идея об огне и земле как двух началах всех вещей. Те же, кто принимал бесконечное, или во всяком случае огромное число начал, вряд ли вообще заслуживают внимания, так как в этом случае не приходится ничего придумывать для объяснения разнообразия вещей. Это разнообразие вкладывается в сами начала, а тем самым по существу снимается и весь вопрос о началах. Из всех древних Бэкону более всего импонирует тот, кто считал, что Купидон — это Атом, кто принял за начало одну твердую и неизменную субстанцию, выводя многообразие всего существующего из различия ее величин, конфигураций и положений. К разбору атомистической теории Демокрита он и собирался приступить, однако эта часть трактата «О началах и истоках» осталась ненаписанной. Тем не менее и дошедший до нас текст трактата, и эссе «Купидон, или Атом», и его «Размышления о природе вещей», и другие сочинения Бэкона позволяют составить определенное представление о его отношении к Демокриту.
Картина атомистического движения, которую он, видимо, следуя Лукрецию, приписывает Демокриту, складывается из первоначального движения атомов под воздействием их тяжести и вторичного, производного от их столкновения между собой. Сам Бэкон полагает, что нельзя отождествлять сил, движений и свойств атомов и их макросоединений и поэтому считает эту картину, которая заимствует понятия тяжести и толчка из макромира, узкой и недостаточной. Какие свойства и движение надлежит приписать атомам, по Бэкону, не вполне ясно. Атомы — это минимальные семена материи, которые обладают объемом, местом, сопротивляемостью, стремлением, движением и эманациями и которые также при разрушении всех естественных тел остаются непоколебимыми и вечными (см. 5, 2, стр. 335). Их сила и движение отличны от сил и движений продуктов их соединений и комбинаций и вместе с тем «в теле атома есть элементы всех тел, а в его движении и силе — начала всех движений и сил» (5, 2, стр. 302). Бэкон сомневается в правомерности демокритовского противопоставления атомов и пустоты, отвергает мнение Эпикура о самопроизвольном отклонении их движения и намекает на способность атомов к дальнодействию. Впрочем, замечает он, если можно познать способы действия и движения атомов, то, быть может, не стоит надеяться, что наше знание полностью охватит их сущность, так как нет ничего более «близкого природе», более первичного и всеобъемлющего. Своеобразная концепция «неисчерпаемости» познания этих неделимых в условиях чисто умозрительной постановки вопроса была, пожалуй, лучшим решением.
Однако и здесь его тревожит постоянно возникающий призрак ненавистного перипатетизма и он хочет оградить от него атомистику. Бескомпромиссный противник схоластики, Бэкон вполне владеет ее приемами рассуждения. «…Так как разрушения более крупных тел многочисленны и разнообразны, то отсюда с необходимостью вытекает, что то, что остается неизменным центром, должно быть или чем-то потенциальным, или минимальным. Но оно не есть нечто потенциальное, ибо первичная потенциальность не может быть подобна другим потенциальностям, которые бывают актуально чем-то одним и потенциально чем-то другим. Первичная потенциальность должна быть чем-то абсолютно абстрактным, лишенным всякой актуальности и содержащим в себе все возможности. Остается поэтому думать, что это неизменное будет минимальным, разве только кто-нибудь будет действительно утверждать, что начал вообще не существует и что всякая вещь может считаться началом; что постоянным и вечным являются лишь закон и порядок изменения, сущее же непостоянно и изменчиво. И было бы лучше утверждать прямо что-нибудь в этом роде, чем, желая установить некое вечное начало, допустить еще большую нелепость, а именно сделать это начало воображаемым. Ибо первый метод, по-видимому, еще приводит к некоторому результату… между тем как второй метод не приводит ни к какому, ибо он рассматривает сущее существующим лишь в понятии и являющимся лишь инструментом ума» (5, 2, стр. 335).
Шарль Адан, автор книги «Философия Фрэнсиса Бэкона», полагает, что именно Бэкону принадлежит заслуга восстановления научной репутации Демокрита, само имя которого на протяжении многих веков старались предать забвению. В своей монографии «Фрэнсис Бэкон» В. Ф. Асмус обстоятельнее других в нашей литературе рассматривает это отношение Бэкона к Демокриту, отмечая, что привлекает в нем мыслителя, что он отвергает и в чем его отношение к концепции великого фракийца претерпевает изменения (см. 9, стр. 347–350). Бэкон ценит Демокрита за то, что он устранил бога из физической системы объяснения мира, отделив, таким образом, естественную философию от теологии; за то, что приписал строение Вселенной бесчисленному ряду попыток и опытов самой же природы; за то, что в присущей материи естественной необходимости усмотрел причины всех вещей, исключив вмешательство целевых, или «конечных», причин. Для него важно, что Демокрит различает сущность и явление, свойства материальных начал и образованных из них вещей, существующее «по мнению» и «по истине». Он отмечает антидогматизм воззрений Демокрита, понимание им всей сложности задачи постижения истины и отличения ее от лжи, с которой она повсюду удивительным образом перемешана и перепутана не без содействия тех, кто более заботится о том, чтобы иметь на все словесный ответ, чем о внутренней истине вещей. У Демокрита его привлекает все то, что и сам Бэкон будет разрабатывать в своей философии, создавая материалистический базис науки нового времени.
Одна из особенностей трактата «О началах и истоках» — в нем фигуры спекулятивно-логического рассуждения вдруг расцвечиваются игрой вольного, причудливого воображения. И это как раз те места, где Бэкон обращается к образам греческой мифологии. Еще более яркий фейерверк свободной фантазии пронизывает эссе «О мудрости древних». Так вырисовывается другой аспект бэконовского отношения к наследию античного прошлого — его аллегорическая интерпретация мифов.
Он не считает мифы, по крайней мере в стержневых их сюжетах и образах, созданиями тех, кто их излагал в древности и донес до нашего времени. Ни Гесиод, ни Гомер, ни другие поэты не являются авторами мифов. Поэты заимствовали их из старинных преданий, которые как священные реликвии, как дыхание прошлых времен проникли в поэзию греков из сказаний еще более древних народов. Но что же такое миф, в чем тайна его долговечности, как следует его понимать? Концептуальная предпосылка бэконовского подхода такова: он убежден, что как иероглифическое письмо древнее буквенного, так и аллегорическая мысль появляется раньше отвлеченных логических рассуждений. Именно с ней мы встречаемся в мифах, притчах, загадках, сравнениях и баснях древних. Здесь таинства религии, секреты политики, нормы морали, мудрость философии, житейский опыт как бы нарочно облекаются в поэтические одеяния и задача состоит в том, чтобы выявить этот их скрытый смысл. Дан образ, нужно найти его значение. Миф — это иносказание в определенном художественном символе, требуется определить его рациональное содержание. Правомерна ли такая редукционная задача, такой поиск неизвестного в системе культурно-поэтических уравнений? Замечательно, что для решения непоэтической по существу задачи Бэкон применяет поэтические средства, так сказать, обратную образность, ибо изобретательность его всецело подчиненного рассудку воображения не в создании самой аллегории, а в толковании того, что он принимает за аллегорию. «Он относится к мифам подобно тому, как Эзоп к животным; он их пересоздает и влагает в них истины, которые они должны воплощать. Он… в этом случае есть аллегорический поэт. Он столько же истолкователь мифов, как Эзоп зоолог» (49, стр. 135), — заметил Куно Фишер. Занимаясь дешифровкой квазизашифрованного текста, наш мыслитель использует самые широкие и свободные ассоциации своей фантазии Эта свобода ограничена лишь в одном: истины, которые он вкладывает в мифологические сюжеты и образы, — это знакомые нам истины бэконовской естественной, моральной и политической философии.
Вот образец его колоритной и вольной интерпретации — миф о Пане. Пан — один из древнейших аркадских божеств, культ которого позднее претерпевает изменения. В воззрениях мистиков образ козлоподобного бога лесов и пастбищ трансформируется в символ единой и целостной Вселенной; из него, по-видимому, и исходит Бэкон в своем толковании мифа. Я перескажу лишь его небольшую часть, чтобы дать представление о приеме Бэкона. Пан — это образ всех вещей, то есть природы. Его заостренные кверху рога означают, что природа вещей образует своего рода пирамиду, восходящую от бесчисленных индивидов к видам, родам и еще более общим понятиям. Рога касаются неба, то есть высшие категории науки и метафизики соприкасаются с божественным. Тело Пана покрыто волосами — это символ излучения вещей, ибо все в природе в той или иной степени испускает лучи. Длинные волосы в бороде Пана — это лучи, исходящие от небесных тел, ведь и солнце нам кажется бородатым, когда его сверху закрывают облака, а из-под облака пробиваются его лучи. Посох и свирель в руках Пана — символы гармонии и власти. Свирель из семи тростинок указывает на созвучие и гармонию в движении семи планет. Посох же — метафора, обозначающая, что пути природы могут быть то прямыми, то окольными. Его изогнутость, по мнению Бэкона, означает, что все совершаемое в мире божественным провидением осуществляется сложными и запутанными путями, так что внешний ход событий может порой казаться противоречащим их подлинному смыслу. На Пане пятнистая накидка из шкуры леопарда, но разве небо не усеяно звездами, моря — островами, земля — цветами? И т. д. и т. п. Вот так, фантазируя и развлекаясь игрой собственного воображения, Бэкон, между прочим, излагает довольно много метких и мудрых соображений: о способах ведения войны (в мифе о Персее), об эгоизме (в мифе о Нарциссе), о мятежах (в мифе о Тифоне), о фанатизме (в мифе о Диомеде), о фаворитах (в мифе об Эндимионе), об аффектах (в мифе о Дионисе), о философии (в мифе об Орфее), о материи (в мифе о Протее) и др. Чтобы дать почувствовать эстетический аромат бэконовской работы, приведу еще одну из его миниатюр, но целиком.
МЕМНОН, ИЛИ СКОРОСПЕЛЫЙ
Поэты говорят, что Мемнон был сыном Авроры. Он носил прекрасные доспехи, его прославляла народная молва. Придя к стенам Трои, он, горя нетерпеливым желанием великих подвигов, вступил в поединок с Ахиллом, храбрейшим из греков, и пал от его руки. Юпитер, скорбя о нем, послал птиц, чтобы они беспрерывными заунывными кликами сопровождали его похороны. Говорят также, что его статуя, когда ее озаряли лучи восходящего солнца, издавала жалобный стон.
Мне кажется, что миф рассказывает о несчастных исходах великих надежд юношества. Ведь они подобны сыновьям Авроры; чванясь пустой видимостью и чисто внешними вещами, они часто дерзают на то, что превосходит их силы, идут на могучих героев, вызывают их на бой и гибнут в неравной борьбе. Их смерть всегда вызывает безграничную скорбь, ибо нет ничего печальнее среди человеческих судеб, чем безвременно скошенный цвет доблести. Ведь молодость их оборвалась, они не насытились жизнью и еще не возбудили к себе зависти, которая была бы способна смягчить скорбь кончины или умерить сострадание. Более того, не только вокруг их погребальных костров, подобно этим зловещим птицам, летают стенания и плач; нет, эта печаль и скорбь длятся и дальше; и особенно остро возрождается тоска по ним, когда начинаются новые движения, когда замышляются великие деяния, подобные утренним лучам солнца (5, 2, стр. 258–259).
Что побудило Бэкона рассматривать миф как аллегорию? Не то ли обстоятельство, как сказал бы Шеллинг, что дух подлинно мифологической поэзии уже давно угас и миф невольно стали трактовать как фигуру и философему, свойственные более поздним поэтическим формам? Аллегорическими были средневековый эпос и моралите Аллегоричны образы в поэзии великого Данте. Как иносказание воспринимался и миф, и уже Джованни Боккаччо писал трактат, в котором изображал образы античной мифологии как аллегорию звездного неба. Позднее иносказательно использовал античную мифологию и Джордано Бруно, в буйной фантазии подгоняя ее образы к понятиям и идеям своей философской этики Сочетание мифологических аллегорий, символических образов, аналогических соответствий и логических антитез составляло и метод мышления, и художественный прием Бруно в его «Изгнании торжествующего зверя». Эта традиция истолкования мифа оказалась более живучей, чем могло бы показаться, судя по первоначальным образцам. Позднее ей отдадут дань немецкие романтики, а в XIX веке она в виде так называемой солярно-метеорологической теории даже приобретет довольно широкую популярность. Такие толкователи исторических поэтических древностей зачастую бывали менее всего историчны.
Между тем значение работы Бэкона, конечно, не в том, что она представляет собой определенную мифоведческую доктрину, одну из ярких страниц в книге аллегорической теории мифа. В этом отношении было бы слишком соблазнительной задачей перечислять уязвимости бэконовского подхода — некритическое принятие той или иной редакции мифа, неоднозначность интерпретации одних и тех же мифологических символов, очевидные натяжки и бесконтрольный домысел. Бэконовские эссе значимы сами по себе как самостоятельное видение мифов, как художественное преломление их в призме другой эпохи, как усмотрение в древнем мифологическом символе актуального «осмысленного образа». И надо сказать, такие операции он умел проделывать довольно эффектно. Вместе с тем любопытно, что в предпоследней книге своего трактата «О достоинстве и приумножении наук» Бэкон с подобным же ключом подходит уже к библейской мудрости. Целый ряд сентенций из «Екклезиаста» и «Книги Притчей Соломоновых» он истолковывает в сугубо светском прозаическом духе. Он использует средневековую традицию иносказательного толкования Священного писания как прием для изложения наставлений своей политической и практической философии.
Это вообще интересная и благодарная задача: конкретно проследить и сравнить характер отношения к античному наследию разных мыслителей и в разные эпохи — Возрождения, Просвещения, Романтизма и более позднее время. Чтобы оттенить особенность бэконовского приема, я приведу только одно сравнение. Сто с лишним лет спустя после работ Бэкона другой английский философ, Дж. Толанд, опубликовал трактат, в котором предложил свою своеобразную анатомий) древней философии. Толанд — просветитель, он одержим стремлением доказать необходимость полной свободы для каждого высказывать и развивать свои взгляды, он критик нетерпимой религии, невежественной и суеверной церкви, ханжеского и конформистского общества. С этой позиции он и бросает свой ретроспективный взгляд в далекое философское прошлое. Суть трактата Толанда выражена уже в его полном названии — «Клидофорус, или об экзотерической и эзотерической философии, т. е. о внешнем облике и внутреннем содержании учения древних: одно — явное и общепринятое, приспособленное к ходячим воззрениям и религиям, установленным законом; другое — скрытое и тайное, предназначенное для способных и глубокомысленных, в котором сообщается подлинная Истина, лишенная всяких покровов» (45, стр. 313). В концепциях Парменида, Платона и Аристотеля, в учениях пифагорейцев, стоиков и академиков — всюду Толанд усматривает некий двойной счет, двойную философию: одну для публики, другую для избранных, одну, отдающую дань общественным установлениям и предрассудкам, другую, всецело и безоглядно посвященную отысканию истины. Аналогичная двойственность имеется и в античной мифологии, и в иудейском и христианском богословии, а их аллегории — один из приемов такой мистификации. Он так же как и Бэкон, преломляет античность в призме своего времени и своих задач, но это преломление уже не то, что у Бэкона. Оно лишено разноцветной художественной дисперсии, в нем присутствуют лишь черно-белые тона.
В произведениях Фрэнсиса Бэкона отчетливо прослеживается его отношение к трем основным сферам идейного наследия, так или иначе тяготевших над европейской мыслью, — античной философии, мифологии и христианству. Отношение Бэкона к античности по-своему продумано. Он знает, что ему нужно в этом великом складе прошлого, и использует взятое для подтверждения идей и установок своего мировоззрения. Он целенаправленно интерпретирует античность, и его подход отличается как от эмпирического описательства, так и от простой констатации самосознания этого прошлого, понимания его «изнутри» его концепции и эпохи. На последнее Бэкон вообще не способен, как не способен он и на целостное и всесторонее исследование античной философии и мифологии в связи со всем комплексом исторических условий их существования. Впрочем, это ему и не нужно. Метод Бэкона не исторический, а ретроспективный, отбрасывающий в прошлое тень его, бэконовских, установок, понятий, исканий и умонастроений, метод, деформирующий прошлое и навязывающий ему чужие контуры.
Иное дело — христианство, которое для Бэкона не только и не столько традиция, но прежде всего живая идеологическая действительность. Он неоднократно подтверждает свою приверженность учению церкви: «Но ведь есть еще священная или боговдохновенная теология. Однако если бы мы собирались говорить о ней, то нам пришлось бы пересесть из утлого челна человеческого разума на корабль церкви; только он один, вооруженный божественным компасом, может найти правильный путь, ибо теперь уже недостаточно звезд философии, которые до сих пор светили нам в пути» (5, 1, стр. 537). И Природа, и Писание, по Бэкону, — дело рук божьих, но для объяснения божественного Писания недопустимо прибегать к тому же способу, что и для объяснения писаний человеческих, так же как недопустимо и обратное. Признавая истину и того и другого, сам Бэкон отдавался пропаганде постижения естественного. У божественного и без него было слишком много служителей и защитников. И так преобладающая часть лучших умов посвящала себя теологии, испытатели же природы насчитывались единицами. Отделяя естественнонаучное от теологического, утверждая его независимый и самостоятельный статус, он продолжал видеть в религии одну из главных связующих сил общества. В приверженности к религии откровения, в протесте против тех, кто обосновывал догмы христианства философскими спекуляциями, в принципиальном разграничении областей веры и знания — «мы должны верить слову божьему, даже если разум сопротивляется этому» (5, 1, стр. 538) — во всем этом также обнаруживается решительная антисхоластичность Бэкона. И мне такая позиция подсказывает сравнение Бэкона не с Тертуллианом, на которое в свое время обращал внимание Куно Фишер, а скорее с Вильямом Оккамом. И все же XVII век — это не XIV век и можно задаться вопросом, не обнаруживает ли она определенную парадоксальность бэконовского мировоззрения. Концепция двух параллельных книг — Природы и Священного писания, — которой в общем придерживался наш мыслитель, понятная исторически, отнюдь не снимала самого противоречия. Его усмотрят последующие писатели, и Л. Фейербах следующим образом определит его смысл. Главная установка Бэкона — понять природу из нее же самой, построить ее картину, не искаженную привнесениями человеческого духа. Именно этому служат и его критика идолов разума, и его теория опытного, индуктивного познания. Поскольку природа есть физическая, чувственная, материальная сущность, понять ее можно лишь с помощью адекватных ей способов, то есть чувственными, физическими, материальными средствами. Между тем такая тенденция находится в противоречии с сущностью и духом христианства, которое учит, что бог словом и мыслью творит мир и среди всех его созданий лишь человек, обладающий душой, подобен богу. И как же тогда Бэкон-христианин может упрекать Платона и Аристотеля в том, что они конструируют мир из слов, идей и категорий? Разве в этом они не предтечи христианства? И почему человек, «подобие бога», не может в своем познании идти тем же путем, что и его «высокий прообраз» в своем творчестве? Разве принцип бытия не есть и принцип познания? (см. 47, стр. 127–129).
В сочинениях Бэкона мы, естественно, не найдем ни рационального ответа на эти вопросы, ни саму их постановку. Они просто не возникали перед его умственным взором, во всяком случае в таком виде, который им придало специфическое восприятие автора «Сущности христианства». Всем последующим спорам о том, атеистична или же благочестива его философия, сам канцлер мог бы подвести итог своим знаменитым афоризмом: «Истина — дочь Времени, а не Авторитета». И время показало, какой из этих компонентов парадоксального бэконовского мировоззрения оказался более стойким и жизнеспособным. Почувствовав их истинную равнодействующую, романтик, фанатик и клерикал Жозеф де Местер спустя двести лет обрушился на Бэкона с обвинениями в атеизме, материализме и приверженности к естественнонаучной методологии. Для самих же материалистов и атеистов, сделавших Бэкона своим идейным вождем, подобной проблемы вообще уже не существует, так как сама идея сосуществования науки и христианства представляется им монстром, вредной иллюзией, которую надо поскорее забыть. Они возьмут из философии Бэкона живое и трезвое, связанное с наукой и ее методом, считая остальное иллюзиями слишком «бурного воображения» или, наоборот, данью господствующему мировоззрению. Для них, выросших в другую эпоху и решающих другие задачи, это уже перелистанная страница великой книги человеческого знания, наследие прошлого, традиция, которую они усвоили, которую используют в своей борьбе и на которую уже брошена тень иных воззрений и устремлений.
X. Этика
Античная этика была по преимуществу учением о добродетели и занималась вопросом: что есть добродетель, то есть чем должен руководствоваться человек, чтобы быть нравственным? Конечно, разные философы по-разному отвечали на этот вопрос, но они сходились в том, что именно добродетель делает человека счастливым и поступки высоконравственной личности приносят объективные блага. Задача этики поэтому состоит в изучении высоких образцов добродетели, анализе их видов, частей и соотношений. В эпоху Возрождения и Реформации этика, все более перерастая религиозные нравственные нормы, изменяет и предмет своего интереса, выступает как учение об объективных нравственных благах. Трезвое и практическое сознание новых классов вносило свои коррективы не только в традиционное христианское мировоззрение, но и в античное, которое представлялось людям нового времени слишком умозрительным, отвлеченным и созерцательным. Теперь на первый план выдвигается вопрос: что есть нравственность и каким целям она служит? Стараясь понять сущность нравственности из естественной или эмпирической природы человека, этика, в частности, подвергала анализу те цели, стремление к осуществлению которых нравственно характеризовало человеческие поступки. И подобно тому как природу стремились понять как целое, возникшее из себя по естественным законам, так и нравственное поведение человека хотели понять из его естественных устремлений и практической деятельности в этом мире. Вместе со всей философией и этика попадает под влияние естественнонаучных воззрений. Пионер разработки «естественной» философии был и одним из тех, кто положил начало концепции «естественной» морали, построению этики, хотя и сопричастной теологии, но в основном без помощи ее представлений, так, «чтобы, оставаясь в своих собственных границах, она могла содержать немало разумного и полезного» (5, 1, стр. 423). Ее он изложил в седьмой книге трактата «О достоинстве и приумножении наук», многочисленные этические соображения, нравственные оценки и максимы практической морали содержатся в его «Опытах или наставлениях нравственных и политических» и в аллегориях «О мудрости древних». Бэкон по-своему делал в Англии то же самое, что несколько ранее во Франции Монтень и Шаррон.
Предмет этики — человеческое волеизъявление, направляемое и организуемое разумом, приводимое в действие аффектами и дезориентируемое кажущимися, мнимыми благами. Именно учение об идеале или образе блага и составляет первое основное учение этики. Оно должно включить в себя лучшие достижения античной этической мысли — платоновское исследование форм, взаимоотношений, видов и значения различных добродетелей и обязанностей, аристотелевское деление блага на душевное, телесное и внешнее, саму постановку вопроса о сравнительной ценности активной и созерцательной жизни, торжествующей и угнетаемой добродетели, о противоречии между нравственным и полезным. Бэкон отдает должное и христианским писателям — их изучению и определению понятий добра и зла, совести и греха. Однако в предшествующей этике совершенно недостаточно обращалось внимание на сами корни наших нравственных представлений, на источники нравственности, на основания моральных аксиом.
И вот, чтобы оправдать свои этические дистинкции, Бэкон прибегает к их «натурализации». В трактате «О достоинстве и приумножении наук» мы находим следующие характерные представления и фигуры рассуждения. «Каждому предмету внутренне присуще стремление к двум проявлениям природы блага: к тому, которое делает вещь чем-то цельным в самой себе, и тому, которое делает вещь частью какого-то большого целого. И эта вторая сторона природы блага значительнее и важнее первой, ибо она стремится к сохранению более общей формы. Мы назовем первое индивидуальным, или личным благом, второе — общественным благом» (5, 1, стр. 407). Он всюду оставался прежде всего философом природы. «Железо притягивается к магниту в силу определенной симпатии, но если кусок железа окажется несколько тяжелее, то он сразу забывает об этой своей любви и как порядочный гражданин, любящий свою родину, стремится к Земле, т. е. к той области, где находятся все его сородичи… Таким образом, сохранение более общей формы почти всегда подчиняет себе менее значительные стремления. Эта преобладающая роль общественного блага особенно заметна в человеческих отношениях, если только люди остаются людьми» (5, 1, стр. 407). Будущее этики показало, насколько способствовала прояснению оснований нравственности столь образная терминология. Создавая новую этику, Бэкон умел отдать дань и старой, благочестиво утверждая, что во все века не существовало ни одной философской школы, ни одного религиозного учения и ни одной науки, которые в такой же степени возвысили бы значение общественного блага и принизили бы значение индивидуального, как это сделала «святая христианская вера».
Развивая далее взгляды на природу блага, он доказывал преимущество активного блага перед пассивным, блага совершенствования перед благом самосохранения. Разве может сравниться наслаждение от исполнения и доведения до конца какого-то желанного дела с тем пассивным чувственным удовлетворением, которое получают от яств, сна и примитивных развлечений. Первое таит в себе постоянную новизну и разнообразие, оплодотворяет жизнь целью, смягчает удары судьбы и времени, ибо что может так не бояться времени, как наши дела. Второе ввергает в однообразный и узкий круг удовольствий, чреватых пресыщением и растратой лучших жизненных сил. Аналогично и стремление к совершенствованию следует предпочитать стремлению к сохранению. И снова Бэкон-моралист прибегает к аргументу от первой философии. «Ибо всюду, в рамках любого вида мы встречаем проявление более высокой природы, к величию и достоинству которой стремятся индивидуумы, обладающие более низкой природой, стремятся как к источнику своего происхождения. Так хорошо сказал о людях поэт:
Сила в нем огневая и происхожденье небесно» (5, 1, стр. 414).
Итак, Бэкон решительно утверждал примат и величие общественного блага перед индивидуальным, деятельной жизни перед созерцательной, самоусовершенствования личности перед самоудовлетворением. Такая позиция позволяла ему подвести под общий знаменатель и под удар своей критики все те нравственные ценности, вокруг которых кристаллизовались этические теории древних киренаиков, эпикурейцев, скептиков и стоиков. Ведь как бы ни украшали личную жизнь человека бесстрастная созерцательность, душевная безмятежность, самоуспокоенность, самоограничение или же стремление к индивидуальному наслаждению, они не выдерживают критики, если только подойти к этой жизни с точки зрения критериев ее общественного предназначения. И тогда окажется, что все эти «гармонизирующие душу» блага есть не более чем средства малодушного бегства от жизни с ее треволнениями, искушениями и антагонизмами и что они никак не могут служить основой для того подлинного душевного здоровья, активности и мужества, которые позволяют противостоять ударам судьбы, преодолевать жизненные трудности и, исполняя свой долг, полноценно и общественно значимо действовать в этом мире.
Центральная категория общественного блага — понятие «долга», то есть определенных обязанностей и благорасположения человека по отношению к другим людям. Некоторые из таких специальных обязанностей связаны с профессией, сословной принадлежностью, семейным и общественным положением. Они включают, в частности, взаимные обязанности мужа и жены, родителей и детей, господина и слуги, соседей, членов различных обществ, братств и коллегий, законы дружбы и чувство благодарности. При этом в этике все эти обязательства рассматриваются не в аспекте составных связей гражданского общества, «а только в той мере, в какой речь идет о необходимости подготовки и нравственного воспитания человека для того, чтобы сделать его способным поддерживать и охранять эти общественные связи» (5, 1, стр. 421).
И здесь важно отметить то значение, которое он придавал альтруистическому началу в человеке: добрые дела связывают людей теснее, чем долг. Эту идею бэконовской этики впоследствии подхватят и будут разрабатывать многие английские моралисты. «Под добротой я разумею заботу о благе людей, называемую у греков „филантропией“… — читаем мы в эссе „О доброте и добродушии“. — Изо всех добродетелей и достоинств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна; без нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося. Доброта соответствует евангельскому милосердию; излишество в ней невозможно, возможны лишь заблуждения… Склонность творить добро заложена глубоко в природе человеческой» (5, 2, стр. 377). Напротив, злонравные и завистливые люди, по природе своей не терпящие чужого благополучия, «являются поистине ошибками природы, но вместе с тем и наилучшим материалом для создания великих политиков» (5, 2, стр. 378). Отдав большую часть своей жизни политике, он, видимо, не питал особых иллюзий относительно высокой нравственности многих ее деятелей.
Учение о благах составляет только одну из частей этики, вторую представляет учение о нравственном воспитании человеческой души, или, как его называет Бэкон, «Георгики души». Первое имеет своим предметом природу, виды и степени блага, второе призвано сформулировать правила, руководствуясь которыми человек, приобщаясь к этим благам, обретает нравственную культуру. При этом Бэкон мало интересовался впечатляющими описаниями высоких и достойных подражания образцов добродетели, рассуждениями о том, существуют ли добродетели в человеке от природы или же они в нем воспитываются, преодолимо ли различие между благородными и низкими душами и т. п. Вслед за Платоном античные и христианские авторы все это не раз изображали и обсуждали до него. Он ставил перед собой другую задачу: обратившись к примерам реальной жизни, попытаться разобраться в путях и стимулах того человеческого волеизъявления, которое подлежит той или иной моральной оценке, и отсюда почерпнуть знание о средствах воздействия на души людей. «И хотя в наше суетное время мало кто заботится о тщательном воспитании и формировании души и о том, чтобы жить, следуя определенным принципам и нормам, — писал он… — однако все это ни в коей мере не может побудить нас оставить эту тему; наоборот, мы хотим заключить следующим афоризмом Гиппократа: „Если тяжело больной человек не испытывает страданий, то он болен душевно“» (5, 1, стр. 423).
В учении о воспитании души необходимо исходить из разнообразия складов характера и склонностей людей, а также из тех аффектов и влечений, которые мотивируют их поступки. Так бэконовская этика смыкается с психологией и включает в себя существенную часть проблематики последней. Совершенно не удовлетворенный тем, что сделали в этом отношении античные философы — Аристотель и стоики, — он считает эту часть этики еще подлежащей разработке и в трактате «О достоинстве и приумножении наук» набрасывает ее сжатую схему. Интересно, что помимо наблюдения, как обычно поступают в жизни люди, изустных рассказов, документов и писем он одним из источников этой науки называет сочинения значительных поэтов и историков, в которых имеются яркие и живые изображения человеческих характеров, страстей и поступков. Да и сам Бэкон немало потрудился в этом направлении. Его знаменитые «Опыты или наставления» содержат богатый материал, проливающий свет именно на эту часть его этической концепции.
XI. Опыты
Работа над «Опытами или наставлениями нравственными и политическими» сопровождала его всю жизнь. С них началась известность Бэкона как писателя. «Опыты» оставались самыми популярными из его сочинений, «надо полагать, потому, что они ближе всего к практическим делам и чувствам людей» (5, 2, стр. 351), да и сам он считал их одним из лучших плодов своего творчества. Сравнивая между собой три английских издания, вышедших за период более чем четверти века, мы видим, как с ростом жизненного, делового, политического опыта их автора росло число эссе, разнообразилось и обогащалось их содержание. Кажется, все, что впитал в себя его внимательный аналитический ум, что продумал и прочувствовал Бэкон — человек и мыслитель, неудавшийся придворный и королевский поверенный, лорд-верховный канцлер Англии и снова оказавшийся не у дел павший сановник, — все воплотилось в этом самом непринужденном и искреннем его произведении.
Первое издание «Опытов» появилось в Лондоне в 1597 году в одном томике с «Религиозными размышлениями» и «Фигурами убеждения и разубеждения». Оно содержало всего десять эссе: «О занятиях науками», «О беседе», «О манерах и приличиях», «О приближенных и друзьях», «О просителях», «О расходах», «О поддержании здоровья», «О почестях и славе», «О партиях», «О переговорах». «Я поступаю ныне подобно тем владельцам садов, которые, имея плохих соседей, собирают плоды прежде чем они созреют, опасаясь, чтобы их не разворовали, — писал Бэкон, посвящая „Опыты“ своему брату Антони… — они будут подобны новым полупенсовым монетам: серебро в них полноценно, но монеты очень уж мелки» (5, 2, стр. 349). Он не напрасно скромничал. Композиция издания была весьма аморфной. Это свободное сочетание расположенных еще совершенно случайно наблюдений и рассуждений, не связанных между собой какой-либо узловой темой.
Через пятнадцать лет в 1612 году отдельной книгой вышло второе издание. Оно содержало 29 новых эссе, старые же были исправлены и дополнены. И здесь его размышления охватывают самый разнообразный круг предметов. Он пишет о человеческой природе и смерти, о браке и безбрачии, о родителях и детях, о юности и старости, о доброте и добродушии, о любви и дружбе, о красоте и уродстве, о богатстве и счастье, о себялюбивой и мнимой мудрости, о честолюбии и хитрости, о тщеславии и похвале, о привычке и воспитании. Однако в этой мозаике уже проступают некоторые центральные темы, на которых лежит очевидная печать политических, социальных и религиозных взглядов и симпатий Бэкона, как и его опыта деятельного государственного чиновника. Именно в этом издании появляются эссе «О знати», «Об искусстве властвовать» и «О величии королевств», «О религии», «Об атеизме» и «О суеверии», «О высокой должности», «О правосудии», «О совете» и «О распорядительности».
Последнее подготовленное им издание 1625 года содержало 58 эссе, было добавлено 19 новых, а многие из старых так или иначе доработаны. «Я увеличил их число и улучшил достоинство, так что они представляют совершенно новое сочинение» (5, 2, стр. 351). Бэкон делится соображениями о наилучшей постройке дворца, разбивке сада, устройстве придворных спектаклей, организации путешествий и основании колоний. Он значительно расширяет опять-таки опыты на социально-политические темы. Но мы не можем не заметить и того, что теперь начинает довлеть над его раздумьями. Именно в этом последнем прижизненном издании появляются его эссе «Об истине», «О мести», «О бедствиях», «О притворстве и лицемерии», «О зависти», «О подозрении», «О гневе» и «О превратности вещей».
Хотя из эссе мы можем многое почерпнуть о философских, этических и социально-политических воззрениях Бэкона, они принадлежат более английской литературе, чем философии. Их язык и стилистика беллетристичны. Содержащиеся в них суждения подаются как бы извлеченными из непосредственного живого опыта и не подкрепляются столь характерными для философских трактатов отвлеченными рассуждениями и умозрительными конструкциями. И даже если к этому жизненному зачастую примешивается и книжный опыт, он используется столь же живо и непосредственно. И все же эссе пронизывает дух бэконовской философии.
Я имею в виду не только его общую философскую концепцию природы и человека, но и тот трезвый беспредрассудочный взгляд на вещи, то беспристрастное и объективное диалектическое взвешивание «за» и «против» того, о чем идет речь, наконец, тот поиск гармонии и соразмерности, которыми она отмечена. «Опыты» не только повлияли на умы современников, они способствовали формированию и литературного языка. Правда, последующим, более изысканным писателям английского Просвещения его стиль покажется искусственным и вымученным. «Стиль Бэкона неловок и груб; его остроумие часто блестящее, в то же время часто неестественно и надуманно; он представляется первоисточником резких сравнений и вымученных аллегорий» (52, стр. 827), — напишет, например, Давид Юм. Они еще не так далеко ушли от него, чтобы не чувствовать себя шокированными и оценить его по достоинству.
Обращаясь к литературным параллелям и источникам, мы, конечно, вспоминаем Монтеня. «Опыты» Бэкона и Монтеня роднит общность жанра, тематики, даже наименования ряда очерков. Заимствовав манеру своих размышлений у Монтеня, Бэкон вместе с тем делает иные и акценты, и выводы. У одного в центре внимания человек как существо естественное, живое, непосредственно чувствующее и мыслящее и широкое критическое исследование всех условий его существования. Внимание другого сосредоточено вокруг человеческого поведения и оценки его с точки зрения достижения определенных результатов. В размышлениях Бэкона нет монтеневской самоуглубленности, мягкости, скептицизма, юмора, светлого и независимого восприятия мира; они всегда сдержанны, от них веет холодным объективизмом ясного, проницательного и расчетливого ума. Ему чужд и гуманизм Монтеня, и его отстраненность. Один, отказываясь от почетных должностей, старался укрыться за стенами уединенного замка. «Противны мне и владычество и покорность» (29, стр. 174). Другой, надеясь на крупную ставку, ушел с головой в политическую игру.
Вот, кстати, бэконовское эссе «О высокой должности». По теме оно совпадает с монтеневским «О стеснительности высокого положения», но различие чувствуется уже в названиях. Лейтмотив рассуждений Монтеня таков: я предпочитаю занимать в Париже скорее третье, чем первое, место, если я и стремлюсь к росту, то не в высоту — я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Всеобщий почет, могущество власти подавляют и пугают его. Он готов скорее отступиться, чем перепрыгивать через ступень, определенную ему по способностям, ибо всякое естественное состояние — и самое справедливое, и удобное. Не переоценивая высокого положения, он и не видит в его потере того, что усмотрит здесь Бэкон — не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Бэкона же интересует, что дает высокая должность и как вести себя, чтобы на ней удержаться. Его рассуждения трезвы и практичны. Да, он видит и все ее неудобства — власть лишает человека свободы, делает его невольником и государя, и людской молвы, и своего дела. Но это, по-видимому, не самое главное, если достигнувший власти считает естественным держаться за нее и бывает счастлив, когда пресекает домогательства других. «Нет, люди не в силах уйти на покой, когда хотели бы; не уходят они и тогда, когда следует; уединение всем нестерпимо, даже старости и немощам, которые надо бы укрывать в тени; так, старики вечно сидят на пороге, хотя и предают этим свои седины на посмеяние» (5, 2, стр. 373).
Чтобы получить представление о всем содержании «Опытов», об особенностях их композиции и стиля, о диалектических переливах мыслей Бэкона, одновременно и лаконичных и многогранных, об ажурных сплетениях его рассуждений, в которые жемчужинами вправлены блестящие афоризмы, надо, конечно, прочитать сами эссе. В одних чувствуется прежде всего политик до мозга костей, приобщающий к глубинам государственной мудрости, наставляющий в изощренной стратегии и опыте жизненной борьбы. В других к вам обращается человек, умудренный житейским опытом, человек дела, все видящий и понимающий, подмечающий самые незначительные жизненные детали. Но почти во всех них обнаруживается глубокий психолог, знаток человеческих душ, придирчивый и объективный судья поступков.
Вот он в эссе «Об искусстве властвовать» наставляет монархов, как вести себя со своими родными и близкими, указывая на прецеденты кровавых трагедий, вызванных коварными интригами жен против коронованных мужей, подозрительностью отцов по отношению к своим престолонаследникам или открытыми выступлениями сыновей против венценосных родителей. Он рекомендует им, как ограничить влияние надменных и могущественных прелатов, в какой мере подавлять «устоявшую против волн и бурь времени» старую родовитую знать, как создать ей противовес в новом дворянстве, порой своевольном, но являющемся надежной опорой трона и оплотом против простого народа, какой налоговой политикой поддерживать купечество— эту «воротную вену» политического тела, какой внешней политикой союзов, блоков, вплоть до превентивной войны, сдерживать опасное усиление соседних держав.
А вот в эссе «О партиях» он дает монархам совет не связывать себя интересами какой-либо одной партии, сохранять свою независимость, ориентируясь на «общие интересы», или даже на интересы отдельных лиц, ибо чрезмерное усиление партий и раздоров между ними ослабляет власть государя, вредит и его престижу, и успеху его дел. «Действия партий под властью монархии должны быть (если говорить языком астрономов) подобны движениям низших орбит, которые могут иметь и собственное движение, но вместе с тем увлекаться высшим движением — „primum mobile“» (5, 2, стр 470). В царствование первого Стюарта его внимание направлено на выяснение условий устойчивости и успеха абсолютистского правления как арбитра между противоборствующими социальными силами; однако в своем анализе английского общества Бэкон зачастую исходил из примеров и отношений раннетюдоровского и даже дотюдоровского времени. Он предан тюдоровскому идеалу военного, морского и политического могущества национального государства, а между тем корабль Великобритании уже берет курс на океан бурь социальной революции.
С тем большим интересом обращаемся мы к эссе «О смутах и мятежах», впервые появившемуся в итальянском издании 1618 года, а затем и в английском 1625 года. Открывается оно такой значительной фразой: «Пастырям народов надлежит разбираться в предзнаменованиях политических бурь, которые обычно всего сильнее, когда дело идет о равенстве, подобно тому как в природе бури всего сильнее ближе к равноденствию» (5, 2, стр. 380). Далее следует перечисление различных примет, условий, поводов и причин возникновения мятежей и мер их предотвращения и искоренения. Вернейшее средство против смут — устранение их основных причин: во-первых, голода и нищеты, во-вторых, недовольства, вызванного налогами, угнетением, религиозными новшествами, изменениями законов и обычаев, нарушением привилегий, возвышением недостойных лиц, безрассудными притязаниями отдельных партий и т. п.
Предлагаемые Бэконом меры поддержания материального благосостояния нации носят отчетливый меркантилистский характер. Он считает, что обогащение страны происходит за счет торговли с иноземцами, а поэтому процветание достигается открытием торговых путей и благоприятным торговым балансом, основанием колоний и поощрением мануфактур, искоренением праздности и законодательным обузданием роскоши и расточительства, регулированием цен на все предметы торговли и усовершенствованием земледелия. Сам Бэкон принимал активное участие в разработке планов колонизации Виргинии, Ньюфаундленда и Ольстера. И вместе с тем настойчиво призывал правительство позаботиться о том, чтобы непроизводительные слои общества не были бы чрезмерно многочисленны по сравнению с числом тех, кто созидает непосредственные материальные блага, и чтобы богатства не скоплялись в руках немногих. «Ведь деньги, подобно навозу, бесполезны, покуда не разбросаны» (5, 2, стр. 384).
Что же касается недовольства, то оно особенно опасно, когда охватывает все сословия общества: и знать, и простой народ. Опасность тогда велика, когда знать только и ждет смуты в народе, чтобы тотчас выступить самой. Однако, замечает Бэкон, «пусть ни один правитель не вздумает судить об опасности недовольства по тому, насколько оно справедливо; ибо это значило бы приписывать народу чрезмерное благоразумие, тогда как он зачастую противится собственному своему благу» (5, 2, стр. 382). Пусть лучше государь надежнее заручится расположением простого народа, даровав ему некоторые вольности, возможность приносить жалобы, умеренно изливать свое негодование и надеяться. «В самом деле, — пишет Бэкон, — искусно и ловко тешить народ надеждами, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. По-истине, мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужды» (5, 2, стр. 384). А уж если оппозиция образовалась, надо постараться привлечь на свою сторону ее лидера, либо противопоставить ему в той же партии другого, чтобы ослабить его популярность. Вообще следует всячески разделять и раскалывать враждебные правительству группы и партии, стравливать их между собой и создавать в их среде и среди их предводителей взаимное недоверие. Гений Никколо Макиавелли поистине водил рукой, писавшей эти строки. Разработки знаменитого автора «Князя» оказали влияние не только на Бэкона. В XVI–XVII веках их использовали многие политические писатели и деятели абсолютизма против носящихся уже в воздухе идей суверенитета народа.
И все же логика трезвого мыслителя открывала перед ним и другие перспективы. Не раз возвращаясь к обсуждению немаловажного для английского общества вопроса о месте и судьбе старой феодальной знати в системе абсолютистской монархии, о ее отношении к королю, народу и новому дворянству, взвешивая по своему обыкновению здесь все и «за», и «против», Бэкон в последней редакции эссе «О знати» делает следующее знаменательное добавление: «Демократиям она не нужна: там, когда нет знатных родов, обыкновенно бывает больше покоя и меньше склонности к смутам; ибо внимание людей устремляется тогда на дело, а не на лица; а если на лица, то опять-таки в поисках наиболее пригодных для дела, но не ради гербов и родословных. Мы видим, например, что Швейцарская республика держится прочно, несмотря на множественность вероисповеданий и кантонов, ибо покоится на принципе полезности, а не привилегий. Преуспевают также благодаря своему управлению и Соединенные Провинции; ведь, где господствует равенство, там решения правительства беспристрастнее, а подати и повинности выплачиваются охотнее» (5, 2, стр. 379).
А вот пишет деловой человек, потрудившийся на государственной службе, имеющий, как теперь говорят, большой опыт работы с людьми, знающий цену и труду, и часу. Я имею в виду эссе «О распорядительности», поучительность которого не уменьшилась со временем.
«…Распорядительность в делах надобно мерить не временем заседаний, а успехом дела» (5, 2, стр. 406), — замечает Бэкон. А ничего нет опаснее для успеха дела, нежели показная распорядительность. Иные заботятся только о том, как бы отделаться поскорее, и лишь по видимости привести дело к концу, дабы показать себя людьми распорядительными. Но одно дело — сберечь время умелым сокращением хлопот, другое — скомкать саму работу. Поступать так — это все равно, что делать один шаг вперед, а другой назад. И чем так спешить, лучше повременить, тогда, пожалуй, скорее кончишь. Подлинная же распорядительность поистине благодатна. Ведь дело измеряется временем, как товар — деньгами, и, где мало распорядительности, там дело обходится дорого. Секрет подлинной распорядительности заключается в порядке, в распределении обязанностей и в расчленении разбираемого вопроса, если только членение это не слишком сложно. Не расчленяя, невозможно вникнуть в дело, а расчленяя чрезмерно, невозможно его распутать. Выбрать время — значит сберечь время; а что сделано несвоевременно — сделано понапрасну.
Но помимо политического и практического сознания «Опыты» содержат и другое, связанное с глубоким пониманием человеческой психологии и зарисовками с целой выставки характеров, нравов, чувств и склонностей людей и их поведения в различных ситуациях. Бэкон регистрирует весь этот разноцветный спектр человеческих проявлений, приводит примеры, дает оценки и выносит свои заключения. Так открывается еще одна, литературно-этическая, грань «Опытов». Как едко и выразительно рисует он в эссе «О мнимой мудрости» лживые маски, которые надевают на себя бездарности, дабы создать впечатление о своей компетентности и вызвать доверие к своим мнимым способностям. Некоторые из этих формалистов, рассуждая многозначительно и сдержанно о вещах, в которых сами хорошенько не разбираются, создают у других впечатление, будто знают и что-то большее, о чем якобы не могут сказать. Некоторые же произносят внушительные слова тоном, не допускающим возражения, а затем продолжают так, как будто то, что они не смогли доказать, уже и принято и одобрено. Другие, сталкиваясь с чем-то, находящимся вне пределов их понимания, спешат выказать свое презрение, подвергнуть осмеянию или третируют как несущественное и малозначительное. Есть и такие, которые всегда с чем-то не согласны и, поразив людей какой-либо тонкостью, избегают существа дела, закрывая и весь вопрос, — пустозвоны, которые легковесностью слов разрушают весомость вещей. Они являются поистине проклятием для дела.
Это еще не художественные описания в собственном смысле слова. Их трезвость исключает поэтику, фрагментарность — подлинную образность, объективизм — проникновенность и эмоциональную напряженность. Но это те разработки, которыми питается и художественная литература. «…Мы вовсе не хотим, чтобы в этике все эти характеристики воспринимались как цельные образы людей (как это имеет место в поэтических и исторических сочинениях и в повседневных разговорах), — писал он, — скорее это должны быть какие-то более простые элементы и отдельные черты характеров, смешение и соединение которых образуют те или иные образы. Нужно установить, сколько существует таких элементов и черт, что они собой представляют и какие взаимные сочетания допускают» (5, 1, стр. 425). Так определяется, в частности, значение «Опытов» Бэкона для его теоретической этики, один из разделов которой должно было составить учение о характерах и чувствах людей. Эти компоненты изменяются несравнимо медленнее, чем конкретные политические и социальные условия бытия. А поэтому мы можем согласиться со знатоком и издателем бэконовских сочинений Дж. Спеддингом, что «Опыты» не разделили судьбу других философских работ Бэкона, уже более не говорящих нам того, что они говорили своим современникам.
XII. Новая Атлантида
Мечта — это удел молодости, в то время как опытная зрелость более склоняется к трезвому и житейскому взгляду на вещи. У Бэкона, уже с раннего детства не по годам развитого вундеркинда, было наоборот. Его первые произведения — «Религиозные размышления» и «Опыты или наставления» — претендуют на спокойное и трезвое рассмотрение весьма жизненных вопросов. Зато зрелые годы наполнены настойчивой разработкой различных проектов, а на склоне лет он приходит к своей философской утопии. Первый набросок «Новой Атлантиды» был сделан, по-видимому, где-то между 1614 и 1617 годами. Работа над последним вариантом падает на 1623–1624 годы. Повесть так и осталась неоконченной, была издана посмертно в 1627 году и вскоре же переведена «для пользы других народов» на латинский язык.
По своему сюжету она следует довольно распространенной в XVI–XVII веках схеме утопического произведения. Рассказ ведется от лица путешественника, побывавшего в неведомой стране и увидевшего там осуществление совершенных, с его точки зрения, общественных установлений. Именно так построены и «Утопия» Т. Мора, и «Город солнца» Т. Кампанеллы, вышедший, кстати сказать, в том же 1623 году. Однако, принадлежа отнюдь не к социалистической традиции, бэконовская повесть не содержит сколько-либо глубокой критики современной ему социальной действительности, что характерно для «Утопии» Мора, и не открывает широких горизонтов иной социально-политической жизни. В своих взглядах канцлер Бэкон не был наследником и продолжателем взглядов канцлера Мора. В ином жанре он снова возвращается к своей излюбленной теме о величии и благе научно-технического прогресса, и, кажется, вся повесть нужна ему для того, чтобы возвысить ученых и изложить свой проект все-государственной организации науки. Это скорее сциентистская, чем социальная, утопия, сдобренная в стиле времени благочестивыми отступлениями и, уже в стиле самого лорда-канцлера, подробным описанием различных торжественных церемоний.
По мере расширения географических открытий «земля обетованная» отодвигалась все дальше от Европейского континента. Платоновская Атлантида находилась в не изведанной греками части Атлантики. Т. Мор видит свой утопический остров в Новом Свете — незадолго перед тем открытой испанцами Америке. Бэкон же помещает свою Новую Атлантиду в «совершенно неисследованную» часть Тихого океана. Когда Земля будет в основном изучена, «утопия» перекочует в подземелье и в космос. Естественная поправка, которую вносит в литературу жизнь. Но так ли уж далека «утопия» от хорошо знакомой человеку действительности? Разве старые писатели, впрочем, как и современные, не прибегают к этому своеобразному жанру для того, чтобы найти удобный и неуязвимый для апологетической критики способ осмысления животрепещущих проблем своего общества и своего времени? Разве не трагедия первоначального капиталистического накопления побудила гуманистов Мора и Кампанеллу искать идеального государственного устройства и рисовать в своих утопиях картины общественного порядка, лишенного института частной собственности, а следовательно, контрастов бедности и богатства, несвободного труда и нетрудовой свободы, духовной деградации и духовной утонченности — смутные предвидения социалистического строя? Но нет, не вопросы социальной справедливости волновали ум барона Веруламского. Ему было суждено другое прозрение.
Государство Бенсалема, утопического острова, который описывает Бэкон, — это законсервировавшаяся в своем благополучии процветающая монархия, изолированная от всего мира из опасения «новшеств и влияния чуждых нравов». Мы находим здесь классы и сословия, частную собственность и привилегии, христианскую церковь и чиновничество различных степеней и рангов. Своеобразная идеализация английской абсолютной монархии, какой ее хотел бы видеть ее лорд-канцлер, правда, с существенной поправкой на господство ученой аристократии в духе платоновского «Государства». Ибо главный институт Бенсалема — это орден «Дом Соломона», научно-технический центр, мозг страны, и вся жизнь государства, кажется, подчинена интересам его успешного функционирования. Прерогативу ордена составляют не только организация и планирование научных исследований и технических изобретений, но и распоряжение производительными силами страны, ее природными ресурсами и производством. Ему принадлежит забота о внедрении в промышленность, сельское хозяйство и быт достижений науки и техники, а также монополия внешних сношений. Его члены — элитарная технократическая каста, занимающая особо привилегированное положение в обществе и сохраняющая свою самостоятельность по отношению к государственной власти.
В социальном аспекте и по своему характеру, и по традиции, к которой она примыкает, бэконовская утопия довольно консервативна. Но социальные отношения только фон, на котором Бэкон набрасывает свой прогноз грандиозного научно-технического развития. И здесь нас ожидает много поразительного. Поражает его идея сложной и дифференцированной организации научной работы со специализацией и разделением труда ученых, с выделением различных категорий научных работников, каждая из которых ставит перед собой и решает строго определенный круг задач: получение научной и технической информации из других стран и ее обработка, самостоятельные экспериментальные изыскания и их теоретическое обобщение, изучение уже имеющихся опытов ради разработки методики постановки новых или же осуществления на их основе полезных технических изобретений, реферативная работа, составление учебных руководств и т. п. Все это осуществится позже в развитой структуре научно-исследовательской работы нашего времени. А еще раньше бэконовскую идею государственной организации науки подхватят ученые, стремящиеся к созданию национальных академий наук. Во всяком случае, организаторы Лондонского королевского общества — Спрат, Бойль и Гленвилл — прямо заявляли, что они лишь хотели воплотить в жизнь проект Дома Соломона. Поражают и замечательные достижения науки и техники, о которых рассказывает Бэкон. Мы узнаем о передаче света на дальние расстояния и о мощных искусственных магнитах; о летательных аппаратах различных конструкций и о подводных лодках; о печах, сохраняющих заданную температуру, и о достижении температур, близких к солнечной; об искусственных моделях, имитирующих поведение животных и людей; о прогнозах погоды, землетрясений и эпидемий; о создании искусственного климата; об оживлении животных после клинической смерти и об искусстве управления их ростом. И если исключить явно невозможное, вроде осуществления вечного двигателя, наш современник без труда узнает в них то, что дала наука и техника лишь конца XIX–XX веков, или даже то, что они только сегодня пытаются дать.
Через сто лет после «Золотой книги» Томаса Мора, которую он хорошо знал и с которой полемизировал, Фрэнсис Бэкон восстанавливает в английской литературе жанр утопического произведения. В период английской революции этот жанр использовали для изложения своих республиканских политических и конституционных идеалов Сэмюэль Гартлиб и Джеймс Гаррингтон. При этом Гартлиб, посвящая «Описание славного королевства Макарии» (1641 г.) Долгому парламенту, прямо указывал, что образцами ему послужили сочинения Т. Мора и Ф. Бэкона. Позднее, во времена реставрации, на Бэкона будут ссылаться и роялистские авторы.
Таковы анонимная «Новая Атлантида, начатая лордом Веруламом, виконтом Сент-Албанс и продолженная эсквайром P. X., в которой излагается программа монархического правления» (1660 г.) и незаконченная работа Джозефа Гленвилла. Примыкая к группе кембриджских платоников, Гленвилл пытался соединить их рационалистический мистицизм с бэконовским сциентизмом. В своей «Антифанатичной религии и свободной философии в продолжении Новой Атлантиды» (1676 г.) он описывает Бенсалем, потрясаемый революцией и разгулом иррациональных религиозных распрей. Разумеется, Гленвилл имел в виду Англию, а его понимание революционного процесса в известном смысле предвосхищает взгляды Юма. Так в стране утопии продолжала свою жизнь отнюдь не утопическая действительность. Однако, расширив тематику этого жанра, Бэкон вложил в него и другие возможности, которые позднее, в условиях более изощренного и разнообразного литературного развития, по-своему используют писатели-фантасты. «Новая Атлантида» принадлежит истории науки и художественной литературы не в меньшей мере, чем истории социальной утопии и политики.
Вместо заключения
Провозгласив великое значение естествознания и технических изобретений для человеческого могущества в практике, Бэкон верил, что этой идее его философии суждена не просто долгая жизнь академически признанного и канонизированного литературного наследия, еще одного мнения среди множества уже изобретенных человечеством. Он считал, что со временем идея эта станет одним из конструктивных принципов всей человеческой жизни, которому «завершение даст судьба человеческого рода, притом такое, какое, пожалуй, людям, при нынешнем положении вещей и умов, нелегко постигнуть и измерить» (5, 1, стр. 83). В известном смысле он оказался прав. И сейчас, столетия спустя, мы как бы сызнова осознаем пророческую силу предсказания этого герольда новой науки, но к неистощимому бэконовскому оптимизму в сознании нашего современника примешивается и горечь за все перипетии, пережитые на этом пути в прошлом, и тревога за то, что ожидает нас в будущем.
Развитие техники и промышленности, особенно за последнее столетие, сильно изменило лицо общества, жизнь людей и саму окружающую нас природу. Пышные цветы научно-технического прогресса принесли с собой не только живительные плоды. И дело не только в том, что, дав так много для благосостояния людей, наука и техника создали и средства их массового уничтожения, что великие достижения научного гения таят в себе возможности самого изуверского обращения их против свободы и жизни человека. Это понимал уже и Бэкон, когда в «Дедале, или Механике» — одном из эссе «О мудрости древних» писал, что тот же источник, который так обогащает жизнь, порождает и низменные страсти, и орудия смерти. Живи он позже, он нашел бы место среди своих аллегорий и для мифа о Фаэтоне — безрассудном юноше, который упустил вожжи солнечной колесницы, доверенной ему Гелиосом, и чуть было не спалил всю Землю. Дело в том, что тот «штурм неприступных укреплений природы», та «борьба с природой», о которой еще в начале XVII столетия возвестила труба этого герольда, как и всякая долгая и трудная война, кроме побед несли с собой и разрушения. Все убыстряющееся и сейчас охватывающее всю планету промышленное развитие переплелось со стихийным процессом хищнической эксплуатации природы. В результате сокращаются естественные природные ресурсы, загрязняется биосфера, нарушается экологическое равновесие. Как бы мы ни оценивали меру этой опасности на сегодня, ясно, если дальнейшее промышленное движение не координировать с имманентными процесами в самой природе, это может вызвать гибельную для жизни деформацию окружающей нас среды.
Как биологическое существо человек сформировался в естественных условиях земной биосферы, как социальное он все решительнее дополняет ее искусственно созданной средой, преобразуя ее в биотехносферу. И поскольку будет развиваться индустриально-техническая деятельность людей, этот процесс неотвратим. Очевидно, крайне утопично и сегодня, когда столько стран и народов земного шара только начинают широко приобщаться к благам промышленного прогресса и, вообще, предлагать нажать на «стоп-кран» и законсервироваться в некоем благополучном глобальном равновесии. Утопично и заставить все человечество, имеющее огромный и длительный опыт исторического развития, вдруг уверовать в идеал замкнутой в себе «золотой полинезийской цивилизации». Есть один путь — искать не статической, а динамической оптимизации в формах взаимодействия человеческого общества с природной средой, вероятно видоизменив в свете этой задачи и сами формы технической и хозяйственной деятельности людей. Нахождению этого оптимума должна способствовать наука, которая ныне призвана исследовать не только первую, но и вторую производную от человеческой деятельности в природной среде: и характер деформации биосферы под воздействием индустрии и техники, и влияние самой этой деформации на основные отправления и функции человеческого организма.
Гуманистическая культурная традиция привила нам возвышенный взгляд на человека, на его место и роль в мире. Помните, что говорил шекспировский Гамлет:
«Что за мастерское создание — человек! Как благороден разумом! Как бесконечен способностью! В обличии и в движениях — как выразителен и чудесен! В действии — как сходен с ангелом! В постижении — как сходен с божеством! Краса вселенной! Венец всего живущего!» (51, стр. 61).
Духовный потенциал такого мировоззрения — одно из средств активного развития нашей цивилизации. Но чтобы было развитие, человек как часть природы должен сообразоваться со своим целым. Трагически затянувшийся период штурма и борьбы с ней, историческую ответственность за который несет капиталистическая формация, кончается. Его должна сменить эпоха «взаимного сотрудничества и дружбы» не только между народами, но и между человечеством и природой. Поэтому сегодня мы усматриваем и этот новый смысл в знаменитых словах Бэкона: «…человек, слуга и истолкователь природы», побеждает природу «только подчинением ей» (5, 1, стр. 83).
Приложение
Ф. Бэкон Приготовление к естественной и экспериментальной истории, или План естественной и экспериментальной истории, способной служить надлежащим основанием и базой истинной философии
Эта работа впервые публикуется на русском языке. Перевод с латинского Н. А. Федорова.
Если наше «Восстановление» мы издаем по частям, то это лишь для того, чтобы избежать опасностей, грозящих некоторым из них. Именно это соображение побуждает нас и сейчас присоединить к уже сделанным ранее еще одну небольшую частицу и издать ее вместе с ними. Речь идет о наброске плана такой естественной и экспериментальной истории, которая могла бы служить основанием для создания философии и которая охватывала бы надежный и богатый материал, достаточно удобно расположенный для последующего его истолкования. Собственно, об этом следовало бы говорить тогда, когда дело своим чередом дойдет до приготовления к исследованию. Однако нам кажется более разумным несколько ускорить дело и не дожидаться соответствующего места, потому что история такого рода, какой мы ее задумали и план которой мы сейчас изложим, — дело чрезвычайно сложное, требующее для своего выполнения огромных трудов и средств, нуждающееся в усилиях множества людей и, как мы сказали в другом месте, труд поистине царский. Поэтому, как мне кажется, не лишним будет попробовать, нельзя ли эту работу поручить кому-нибудь другому, с тем, чтобы пока мы сами станем осуществлять планомерно наше начинание, эта часть работы, столь сложная и трудоемкая, еще при нашей жизни (если будет угодно господу богу) могла бы быть выполнена с помощью других людей, вместе с нами ревностно направляющих усилия к той же цели; тем более, что силы наши (если бы мы стали заниматься этим в одиночестве) едва ли оказались достаточными для такого предприятия. Ведь в том, что касается самой работы мысли, то здесь мы, пожалуй, победим собственными силами. Но материал для мысли столь обширен, что его приходится собирать отовсюду, подобно тому как купцы со всего мира привозят свои товары. К этому присоединяется еще одно соображение: едва ли достойно нашего начинания самим нам тратить время в деле, открывающем простор для деятельности чуть ли не всего человечества. Но что здесь самое главное, мы сейчас покажем сами, детально и точно наметив план и характер такой истории, которая бы удовлетворяла нашим замыслам, дабы люди не стали по неведению делать что-то другое, следуя примеру существующих ныне естественных историй, и не отклонились слишком в сторону от поставленных нами задач. А между тем именно здесь следует еще раз повторить то, что мы говорили неоднократно: если бы даже соединились воедино все умы всех эпох, прошлых и будущих, если бы весь род человеческий посвятил себя философии, если бы весь мир состоял из одних университетов, колледжей и школ ученых, все равно без той естественной и экспериментальной истории, которую мы предлагаем создать, в философии и науке не могло и не может быть никакого прогресса, достойного рода человеческого. И наоборот, если будет создана и должным образом подготовлена такого рода история, если с ней соединятся вспомогательные и светоносные опыты, которые или встретятся в самом ходе истолкования, или должны быть найдены, исследование природы и всех наук станет делом немногих лет. Итак, или это нужно делать, или вообще отказаться от нашего предприятия. Только и только так могут быть заложены прочные основы истинной и действенной философии, и тогда люди, словно разбуженные от глубокого сна, тотчас же увидят, в чем различие между произвольным и ложным умозрением, с одной стороны, и истинной и действенной философией — с другой, и, наконец, как важно, исследуя природу, советоваться с самой природой. Поэтому сначала мы изложим общие принципы построения такой истории, а потом наглядно покажем всем ее конкретные очертания, не забывая при этом не только о том, что следует изучать, но и что должно преследовать это изучение, дабы люди, заранее видя и понимая цель предприятия, могли предложить нечто такое, что, возможно, было нами упущено. А историю эту мы называем первой историей, или матерью-историей.
Афоризмы о создании первой истории
Афоризм I
Природа существует в трех состояниях и подчиняется, если можно так сказать, тройному управлению. Она существует или в свободном состоянии и развивается своим обычным путем, или же под влиянием искажений и извращений материи и под действием мощных препятствий она выбивается из своего состояния, или же, скованная силой человеческого искусства, формируется им заново. Первое состояние охватывает виды (species) вещей и явлений, второе — чудовища (monstra), третье — произведения человеческого искусства (artificialia). Ведь во всем, что создано силой искусства, природа принимает иго, налагаемое властью человека, ибо никогда такого рода вещи не могли бы возникнуть без человека. Но труд и усилия человека дают возможность увидеть совершенно новый облик предметов, как бы иной мир (universitas) или иной театр вещей. Таким образом, естественная история складывается из трех частей: она исследует природу либо в свободном состоянии, либо в ее отклонениях (errores), либо скованной, так что мы вполне можем разделить ее на историю обычных явлений, историю исключительных явлений и историю искусств, последнюю из которых мы обычно называем также механической и экспериментальной. Однако мы не требуем, чтобы эти три части излагались раздельно. Почему бы, например, истории исключительных явлений в отдельных видах не могли бы объединяться с историей самих этих видов? Точно так же и создания искусства иногда справедливо объединяются с естественными видами, а иногда лучше их рассматривать отдельно. Поэтому самое лучшее — в каждом случае судить, исходя из существа дела. Ведь метод равно породит и повторения, и длинноты, и если слишком педантично следовать ему, и если вообще пренебрегать им.
II
Естественная история, как мы сказали, по своему предмету делится на три части, а с точки зрения практического применения — на две части. Она может служить или для познания самих вещей, являющихся ее предметом, или выступать как первоначальная материя философии, как материал и подспорье истинной индукции. Об этой последней ее роли и идет теперь речь, именно теперь, повторяю, мы впервые говорим об этом. Ведь ни Аристотель, ни Теофраст, ни Диоскорид, ни Гай Плиний, и еще, менее того, наши недавние предшественники (moderni) никогда не ставили перед собой такой цели в естественной истории. И самое важное здесь, чтобы те, кто возьмет на себя отныне задачу написания естественной истории, постоянно помнили и думали, что они должны служить не услаждению читателя, не самой пользе, которую может принести их изложение в данный момент, но искать и находить как можно больше самых разнообразных фактов, которые послужили бы достаточным основанием для создания истинных аксиом. Если они примут все это в соображение, они сами установят метод для такого рода истории. Ведь метод определяется целью.
III
Чем сложнее и огромнее это предприятие, чем больших усилий оно требует, тем меньше следует отягощать его излишними подробностями. Существуют три вещи, в отношении которых следует ясно предупредить всех возможно экономнее тратить свои усилия, ибо они способны до бесконечности увеличивать объем работы, весьма мало или вовсе не увеличивая ее результаты. Прежде всего отбросим древности, цитаты и свидетельства авторов, а также их споры, расхождения и противоречивые суждения, наконец, вообще все филологическое. Авторов нужно цитировать только в спорных и сомнительных случаях, а противоречия и расхождения приводить лишь в вопросах действительно важных и существенных. Что же касается всякого рода ораторских украшений, сравнений, красот стиля и тому подобных пустяков, от них нужно вообще решительно отказаться. Весь материал, включаемый в историю, должен излагаться сжато и коротко, чтобы ничего не было так мало, как слов. Ведь собирая строительный материал для кораблей или зданий или чего-нибудь иного в том же роде, никто не стремится разложить его красиво, как в лавке торговца, чтобы на него приятно было смотреть; в таком случае люди заботятся лишь о том, чтобы сам материал был добротный и прочный и занимал на складе как можно меньше места. Вот именно так и следует поступать.
Второе: мало пользы делу и от бесчисленных описаний и изображений отдельных видов, от интереса к их пестроте и разнообразию, чем изобилуют сочинения по естественной истории. Ведь такого рода ничтожные различия суть не что иное, как игра и забавы природы, имеющие скорее отношение к природе индивидуальных явлений. Конечно, подобные описания и картины делают изложение приятным и занимательным, но дают весьма скудную, а порой почти бесполезную информацию для науки.
Третье: следует полностью отбросить все суеверные россказни и басни (я не говорю о чудесных явлениях, истинность которых может быть доказана, но именно о суевериях) и опыты церемониальной магии, потому что мы не хотим, чтобы философия, которой естественная история первой дает грудь, с младенческих лет привыкала к бабушкиным сказкам. Быть может, когда-нибудь настанет время (когда люди проникнут несколько глубже в познание природы) и можно будет немного заняться такого рода вещами, чтобы, если в этом отстое найдется хоть какое-то достойное природное качество, его можно было бы извлечь и обратить на пользу людям. А пока все это следует оставить в стороне. Нужно также тщательно и со всей серьезностью проверить опыты натуральной магии, прежде чем принять их, особенно те, которые обычно с великой беспечностью и легковерием самым фантастическим образом выводятся из вульгарных симпатий и антипатий. И нельзя сказать, что ничего (или даже мало) не было сделано для того, чтобы избавить естественную историю от этих трех ненужных вещей, о которых мы сказали выше, а иначе они заполнили бы целые тома. Но этого недостаточно. Ведь в великом труде равно необходимы и краткость изложения принимаемого материала, и способность отбросить то, что окажется излишним, хотя ни у кого не может вызвать сомнения, что подобная стерильность и краткость доставят очень мало удовольствия и читателю, и самому пишущему. Но этим соображением, безусловно, следует пренебречь, ибо то, что мы задумали, — это лишь склад материалов, амбар, вовсе не предназначенный для того, чтобы поселиться в нем и жить в свое удовольствие: туда нужно лишь заходить по мере надобности, когда необходимо взять что-то для последующей работы истолкователя.
IV
Та история, которую мы хотим создать и которую мы задумали, прежде всего должна быть широкой, должна быть создана по масштабу Вселенной. Ибо не мир нужно подгонять под узкую мерку разума (а именно это делалось до сих пор), а раздвигать и расширять границы разума, чтобы сделать его способным воспринять такой образ мира, каким он является в действительности. Ведь пресловутый принцип «Исследовать немногое и судить о немногом» губит все дело. Итак, возвращаясь к тому делению естественной истории, которое мы провели незадолго перед этим (то есть на историю обычных явлений, исключительных явлений и искусств), мы устанавливаем пять разделов истории обычных явлений. Первый раздел должен быть посвящен истории эфира и небесных явлений, второй — истории метеоров и так называемых воздушных слоев (regiones), то есть течений воздуха от луны и до поверхности земли; к этому же разделу мы порядка ради (как бы ни обстояло дело в действительности) относим и всякого рода кометы, как более высокие, так и более низкие. Третий раздел — история земли и моря. Четвертый — история так называемых элементов: пламени или огня, воздуха, воды и земли. Элементы же мы понимаем не как первоначала вещей, но как большие массы природных тел. Ведь природа вещей распределена таким образом, что во Вселенной существует очень большое количество или масса некоторых тел, потому что для их определенной организации требуется легкий и простой тип сплетения материн. Таковы эти четыре телесные субстанции, о которых мы говорили. Количество же некоторых других тел во Вселенной невелико и расходуется природой экономно, потому что форма сплетения материи в них очень своеобразна и тонка и в большинстве случает детерминирована и органична. Таковы виды природных вещей — металлы, растения, животные. Поэтому обычно мы называем первую категорию вещей большими собраниями, а вторую — меньшими собраниями. История этих больших собраний представляет собой, как мы сказали, четвертую часть истории и называется историей элементов. И этот четвертый раздел отнюдь не смешивается со вторым или третьим на том основании, что в них мы упоминаем о воздухе, воде и земле, потому что во втором и третьем разделах рассматривается их история как неотъемлемых частей мира и в той мере, в какой они принадлежат ко всему мирозданию, в четвертом же разделе содержится история их субстанции и их природы, которая проявляется в отдельных их частях безотносительно к целому. Наконец, пятый раздел истории охватывает меньшие собрания или виды (species); именно ими до сих пор и занималась главным образом естественная история.
Что же касается истории исключительных явлений, то мы уже сказали, что она может быть превосходным образом объединена с историей обычных явлений в той мере, разумеется, в какой речь идет об исключительных, но естественно объяснимых вещах. Историю же всякого рода суеверий и чудес мы вообще переносим в специальное исследование, к которому не следует приступать немедленно, но несколько позже, когда мы продвинемся глубже в изучении природы.
Историю искусств и природы, измененной и переделанной человеком, то есть экспериментальную историю, мы делим на три части Эта история строится или на материале механических искусств, или прикладной стороны свободных искусств, или на многочисленном практическом и опытном материале, не получившем еще оформления в каком-либо специальном искусстве, более того, это могут быть самые обычные, обыденные вещи, вообще не нуждающиеся в искусстве. А поэтому, если из всего названного нами, то есть из обычных явлений, исключительных явлений, искусств и экспериментов, будет создана история, то, по-видимому, в этом случае ничто не окажется упущенным из того, о чем чувства способны информировать интеллект. И мы больше не будем как заколдованные плясать все в одном и том же тесном кругу, но охватим своей мыслью весь мир.
V
Среди названных нами разделов истории особенно важна история искусств, потому что она показывает вещи в движении и прямее ведет к практике. Более того, она срывает маску и покров с природных явлений, в большинстве случаев затемненных и скрытых за пестротой форм и внешних проявлений. В конце концов насилие, совершаемое искусством, поистине подобно оковам и наручникам Протея, предающим последние усилия и попытки материи сопротивляться. Ведь тело не желает погибнуть и исчезнуть, скорее оно изменится в другие формы. Поэтому, отбросив всякое высокомерие и пренебрежение, мы должны приложить максимум усилий к созданию этой истории, хотя и механической и, как может показаться, недостаточно благородной.
С другой стороны, среди искусств особенно важны для нас те, которые имеют дело с естественными телами и материалами вещей, изменяют и переделывают их, такие, как земледелие, кулинария, химия, крашение, изготовление стекла, эмали, сахара, пороха, искусственных огней, бумаги и т. п. Сравнительно менее полезны будут для нас те ремесла, которые требуют главным образом тонкости работы рук и инструментов, такие, например, как ткачество, кузнечное дело, строительство зданий, мельничное дело, работа часовщиков и тому подобное, хотя и ими никоим образом не следует пренебрегать, во-первых, потому, что и здесь встречается многое, имеющее отношение к видоизменениям природных тел, а во-вторых, потому, что они дают обширную информацию о движении переноса (de motu lationis), а это — вещь огромной важности, имеющая отношение к большинству явлений.
Но, создавая это универсальное объединение всех искусств в их истории, следует прежде всего твердо помнить следующее: нужно включать в эту историю не только опыты, ведущие к достижению основной цели данного искусства, но и те наблюдения, с которыми так или иначе приходится сталкиваться в ходе исследования. Например, то, что лангусты или крабы первоначально имевшие грязную окраску, если их сварить, приобретают красный цвет, не имеет никакого отношения к кулинарии, но тот же самый факт имеет немаловажное значение в исследовании природы красного цвета, потому что то же самое происходит и с обожженным кирпичом. Точно так же, то, что мясо зимой засаливается быстрее, чем летом, имеет отношение не только к хорошей и своевременной заготовке поваром съестных припасов, но и является немаловажным моментом, помогающим понять природу и действие холода. Поэтому было бы глубоким заблуждением считать, что наше намерение сводится к желанию собрать все опыты искусств единственно для того, чтобы таким путем достичь еще большего совершенства каждого из них. И хотя во многих случаях мы отнюдь не пренебрегаем и этой целью, однако наша мысль заключается прежде всего в том, чтобы ручейки всех технических экспериментов вливались со всех сторон в море философии. Отбор же наиболее важных в каждом роде фактов (а их нужно самым тщательным и настойчивым образом собирать, буквально охотиться за ними) должен определяться значением этих фактов.
VI
В этом месте следует также резюмировать то, о чем мы подробнее говорили в афоризмах XCIX, CXIX, СХХ первой книги[8], хотя здесь будет достаточно дать краткие наставления, посоветовав включить в эту историю прежде всего самые обыденные вещи, которые иной счел бы даже ненужным излагать в книгах, ибо они всем прекрасно известны. Затем — вещи низменные, неблагородные, отвратительные (ведь «для чистого все вещи чисты», и если хорошо пахнут деньги, полученные от общественных уборных, то еще несравненно приятнее знание, полученное из любого источника), интересны даже любые пустяки и ребячьи забавы (и не удивительно, ибо нам необходимо снова стать детьми). Наконец, вещи, представляющиеся в чем-то слишком утонченными, потому что сами по себе не имеют никакого практического значения. Ведь, как уже было сказано, все, что излагается в нашей истории, собрано там не ради самих себя, и поэтому значение этих фактов следует определять не тем интересом, который они представляют сами по себе, но тем, в какой мере наблюдения над ними могут быть применены в других областях и оказать влияние на философию.
VII
Еще одно наше требование: все сведения о природных телах и их свойствах, насколько это возможно, должны содержать точные указания на число, вес, объем, размеры. Ведь мы думаем о практических целях, а не о чистых спекуляциях. Практика же рождается из тесного соединения физики и математики. Поэтому нужно определить и подробно описать в истории небесных явлений точные периоды обращения (restitutiones) планет и расстояния между ними, протяженность суши и какое пространство она занимает в сравнении с водой — в истории земли и моря, какое сжатие испытывает воздух без сильного сопротивления — в истории воздуха, насколько один металл тяжелее другого — в истории металлов и бесчисленное множество примеров в том же роде. Если же точные данные получить невозможно, тогда придется прибегнуть к приблизительным или сравнительным оценкам, не дающим точных определений. Например (если у нас почему-то возникнут сомнения в расчетах астрономов относительно расстояний между планетами), что Луна находится ниже тени Земли, а Меркурий — выше Луны и тому подобное. И если усредненные пропорции (mediae proportiones) получить невозможно, следует привести крайние, например: довольно слабый магнит притягивает кусок железа, равный весу самого магнита, а очень сильный — в 60 раз тяжелее собственного веса — я это сам видел на примере очень маленького, но армированного (armata) магнита. Нам достаточно известно, что такого рода точные данные найти нелегко и встречаются они нечасто, но их нужно выискивать как вспомагательные данные в процессе самого истолкования (когда они особенно необходимы). Но если они случайно встретятся, их нужно включать в изложение самой истории при условии, что они не слишком задержат процесс создания естественной истории.
VIII
Что же касается достоверности фактов, которые должны быть включены в историю, то эти факты, естественно, бывают либо вполне достоверными, либо сомнительными, либо очевидно недостоверными. В первом случае они должны приводиться без всяких помет, а во втором — с пометой, например «говорят», или «передают», или «я слышал из достоверных источников» и тому подобное, потому что приводить доказательства достоверности и недостоверности фактов было бы очень трудно и, несомненно, слишком замедлило бы работу авторов. Да и это не имеет большого значения для нашего замысла, потому что (как мы сказали в CXVIII афоризме I книги) истинность аксиом очень скоро изобличит ложность эксперимента, если только она сама всюду не обнаруживается. Однако, если факт окажется весьма важным или сам по себе, или по тому влиянию, которое он может оказать на многие другие явления, следует во всяком случае назвать имя автора, и не просто назвать, но и сделать соответствующее указание: узнал ли он этот факт из чьих-то сообщений, или переписал из какого-то сочинения (таковы почти все сочинения Гая Плиния), или же он утверждает что-то на основании собственного изучения, а также к какому времени относится сообщаемый факт: ко времени жизни автора или к более раннему. Кроме того, принадлежит ли этот факт к таким, для доказательства истинности которых необходимо множество свидетелей, или нет. Наконец, что касается личности самого автора — пустослов ли он, не заслуживающий внимания, или же серьезный и строгий ученый и тому подобное, все, что придает должный вес и достоверность изложению. И последнее, сведения, очевидно недостоверные, но получившие тем не менее широкое распространение и за долгие века, отчасти из-за недостаточного внимания к фактам, отчасти же под влиянием сравнений, приобретшие прочность предрассудка, например, что алмаз связывает магнит, а чеснок лишает его силы, что янтарь притягивает все, кроме базилика, и множество других подобных утверждений не должны обходиться молчанием, а ясно и недвусмысленно быть осуждены, чтобы подобные выдумки не мешали в дальнейшем развитию науки.
Кроме того, было бы полезным, если к тому представится случай, отметить источник этого пустословия или по меньшей мере легковерия: например, что трава сатирия будто бы способна возбуждать половое чувство, потому что ее корень имеет форму мошонки; а на самом деле она имеет такой корень потому, что каждый год рождается новый клубневидный корень, вырастающий рядом с прошлогодним, отсюда и эта своеобразная форма. Ясно же вот что: новый корень всегда плотный и сочный, а старый — высохший и похожий на губку, и поэтому не удивительно, если один тонет в воде, а другой всплывает, что, однако, считается чем-то удивительным и способствует тому, что в этой траве видят и другие чудесные свойства.
IX
Остается несколько дополнений, которые могут быть полезными для естественной истории и лучше приспособить ее к той работе истолкования, которая нам предстоит. Этих дополнений пять. Во-первых, нужно ставить такие вопросы (я говорю не о причинах, а о фактах), которые бы способствовали и побуждали к дальнейшему исследованию проблемы, например в истории земли и моря: существуют ли приливы и отливы в Каспийском море и каковы промежутки между ними, существует ли какой-нибудь Южный континент или это остров и тому подобное.
Во-вторых, производя какой-нибудь более тонкий и новый эксперимент, следует сообщать и методику, применявшуюся в нем, чтобы люди могли свободно судить об истинности или ложности информации, даваемой этим экспериментом, и чтобы побудить людей к поискам, если это возможно, более точной методики.
В-третьих, если при изложении той или иной темы возникнут какие-то трудности или сомнения, они ни в коем случае не должны замалчиваться или обходиться, наоборот, на них следует четко и ясно указать в форме сноски или примечания. Ведь мы хотим, чтобы первая история была написана самым точным образом, как бы связанная клятвой свято блюсти истину в каждом отдельном факте, ибо эта книга творений господних и (насколько допустимо сопоставлять величие божественных деяний с ничтожностью дел человеческих) как бы второе Писание.
В-четвертых, было бы полезно время от времени приводить различные наблюдения (как это делал Г. Плиний): например, в истории земли и моря можно отметить факт, что очертания суши (насколько они в настоящее время известны) в сравнении с очертаниями моря неровны и как бы заострены в южном направлении, к северу же — гладкие и ровные, очертания же морей — наоборот; и то, что большие океаны рассекают сушу заливами, вытянувшимися с севера на юг, а не с запада на восток, за исключением, может быть, крайних полярных областей. Очень хорошо привести еще и каноны (которые есть не что иное, как общие и всеохватывающие наблюдения), как, например, в истории небесных явлений то, что Венера никогда не отстоит от Солнца больше, чем на 46 частей, а Меркурий — на 23 и что планеты, располагающиеся выше Солнца, движутся очень медленно, потому что очень далеко отстоят от Земли, планеты же, расположенные ниже Солнца, движутся очень быстро. Следует, кроме того, применить и другой род наблюдений, который до сих пор еще не вошел в употребление, несмотря на то что он весьма и весьма важен. Состоит он в следующем: нужно указывать наряду с тем, что существует, и то, что не встречается. Например, в истории небесных явлений следует отметить, что не встречаются звезды продолговатой или треугольной формы, но что всякая звезда имеет шарообразную форму: либо просто шарообразна, как Луна, либо на вид представляется угловатой, а по существу шарообразна, как остальные звезды, либо на вид представляется как бы косматой, а по существу шарообразна, как Солнце. Или то, что звезды никогда не располагаются в определенном порядке, так что нельзя найти здесь ни пятиугольника, ни четырехугольника, ни другой правильной фигуры (хотя им и дают названия дельты, короны, креста, квадриги и т. д.), даже прямая линия найдется с трудом, за исключением, пожалуй, только пояса и меча Ориона. В-пятых, быть может, принесет какую-то пользу человеку ищущему, а принимающего все на веру совершенно собьет с толку и погубит, если общепринятые ныне представления со всей их пестротой и разнообразием направлений, как бы походя, в нескольких словах, будут ставиться под сомнение, чтобы не дать разуму уснуть, но не более.
X
Итак, сказанного будет вполне достаточно, поскольку речь идет об общих правилах; если все эти положения тщательно исполнять, то наш труд по созданию истории пойдет прямиком к своей цели и не разрастется чрезмерно. Ну, а если какому-нибудь малодушному человеку труд этот в намечаемых нами границах вдруг покажется слишком обширным, пусть взглянет он на библиотеки и, между прочим, окинет взглядом своды гражданского или канонического права, с одной стороны, и комментарии ученых и юристов — с другой, и он увидит все различие между ними в отношении массы материала и количества самих томов. Ведь нам (которые подобно аккуратным секретарям слушаем и записываем только сами законы природы) необходима краткость, предписываемая самим существом предмета. А всяческим мнениям, гипотезам и спекуляциям нет ни числа, ни конца.
Что же касается упомянутых нами в распределении нашего труда основных качеств (cardinales virtutes) в природе и того, что их история должна быть написана еще до того, как мы обратимся к труду истолкования, то мы вовсе не забыли об этом, но оставили этот труд для самих себя, ибо не рискуем слишком полагаться на чужой энтузиазм в этом деле, прежде чем люди не сойдутся с природой несколько теснее. Итак, теперь следует обратиться к проекту отдельных историй. Но поскольку в настоящее время мы завалены другими делами, у нас хватит времени лишь на то, чтобы написать каталог отдельных историй, приведя только их заглавия. Но как только мы сможем найти для этого свободное время, мы намерены в каждой теме в виде вопросов дать наставления о том, что именно прежде всего нужно исследовать и о чем писать в каждой из этих историй, так, чтобы это соответствовало поставленной нами цели, нечто вроде своеобразных частных топик или скорее (пользуясь сравнением с гражданским процессом) мы собираемся в ходе этого великого разбирательства или процесса, порученного нам и назначенного божественной милостью и провидением (с чьей помощью род человеческий стремится осуществить свое право на природу), допросить по каждому из пунктов саму природу и искусства (53, 1, стр. 391–403).
Указатель имен
Августин, Аврелий 102
Агрест М. М. 74
Адан Ш. 112
Анаксимен 108
Аполлоний 47
Аристотель (Стагирит) 15, 32, 36, 38, 42, 43, 58, 61, 62, 70, 77, 78, 103, 105, 119, 122, 131
Арно А. 59
Арондель Т. 27
Архимед 47, 98
Асмус В. Ф. 71, 72, 112
Ашэм Р. 15
Баранзан 42, 90
Бойль Р. 149
Боккаччо Д. 117
Бруно Д. 117, 118
Бэкон А. 133
Бэкон Н. 13, 15
Бэкон Р. 83
Венн Д. 91
Вилльерс Д. (Бекингем) 23, 24
Галилей Г. 71, 83, 98
Гаррингтон Д. 149
Гартлиб С. 149
Генрих VIII 14
Гесиод 114
Гераклит 108
Гершель Д. 91, 101
Гиз Г. 21
Гильберт В. 77, 83, 84, 85
Гленвилл Д. 149, 150
Гоббс Т. 99
Гомер 114
Греневский Г. 91
Грутер И. 31
Д'Аламбер Ж. 29
Данте А. 117
Декарт Р. 7, 71, 79, 82, 98
Демокрит 38, 46, 71, 105, 110, 112, 113
Демосфен 61
Джонсон Б. 16
Дониус А. 51
Дэникен Э. 74
Евсевий Кесарийский 102
Елизавета I 14, 16, 21
Казанцев А. П. 74
Калашников А. Г. 84, 85
Кампанелла Т. 71, 146, 147
Кардано Д. 32
Карнап Р. 91
Квинтиллиан 69
Кейнс Д. 91
Кеплер И. 29
Коперник Н. 29
Климент Александрийский 102
Кромвель Т. 14
Кук, Анна 13
Кук, Антони 13
Лактанций 103
Лаплас П. 91
Ларошфуко Ф. 49
Леонардо да Винчи 83
Ловелл П. 73
Локк Д. 63
Лукреций 110
Макиавелли Н. 140
Маркс К. 44, 100
Мерсенн М. 85
Местр Ж. 123
Милль Д. 91, 96. 101
Монтень М. 125, 135, 136
Мор Т. 146, 147, 149
Непер Д. 47
Николь П. 59
Ньютон И. 100
Окино Б. 13
Оккам В. 122
Папп 47
Парацельс 83
Парменид 110, 119
Пифагор 46
Платон 36, 70, 103, 105, 119, 122, 130
Плиний Старший 32
Плотин 105
Порта Ж. 32
Рамус П. 58, 59, 61, 67, 68, 69
Раули В. 20, 31
Рейхенбах Г. 91
Решер Н. 91
Сесиль В. (Берли) 14, 17
Скалигер 32
Скиапарелли Д. 73
Сократ 70
Спеддинг Д. 144
Спрат Т. 149
Стевин С. 98
Сэндис 32
Татиан 102
Телезио Б. 49–52, 87, 110
Тертуллиан 102, 122
Толанд Д. 119
Фалес 108
Фаррингтон Б. 35
Фейербах Л. 122
Фишер К. 115, 122
Фома Аквинский 103
Цицерон 61, 69
Шаррон П. 125
Шеллинг Ф. 117
Шекспир В. 75
Шкловский И. С. 74
Эдуард VI 13
Эзоп 114–115
Эпикур 72, 111
Эссекс Р. 20, 21
Юм Д. 135, 150
Яков I 22—25
Литература
1. Маркс К. Передовица в № 179 «Kolnische Zeitung». — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
2. Маркс К. и Энгельс Ф. Святое семейство, или критика критической критики. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2.
3. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20.
4. Бакон. Собрание сочинений, т. I–II. СПб., 1874.
5. Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М., 1971–1972.
6. Бэкон Ф. Новый Органон. Л., 1935.
7. Бэкон Ф. О принципах и началах. М., 1937.
8. Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические. М., 1962.
9. Асмус В. Ф. Фрэнсис Бэкон. — В. Ф. Асмус. Избр. философ. труды, т. 1. М., 1969.
10. Владиславлев М. Логика. Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления и исторические очерки: логики Аристотеля, схоластической диалектики, логики формальной и индуктивной. СПб., 1872.
11. Вундт В. Введение в философию. СПб., 1903.
12. Герцен А. И. Письма об изучении природы. — А. И. Герцен. Избр. философ. произв., т. I. М., 1946.
13. Гильберт В. О магните, магнитных телах и большом магните Земле. М., 1956.
14. Городенский Н. Франциск Бэкон, его учение о методе и энциклопедия наук. Сергиев Посад, 1915.
15. Д.' Аламбер. Очерк происхождения и развития наук. — «Родоначальники позитивизма», вып. первый. СПб., 1910.
16. «История английской литературы», I, вып. первый. М.—Л., 1943.
17. Карасевич П. Бакон Веруламский как моралист политик. — «Русский вестник», т. 112, № 7–8.
18. Котарбиньский Т. Программа Бэкона. — Т. Котарбиньский. Избр. произв. М., 1963.
19. Котарбиньский Т. Основная мысль методологии Фрэнсиса Бэкона. — Т. Котарбиньский. Избр. произв. М., 1963.
20. Котарбиньский Т. Бэкон о будущем науки. — Т. Котарбиньский. Избр. произв. М., 1963.
21. Котарбиньский Т. Лекции по истории логики. — Т. Котарбиньский. Избр. произв. М., 1963.
22. Кузнецов К. А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. Одесса, 1915.
23. Либих Ю. Ф. Бэкон Веруламский и метод естествознания. СПб., 1866.
24. Литвинова Е. Ф. Ф. Бэкон, его жизнь, научные труды и общественная деятельность. СПб., 1891.
25. Локк Д. Опыт о человеческом разуме. — Д. Локк. Избр. философ, произв., т. I. М., 1960.
26. Луначарский А. В. Фрэнсис Бэкон. — А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 6. М., 1965.
27. Маколей. Лорд Бэкон. — Маколей. Полн. собр. соч., т. III. СПб., 1862.
28. Милль Д. С. Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1899.
29. Монтень М. Опыты, кн. III. М.—Л., 1960.
30. Мор Т. Утопия. М. — Л., MCMXLVII.
31. Мортон А. Л. Английская утопия. М., 1956.
32. Мортон А. Л. История Англии. М., 1950.
33. Мортон А. Л. Фрэнсис Бэкон — философ природы. — А. Л. Мортон. От Мэлори до Элиота. М., 1970.
34. Мортон А. Л. Утопия вчера и сегодня. — А. Л. Мортон. От Мэлори до Элиота. М., 1970.
35. «Общественная жизнь Англии». Изд. Г. Д. Трайля, т. III. М., 1897.
36. Ольшки Л. История научной литературы на новых языках, т. III. М.—Л., 1933.
37. Рассел Б. История западной философии. М., 1959.
38. Розенбергер Ф. История физики, ч. II. М.—Л., 1933.
39. Соколов В. В. Очерки философии эпохи Возрождения. М., 1962.
40. Субботин А. Л. Шекспир и Бэкон. — «Вопросы философии», 1964, № 2.
41. Субботин А. Л. По следам Нового Органона. — «Вопросы философии», 1970, № 9.
42. Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон и античность. — «Вопросы философии», 1972, № 2.
43. Субботник С. Ф. Бэкон. М., 1937.
44. Таннери П. Исторический очерк развития естествознания в Европе. М.—Л., 1934.
45. Толанд Д. Клидофорус, или Об экзотерической и эзотерической философии. — «Английские материалисты XVIII в.». Собр. произв. в трех томах, т. 1. М., 1967.
46. Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959.
47. Фейербах Л. История философии нового времени от Бэкона Веруламского до Бенедикта Спинозы. — Л. Фейербах. История философии. Собр. произв. в трех томах, т. 1. М., 1967.
48. Фейхтвангер Л. Фрэнсис Бэкон. Опыт краткой биографии. — Л. Фейхтвангер. Собр. соч., т. XII. М., 1968.
49. Фишер К. Реальная философия и ее век. Франциск Бакон Веруламский. СПб., 1870.
50. Шекспир В. Трагедия о Ромео и Джульетте. — В. Шекспир. Полн. собр. соч., т. II. Л., 1937.
51. Шекспир В. Трагедия о Гамлете, принце Датском. — B. Шекспир. Полн. собр. соч., т. V. Л., 1936.
52. Юм Д. История Англии. — Д. Юм. Соч. в двух томах, т. 2. М., 1966.
53. Bacon F. The works. Collected and edited by J. Spedding, R. L. Ellis and D. D. Heath, vol. I–VII. London, 1857–1859 (new edition 1876–1879).
54. Bacon F. The works, vol. I–II. London, MDCCCLXXIX.
55. Bacon F. The philosophical works. Reprinted from the texts and translations, with the notes and prefaces of Ellis and Spedding. Edited with an introduction by J. M. Robertson. London, 1905.
56. Adam Ch. Philosophie de Francois Bacon. Paris, 1890.
57. Anderson F. H. Francis Bacon, his career and his thought. New York, 1962.
58. Farrington B. Francis Bacon philosopher of industrial science. New York, 1949.
59. Frost W. Bacon und die Naturphilosophie. Munchen, 1927.
60. Strachey L. Elizabeth and Essex. London, 1930.
Примечания
1
Здесь и далее в круглых скобках дается порядковый номер, отсылающий к списку «Литература», помещенному в конце книги. Затем следуют номер тома, если издание многотомное, и страницы источника. — Прим. ред.
(обратно)2
Волей-неволей (лат.).
(обратно)3
Знание — сила (лат.).
(обратно)4
Решающий эксперимент (лат.).
(обратно)5
Другая противная сторона (лат.).
(обратно)6
Другой я (лат.).
(обратно)7
Сведение к абсурду (лат.).
(обратно)8
Имеется в виду «Новый Органон», в одном томе с которым было опубликовано в 1620 году «Приготовление к естественной и экспериментальной истории». — Прим. пер.
(обратно)
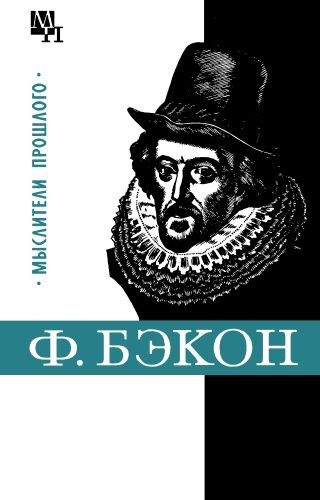
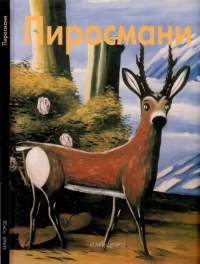
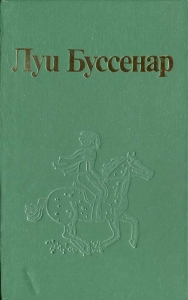

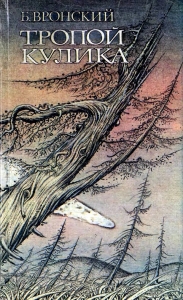

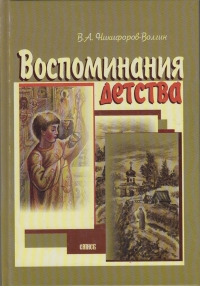
Комментарии к книге «Фрэнсис Бэкон», Александр Леонидович Субботин
Всего 0 комментариев