С. А. Подокшин Франциск Скорина
Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по воздуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, — тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають.
Франциск СкоринаРЕДАКЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Подокшин Семен Александрович (род. в 1931 г.) — старший научный сотрудник Института философии и права АН БССР, кандидат исторических наук. Работает в области истории философии и общественной мысли народов СССР, в частности Белоруссии. Автор монографий «Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина XVI в.)» (1970), «Скорина и Будный. Очерк философских взглядов» (1974). При его участии вышли книги «От Вишенского до Сковороды (из истории философской мысли на Украине XVI—XVIII вв.)» (1972), «Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.)» (1973), «Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии (дооктябрьский период)» (1977), «Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII—XVIII вв.)» (1978), «Идеи материализма и диалектики в Белоруссии» (1980) и др.
Введение
ранциск Скорина принадлежит к славной когорте выдающихся людей, усилиями которых создавалась отечественная духовная культура.
Изучение культурно-просветительской деятельности и творческого наследия мыслителя ведется на протяжении вот уже двух столетий. О Скорине существует обширная литература, созданная несколькими поколениями отечественных и зарубежных ученых. Особенно большой вклад в скориниану внесли советские исследователи.
Пытаясь дать оценку своей деятельности, Скорина характеризовал ее как служение «людей посполитым руского языка»[1]. В его время в данное понятие входили три братских народа — русский, украинский и белорусский. Роль Скорины в истории духовной культуры России, Украины и Белоруссии трудно переоценить. Скорина — основоположник восточнославянского книгопечатания и печатного дела в Литве. Преемниками и продолжателями его книгоиздательской традиции в русских, украинских, белорусских и литовских землях были Иван Федоров, Петр Тимофеевич Мстиславец, Симон Будный, Василий Тяпинский, Козьма и Лука Мамоничи и многие другие.
Скорина — первый восточнославянский переводчик Библии на близкий к народному язык, ее комментатор и издатель. Его следует рассматривать как предтечу реформационного движения в западнорусских (т. е. белорусских и украинских) и литовских землях. Задолго до начала реформационно-гуманистического движения в Великом княжестве Литовском (в состав которого в то время входили Белоруссия, Украина и Литва) в своих предисловиях к Библии Скорина пытался обосновать необходимость обновления господствующей религии, морали, некоторых общественных институтов, в частности права и судопроизводства. Выступив с идеей Реформации, Скорина не получил у себя на родине широкой поддержки. Влияние Скорины на процесс реформации в Великом княжестве Литовском, начавшийся во второй половине XVI в., было лишь опосредствованным. Оно проявилось главным образом благодаря скорининской Библии, которая получила широкое распространение и популярность на территории Белоруссии, Украины, Литвы и России в XVI—XVII столетиях (см. 9, 122— 144, 12, 263—276)[2], в реформационно-обновленческом, культурно-просветительном и социально-политическом движении. К Скорине в какой-то мере применимо суждение, касающееся Эразма Роттердамского: он снес «яйца», которые затем «высидели» реформаторы (см. 106. 39). Именно так, например, смотрела на Скорину последующая консервативно-православная, униатская и контрреформационная традиция, называя его «гуситским еретиком» и не без основания полагая, что скорининская Библия является источником многих возникших в западном православии ересей (см. 16, 717). Родственный характер деятельности Скорины и Лютера отмечал, в частности, Андрей Курбский.
Скорина — выдающийся восточнославянский мыслитель-гуманист эпохи Возрождения. Он освоил древнерусскую философско-этическую традицию, для которой характерен взгляд на природу и общество через идеал нравственно прекрасного (см. 52, 15—21), и предпринял попытку синтеза этой традиции с западноевропейской философской культурой и общественной мыслью. Он явился основоположником ренессансно-гуманистического направления в отечественной философской и общественно-политической мысли, национальной традиции в истории белорусской культуры.
Скорина как мыслитель-гуманист эпохи Возрождения обращается к проблемам человека и общества и пытается дать их решение, отличающееся от традиционно-христианского. В мировоззрении белорусского гуманиста доминирует этический момент. Главным для Франциска Скорины, как и почти четыре столетия спустя для великого русского писателя и философа Льва Толстого, становится вопрос: как жить человеку, какие нравственно-этические ценности и идеалы ему следует исповедовать, чтобы его частная и общественная жизнь не вступала в противоречие с его совестью? Своим творчеством Скорина отразил довольно зрелый уровень развития отечественной культуры начала XVI в.
Как известно, весьма распространенным способом философствования в средние века и в эпоху Возрождения было комментирование Библии. Для Скорины как мыслителя характерна попытка гуманистической интерпретации Священного писания. В своих предисловиях он стремился при помощи библейских текстов оправдать и обосновать гуманистические идеи Ренессанса о религиозной и моральной автономии человека, его достоинстве, которое определяется не столько происхождением или социальным положением, сколько интеллектуально-нравственными добродетелями, личными заслугами; преимуществе активно-практической жизни по сравнению с созерцательной; о гражданственности и патриотизме как важнейших социальных характеристиках человека и т. п. В целом мировоззрение Скорины — это буржуазная в своей тенденции попытка ревизии официального христианского учения, и прежде всего этики.
Огромную роль сыграла скорининская Библия в становлении и развитии общественного сознания и самосознания восточнославянских народов. Перевод Библии на близкий к народному (белорусскому) язык делал ее доступной более широкому кругу читателей, по сути дела означал призыв к ее изучению и в какой-то мере к свободному исследованию. Тем самым вольно или невольно устранялось посредничество официальной церкви и теологии в отношении человека к «божественному откровению», вера становилась прерогативой индивидуального сознания. В тенденции изучение Библии вело человека к сомнению в ее «боговдохновенности» и в конечном счете к неверию. Демократизируя Священное писание, т. е. делая его предметом изучения «людей посполитых» (господствующей церковью это категорически запрещалось), Скорина утверждал принцип личного отношения человека к вере, подготавливал перелом в сознании и характере мышления своих соотечественников, открывал возможность для индивидуального религиозного философствования, свободного от официальных церковно-теологических авторитетов. Сам Скорина это продемонстрировал в своих многочисленных комментариях к библейским книгам. Он внес, таким образом, в восточнославянскую общественную мысль один из характерных философско-гуманистических приемов интерпретации Священного писания, выработанный гуманистами эпохи Ренессанса. После Скорины попытки самостоятельной интерпретации Библии, ее индивидуального прочтения и философско-гуманистического осмысления неоднократно предпринимались в истории восточнославянской культуры от Симона Будного до Григория Сковороды.
Скорина — просветитель эпохи Возрождения. Одной из главных задач своей подвижнической деятельности он считал приобщение посредством Библии «простого и посполитого человека» к образованию, знаниям, к семи «свободным наукам» — грамматике, логике, риторике, музыке, арифметике, геометрии, астрономии. Не менее важное значение Скорина придавал воспитанию человека посредством «добронравной философии», а в этом деле, по его мнению, Библия на родном языке должна была сыграть весьма существенную роль. В представлении Скорины Библия являлась также действенным средством эстетического воспитания человека.
Разумеется, как сын своей эпохи, Скорина был человеком религиозным. Без веры он не мыслил себе интеллектуально и нравственно совершенного человека. Однако характер его веры далек от ортодоксии. Вера его личная, движет ею индивидуальный моральный Долг, она не нуждается во внешних побудительных источниках, и в частности в посредничестве церкви. Человек самостоятельно, полагал Скорина, без церковного освящения способен постичь религиозно-нравственную сущность «божественного откровения» в результате непосредственного интимно-личного контакта со Священным писанием. Сочинения отцов и учителей церкви, постановления церковных соборов и теологические произведения церковных иерархов, т. е. все то, что относится к области церковного предания, в представлении Скорины не имеет того авторитета, какой ему придается официальной — и католической и православной — традицией. Хотя Скорине и свойствен определенный пиетет по отношению к Библии, однако это пиетет особого рода. Библия для Скорины не столько религиозное, сколько интеллектуально-побудительное, нравственно-назидательное и гражданско-воспитательное произведение. Исходя из такого отношения к Священному писанию, Скорина посредством комментариев стремился расставить в нем соответствующие акценты, внести в библейские повествования, притчи, аллегории новый смысл, заострить внимание на тех общественных и морально-философских проблемах, которые игнорировались или оставались в тени у ортодоксальных христианских философов и поднимались на щит мыслителями-гуманистами эпохи Возрождения.
Читая Скорину, надо помнить советы, которые давал Ф. Энгельс К. Шмидту по поводу изучения Гегеля, а именно: не стремиться концентрировать внимание в произведениях мыслителя на том, что служило ему «рычагами для построений», а «отыскать под неправильной формой и в искусственной связи» исторически истинное и прогрессивное (1, 38, 177). В то же время следует заметить, что, хотя стремление сделать Библию авторитетным источником образования и воспитания человека имеет историческое оправдание, оно свидетельствует и об исторической ограниченности Скорины как мыслителя.
Скорина — великий патриот, верный и преданный сын своего народа. Несмотря на то что как личность Скорина сложился преимущественно в обстановке западноевропейской культуры, он не «латинизировался», как это нередко случалось с его соотечественниками, не порвал связи с родиной, не утратил национального своеобразия, а все силы и знания, всю свою энергию отдал служению «людем посполитым руского языка», обратил на благо своего народа. Не удивительно поэтому, что патриотизм он возвел на уровень высших гражданско-этических добродетелей.
Деятельность, подобную скорининской, К. Маркс рассматривал как свидетельство «пробуждения национальностей» в эпохи Возрождения и Реформации (см. там же, 29, 18). И действительно, Библия Скорины сыграла значительную роль в развитии белорусского литературного языка и белорусской национальной культуры в целом. В языке, отмечал Гегель, проявляется творческая природа человека, все, что он представляет, представляется им как произнесенное слово. Вне родного языка мысли человека чужеродны, не цельны, а поэтому не может быть в полной мере реализована и субъективная свобода человека (см. 38, 198—199). Характерно, что эта же мысль была выражена еще в конце XVI в. одним из основоположников восточнославянской филологической науки — Лаврентием Зизанием, который считал, что родной язык является ключом, «отворяючи всем ум к познанию» (49, 2). Обращение Скорины в процессе перевода Библии к родному языку способствовало духовному раскрепощению народа, выступило существенным элементом формирования национального самосознания, демократизации культуры, превращения последней из привилегии господствующего класса феодалов в достояние более широких социальных слоев общества.
В обстановке жесточайшей феодально-католической реакции и контрреформации идеи Скорины оказали плодотворное влияние на национально-освободительное движение белорусского и украинского народов второй половины XVI— XVII в., на борьбу общественных деятелей и мыслителей за сохранение отечественной национальной культуры и родного языка. В то же время идейное наследие Скорины послужило одним из теоретических источников концепции сближения восточнославянской культуры со светской культурой Запада.
Проблема мировоззрения Скорины и направленности его деятельности — это по сути дела часть глобальной проблемы становления и развития белорусского народа как сознательного субъекта истории, формирования его культуры, классового и национального самосознания; это проблема многовековой борьбы белорусского народа за свое социальное освобождение, национальное существование и государственную самостоятельность.
Глава I. «Братия моя русь, люди посполитые» (Белоруссия в эпоху Возрождения)
илософы, отмечал Маркс, «не вырастают как грибы из земли, они — продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях» (1, 1, 105). Мировоззрение Скорины может быть адекватно осмыслено лишь в контексте эпохи, в которую жил и творил мыслитель, в результате конкретного анализа социально-экономических, политических и культурных предпосылок его деятельности. В настоящей главе характеристика эпохи дана хронологически несколько шире, чем это требуется для выяснения истоков скорининской мысли. Это вызвано главным образом тем обстоятельством, что значение Скорины как культурного деятеля и мыслителя становится более понятным на широком фоне исторических судеб белорусского народа.
Следствием прогрессирующего экономического и социально-политического развития, утверждения феодальных отношений в Древнерусском государстве было начавшееся со второй половины XI в. политическое обособление западно-русских земель. На протяжении XI—XII вв. в западной части Руси образуются относительно независимые княжества (земли)—Полоцкое, Турово-Пинское, Минское, Друцкое, Гродненское и др. В течение XIII—XIV вв. совершается процесс консолидации западнорусских и литовских земель и на этой основе возникает новое государственное образование — Великое княжество Литовское. Возникновение этого государства было обусловлено многообразными социально-экономическими, классовыми и политическими обстоятельствами, и в частности необходимостью для феодалов сильной княжеской власти, стремлением объединить усилия в борьбе против немецкой агрессии, монголо-татарского завоевания и т. д. Пути государственного объединения литовских и западнорусских земель в Великое княжество Литовское были различными: здесь и добровольно-договорные соглашения, и использование силы оружия со стороны литовских князей, и брачные союзы и т. д. (см. 40, 122—130). К концу XIV столетия в состав княжества входили все западнорусские (белорусские), большая часть юго-западнорусских (украинских) и некоторые русские земли. В этот же период назревают условия для сближения Великого княжества Литовского с Польшей. Помимо внешнеполитических причин это сближение было вызвано стремлением литовской знати укрепить свое влияние в белорусских и украинских землях, успешно противостоять политике крепнущего Русского государства и т. д. В свою очередь польские феодалы рассчитывали получить доступ к богатым земельным владениям. В 1385 г. в Крево были определены основные принципы политического объединения (унии) Великого княжества Литовского и Польши.
Образование Русского централизованного государства, стремление с его стороны вернуть захваченные литовскими князьями земли, пробиться к берегам Балтийского моря встретило противодействие феодалов Великого княжества Литовского и Польши. Конфликт обострился к началу XVI в. и в конечном счете привел к Ливонской войне (1558—1583). Ситуация осложнялась постоянными нашествиями крымских татар, усиливающимися антифеодальными выступлениями крестьянства и горожан. Воспользовавшись обстановкой, польские феодалы, преодолев сопротивление магнатов Великого княжества Литовского, добились заключения в 1569 г. в Люблине унии, согласно которой Великое княжество Литовское и Польша объединились в федеративное государство Речь Посполитую с единым выборным королем (он же и великий князь) и сеймом. В то же время страны сохраняли собственные органы власти, законы, финансы, свое название. Белоруссия и Литва оставались в пределах Великого княжества Литовского, Украина и Подляшье присоединялись к Польше.
Верховным главой Великого княжества Литовского являлся великий князь, или господарь. Как правило, он был литовцем по происхождению, после же Люблинской унии польский король являлся одновременно и великим князем. Высшим органом при великом князе была господарская рада, в ведении которой находились государственное законодательство, внешняя политика, финансы, важнейшие судебные дела и т. д. В нее входили наиболее могущественные литовские, белорусские и украинские феодалы, потомки Рюриковичей, католические епископы. Они же занимали важнейшие государственные должности — канцлера, гетмана, наместников, воевод, старост, каштелянов и т. д. С XV в. начинает функционировать сейм — высший представительный орган феодалов Великого княжества Литовского. К середине XVI в. он становится главным законодательным и контролирующим учреждением страны и придает политическому строю Великого княжества Литовского черты сословной монархии (см. 40, 222). Существовали также местные сеймы при отдельных землях (воеводствах) и поветах.
Вплоть до середины XVI в. административно-территориальная структура Великого княжества Литовского была довольно пестрой и сохраняла многие признаки периода феодальной раздробленности. Наряду с землями-воеводствами существовали удельные княжества (Мстиславское, Копыльское, Слуцкое, Клейкое и др.) с некоторыми атрибутами феодальной автономии. В результате административной реформы правительства все княжество было разделено на воеводства, которые в свою очередь делились на поветы, а поветы — на волости. Наряду с административной была проведена судебная реформа, упразднившая иммунитет местной знати. В 1581 г. был учрежден Главный литовский трибунал — высший судебно-апелляционный орган страны.
Социальная структура господствующего класса Белоруссии — феодалов сводилась к следующему. Феодальную верхушку составляли потомки удельных западнорусских князей и литовской знати — паны, или магнаты. К ним относились: магнаты литовского происхождения, усвоившие белорусскую культуру и язык (слуцкие князья Олельковичи, Радзивиллы, Гольшанские, Пацы и др.); магнаты белорусского происхождения (Глебовичи, Воловичи, Тышкевичи, Сапеги, Острожские, Друцкие, Дорогостайские, Соломерецкие и др.). Часть магнатов была украинского и польского происхождения. Основная масса средних и мелких феодалов белорусских земель Великого княжества Литовского вначале носила название бояр, а начиная с конца XIV в. ее все чаще стали именовать шляхтой. Со временем шляхтой стали называть все феодальное сословие. Подавляющая часть шляхты, жившая на территории Белоруссии, была православной и по своему происхождению белорусской. Во второй половине XVI в. многие белорусские и литовские магнаты и часть шляхты приняли протестантизм. Однако в силу сложившихся исторических обстоятельств в течение XVII—XVIII вв. большая часть белорусской шляхты перешла в католицизм и ополячилась (см. там же, 192—194). На протяжении XV—XVI вв. средняя и мелкая шляхта вела энергичную борьбу с магнатами за уравнение в правах. В конечном счете ей удалось значительно расширить свои сословные экономические и политические привилегии.
Крестьяне Белоруссии в XIV—XV вв. жили большими родственными семьями. Такая семья называлась «дымом» или «дворищем». Несколько «дымов» составляли село, а несколько сел — общину. Общины были объединены в волости. В результате развития феодальных отношений крестьяне находились в разной степени зависимости от феодалов. В начале XVI в., например, основная масса крестьян состояла из «людей похожих». Они пользовались личной свободой и имели право перехода от одного помещика к другому. Со временем это право постепенно ограничилось и к началу XVII в. фактически свелось на нет. Вторую категорию феодально зависимых крестьян в это же время составляли «люди непохожие», или «отчичи», «селяне тяглые», поскольку они постоянно жили на одном месте, несли феодальные повинности и не имели права перехода. Незначительный слой составляли холопы, или «челядь невольная», которые являлись полной собственностью феодалов. Однако в 1588 г. статутом Великого княжества Литовского институт холопства был упразднен. В течение второй половины XVI — первой половины XVII в. в результате аграрной реформы и интенсивного развития фольварочно-барщинного хозяйства социальные группы белорусского крестьянства унифицируются, различие между «похожими» и «непохожими» крестьянами постепенно стирается и они превращаются в крепостных. Феодальная эксплуатация и закрепощение вызывали сопротивление со стороны крестьян, которое резко усилилось в конце XVI — первой половине XVII в.
Возникнув между IX—XII вв., белорусские города к середине XVI столетия становятся центрами развитого ремесленного производства и оживленной торговли, сложной социально-политической и культурной жизни (см. 75, 5). Если в середине XV в. в Белоруссии насчитывалось лишь пять-шесть больших городов (разумеется, по тогдашним меркам), то в течение XVI и в первой половине XVII в. их количество увеличилось до 37, а всего к этому времени на территории Белоруссии было свыше 350 городов (см. 40, 199). По численности жителей города подразделялись на крупные (Полоцк, Витебск, Слуцк, Могилев, Брест, Пинск, Минск, Гродно), средние (Новогрудок, Несвиж, Клецк, Быхов, Шклов, Борисов, Бобруйск и др.) и малые (Мозырь, Туров, Ошмяны, Чаусы и др.). В Бресте, например, в конце XIV в. жило около 2 тысяч человек, в середине XVI в. — 6—7 тысяч, а к первой половине XVII в. численность брестского городского населения достигла 10 тысяч человек. Крупнейшим торгово-ремесленным и культурным центром Великого княжества Литовского, в том числе и Белоруссии, являлся столичный город Вильно, в котором еще в XVI в. по крайней мере половина населения была белорусской (см. 184, 97).
Население белорусских городов формировалось за счет нескольких источников. Причем естественный прирост играл второстепенную роль, так как средняя продолжительность жизни в рассматриваемую эпоху не достигала 25 лет, а во время эпидемий и голода, которые в то время были частыми явлениями, гибло от 33 до 97% населения. Основным источником пополнения городского населения было белорусское крестьянство. Белорусы составляли не менее 80% всех горожан. Вместе с тем в белорусских городах и местечках жили выходцы из России, Украины, Литвы, Польши, некоторых западноевропейских стран, евреи и татары.
Главными занятиями горожан были ремесло и торговля, в то же время они еще не утратили полностью связи с сельским хозяйством. В крупных городах Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. ремесленники составляли не менее половины жителей. Одним из показателей развития белорусских городов являлась численность профессий. Так, если в начале XVI в. в Полоцке насчитывалось 19 ремесленных специальностей, то документы более позднего времени упоминают уже о 50. Белорусские ремесленники были искусными мастерами и создавали все, что необходимо было в то время обществу: орудия труда, одежду, обувь, утварь, жилища, оружие. Они строили и украшали замки, церкви, костелы, ратуши, изготовляли бумагу, печатали и оформляли книги. Необходимость регулирования производственной деятельности и борьба с феодалами пробуждали ремесленников объединяться в цехи, которые возникли в Белоруссии в середине XVI в. Источники сохранили упоминание о 112 цехах в 16 городах Белоруссии. Как показал З. Ю. Копысский, в ремесленном производстве белорусских городов XVI в. имели место прокапиталистические тенденции (см. 75, 119—144).
В связи с развитием ремесла белорусские города превращались в центры торговли. Причем белорусские купцы сбывали свои товары не только на внутреннем рынке, они осуществляли весьма интенсивные и внешнеторговые операции: торговали с городами России (Новгород, Псков, Смоленск, Тверь, Москва), Украины (Киев, Львов, Перемышль), Польши (Варшава, Краков, Торунь, Гданьск, Познань, Люблин), Прибалтики. Купцы Белоруссии проникали в Турцию, Венгрию, Румынию, Молдавию; через польские города и Ригу поддерживалась торговля с Западной Европой. Наиболее крупным торговым центром Белоруссии конца XV — начала XVI в. являлся родной город Франциска Скорины — Полоцк. Белорусские купцы привозили на родину не только дорогие сукна, вина, оружие, но и книги античных писателей, европейских гуманистов и реформаторов. С купеческими караванами молодежь Великого княжества Литовского, в том числе и Белоруссии, выезжала на учебу в университеты Кракова, Праги, Падуи, Болоньи, Лейпцига, Виттенберга, Кёнигсберга и др.
Население белорусских городов состояло из зажиточной верхушки (богатые купцы и часть ремесленников-мастеров), среднего слоя (основная масса мастеров и торговцев) и бедных ремесленников, торговцев, учеников. Плебейскую часть городского населения составляли чернорабочие, прислуга, поденщики, люди без определенных занятий, скоморохи. Вместе с тем в городах жили феодалы и представители высшего духовенства. Многим из них принадлежала часть городской территории, на которой поселялись зависящие от них люди. Подвластные феодалам жители не были подсудны магистрату, а находились под юрисдикцией феодалов. Эта часть города носила название «юридики» (см. 74, 30—54). Наличие в белорусских городах феодальных юридик являлось одним из источников напряженной сословно-классовой борьбы между городской общиной и феодалами.
Некоторые белорусские города еще в эпоху Древнерусского государства имели самоуправление. Так, Л. В. Алексеев считает, что вечевой строй существовал в Полоцке начиная с XI в. (см. 8, 193). С конца XIV в. и в течение последующих столетий белорусские города добивались самоуправления на основе магдебургского права. К их числу принадлежали Брест (1390), Гродно (1391), Слуцк (1441), Полоцк (1498), Минск (1499), Могилев (1561), Витебск (1597). Самоуправление ограничивало феодальный произвол, освобождало горожан от юрисдикции великокняжеских чиновников, расширяло их права и привилегии. Для управления городом из числа зажиточных мещан избиралась рада, которая утверждалась великокняжеским наместником — войтом. Во главе рады стояли два бурмистра; вместе с радой и с судебными исполнителями (лавниками) они составляли орган городского самоуправления — магистрат. В компетенции магистрата были судебно-исполнительская власть, сбор налогов, контроль за торговлей, нравами горожан и т. д.
Укрепление экономического и социально-политического положения горожан неизбежно обостряло их отношения с феодалами, которые стремились «воспользоваться успехами городов для превращения их в дополнительный источник своих доходов» (74, 168). На протяжении XV—XVII вв. горожане вели энергичную борьбу против феодального наступления. Эта борьба выражалась, в частности, в стремлении ограничить рост феодальных юридик, полностью подчинить города власти магистрата. Наряду с антифеодальной борьбой для белорусских городов этой эпохи характерны выступления городских низов против патрициата, злоупотреблений городских властей и т. д. Начиная со второй половины XVI в. усилилось сопротивление горожан католической экспансии, смыкавшееся с антифеодальной борьбой. Следует отметить, что рост городов, развитие товарно-денежных отношений оказывали существенное воздействие и на феодальное сословие, в какой-то мере ведя к «обуржуазиванию» части шляхты. А. Волан, живший во второй половине XVI в., писал: «Шляхта не стыдится держать шинки, заниматься торговлей, ростовщичеством и прочими низкими делами, лишь бы они служили обогащению и приносили прибыль» (182, 35).
Специфическое общественное бытие белорусских горожан в системе феодального строя обусловливает возникновение в их сознании новых социально-нравственных ориентиров и ценностей. В городской среде наряду с богатством, сословными привилегиями все большее значение начинает придаваться индивидуальным достоинствам человека, его энергии, уму, моральным добродетелям. В связи с этим растет престиж профессионального мастерства, образованности, знания. Некоторые богатые горожане начинают выступать в роли меценатов, проявлять определенную заботу об отечественном образовании, книгопечатании, науке. Не удивительно поэтому, что именно городская среда выдвинула одного из наиболее выдающихся деятелей белорусской культуры и общественной мысли XVI в.— Франциска Скорину. Появление такой личности в истории белорусской культуры в философско-общественной мысли было возможно только в условиях развитого города. Весьма симптоматично также, что издательская деятельность Скорины в Праге и Вильно осуществлялась при финансовом содействии богатых виленских горожан-белорусов.
В течение XIV—XVI вв. формируется белорусская народность. Образование белорусской народности совершалось на базе западной ветви древнерусской народности, которая в период распада Киевской Руси сохранила многие свои племенные, хозяйственно-экономические, бытовые, языковые и другие отличия. На основе целого комплекса источников современные советские исследователи пришли к выводу, что «белорусская народность, так же как народности русская и украинская, ведет свое происхождение от единого корня — древнерусской народности, ее западной части. Древнерусская народность явилась общим этапом в истории всех трех братских народностей, и в этом состоит особенность этногенеза восточных славян в отличие от других народностей, образовавшихся непосредственно от консолидации первичных племен» (51, 284). Формирование белорусской народности осуществлялось в основном в составе нового государственного образования — Великого княжества Литовского, причем решающее значение в этом процессе имело социально-экономическое и политическое развитие белорусских земель. Этнической основой генезиса белорусов являлись потомки дреговичей, днепро-двинских кривичей и радимичей. Вместе с ними в состав белорусской народности вошла часть бывших северян, древлян и волынян. В этногенезе белорусов участвовал и определенный балтский субстрат, однако он не играл существенной роли. В рассматриваемый период формировалась культура белорусской народности, складывались особенные черты национального языка, что находило отражение в письменности, в том числе и в произведениях Скорины.
В то же время процесс формирования белорусской народности и его культуры осуществлялся в тесной связи с экономической, социально-политической и культурной жизнью русского, украинского, литовского и польского народов.
Несколько слов о содержании понятий «Белая Русь» и «белорусы». В эпоху Древнерусского государства все население восточнославянского региона носило общее название — «русские», а территория — «Русь». Впервые термин «Белая Русь» встречается с конца XIV в. в отношении к Полоцкой земле, позже он распространился на белорусское Подвинье и Поднепровье, а затем и на центральную и западную часть белорусских земель. Термины «Белая Русь» и «белорусы» на протяжении нескольких веков сосуществовали с названиями «Русь» и «русские» и довольно часто выступали как тождественные понятия. В частности, для Скорины содержание понятий «Русь» и «русский» имело не только общее, восточнославянское, но и особенное, западнорусское (белорусское) значение. Белорусские земли и сами белорусы в документах рассматриваемой эпохи нередко фигурировали также и под названиями «Литва» и «литовцы» или «литвины», поскольку помимо национально-этнического эти термины имели и государственно-территориальный смысл: так называли жителей Великого княжества Литовского независимо от их происхождения. В одном из документов середины XVI в., например, белорусы и украинцы Великого княжества Литовского назывались «народом христианским русским литовским», а русские — «народом русским московским» (см. 4, 181). В начале XVII b. приехавший с Украины в Москву Лаврентий Зизаний был известен как «протопоп из Литвы» (см. 65, 139) и т. д.
Великое княжество Литовское было не только многонациональным, но и разнорелигиозным государством. Основная масса населения — белорусы и украинцы являлись православными. Литовцы же, по крайней мере до 1386 г., были язычниками. После Кревской унии начинается католизация Литвы. Католицизм, которому покровительствует великокняжеская власть, проникает в белорусско-украинские земли и постепенно завоевывает там одну позицию за другой, с самого начала выступая в качестве средства укрепления власти феодалов над белорусскими, украинскими и литовскими крестьянами и горожанами, средства реализации социально-политических притязаний польских магнатов и экспансионистских замыслов Ватикана (см. 91, 109—113). С середины XVI в. в связи с реформационным движением в Белоруссии, Литве и на Украине утверждается протестантизм в форме кальвинизма, частично лютеранства и антитринитаризма. Временно усиливается его влияние на белорусских, литовских и украинских феодалов, горожан, незначительное число крестьян (112, 41—83). Однако в конце XVI—начале XVII в., напуганное усилившимся антифеодальным и национально-религиозным движением, радикализмом Реформации, большинство феодалов порывает с протестантизмом и переходит в католицизм. Здесь же следует отметить, что в силу сложившихся исторических обстоятельств некоторая часть белорусских и украинских горожан и крестьян также принадлежала к католическому вероисповеданию. Помимо существовавших в Белоруссии, Литве и на Украине православия, католицизма и протестантизма в конце XVI в. вводится униатство. И наконец, живущие в пределах Великого княжества Литовского евреи и татары исповедовали соответственно иудаизм и ислам.
На рубеже XV—XVI вв., как свидетельствуют источники и имеющаяся по этому вопросу литература, западное православие находилось в состоянии, близком к кризисному. Православное духовенство (в особенности его высшие слои) всю энергию направляло на расширение своих земельных владений, увеличение привилегий. Оно мало заботилось не только о просвещении, культуре, но и о самой религии. Источники конца XV — начала XVI в. свидетельствуют о «великом грубиянстве и недбалости» православных священников.
Одним из проявлений возрастающей социальной роли горожан была попытка «оздоровить», взять под свой контроль городскую религиозно-церковную жизнь (см. 32, 2—9). Белорусские и украинские горожане создавали своего рода опекунские организации, которые устанавливали патронат над местной церковью. Возникновение подобного рода организаций в эпоху Скорины выражало усиливавшуюся и чрезвычайно важную для отечественной истории тенденцию, которая заключалась в стремлении горожан распространить свое влияние не только на религиозно-церковные дела, но и на общественно-политическую жизнь, образование, культуру в целом.
Скорина начинал свою деятельность в то время, когда противоречия между православием и католицизмом и стоящими за этими двумя религиями социальными силами в достаточной степени еще не обострились. Между тем со второй половины XVI в. усиливается процесс феодально-католической реакции. Активизируется деятельность католической церкви и ее авангарда — ордена иезуитов, возглавляемых и направляемых Ватиканом. В течение второй половины XVI—XVII в. католическая церковь в Великом княжестве Литовском при поддержке королей и феодалов стала не только крупным земельным собственником, но и предпринимала довольно успешные попытки взять в свои руки все средства идеологического воздействия, приобрести монополию на образование, сконцентрировать в своих руках типографии, установить строгую цензуру печати и т. д. (см. 91, 60).
В качестве средства утверждения своего влияния в белорусских и украинских землях Ватиканом и иезуитами была избрана уния православной и католической церквей под эгидой папства, которая рассматривалась как переходный этап к католицизму (см. 74, 201). Инициаторами церковной унии выступили отдельные представители высшего православного духовенства. Их поддерживала часть местных феодалов. Против унии были решительно настроены основная масса горожан и крестьян, многие феодалы, широкие слои духовенства. Введение унии было провозглашено в 1596 г. на церковном соборе в Бресте. Проводники Брестской унии пытались убедить народные массы в том, что она носит исключительно церковный характер и должна покончить в Великом княжестве Литовском с враждой между сторонниками православного и католического вероисповеданий. На самом же деле уния насаждалась насильственными средствами и методами. Чрезвычайно ярко показали это в своих произведениях белорусские и украинские писатели-полемисты конца XVI—XVIII вв. Захарий Копыстенский, Христофор Филалет, Мелетий Смотрицкий, Афанасий Филиппович и др. Подавлялась не только религиозная свобода православных белорусских и украинских горожан и крестьян — всячески ущемлялись и их социально-экономические интересы, человеческое достоинство. Живой свидетель событий М. Смотрицкий писал, что в Вильно, Минске, Бресте, Гомеле, Орше, Полоцке, Витебске и многих других городах «люди древнего греческого вероисповедания... смещаются с должностей городского управления, ремесленники изгоняются из цехов... страдают от невыносимых истязаний, тюремного заключения, изгнания» (65, 184). Афанасий Филиппович считал, что насилия униатов над православными превосходят своею жестокостью «турецкую неволю» (там же, 197). Проведение в жизнь унии положило начало политике полонизации и широкому наступлению феодально-католической реакции против национальной белорусской и украинской культуры.
Насильственное введение унии встретило решительное сопротивление широких слоев белорусско-украинского общества. В борьбу против унии и воинствующего католицизма на первых порах включились некоторые патриотически настроенные представители господствующего класса. Однако, когда антиуниатская борьба стала перерастать в национально-освободительное движение и принимать все более ярко выраженный антифеодальный характер, пути патриотически настроенных феодалов и трудящихся масс разошлись. Феодалы в конечном счете предали движение, предпочли сохранить свои классовые и сословные привилегии и принести им в жертву интересы «религии предков», родины, национальной культуры (см. 79, 14). В течение первой половины XVII в. основная масса православных феодалов, а также феодалов-протестантов приняла католицизм или перешла в унию (см. 91, 98).
Стойкое сопротивление униатской политике и наступающей феодально-католической реакции оказали белорусские и украинские горожане и крестьяне (см. 92, 40—52). Причем борьба горожан и крестьян против унии и католицизма носила не только религиозный, но и классовый, социально-политический характер. Многие дореволюционные историки, особенно церковные, а также некоторые их современные последователи за рубежом пытались и пытаются представить национально-освободительное и антифеодальное движение белорусских и украинских горожан и крестьян как борьбу за «веру отцов», за православие. Разумеется, защите православия в этой борьбе придавалось весьма существенное значение. Свою роль здесь играли не только многовековая религиозная традиция, специфический характер общественного сознания, но и вполне естественный и закономерный для человека протест против всякого насилия, религиозного принуждения, покушения на свободу вероисповедания. Однако решающими побудительными мотивами выступления белорусских и украинских трудящихся масс против унии и католицизма были социально-политические обстоятельства. Воинствующий католицизм и уния несли с собой усиление власти феодалов, ограничение привилегий и прав горожан, утверждение крепостничества (см. 74, 184).
Большую роль в религиозной и социально-политической борьбе белорусских и украинских горожан и крестьян второй половины XVI—XVII в. играли «православные братства», выступавшие в качестве идеологических центров, а в ряде случаев — организаторов и вдохновителей этой борьбы. В деятельности и идеологии братств получили отражение недовольство горожан низким морально-образовательным уровнем, неумеренными имущественными притязаниями православного духовенства, его «обмирщением»; стремление оздоровить религиозно-культурную атмосферу общества, ограничить влияние духовенства на общественно-политическую и культурную жизнь, сделать должность священнослужителя выборной, зависимой от мирян. С самого начала на почве этих требований братства вступают в конфликт с православной верхушкой, церковными иерархами. Широко известны протесты западных православных иерархов, в частности Ипатия Потея, против вторжения «люда посполитого, простого, ремесного» в церковую жизнь, его стремления самостоятельно изучать и комментировать Священное писание и т. д. (см. 127, 719). Именно в «братской» среде под влиянием идеологии белорусских и украинских горожан формируется мировоззрение прогрессивных православных общественных и культурных деятелей, которые оказываются в оппозиции к официальному курсу руководящей верхушки западного православия, выступают с программой приобщения широких масс населения, и в первую очередь горожан, к образованию, светским знаниям, западной культуре. Братства являлись также выразителями социально-политической оппозиции горожан феодальному строю и его идеологии. Они содействовали объединению усилий горожан в их борьбе против феодалов, за самоуправление (см. 74, 165). Все это обусловило возникновение и развитие в деятельности братств и воззрениях их идеологов определенных реформационно-гуманистических тенденций (см. 67, 84.112, 177). По мнению В. М. Ничик, «братства были специфической формой реформационного движения в православных странах» (103, 65).
Деятельность и мировоззрение Скорины, несомненно, были идейно связаны с обновленческими религиозно-нравственными и общественно-культурными тенденциями конца XV — начала XVI в. Тенденции эти во второй половине XVI в. переросли в широкое религиозно-культурное и социально-политическое братское движение, оказавшееся в непосредственном контакте с национально-освободительной и антифеодальной борьбой белорусского и украинского народов, которые выступали против унии и воинствующего католицизма. Тесно связанный со своей классовой средой, ее идейными устремлениями, Скорина не является случайной фигурой в истории культуры, общественной и философской мысли восточнославянских народов, он выступает как идеолог прогрессивных слоев общества, сумевший заглянуть в историческую перспективу, наметить некоторые существенные моменты последующего развития общества. Скорина выдвинул идеи религиозно-нравственного оздоровления общества, права всех без исключения на свободное изучение Библии, превращения религии в личное дело человека, «обмирщения» ее; отстаивал необходимость всестороннего, интеллектуально-нравственного развития и воспитания человека, развития книгопечатания и изучения родного языка, реформирования некоторых политических и судебноправовых институтов, правомерности обращения к западной, или «латинской» (светской), культуре и т. д. Именно Скорина первым начертал для отечественного просвещения образовательную программу «семи свободных наук», которая затем была взята на вооружение братскими школами, развита и усовершенствована профессорами Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академии и сыграла значительную роль в развитии восточнославянской системы образования, философской мысли, сближении отечественной культуры с культурой Запада.
Экономические и социально-политические процессы определяли характер и специфику формирования культуры Белоруссии конца XV — первой половины XVI в., в которой наряду с существовавшими традиционно-средневековыми возникали и развивались ренессансно-гуманистические начала. По существующей в современной науке классификации, Белоруссия, Украина, Литва, по-видимому, с некоторыми ограничениями могут быть отнесены к региону Северного Возрождения[3], где ренессансно-гуманистические элементы культуры синтезировались с идеями Реформации. Как известно, основоположники марксизма отмечали наличие в гуманизме и Реформации не только различных, но и тождественных черт. В частности, Энгельс определял Реформацию как «теоретико-гуманистическое движение с его дальнейшим развитием в теологической и церковной сфере» (1, 29, 493), т. е. как теологическую модификацию гуманизма. Теснейшая связь реформационных движений с гуманизмом характерна не только для Великого княжества Литовского (см. 112), но, как показал А. И. Клибанов, и для России (см. 81). Разумеется, отмечая тождество некоторых моментов реформационной и ренессансно-гуманистической идеологии, не следует забывать об их различии. Так, например, в доктринах идеологов европейской Реформации наряду с ренессансно-гуманистическими элементами присутствуют противоположные им, антигуманистические положения и принципы (см. 106, 231). Однако Реформация — это не только Лютер и Кальвин, но и Мюнцер, Себастьян Кастеллио, антитринитарии, социниане, т. е. не только умеренное, но и радикальное направление, которое было гораздо ближе к гуманизму в вопросах о свободе воли, роли разума в познании, веротерпимости, отношении к античной культуре, светским знаниям и т. д. Необходимо подчеркнуть, что в силу определенных исторических обстоятельств в восточноевропейских странах гуманизм и Реформация не противостоят столь резко друг ДРУГУ, как это было в Западной Европе. Вместе с тем следует отметить, что идеи Возрождения и гуманизма утверждались в Великом княжестве Литовском с некоторым опозданием и хронологически не совпадали с аналогичными явлениями в культуре стран Западной и Центральной Европы. Кроме того, они усваивались многими отечественными мыслителями в обстановке активно развивающейся культуры барокко, что делало их противоречивыми и многозначными. Реформационное и гуманистическое движение оказало весьма существенное влияние на развитие отечественной культуры. Оно способствовало распространению в Белоруссии, Литве и на Украине образования, книгопечатания, литературы, развитию родного языка, философской и общественно-политической мысли, расширению контактов отечественной культуры с культурой других народов.
Образование, как известно, является фундаментом всякой культуры. Если в период ученичества Скорины, т. е. в начале XVI в., в Белоруссии существовали немногочисленные православные и католические школы, то уже со второй половины столетия в результате реформационно-гуманистической и культурно-просветительской деятельности прогрессивных слоев общества (в духе скорининских идей) возникает довольно густая сеть протестантских, а затем и православных братских школ и училищ. В них изучаются родной, латинский, греческий, польский, а в братских школах еще и церковнославянский языки; риторика, диалектика (логика), математика, астрономия, музыка; элементы философии, истории и права, античной поэзии на основе некоторых сочинений или отрывков из сочинений древних авторов (см. 98, 15—36, 93, 150). В 1566 г. в Вильно было открыто училище гражданских правовых наук, где преподавалось римское, саксонское, магдебургское и местное право (см. 140, 37). Известностью пользовались арианская школа в Ивье и кальвинистская школа в Слуцке. Среди белорусских братских школ выделялись своим довольно высоким образовательным уровнем школы в Вильно, Бресте, Могилеве (см. 94, 29). Огромную роль для Белоруссии, Украины и России сыграла основанная в 1632 г. Киево-Могилянская академия. Педагогическая система и программа образования протестантских и православных братских школ складывались под непосредственным влиянием гуманистических идей Возрождения (98, 26).
В связи с феодально-католической экспансией в течение второй половины XVI и в XVII в. на территории Белоруссии возникают многочисленные учебные заведения, основанные иезуитами. Важным фактором в истории культуры и образования Белоруссии, Литвы и Украины было основание в 1579 г. Виленского университета, или академии (см. 187). В университете учились в основном литовцы, белорусы, украинцы, поляки. В учебных заведениях Великого княжества Литовского, контролируемых иезуитами, в том числе и в Виленском университете, преподавалась схоластическая философия (см. 185).
Поскольку до основания Виленского университета и Киево-Могилянской академии в Великом княжестве Литовском не было высших учебных заведений, многие белорусы, украинцы, литовцы для получения высшего образования выезжали за границу (см. 116, 35—47). Это было обусловлено не только интеллектуальным энтузиазмом самой молодежи, но и потребностями общества, нуждавшегося в условиях развивающейся экономической и социально-политической жизни в образованных людях и квалифицированных специалистах — учителях, врачах, юристах, дипломатах, чиновниках, ученых и т. д. На протяжении XIV—XVII вв. молодежь из Великого княжества Литовского обучалась в Пражском, Краковском, Падуанском, Болонском, Виттенбергском, Лейпцигском, Кёнигсбергском, Базельском и других европейских университетах. Наибольшей популярностью у белорусской, украинской и литовской молодежи пользовались Краковский (основан в 1364 г.) и Падуанский (основан в 1222 г.) университеты — как раз те высшие учебные заведения, которые последовательно окончил в начале XVI в. Франциск Скорина.
Одним из показателей культурного уровня Великого княжества Литовского XVI — первой половины XVII в., и в частности Белоруссии, является развитие книгопечатания, распространение книг как отечественного, так и зарубежного производства, формирование библиотек.
Скорина — основоположник отечественного книгопечатания. В течение 1517—1519 гг. в Праге он издает на церковнославянском языке Псалтырь и на близком к народному еще 22 книги Ветхого завета. В начале 20-х годов XVI в. Скорина приезжает в Вильно и в доме богатого белорусского мещанина Якуба Бабича основывает первую в нашей стране типографию, где издает «Малую подорожную книжицу» и «Апостол». Мощный толчок дальнейшему развитию книгопечатания в Великом княжестве Литовском дали реформационно-гуманистическое и национально-освободительное движения. Печатный станок, книга выступают как действенные и эффективные средства идеологической борьбы. Расширение книгопечатания обусловливалось также возросшими культурными потребностями общества. На территории Белоруссии и Литвы в течение второй половины XVI — первой половины XVII в. типографии основываются в Бресте, Вильно, Заблудове, Лоске, Любче, Минске, Могилеве, Слуцке, Супрасле и других городах и местечках. Типографии принадлежали магнатам, шляхте, богатым горожанам разной религиозной и политической ориентации, протестантским общинам, православным братствам, католическим организациям. Чаще всего религиозно-политическая ориентация определяла направленность деятельности и характер книжной продукции типографий. Однако некоторые книгоиздатели обслуживали представителей различных религиозно-общественных направлений. Книги издавались в основном на церковнославянском, старобелорусском или староукраинском, польском, латинском и литовском языках. Для нужд книгопечатания расширялось отечественное производство бумаги. Большие партии бумаги привозили белорусские купцы из-за границы (см. 15, 306).
После скорининской типографии в Вильно наиболее ранняя отечественная типография — Брестская, основанная в 1553 г. В 1563 г. здесь были напечатаны на польском языке протестантская Библия с предисловием и комментариями рационалистически-гуманистического характера. В 1562 г. была открыта типография в Несвиже. При типографии была построена бумажная мастерская — «паперня». В том же году в Несвижской типографии было издано несколько книг на белорусском языке — «Катехизис», «Оправдание грешного человека перед богом» и др. В 1572 г. в той же типографии была напечатана на польском языке Библия. Характерно, что для нужд Несвижской типографии из Вильно в качестве образца был привезен шрифт Скорины (см. 170, 66). Преемственность традиций Скорины в книгоиздательском деле Белоруссии осознавалась современниками. В частности, несвижский «Катехизис» настолько напоминал скорининские издания, что в XVII в. некоторые библиотекари приписывали его «доктору Франциску» (см. 68, 28). Весьма значительную роль в развитии книгопечатания в Белоруссии и Литве сыграли русские первопечатники Иван Федоров и Петр Тимофеевич Мстиславец. Находясь под покровительством белорусского феодала Григория Александровича Ходкевича, русские первопечатники основали в его имении Заблудове типографию, где в 1569 г. было издано «Учительное Евангелие» (см. 102, 137—154). С именем Ивана Федорова связано возникновение в 1574 г. книгопечатания на Украине (см. 68, 54). В 1574 г. в доме богатых белорусских купцов Мамоничей (см. 165, 146) Мстиславцем была основана типография, просуществовавшая с небольшим перерывом до 1623 г. Мамоничи позаботились и о бумажном производстве, построив «паперный млын». Наивысший расцвет типографии приходится на 80—90-е годы XVI в., когда во главе ее стояли братья Кузьма и Лукаш. Мамоничи издавали книги на церковнославянском, старобелорусском, польском и латинском языках. Наиболее значительными изданиями Мамоничей являются «III Статут Великого княжества Литовского», «Грамматика» и «Диалектика» (см. 14, 54—79). В 1573 г. была основана типография в Лоске (около Молодечно), где были напечатаны основные сочинения С. Будного («О главнейших положениях христианской веры», «О светской власти» и др.); фундаментальный труд Анджея Фрыча Моджевского «Об исправлении Речи Посполитой». Типографию в Лоске возглавлял Ян Карцан из Велички (см. там же, 80), которому принадлежит выдающаяся роль в издании светских книг, сочинений античных писателей, популяризации философских знаний на территории Великого княжества Литовского. В Лоске в 1576 г. Карцаном было напечатано переведенное на польский язык и прокомментированное С. Кошутским сочинение Цицерона «Об обязанностях» (см. 165, 124). Около 1580 г. Карцан переезжает в Вильно, и здесь отпечатанная в Лоске книга Цицерона переиздается трижды — в 1583, 1593 и 1606 гг., что свидетельствует о возрастающем спросе на подобного рода литературу в образованных кругах белорусско-литовского общества. Причем к изданию 1606 г. наряду с сочинением «Об обязанности» приложены цицероновские философско-этические трактаты «О старости» и «О дружбе», переведенные на польский язык и подготовленные для печати Беняшем Будным. Карцаном издавались на польском языке сочинения Эразма Роттердамского, Юста Липсия и других гуманистов эпохи Возрождения, учебники математики, польского и греческого языков, медицинские книги, календари и т. д. (см. 14, 80—112). В 1606 г. из карцановской типографии вышел на польском языке выдающийся социально-философский трактат А. Волана «О свободе Речи Посполитой», впервые изданный в 1572 г. в Кракове на латыни. В начале XVII в. довольно крупным книгоиздательским центром являлась белорусская Любча, где в течение нескольких десятилетий было напечатано 47 книг (см. 165, 133—140). Около 1580 г. Василием Тяпинским в собственной типографии было напечатано на старобелорусском языке Евангелие с авторским вступлением в духе патриотических предисловий Скорины (см. 65, 87). В конце 80-х годов XVI в. были основаны типографии православного братства в Вильно и Евью (недалеко от Вильно), где издавались школьные учебники и антиуниатская полемическая литература. В 1596 г. в Виленской братской типографии были напечатаны «Наука ку читаню и розуменю писма словенского» с приложенным толковым словарем — «Лексисом», а также «Грамматика словенска» Лаврентия Зизания (см. 29, 129—193). В 1619 г. в Евью вышла в свет «Грамматики славенски правилное синтагма» Мелетия Смотрицкого (см. 122, 83—115). Выход в свет учебных пособий по грамматике Л. Зизания и М. Смотрицкого явился выдающимся по своей идейно-культурной значимости событием, сыгравшим огромную роль как в становлении восточнославянской филологической науки, так и в формировании национального самосознания белорусов и украинцев. Среди антиуниатских полемических сочинений Виленской братской типографии следует отметить «Казанье святого Кирилла» Стефана Зизания, «Апокрисис» Христофора Филалета, «Фринос» Мелетия Смотрицкого и др.
Энергичную издательскую деятельность на территории Великого княжества Литовского развернули иезуиты. Наиболее известной и продуктивной явилась типография Виленской академии, основанная в 1576 г. Миколаем Христофором Радзивиллом на базе оборудования Брестской типографии (см. 14, 142). В академической типографии, которая в основном служила интересам контрреформации, печатались сочинения видных иезуитских полемистов. Издавались также философские, исторические, поэтические, экономические, политические произведения, учебники и т. д.
Развитие книгопечатания на территории Великого княжества Литовского было свидетельством назревшей общественной потребности. Характер и содержание книжной продукции, полиграфический уровень и художественное оформление книг как Скорины, так и многих его последователей говорили о весьма заметных элементах Возрождения в культуре Белоруссии, Украины и Литвы XVI — начала XVII в.
Образованные круги феодального общества Великого княжества Литовского не удовлетворялись книгами отечественного производства. На протяжении XVI—XVII вв. в Белоруссию различными путями поступали книги из-за рубежа, в основном из стран Центральной и Западной Европы. Их привозили магнаты, шляхта, богатые купцы. Некоторые горожане, шляхтичи и особенно магнаты комплектовали частные библиотеки. Особенно следует отметить радзивилловскую библиотеку в Несвиже и знаменитую библиотеку Сигизмунда Августа в Вильно. Кроме частных на территории Белоруссии и Литвы существовали церковные, монастырские, школьные библиотеки. Старые описи некоторых из этих библиотек свидетельствуют об их книжном фонде. Среди книг значительное место занимали сочинения античных авторов — Аристотеля, Платона, Цицерона, Лукреция Кара, Сенеки, Гомера, Софокла, Вергилия, Горация, Овидия, Плавта, Корнелия Непота, Ювенала, Лукиана, Теренция, Геродота, Тита Ливия, Плутарха, Тацита, Саллюстия, Плиния Старшего, Плиния Младшего и др. Были представлены книги мыслителей эпохи Возрождения, реформационных деятелей — Эразма Роттердамского, Себастьяна Кастеллио, Целио Курионе, Анджея Фрыча Моджевского, Рейнхарда Лориха, Яна Амоса Коменского, Мишеля Монтеня, Гуго Гроция, Фрэнсиса Бэкона, Мартина Лютера, Жана Кальвина, Генриха Буллингера, Яна Ласского, Фауста Социна и др. (см. 107, 134). В Великом княжестве Литовском уже в XVI в. знали сочинения Томаса Мора и Жана Бодена. Так, А. Волан называл Мора «ученейшим мужем и величайшим украшением всей Англии»; он же ссылался на работу Бодена «Шесть книг о республике» всего через два года после ее выхода в свет (см. 166, 136—137).
Значительное влияние на формирование духовной жизни Великого княжества Литовского, и в частности Белоруссии эпохи Возрождения, оказывала античная культура (см. 111, 14—28. 110, 3—15). Это выражалось в довольно широком распространении книг античных авторов; в переводах с комментариями оригинальных произведений, в частности Цицерона; в изучении латинского и греческого языков, античной философии, истории, литературы в школах; в стремлении мыслителей и общественных деятелей Великого княжества Литовского включить античную философскую культуру в контекст отечественной социально-политической и философско-этической мысли, адаптировать социально-философские идеи античности применительно к актуальным общественно-государственным и религиозно-идеологическим потребностям, использовать их в мировоззренческой борьбе, социально-нравственной преобразовательной деятельности и т. д. Как правильно отмечают И. П. Головаха и В. С. Горский, преемственность в истории философии не является простым воспроизведением предшествующих учений. Возможность заимствования и усвоения идей прошлого обусловлена наличием соответствующих предпосылок в современной действительности. Но поскольку эпохи неидентичны, то и воспринятые философские идеи неизбежно подвергаются трансформации в соответствии с характером новых социальных, политических и идеологических задач. Поэтому философское заимствование всегда представляет собой в известной мере акт самостоятельного творчества (см. 44, 22—23). В XVI — начале XVII в. наиболее читаемыми из философов в Великом княжестве Литовском были Аристотель, Платон и Цицерон.
Влияние идейного наследия античности, его воздействие на гуманизацию философской и общественной мысли Великого княжества Литовского выражалось в возрастающем внимании к проблеме человека, в стремлении к освобождению его духовно-нравственного мира от опеки официальной церкви и т. д. В то же время оппозиционное отношение большинства отечественных мыслителей-гуманистов к официальной церкви и ее учению не означало отрицания ими христианства. Для мыслителей-гуманистов Великого княжества Литовского характерна попытка синтеза идейно-культурных ценностей христианства, античности и Ренессанса, стремление к обновлению христианской доктрины, ассимилированию ее с античными и ренессансно-гуманистическими концепциями. Первым попытку синтезировать «Соломонову и Аристотелеву, божественную и житейскую мудрость» (3, 24) предпринял Скорина. Обращение отечественных мыслителей к духовному наследию античности весьма убедительно свидетельствует о проявлении ренессансно-гуманистических начал в культурной жизни, философской и общественной мысли рассматриваемого периода, об известном подъеме философской культуры общества, связанном с эпохой Возрождения.
При характеристике эпохи, в которую жил Скорина, нельзя обойти и такой весьма важный фактор культуры Великого княжества Литовского, как меценатство. Как известно, меценатство сыграло определенную положительную роль в развитии европейской культуры эпохи Возрождения. Оно по сути дела являлось попыткой образованных представителей господствующего класса реализовать платоновскую идею просвещенного правителя. Многие белорусские, украинские и литовские феодалы и богатые горожане финансировали организацию школ, типографий, приобретали древние рукописи и книги, создавали библиотеки; могущественные магнаты собирали при своих дворах поэтов, переводчиков, художников, оказывали всевозможную поддержку их деятельности и т. д. Так, книгоиздательский почин Скорины субсидировали богатые виленские горожане-белорусы Богдан Оньков и Якуб Бабич. Братские школы и типографии функционировали благодаря поддержке богатых ремесленников и купцов. Издание Брестской Библии 1563 г., подготовленное коллективом переводчиков и ученых-гуманистов, финансировал канцлер Великого княжества Литовского Миколай Радзивилл Черный, он же санкционировал основание Несвижской типографии и содействовал изданию белорусского «Катехизиса». Книгоиздание в Несвиже осуществлялось также благодаря финансовой поддержке Остафия Воловича. Своего рода культурным центром был двор князей Слуцких. Здесь была составлена одна из ранних белорусских летописей, существовала иконописная мастерская, в которой было создано несколько светских портретов в духе Ренессанса (см. 78, 78). Покровителем гуманистов и книгоиздателей в Лоске являлся магнат Ян Кишка. В конце XVI—первой половине XVII в. при дворах отпрысков бижанской линии Радзивиллов жили многие гуманисты — поэты, переводчики, философы: Андрей Рымша, Ян Радван, Ян Козакович, Соломон Рысинский, Беняш Будный, Даниил Наборовский, Збигнев Морштын, Самуэль Пшипковский и другие. Меценатство сыграло определенную положительную роль в начальный период контрреформации, частично ограждая прогрессивных культурных деятелей Великого княжества Литовского от фанатизма иезуитов.
Приведем весьма характерный пример плодотворного культурного сотрудничества гуманистов и меценатов. В 1577 г. в белорусском городе Лоске впервые было переведено на польский язык сочинение Анджея Фрыча Моджевского «Об исправлении Речи Посполитой». Переводчиком являлся поэт, музыкант, историк Киприан Базилик. Инициаторами перевода выступили А. Волан, написавший латинское «Предисловие к Фрычу», и С. Будный, поместивший в книге Моджевского обширное «Предисловие к читателям». Несколько стихотворных эпиграмм написал к сочинению М. Стрыйковский. Все они являлись виднейшими гуманистами, писателями и общественными деятелями Великого княжества Литовского. Перевод и издание сочинения Моджевского финансировал полоцкий воевода Миколай Олехнович Монвид Дорогостайский. Книга была напечатана в Лоской типографии, принадлежавшей белорусскому магнату Яну Кишке, книгопечатником-гуманистом Яном Карцаном из Велички. Причем инициаторы издания сочинения Моджевского рассматривали свою деятельность не как простую дань интеллектуально-гуманистической увлеченности, а как служение насущным общественным интересам, общему благу (см. 168, 213).
Следует отметить, что институт магнатского меценатства носил феодально-классовый характер. В то же время, по-видимому, недостаточно ограничиться только классовой оценкой меценатства. Последнее как социально-культурное явление конкретной эпохи несколько глубже по своей сущности и шире по значению. Чтобы меценатство утвердилось в качестве активно функционирующего института, в определенных кругах господствующего класса должен был быть достигнут довольно высокий уровень общественного и индивидуального сознания, должно было выработаться понимание значения духовных ценностей, роли образования, книгопечатания, литературы, науки, искусства и культуры в целом в жизни общества и народа.
Гуманисты Великого княжества Литовского всячески стремились поддержать меценатский энтузиазм феодалов, развить в них чувство уважения к культурным ценностям, знанию, поэзии, философии, всячески поощряли и побуждали их протекционистскую деятельность. С этой целью они посвящали им свои творения, в предисловиях апеллировали к их разуму, учености, нравственным и гражданским добродетелям, патриотизму, любви к античности и т. д. В соответствии с феодальным этикетом гуманисты нередко прибегали к галантной лести, однако они умели сохранять чувство собственного достоинства. Посвящения, стихотворные эпиграммы в честь меценатов, непременно предварявшие сочинения гуманистов, не являлись простыми панегириками, а содержали и определенную гуманистическую программу требований, начертанную для феодала-мецената. О том, как некоторые гуманисты Великого княжества Литовского понимали сущность меценатства, свидетельствует посвящение Беняша Будного новогрудскому воеводе Федору Скумину, помещенное в изданной в 1595 г. в Вильно книге Цицерона «О старости». «Среди людей, занимающихся науками,— писал Б. Будный, обращаясь к своему меценату,— существует древний обычай посвящать выходящие в свет книги своим благодетелям (выражая таким образом нм свою благодарность), и особенно тем из них, о которых ходит слава, что у них в большом уважении находятся музы; или же другим знатным людям, уважающим науки... Так, знаменитый философ Аристотель посвятил некоторые написанные им сочинения своему государю; Вергилий посвятил свои „Георгики“ знатному вельможе Меценату; Цицерон посвящал свои произведения знатным людям. Я также решил последовать их примеру... Я надеюсь, что благодаря посвящению к этим книгам проявят интерес и те, кто не умеет по-латински читать. Необходимо, чтобы эти люди видели, что занятие науками и чтение занимают в Вашей деятельности не последнее место, ибо, как известно, обычно людям нравится заниматься тем, что в почете у знатных особ и панов» (177, 1—2). В предисловии к трактату Цицерона «О дружбе», посвященном белорусскому феодалу-меценату Адаму Хрептовичу, Б. Будный обосновывает мысль о том, что не столько «служители муз» зависят от меценатов, сколько сами меценаты обязаны «служителям муз», ибо последние «своей ученостью являются для них украшением, награждают их неподвластными тлену дарами и бессмертной славой» (см. 176). Не эти ли мысли внушал Уильям Шекспир своему покровителю графу Саутгэмптону?
С эпохой Скорины связано становление и развитие белорусского языка, национальной письменности, в частности литературы. Как правильно отмечает В. М. Конон, Скориной была вполне осознана важность родного языка не только как носителя культуры, но и как фактора, стабилизирующего целостность народа (см. 82, 13). В течение XIV—XV вв. белорусский язык обособляется в качестве самостоятельного и становится государственным языком Великого княжества Литовского. Вплоть до конца XVII в. (т. е. до того времени, когда в 1696 г. директивой всеобщей конфедерации сословий Речи Посполитой белорусский язык был исключен из официального употребления и было принято постановление, что «все решения должны составляться на польском языке») (23, 362) белорусский язык являлся официальным языком государственных учреждений, судебных органов, городских магистратов Великого княжества Литовского. На белорусском языке в основном велась вся письменная документация, составлялись великокняжеские грамоты, привилеи, законодательные акты, предписания и т. д. В частности, это получило отражение в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г., где записано: «Писар земский мает по руску, литерами и словы рускими, вси листы, выписы и позвы писати, а не иншым езыком и словы» (86, 165). Не только для белорусских, но и для многих литовских феодалов белорусский язык, по крайней мере в XV—XVII вв., являлся языком общения, официальной и частной переписки и т. д. Выдающимися памятниками белорусского делового языка, общественно-политической и правовой мысли рассматриваемой эпохи являются Статуты Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588), «Литовская метрика» (архив канцелярии Великого княжества Литовского) и др. (см. 120, 647—656).
Возникновение Статутов было связано с характерным для эпохи Возрождения стремлением к укреплению государственно-правового суверенитета страны посредством кодификации и унификации права. Статуты создавались на основе обычного права белорусских и литовских земель, великокняжеских привилеев, статей Русской Правды, рецепции некоторых норм римского права, приспособленных к конкретным социально-политическим условиям Великого княжества Литовского (см. 17, 71—93. 154, 57—70). Философско-идеологические веяния эпохи Возрождения наиболее ярко выражены в III Статуте (1588 г.). Как утверждает Ю. Бардах, он создавался под определенным влиянием шляхетского мнения, «руководимого в то время главным образом кальвинистами, а также арианами» (17, 82). Редакторами III Статута были гуманистически образованные магнаты-кальвинисты Остафий Волович, Лев Сапега и др. В предисловиях к III Статуту Сапега обосновывал мысль о том, что благополучие и свобода граждан могут быть гарантированы лишь в правовом государстве, что закон должен главенствовать не только над подданными, но и над правителями. «А про то,— пишет Сапега,— он, великий и зацнын филозоф греческий Арыстотелес, поведил, же там бельлуа, а по нашому дикое звера, пануеть, где человек водлуг уподобанья своего владность свою ростегаеть, а где опять право, або статут, гору маеть, там сам бог всим владнеть. А тая того есть причина, же право есть, яко его другий зацный мудрец выславил, оным правдивым розсудком а мудрым умыслу чоловечого баченьем, которым пан бог натуру чоловечую обдарыти рачыл, абы водлуг того пристойного а мудрого баченья жывот чоловечий так справовал, яко бы се за тым, што есть почстивого, завжды удавал, а што непочстивого, абы се того выстерегал» (86, 9—10). И дальше: «Бо для того права суть постановлены, абы можному и потужному не все было вольно чынити, яко Цыцеро поведил, иж естесмо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли... бо тот цель и скуток усих прав есть и маеть быти на свете, абы кождый добрую славу свою, здововье и маетность в целости мел, а на том всем жадного ущирбку не терпел... бо не только сусед а сполный наш обыватель в отчизне, але и сам господар, пан наш, жадное звирхности над нами заживати не можеть, одно толко, колко ему право допущаеть» (там же, 15—16). Столь пространное цитирование обусловлено следующим обстоятельством: в предисловиях Сапеги, да и в самом III Статуте Великого княжества Литовского получили отражение политико-правовые идеи, выдвигавшиеся отечественными мыслителями, в частности Скориной и особенно Андреем Воланом, а также польским мыслителем Анджеем Фрычем Моджевским. Результатом влияния идей Возрождения следует считать также статьи III Статута, санкционирующие в Великом княжестве Литовском религиозную терпимость.
На базе белорусского языка развивается летописание, литература (см. 39, 69, 20, 533—552). В то же время литература народов Великого княжества Литовского XVI—XVII вв. развивалась не только на родном, но и на латинском и польском языках.
В культуре Белоруссии эпохи Возрождения, как и в культуре Украины и Литвы этого периода, следует отметить две особенности: полилингвизм и национальную неоднозначность. Первая особенность заключается в том, что культура народов Великого княжества Литовского в рассматриваемую эпоху развивалась не только на родном языке, но и (в силу ряда исторических обстоятельств) на других языках. Культура Белоруссии, например, развивается и функционирует в этот период не только на старобелорусском и церковнославянском, но и на латинском и польском языках. В настоящее время преодолена ошибочная точка зрения, в соответствии с которой из сферы отечественной — белорусской, украинской, литовской — культуры исключалась латинская письменность, что, несомненно, обедняло и односторонне представляло духовное развитие белорусского, украинского и литовского народов в рассматриваемый исторический отрезок времени. Современными исследователями широко вводится в научный оборот отечественная литература на латинском языке как неотъемлемая составная часть литературно-философского процесса и культуры народов Белоруссии, Украины и Литвы в целом по крайней мере на протяжении XIV—XVIII вв. Точно таким же, на наш взгляд, должно быть отношение к отечественным культурным ценностям, созданным на польском языке. Литературное наследие на польском языке в области философской, социально-политической и правовой мысли, этики, эстетики, теологии, прозы, поэзии и т. д., созданное культурными деятелями Белоруссии, Украины и Литвы начиная с эпохи Возрождения и до XIX в. включительно, составляет органическую часть отечественной культуры и в качестве таковой должно являться объектом научного исследования.
Почему же белорусский язык, являвшийся государственным языком, достигнув значительного развития в эпоху Возрождения, уже со второй половины XVI в. постепенно сдавал свои позиции, вытеснялся польским и латинским языками в государственных учреждениях, общественной и частной жизни феодалов, художественной литературе, философской и общественно-политической мысли? В силу каких обстоятельств официальная культура Белоруссии в определенный период истории вынуждена была развиваться по преимуществу в неадекватной языковой форме?
Симон Будный, а еще в большей степени Василий Тяпинский, фиксируя начавшееся во второй половине XVI в. падение культурной роли белорусского языка, или, как выражался последний, «езыка своего славного занедбанне», ставили это в вину светским и духовным феодалам, которые пренебрегали родным языком, плохо заботились о распространении образования, просвещения и т. д. Следует отдать должное проницательности гуманистов, отметивших одну из весьма существенных причин процесса денационализации белорусской культуры. Как известно, во имя сохранения своей власти господствующие классы жертвовали всем: религией, свободой, родиной. Боязнь антифеодальных выступлений крестьян и горожан, ухудшающиеся взаимоотношения с Русским государством — все это толкало господствующий класс Белоруссии не только на социально-политическое, но и на религиозное, культурное сближение с польскими феодалами, заставляло их отказываться от традиционной религии, родного языка и т. д. Предавая национально-освободительное движение, белорусские феодалы развязывали руки воинствующему католицизму и контрреформации. Вдохновляемая Ватиканом феодально-католическая реакция сыграла решающую роль в подавлении национальной белорусской культуры.
Однако необходимо остановиться на одном из моментов рассматриваемого явления, недостаточно осмысленном и освещенном в существующих исследованиях, а именно на той роли, которую сыграла официальная православная церковь, и в первую очередь консервативная часть православного духовенства, в процессе денационализации культуры Белоруссии второй половины XVI—XVII в. В рассматриваемую эпоху официальная православная церковь помимо охранительно-социальной и охранительно-идеологической выполняла еще и охранительно-культурную функцию. Если первые две функции следует рассматривать как безоговорочно реакционные, то охранительная национально-культурная функция церкви содержала определенные позитивные моменты. Однако в конкретно-исторических условиях того времени совершилась следующая метаморфоза: стремясь в какой-то мере сохранить национальную культуру, официальная православная церковь в конечном счете способствовала ее упадку. Дело в том, что высшие церковные иерархи, поддерживаемые консервативной частью православного духовенства, заняли категорически-непримиримую позицию по отношению к западной науке, философии, культуре, обосновывая эту позицию необходимостью борьбы с католицизмом, протестантизмом, ересями, пробуждая и утверждая в обществе неприязнь, а порой и открытую ненависть ко всему «латинскому». Подобного рода позицию занимали и некоторые представители демократических слоев православия. Так, Иван Вишенский обличал тех, кто «многими языки и поганскими даскалы, Платоном, Аристотелем и прочими прелести их последующими да ся хвалит и возносит». Обращаясь к православным украинцам и белорусам, он писал: «Ты же простый, неученый и смиренный Русине, простого и нехитрого евангелия ся крепко держи, в нем же живот вечный тебе сокровенно есть» (7, 257).
Русский вольнодумец Артемий считал, что образование на латинском языке, светские знания способствуют отпадению людей от «истинной веры», т. е. православия. «Может бо истинное слово просветити и умудрити в благое правым сердцем без грамотика и риторика»,— писал он (126, 1326). Одной из причин неприятия консервативными православными кругами Библии Скорины была содержащаяся в скорининских предисловиях идея о необходимости приобщения к светским знаниям, сближения с западной культурой. Попытка православных теологов защититься от наступающего воинствующего католицизма по сути дела обернулась отвержением европейской светской культуры, ренессансно-гуманистической образованности.
Культивируемая консервативными кругами православного духовенства политика откровенного изоляционизма привела к тому, что национальная письменность все более замыкалась в узкие рамки религиозной догматики и православной схоластики. В этих условиях многие представители господствующего класса Белоруссии утрачивают интерес к литературе на родном языке, обращаются к латинскому и польскому языкам как средству, дающему возможность приобщаться к светским знаниям, науке, художественной прозе и поэзии, философской и социально-политической мысли, к античной и ренессансно-гуманистической культуре.
Между тем в самой православной среде особенно во второй половине XVI в. растет оппозиция господствующему курсу, которая все настойчивее и решительнее стремится прорвать блокаду, установленную официальной церковью, консервативным духовенством в области культурной политики. Эта тенденция усиливается с возникновением братских школ. Серьезным прорывом культурной блокады явилась организация в 1632 г. Киево-Могилянской академии, где преподавались словенский, греческий, латинский, польский и другие европейские языки; философия, риторика, поэтика, геометрия, астрономия, музыка и т. д. Киево-Могилянская академия сыграла большую роль в развитии отечественной культуры, философской и общественно-политической мысли XVI— XVIII вв. Эта ее роль стала особенно очевидной в связи с исследованиями украинских ученых в последнее десятилетие (см. 103, 79, 104, 137, 149). На протяжении XVI—XVII вв. многие православные культурные деятели вели энергичную борьбу за лояльное отношение к западной культуре, за право изучать светские науки, философию, иностранные языки, в том числе и латынь (Л. Зизаний, Е. Плетенецкий, П. Могила, Е. Славенецкий, С. Полоцкий и другие). Известно, что в России в рассматриваемый период также совершалась борьба между «западниками» и ревнителями «старого благочестия». Понадобилось несколько столетий, чтобы сломить сопротивление консервативных кругов православной церкви и связанных с ними социальных сил и открыть широкий доступ русскому обществу к европейской образованности. И хотя уже в царствование Алексея Михайловича произошли существенные сдвиги в этом направлении, а после его смерти в 1687 г. в Москве была учреждена Славяно-греко-латинская академия, только Петр I сделал приобщение к передовой западной культуре одним из основных моментов государственной политики, существенно ограничив компетенцию церкви в сфере социально-политической и культурной жизни страны.
Обращаясь к западной культуре, прогрессивно настроенные белорусские и украинские общественные деятели и мыслители XVI—XVII вв. (Ф. Скорина, В. Тяпинский, Л. Зизаний, С. Полоцкий, постоянно ощущали свое генетическое родство с древнерусской культурой, они неоднократно подчеркивали необходимость тесного сотрудничества и дружбы с русским народом, взаимодействия с культурой России. Для прогрессивных мыслителей-гуманистов Великого княжества Литовского польского происхождения (С. Будный, М. Чеховиц, А. Волан) была также характерна идея славянской солидарности, необходимости дружественных отношений с русским народом, мира и сотрудничества с Русским государством.
Что касается такой особенности культуры Великого княжества Литовского XVI—XVII вв., как национальная неоднозначность, то сущность ее состоит в том, что многие феномены культурной жизни данного региона следует рассматривать как достояние нескольких народов — белорусского, украинского, литовского, польского. Рассмотрим эту особенность на примере персоналий. Разумеется, весьма важным свидетельством отнесенности того или иного исторического деятеля и мыслителя к культуре того или иного народа является его национальное самоопределение. Однако, во-первых, для многих культурных деятелей и мыслителей рассматриваемой эпохи более характерно самоопределение конфессиональное, в связи с чем при отсутствии надежных документальных свидетельств весьма сложно установить национальную принадлежность. Например, католик или протестант мог быть и белорусом, и украинцем, и литовцем, и поляком. Во-вторых, и это, на наш взгляд, главное, даже при наличии национального самоопределения значение того или иного мыслителя и общественного деятеля не ограничивается тем, что он сам о себе думает или к культуре какого народа он сам себя относит, а заключается прежде всего в том, какую объективную роль играет его творческая деятельность, каким образом она опредмечивается, какое влияние оказывает на окружающий его культурный ареал и как этот ареал в свою очередь воздействует на характер его творчества. Так, например, С. Будный считал себя поляком, но он сыграл большую роль в развитии культуры, общественно-политической и философской мысли Белоруссии и Литвы. Поэтому творчество С. Будного следует рассматривать в качестве общего достояния белорусской, литовской и польской культуры, так же как, например, творчество Л. Зизания — украинской и белорусской, С. Полоцкого — белорусской и русской и т. п.
Не всегда надежным является размежевание культуры по территориально-географическому и этнографическому принципам, которые в ряде случаев в условиях Великого княжества Литовского выступали лишь в качестве формальных. Например, нахождение столицы Великого княжества Литовского — Вильно, а также Виленского университета на территории Литвы не исключает того, что эти центры в рассматриваемую эпоху являлись крупнейшими очагами не только литовской, но и белорусской и польской культуры.
Искусственное устранение из сферы культуры господствующего класса белорусского языка оказало крайне отрицательное влияние на последующую духовную жизнь Белоруссии. Оно существенно замедлило развитие национального самосознания. Впрочем, многие белорусские шляхтичи, становясь католиками, не отказывались от своего родного языка, пользовались им в повседневном быту, семейном общении. Однако подлинными хранителями национальной белорусской культуры являлись народные массы, которые в условиях многовековой социальной эксплуатации и национального угнетения сумели сберечь родной язык, создать на его основе свою собственную духовную культуру, величайшим проявлением которой является белорусский фольклор. В значительной степени на базе народной культуры в XIX столетии начался процесс национально-культурного возрождения, тесно связанный с борьбой народных масс Белоруссии в союзе с трудящимися России за свое социальное и национальное освобождение.
Скорина, стоявший у истоков национальной белорусской культуры, является ее символом. В философской и общественно-политической мысли Белоруссии он, пожалуй, первым пришел к выводу, что пробуждение национального самосознания тесно связано со становлением и развитием самосознания общечеловеческого, что человек по-настоящему может осознать себя в качестве представителя своего народа, когда он осознает себя и в качестве представителя человечества.
Глава II. «Франциск Скорина из славного града Полоцка» (жизнь и творчество)
ранциск Скорина родился около 1490 г. в Полоцке в семье белорусского купца. Его отец, Лука Скорина, торговал кожами и мехами. Полоцк времен Скорины был крупным торгово-ремесленным центром Великого княжества Литовского, насчитывавшим около 13 тысяч жителей (см. 73, 85—99). Первоначальное образование Скорина получил, по-видимому, в местной церковной школе. Мысль о дальнейшем учебе побудила его к овладению латынью. Л. И. Владимиров полагает, что латинский язык Скорина мог изучить при католическом костеле св. Франциска и св. Бернарда, который был открыт в Полоцке в 1498 г. (см. 33, 8). Возможно также, что латыни его научил какой-нибудь полоцкий бакалавр. В 1504 г. Скорина приехал в Краков и поступил в университет на факультет «свободных искусств».
Краковский университет, созданный по образцу Парижского, имел четыре факультета: «свободных искусств», теологии, права и медицины. Как отмечает Ян Черкавский, факультет «свободных искусств» по праву назывался «школой Аристотеля» (см. 163, 46). Обучение здесь было двухступенчатым, или двухгодичным. Первый год изучались физические («Физика»), биологические («О душе») и логические («Первая аналитика») сочинения Стагирита. Успешное окончание первого года обучения давало право студенту претендовать на ученую степень бакалавра «свободных искусств». На втором году изучались «Метафизика» Аристотеля, а также его этические («Никомахова этика») и социально-политические трактаты («Политика» и др.), после чего при благоприятных обстоятельствах присваивалась ученая степень магистра (см. 183, 16). Произведения Аристотеля изучались на основе существующих комментариев философов-схоластов той или иной ориентации. До середины XV в. в Краковском университете преобладал номинализм. Аристотель изучался главным образом по «вопросам» Жана Буридана. Затем возрастает влияние томизма, альбертизма, скоттизма, аверроизма (см. там же, 18—23). Во второй половине XV в. появляются учебные пособия по философии, составленные краковскими профессорами: комментарий к этике Аристотеля — Павла из Ворчина (ок. 1380 — ок. 1430), трактаты по астрономии, физиологии, географии, логике — Яна из Глогова (ок. 1445—1507), комментарии к произведениям Аристотеля, Дунса Скотта и Цицерона — Яна из Стобниц (ок. 1470—1519) и др. Причем Ян из Глогова и Ян из Стобниц преподавали на факультете «свободных искусств» в то время, когда там учился Скорина. Есть косвенные основания полагать, что на взгляды Скорины оказали влияние идеи комментариев Павла из Ворчина к этическому учению Аристотеля, в частности мысли краковского профессора о примате общественно-государственных интересов над индивидуальными, о счастье как активной мирской деятельности в интересах общего блага (см. там же, 43). Произведение Павла из Ворчина с 1430 г. вплоть до начала XVI в. являлось официальным учебным пособием на факультете «свободных искусств».
С именами названных краковских профессоров связаны попытки синтеза аристотелизма с новейшими идейными течениями, в частности с гуманизмом. Уже в период ученичества Скорины на факультете «свободных искусств» Краковского университета среди преподавателей и студентов наблюдается повышенный интерес к античным авторам (Платону, Цицерону), к «Studia humanitatis» (грамматике, риторике, поэзии), стремление к интерпретации Аристотеля на основе «самого Аристотеля». Иными словами говоря, в польскую средневеково-схоластическую философскую культуру на рубеже XV—XVI вв. активно вторгался гуманизм. Под влиянием концепции ренессансного гуманизма постепенно утверждается новый взгляд на философию, которая начинает рассматриваться не столько как теоретическое знание, сколько как практическая мудрость, дающая ответы на стоящие перед человеком жизненные вопросы. В утверждении этой идеи большую роль сыграл современник Скорины Эразм Роттердамский (см. 164, 174), эта же идея являлась основным импульсом деятельности самого белорусского мыслителя.
В 1506 г., т. е. два года спустя после поступления, Скорина оканчивает Краковский университет[4]. С 1507 по 1511 г. о Скорине нет никаких определенных сведений. По-видимому, он путешествовал по странам Европы, пополнял и расширял свои знания в области философии и медицины. В 1512 г. он явился в Падую уже со степенью доктора философии, а также с намерением получить ученую степень доктора медицины[5]. Падуанский университет в конце XV в. был европейским центром аверроизма. Здесь шли ожесточенные дискуссии между ортодоксально-католическими истолкователями философии Аристотеля и его интерпретаторами в духе аверроизма. Обсуждались проблемы единства интеллекта, вечности мира, бессмертия души, двойственной истины и т. д. Современник Данте, профессор медицины и философии Падуанского университета Пьетро д Абано в своем трактате «Примиритель разногласий философов и врачей» отрицал творение мира «из ничего». В конце XV в. Николетто Верниа обосновывал мысль о вечности мира и, ссылаясь на Аристотеля, утверждал, что из ничего ничто не возникает (см. 47, 127—130). Характерно, что отголоски дискуссии по этим вопросам обнаруживаются в предисловиях Скорины (см. 3, 71—72).
5 ноября 1512 г. в Падуе в церкви св. Урбана состоялось заседание «Коллегии славнейших падуанских докторов искусств и медицины» под председательством вице-приора, доктора искусств и медицины Таддео Мусати. До сведения собравшихся ученых доводилось, что «прибыл некий весьма ученый, бедный молодой человек, доктор искусств, родом из очень отдаленных стран... для того, чтобы увеличить славу и блеск Падуи...». Далее говорилось, что этот юноша «обратился к Коллегии с просьбой разрешить ему в качестве дара и особой милости подвергнуться испытаниям в области медицины». В заключение было объявлено, что «молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, белорус[6]» (152, 158). После того как в зал был приглашен Скорина, который сам повторил просьбу «допустить его к испытаниям по медицине», председатель предложил: «Кто не возражает против того, чтобы упомянутый господин Франциск получил звание в области медицины со всеми вытекающими отсюда преимуществами, пусть положит свои шары в красную вазу в знак утвердительного мнения, кто так не считает, пусть положит шар в зеленую вазу в знак отрицания». После голосования оказалось, что Скорина был допущен к испытаниям единогласно. Испытания (своего рода «предварительная защита») состоялись на следующий день, 6 ноября 1512 г., в той же церкви. В документе говорится: «Господин магистр Франциск, сын покойного господина Луки Скорины из Полоцка, белорус, на предложенные ему утром этого дня вопросы по медицине блестяще ответил по памяти и отверг предъявленные ему возражения; отлично аргументируя, он проявил себя наилучшим образом. В связи с этим всеми учеными, там присутствующими, с общего согласия он был оценен как подготовленный и достойный быть допущенным к особому экзамену по медицине». 9 ноября 1512 г. в епископском дворце в присутствии виднейших ученых Падуанского университета и высоких должностных лиц католической церкви «выдающийся доктор искусств господин Франциск, сын покойного господина Луки Скорины из Полоцка, белорус, подвергся экзамену в особом и строгом порядке по вопросам, предложенным ему утром этого дня. Он проявил себя столь похвально и превосходно во время этого строгого испытания, излагая ответы на заданные ему вопросы и опровергая выдвинутые против него доказательства, что получил единодушное одобрение всех присутствующих ученых без исключения и был признан обладающим достаточными знаниями в области медицины». После успешно сданного «особого экзамена» Скорина был провозглашен «в установленном порядке доктором в области медицинских наук» и ему были вручены соответствующие знаки достоинства (см. 152, 158—159).
По-видимому, еще в годы учебы у Скорины созрел замысел «послужить посполитому люду» изданием книг на родном языке. Из Падуи Скорина, вероятнее всего, без какой-либо задержки вернулся на родину и попытался заинтересовать своими планами богатых белорусских горожан Вильно, и в частности Богдана Онькова. Получив финансовую поддержку со стороны последнего, Скорина приезжает в чешскую Прагу. Можно предположить, что в течение нескольких лет он здесь занимался гуманистическими «штудиями» над текстом Священного писания, организацией типографии, подготовкой к изданию Библии. Чем обусловлен выбор Праги в качестве колыбели восточнославянского книгопечатания? Исследователи (см. 32, 57—63. 139, 208. 9, 47. 97, 188), пытаясь ответить на данный вопрос, отмечают ряд обстоятельств. Прежде всего Прага являлась одним из центров развитого книгопечатания. Большое влияние на выбор Скорины оказала родственная национально-культурная среда. Далее, Прага являлась хранительницей традиций чешского национально-освободительного движения XV в., в свое время встретившего горячий отклик в общественных кругах Великого княжества Литовского (см. 109, 69—83). Образцом при работе над текстом «Библии Русской» Скорине служила «Чешская Библия», изданная в 1506 г. в Венеции (см. 32, 171). В то же время, как полагают исследователи, Скорина тщательно изучал и использовал библейские книги на церковнославянском (см. 24, 61—70), древнееврейском, латинском и греческом языках.
6 августа 1517 г. в свет выходит первенец Скорины — Псалтырь. В течение 1517—1519 гг. восточнославянский первопечатник издает еще 22 книги Ветхого завета. Книги публиковались в следующей очередности: Псалтырь, книга Иова, Притчи Соломоновы, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова — 1517 г.; книга Екклезиаста, или Проповедника, Песнь Песней Соломона, книга Премудрости Соломона, четыре книги Царств, книга Иисуса Навина — 1518 г.; книга Иудифи, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, книга Руфи, книга пророка Даниила, книга Есфири, Плач Иеремии, книга Судей израилевых — 1519 г.[7] Изданные книги были объединены общим заглавием: «Бивлия Руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцка, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению».
Сказать, что Скориной была издана Библия и тем самым было положено начало отечественному книгопечатанию,— это сказать далеко не все. К издаваемым библейским книгам Ветхого завета Скориной было написано 25 предисловий и 24 послесловия, книги были богато иллюстрированы высокохудожественными гравюрами (по подсчетам Н. Н. Щекотихина, их 39), орнаментированы большим числом заставок, концовок, заглавных букв, титульных листов, что сделало их уникальнейшими памятниками отечественного искусства. И наконец, в «Бивлии Русской» был также помещен великолепный гравированный портрет самого Скорины. Все это свидетельства нетрадиционного, свободного, ренессансно-гуманистического отношения белорусского первопечатника и мыслителя к Священному писанию.
Около 1520 г. Скорина покидает Прагу и возвращается на родину. Он обосновывается в Вильно и в доме «найстаршего бурмистра» Якуба Бабича устраивает типографию, где им были «вытиснены» «Малая подорожная книжица» (1522) и «Апостол» (1525). Это первые напечатанные на территории нашей страны книги. «Малая подорожная книжица» являлась популярным религиозным сочинением и предназначалась для мирян — ремесленников, купцов, и т. д. Она была небольшой по размеру и удобной для повседневного пользования. В состав «Малой подорожной книжицы» входили «Псалтырь», «Часословец», «Акафисты», «Каноны», «Шестидневец», «Святцы» и «Пасхалия». Однако «Малая подорожная книжица» — это не только «карманный молитвенник». В ней содержались также определенные научные и практические сведения. Примечательны в этом отношении две последние части «Малой подорожной книжицы», в которых Скорина выступает как ученый-астроном. Так, в «Святцах» Скорина вносит некоторые поправки в устаревший юлианский календарь. По мнению Г. Я. Голенченко, эти поправки «отвечали уровню астрономической науки первой половины XVI в.» (34, 33). Своего рода сенсацией явилась находка в 1957 г. экземпляра «Малой подорожной книжицы» с хорошо сохранившейся «Пасхалией» (см. 84, 44—45), которая дала возможность более всесторонне и глубоко оценить астрономические воззрения белорусского гуманиста. В «Пасхалии» Скориной дана первая в восточнославянской астрономической науке сводка лунных и солнечных затмений. Причем скорининские прогнозы затмений в целом отличаются большой степенью точности в свете данных современной астрономической науки (см. 34, 34). Изданная Скориной в 1525 г. «Книга деяния и послания апостольская, зовемая Апостол», или, как ее принято сокращенно называть, «Апостол», содержала, как видно уже из ее заглавия, часть Нового завета. Но к «Апостолу» Скориной написано 22 предисловия и 17 послесловий. Виленские издания Скорины также хорошо иллюстрированы, снабжены гравюрами, виньетками, заставками, инициалами.
В Праге Скорина, по всей вероятности, выступил в качестве переводчика и организатора книгопечатания. Непосредственно печатанием книг занимались местные мастера. Так, в послесловии к книге Есфири читаем: «Выложена працею и вытиснена повелением ученого мужа Франциска Скорины из славного града Полоцка, в науках и в лекарстве учителя» (3, 109). В Вильно же Скорине, по-видимому, пришлось совмещать роли организатора издательского дела и печатника. В частности, в послесловии к «Апостолу» он пишет: «Выложена и вытиснена працею и великою пильностью доктора Франциска Скорины с Полоцка» (там же, 152).
«Апостол» был последней изданной Скориной книгой. О дальнейшей его жизни и деятельности наряду с рядом достоверных фактов существуют гипотезы. К числу гипотез относится предположение некоторых исследователей о пребывании Скорины в 1525 г. в Виттенберге и о его встрече с Лютером (см. 32, XIII— XIV 33, 52), а также версия о поездке Скорины в конце 20-х — начале 30-х годов XVI в. в Москву и попытке наладить там книгопечатание на русском языке (см. 139, 211, 9, 48—50). Некоторые документальные данные свидетельствуют, что в середине 20-х годов XVI в. Скорина был приближенным виленского епископа, который, по-видимому, уже в это время пользовался его услугами как врача (36, 26). Документы говорят также о том, что в конце 20-х — начале 30-х годов Скорине пришлось столкнуться с целым рядом житейских неурядиц. Он начал судебный процесс с родственниками своей жены Маргариты по поводу имущества, доставшегося ей от первого мужа, «радцы» магистрата Вильно Юрия Одверника (см. 32, 47). В 1529 г. в Познани умер Иван, брат Скорины, и последний вынужден был приехать туда, чтобы попытаться уладить имущественные дела покойного (см. 172, 473—475. 21, XLVI—XLVII). К тому же в марте 1530 г. Вильно постигло большое бедствие: в результате пожара сгорели две трети города. Как полагает П. В. Владимиров, эти обстоятельства послужили причиной прекращения книгоиздательской деятельности Скорины (32, 66— 67).
Далее документально установлено, что в мае 1530 г. Скорина находился в Кёнигсберге в резиденции прусского герцога Альбрехта, энергичного последователя лютеровской Реформации. Конкретная цель пребывания Скорины в Кёнигсберге не совсем ясна, однако он был здесь принят как «муж выдающихся и больших знаний», «несравненного дарования и похвальной учености» (95, 221—226). Семейные, а возможно, и другие обстоятельства вынудили Скорину вскоре вернуться в Вильно. Он становится секретарем виленского епископа, выполняя одновременно обязанности домашнего врача. В 1532 г. Скорина вторично прибыл в Познань, теперь уже по делам своего патрона, виленского епископа. Этим воспользовались кредиторы его покойного брата и предъявили ему счет на 412 злотых. По их наущению Скорина был подвергнут тюремному заключению как несостоятельный должник. Выручил его племянник Роман, который выхлопотал у короля грамоту об освобождении Скорины из-под стражи. Вскоре состоялся суд, на котором Скорина, по-видимому, был оправдан (см. 172, 474).
В середине 30-х годов XVI в. Скорина покидает родину, теперь уже навсегда. Были ли личные неудачи основной причиной этого? Вряд ли. Скорее всего отъезд первопечатника был связан с тем, что его культурно-просветительская деятельность и его идеи не получили широкой общественной поддержки. Местом, где Скорина провел остаток жизни, была милая его сердцу Прага (см. 9, 54—59). Он работал здесь в королевском ботаническом саду. Умер Скорина около 1551 г.
С конца XVIII в. и вплоть до наших дней учеными обсуждается вопрос о конфессиональной принадлежности Скорины. Некоторые склонны считать его католиком. Существует также точка зрения о протестантском характере вероисповедания и деятельности Скорины. Первым, кто обвинил Скорину в «преступной связи» с Реформацией, были православные ортодоксы XVI в. Так, князь Андрей Курбский считал, что скорининская Библия «растленна», противоречит «всем апостольским и святым уставам» и во всем согласна с Библией Лютера (см. 128, 402—403. 119, 43—46). Униат Анастасий Селява называл Скорнну «гуситским еретиком», полагая, что его идеи послужили источником последующих реформационно-еретических учений в западном православии (см. 16, 717). В середине XIX в. с обоснованием этой точки зрения выступил Я. Ф. Головацкий. Тезис о правоверном православии Скорины отстаивал в своей фундаментальной работе П. В. Владимиров (см. 32, 45). Высказывалась также (М. С. Грушевским) точка зрения, согласно которой Скорина не был определенно связан с какой-либо религиозной доктриной (см. 53, 50—154).
Среди советских исследователей одним из первых к вопросу о конфессионально-мировоззренческой ориентации Скорины обратился В. И. Пичета. Научная заслуга В. И. Пичеты состоит в том, что он поставил вопрос о необходимости более широкого социально-культурного анализа деятельности Скорины, подчеркивая, что нельзя сводить этот анализ лишь к выяснению принадлежности белорусского гуманиста к тому или иному вероисповеданию. Анализируя точку зрения Я. Ф. Головацкого, В. И. Пичета критиковал ее крайности, в то же время считая весьма плодотворной мысль о связи деятельности Скорины с реформационными веяниями эпохи (120, 742—749).
В послевоенные годы тезис о гуманистическом характере деятельности Скорины обосновывался В. Н. Перцевым (см. 118). В 1958 г. была опубликована монография Н. О. Алексютовича, являющаяся по сути дела первым в скориниане основательным и всесторонним исследованием мировоззрения восточнославянского первопечатника. Рассматривая Скорину как мыслителя эпохи Возрождения, автор указывает на противоречивый характер его мировоззрения, в котором средневеково-схоластические элементы сочетаются с элементами ранессансного гуманизма. В то же время доводы ряда исследователей о влиянии на Скорину идей Реформации Н. О. Алексютович считает неубедительными (см. 9, 13). Скорина, по мнению Н. О. Алексютовича, не придерживался строго той или иной религиозной доктрины и в этом отношении был типичным представителем эпохи Возрождения (см. 9, 104). Как «самая яркая фигура гуманизма в Белоруссии и Литве» представлен Скорина в статье В. В. Чепко и А. П. Грицкевича (см. 146, 38).
Подведем некоторые итоги дискуссии по поводу культурной деятельности и религиозно-мировоззренческой ориентации Скорины. Не вызывает сомнения то обстоятельство, что культурно-просветительская и издательская деятельность Скорины была ориентирована на «людей посполитых руского языка», т. е. на белорусов, украинцев и русских, а стало быть, преимущественно православных. Об этом Скорина неоднократно сам свидетельствовал в своих произведениях. Соответствовала ли деятельность Скорины общепринятым нормам официального, православно-церковного этикета? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Деятельность Скорины никак не укладывалась в рамки традиционного стереотипа поведения православного культурного деятеля. Беспрецедентными являлись попытка перевода Священного писания на близкий к народному язык, стремление открыть к нему доступ «людям посполитым», т. е. ремесленникам, купцам, крестьянам, намерение сделать библейские тексты предметом свободного исследования, отдать их на суд индивидуального разума «простого человека», лишив тем самым духовенство монопольного права на интерпретацию Библии. Подобного рода деятельность, несомненно, носила реформационно-гуманистический характер, являлась выражением идейно-культурных и религиозных тенденций эпохи Возрождения. Каковы истоки реформационно-гуманистической деятельности Скорины? Прежде всего они были обусловлены общественными потребностями. В Великом княжестве Литовском вызревали новые социальные силы, которые выдвигали требования социальных реформ, культурно-религиозного и нравственного обновления общества в духе ведущих тенденций эпохи. Вряд ли следует связывать реформационную деятельность и идеи Скорины с влиянием Лютера. Как уже отмечалось, хронологически Скорина раньше Лютера выступил с идеей реформации современной ему религиозно-нравственной жизни, правда не столь решительно и определенно, как его немецкий современник. Это, конечно, не исключает того, что в последующем лютеровские идеи могли оказать некоторое влияние на характер религиозно-философских взглядов Скорины (3, 127). Если говорить о реформационно-гуманистических влияниях на деятельность и мировоззрение Скорины, то их, по-видимому, следует связывать в целом с общественными движениями и умонастроениями эпохи Возрождения. Но к какому же вероисповеданию все-таки принадлежал Скорина? Совершенно справедливо подчеркивалось исследователями, что в произведениях восточнославянского первопечатника нет четких указаний на этот счет. Ориентировался Скорина, конечно, на православного читателя, но внушал ли он этому читателю религиозно-философские идеи в духе ортодоксального православия? Отнюдь. И это будет нами показано в последующих главах работы. По всей вероятности, Скорина не связывал себя жестко с какой-либо определенной конфессией, однако открыто говорить об этом в своих предисловиях никак не мог, поскольку подобного рода позиция в то время встретила бы непонимание среди его православных читателей. Скорине не были свойственны конфессиональная ограниченность, фанатический догматизм Лютера, Кальвина и других идеологов протестантизма. Он не объявлял также открыто о своем разрыве с официальным православием. Отношение Скорины к православию можно было бы в какой-то мере сравнить с отношением к католицизму Эразма Роттердамского, Джона Колета, Томаса Мора. Оно было лояльным и в то же время не исключало идейной оппозиции, которую, на наш взгляд, следует трактовать как христиански-гуманистическую. Сторонник веротерпимости, Скорина по сути дела ратовал за свободный диалог всех религиозных направлений христианского мира. С Библией Скорины случилось приблизительно то же самое, что и с сочинением Коперника (см. 47, 220): ее «взрывоопасный секрет» по-настоящему был осмыслен лишь много лет спустя, в эпоху широкого распространения реформационно-гуманистических идей на территории Великого княжества Литовского (см. 119, 43— 46).
Несколько слов о языке скорининских изданий. У этого вопроса также давняя история. Причем он не является узкофилологическим, а имеет принципиальное значение для оценки характера культурно-философской деятельности восточнославянского гуманиста. О языке скорининских изданий существовали различные мнения, на которых мы не будем подробно останавливаться. Изложим те выводы, к которым пришли современные белорусские исследователи.
Сам Скорина считал язык своих изданий «русским» (3, 40). Какой смысл он вкладывал в это понятие? Впервые основательное изучение языка Скорины было проведено П. В. Владимировым. Он считал, что скорининские издания являются «памятниками белорусской речи начала XVI в.» (32, 247). В то же время П. В. Владимиров не отрицал наличия в языке скорининских изданий церковнославянского, чешского и польского влияния. Этот вывод дореволюционного русского исследователя подвергся существенному уточнению со стороны советских белорусских ученых-филологов. В частности, А. И. Журавский считает, что язык Скорины — это в основном синтез белорусской и церковнославянской языковых стихий, синтез, в котором последняя преобладает. Скорининские переводы исследователь трактует как белорусскую редакцию церковнославянского языка. В то же время он подчеркивает, что данное обстоятельство ни в коей мере не снижает историко-культурного значения изданий Скорины, которые сыграли огромную роль в формировании белорусского литературного языка (см. 63, 277—304). К подобного рода выводам приходят и другие белорусские ученые-языковеды, в частности М. Г. Булахов, А. М. Булыка, А. Е. Баханьков, М. Р. Судник, Л. М. Шакун.
Вклад Скорины в развитие белорусского литературного языка столь же существен, как и его роль в формировании отечественной философской и общественно-политической мысли. Сама попытка перевода Священного писания на близкий к народному язык воспринималась консервативными православными кругами не только в качестве нового, необычного культурного явления, но и в качестве неортодоксального, еретического, реформационно-гуманистического явления в области идеологии. Как на Западе латынь в средневековую эпоху являлась неотъемлемой принадлежностью католической ортодоксии (см. 6, 30), так и в восточнославянском православном мире верность церковнославянскому языку символизировала верность существующим идеологическим и религиозно-философским установкам. Руководствуясь именно этими соображениями, основатель Заблудовской типографии белорусский православный магнат Г. А. Ходкевич отказался от мысли издания «священных книг» на народном языке. Всякого рода национально-партикулярные попытки перевода и интерпретации Библии рассматривались ортодоксами восточной церкви как стремление взорвать религиозно-идеологическое единство православия, внести в него новые, чуждые ему идеи.
Глава III. «3 ни с чего ничто же бысть?» (проблема интерпретации Библии. Гносеологические, онтологические и научные идеи)
корина, разумеется, был глубоко верующим, религиозным человеком. Он признавал основные догматы христианского вероучения: божественную троицу, богочеловеческую природу Христа и его искупительную жертву, бессмертие души, потустороннюю жизнь и др. Библию Скорина также считал книгой священной и боговдохновенной. В то же время в отношении мыслителя к Священному писанию, в его герменевтическом искусстве обнаруживается противоречие: неподдельное, искреннее доверие, с одной стороны, и попытка нетрадиционного, свободного истолкования тех или иных религиозно-философских проблем — с другой.
Прежде всего как относился Скорина к самой Библии? Библейския мудрость, полагал мыслитель, проявляется в двоякой форме: доступной лишь для избранных и посвященных, т. е. эзотерической, и доступной для всех без исключения людей, т. е. экзотерической. К числу эзотерических библейских книг Скорина относил книги Бытия, начало и конец книги пророка Иезекииля и Песнь Песней, которые, по мнению мыслителя, «суть трудны ко зрозумению». У древних евреев, замечает мыслитель, их было запрещено читать до тридцатилетнего возраста «для великих тайн, еже замыкають в собе книги сие, понеже суть над розум людскый» (3, 71). Основная же масса текстов Священного писания, по мнению Скорины, доступна любому разумному человеку, к ним Скорина относил Притчи Соломоновы, книгу Премудрости Иисуса, сына Сирахова, книгу Премудрости Соломона, книги Царств, книгу Иудифи, с некоторой оговоркой книгу Екклезиаста и др. Вся эзотерическая часть Библии, по мнению Скорины, недоступна разуму, она является предметом веры. К сверхразумным мыслитель относил те библейские тексты, в которых трактовались весьма острые и «опасные» мировоззренческие вопросы, и прежде всего вопрос о происхождении мира. Экзотерическая часть Библии, являющаяся объектом разума, содержит доступные любому человеку нравственно-философские истины и элементы светского знания. Именно эта часть Священного писания представляет в глазах Скорины наибольшую ценность. Из скорининской концепции вытекало, что философская мудрость в большей степени отвечает человеческой природе, чем мудрость теологическая, религиозная.
Скорина, таким образом, впервые в восточнославянской культуре поставил проблему интерпретации Священного писания, попытался теоретически обосновать право демократического читателя на свободное изучение Библии, утверждал принцип личного отношения человека к вере, устраняя в отношении человека к богу всякое посредничество, в том числе и официально-церковное. Следует заметить, что самостоятельно мыслящего человека изучение Библии могло подвести к попытке ее свободного исследования, к ее критической переоценке и в конечном счете породить у многих сомнение в истинности «божественного откровения», а вместе с ним и самой веры. Именно данная тенденция чрезвычайно беспокоила церковников. Во второй половине XVI в. довольно часто раздавались жалобы иерархов западного православия и униатов на то, что изучением и интерпретацией Библии занимается «люд простый, посполитый, ремесный». Характерно, что и в наше время православные богословы убеждены, что свободное и индивидуальное толкование Священного писания ведет к «горделивому умствованию» в вопросах веры, ставит последнюю в «постоянную зависимость от мировоззрения отдельных людей» и в конечном счете вызывает сомнения в истинности христианства вообще (см. 64, 66). Из предисловий Скорины также вытекает, что им игнорировалась церковь как официальная организация. В представлении мыслителя, церковь — это община верующих, которая «из многих людей, яко из зернят собрана» и соединена учением Ветхого и Нового заветов (3, 87). Подобного рода демократическая, раннехристианская трактовка церкви наблюдается и в других скорининских предисловиях. В частности, в комментариях на послание апостола Павла к ефесянам Скорина утверждал, что церковь «ест собрание хрестианское» (там же, 140).
В скорининских предисловиях весьма явственно обнаруживается антиавторитаристская тенденция. Хотя в процессе интерпретации Библии Скорина изредка и обращается к высказываниям богословов, а еще реже — к церковным постановлениям, они у него по сути дела стоят наравне с суждениями относительно Священного писания любого образованного и здравомыслящего человека. В деле создания Библии Скорина отводил большую роль человеческому, субъективному фактору.
Скорина пользуется двояким способом интерпретации Библии: аллегорическим и рационалистическим. И тот и другой способы толкования библейских текстов подчинены в основном единой задаче — выявлению ее интеллектуально-образовательной и нравственно-воспитательной функций. Религиозно-догматическая функция Священного писания Скорину интересует в меньшей степени. И тем и другим способом интерпретации Библии мыслитель пользуется с известной долей свободы. Так, в предисловии к книге «Левит» Скорина склонен полагать, что жертвоприношения древних евреев «знаменовали» служение общественному благу. «Тако ж и мы, братия,— пишет он,— не можем ли во великих послужити посполитому люду рускаго языка, сие малые книжки праци нашее приносимо им» (там же, 82).
Скорина полагал, что в Священном писании сокрыта не только вся божественная, «Соломонова», но и вся естественная, «Аристотелева» мудрость (там же, 24). Так, в предисловии «Во всю Бивлию рускаго языка» мыслитель замечает, что для христианина недостаточны лишь «речи вечное душного спасения», ему необходимо знать и «все науки быти минущие» (там же, 63). Библию Скорина рассматривал в качестве универсального источника светских знаний (естественных, философских, исторических, правовых и т. д.), пособия для изучения «семи свободных искусств» — грамматики, логики, риторики, музыки, арифметики, геометрии, астрономии. «В сей книзе,— пишет Скорина,— всее прироженое мудрости зачало и конец... вен законы и права, ими же люде на земли справоватися имають, пописаны суть... вси лекарства, душевные и телесные... навчение филозофии добронравное... справа всякого собрания людского и всякого града, еже верою, соединением ласки и згодою посполитое доброе помножено бываеть. Ту научение седми наук[8] вызволеных достаточное. Хощеши ли умети граматику или по руекы говорячи, грамоту, еже добре чести и мовити учить, знайдеши в зуполной Бивлии... Пакли ти ся любить разумети логику,— она же учить з доводом розознати правду от кривды,— чти книгу светого Иова или Послания светого апостола Павла. Аще ли же помыслиши умети риторику, еже ест красномовность, чти книги Саломоновы. А то суть три науки словесные. Восхощеш ли пак учитися музики, то ест певници, премножество стихов и песней светых по всей книзе сей знайдеши. Любо ли ти ест умети аритметику, еже вократце и неомылне считати учить, четвертый книги Моисеевы часто чти. Пакли же имаши пред очима науку геометрию, еже по-руски сказуется землемерие, чти книгу Исуса Наувина. Естли астрономии или звездочети — найдеш на початку книги сее о сотворении солнеца и месеца и звезд... А то суть седм наук вызволеных. Аще ли же кохание имаши ведати о военных, а о богатырских делех, чти книги Судей... Потребуеши ли науки и мудрости добрых нравов... часто прочитай книги Исуса Сирахова, а Притчи Саломоновы» (там же, 62—63).
Таким образом, согласно Скорине, Библия является своеобразной энциклопедией наук, компендиумом необходимых для «простого и посполитого человека» светских знаний. Возникает вопрос: как квалифицировать скорининский взгляд на Библию? Разумеется, стремление Скорины сделать Библию авторитетным источником «прироженой», естественной мудрости, светских знаний свидетельствует об исторической ограниченности его как мыслителя. Но считать, что Скорина хотел представить Библию в качестве единственного источника знания и стремился подменить науку Священным писанием,— значит понимать его упрощенно и односторонне. Основной своей задачей мыслитель ставит приобщение «простого и посполитого человека» к изучению Библии. Он концентрирует внимание демократического читателя на двух аспектах «библейской мудрости»: познавательном и морально-философском. Скорина абсолютизировал роль Библии в образовании и моральном воспитании человека, но не исключал при этом возможности и даже необходимости изучения светских наук. Подтверждение данного тезиса мы, в частности, находим в предисловии к первой книге Царств. Скорина утверждает, что наука дается богом «многими и различными» путями. Помимо Библии существуют «иные теже писма и права или уставы», которые «его же преизволением и людскими пилностями пописаны были». Эти «писма и права» даны людям представителями нехристианской, языческой культуры: египтянами, древними греками, римлянами; в частности, Скорина называет имена Солона, Ликурга, Нумы Помпилия и др. «И тым теж обычаем,— продолжает мыслитель,— инии цари или люди мудрые иным народом неякии книги, писма, уставы, права, науку или закон оставили суть» (там же, 38). И хотя Скорина ставит библейскую мудрость выше всякой иной, он не исключает для «людей простых и посполитых» контактов с культурой и наукой нехристианского, языческого мира. По-видимому, можно говорить о попытке Скорины, правда еще довольно робкой, наладить диалог христианства с античностью, синтезировать культурные ценности христианской и греко-римской цивилизаций. Скорина неоднократно обращается к авторитету Аристотеля. Причем он пользуется его именем с целью вызвать у читателя большее доверие и уважение к Библии (см. там же, 24).
Как следует из сказанного, источником знания мыслитель наряду с откровением считал науку. В области научного, так же как и в сфере богооткровенного, знания Скорина отводил большую роль индивидуальным познавательным усилиям человека, человеческому разуму. На примере «милосников науки и мудрости» Соломона, Птолемея Филадельфа, Иисуса Сирахова Скорина утверждал идеал мыслящего, познающего, интеллектуально активного человека (см. там же, 16—24). По мнению Скорины, знание является важнейшим компонентом человеческой мудрости. В отличие от Фомы Аквинского мыслитель считал, что истинная мудрость — это не богопознание, а миропознание, человекопознание и самопознание. Не отвергая необходимости богопознания, Скорина считал, что познавательные усилия человека в основном должны быть направлены на изучение природы, общества, человека, на овладение реальными знаниями. Под этим углом зрения он главным образом и смотрел на Священное писание, считая одной из важнейших его функций познавательную.
Большая роль, которую мыслитель отводил познавательной способности человеческого интеллекта, обусловила тот факт, что в гносеологии он вплотную подошел к рационализму, хотя и отводил довольно существенное значение богооткровенному знанию. Можно, пожалуй, согласиться с мнением Н. О. Алексютовича, что Скорина был близок к признанию человеческого разума в качестве критерия истины. Вместе с тем в комментариях Скорины обнаруживается в качестве тенденции идея «двойственной истины». Так, в представлении мыслителя, мудрец должен быть исполнен «духа святого и философии» (там же, 22), т. е. соединять в себе христианскую веру с философской образованностью. Скорина считал, что имеется «закон прироженый», т. е. естественный, и «закон Моисеев», т. е. божественное откровение (см. там же, 128). Мыслитель также полагал, что существует «двоякая правда: божия и человечия. Двоякий суд: божий и человечий. Двоякая похвала: от бога и от человека» (там же, 129). Не исключено, что Скорине были известны философские труды Аверроэса (Ибн-Рошда), Авиценны (Ибн-Сины), латинских аверроистов, во всяком случае как доктор медицины он должен был знать медицинские сочинения первых двух мыслителей, и особенно «Медицинский канон» Авиценны. Следует отметить, что Падуанский университет, и в особенности его медицинский факультет, где Скорина получил докторскую степень, в то время являлся одним из центров латинского аверроизма (см. 129, 160), с которым Скорину роднил интерес к естественнонаучным знаниям (см. 11, 154). Подчеркивая активный характер человеческого интеллекта, Скорина отмечал, что тот, кто постигнет сущность явлений, обретет власть над природой и самим собой (3, 20). Стремление к освобождению человеческой мысли из-под опеки догматических авторитетов, утверждение активности индивидуума в процессе познания, убеждение в больших познавательных возможностях индивидуального человеческого разума — все эти черты, в той или иной степени свойственные воззрениям Скорины, являлись выражением гносеологических тенденций эпохи Возрождения.
Скориной затрагивается самый острый, по выражению Ф. Энгельса, философский вопрос эпохи позднего средневековья: создан ли мир богом, или он существует от века? (см. 1, 21, 283). В предисловии к книге Бытия мыслитель сопоставляет христианское учение о сотворении мира «из ничего» с натурфилософскими взглядами древнегреческих философов, и прежде всего аристотелевской концепцией вечности и неуничтожимости материи. «Кто убо от филозофов,— пишет Скорина,— мог поразумети, абы господь бог словом своим с ни з чего сотворил вся видимая и невидимая, по старейшине их Аристотелю глаголющу: „З ни с чего ничто же бысть“» (3, 71—72). И хотя в конечном счете основной вопрос философии мыслитель решает в традиционно-христианском духе, принимая креационистскую концепцию происхождения мира («Мы пак, хрестиане, зуполную веру имамы всемогущего во троици единаго бога, в шести днех сотворившего небо, и землю, и вся, еже суть в них» (там же, 72)), рассуждения Скорины по данному вопросу дают читателям его произведений повод для размышлений и скепсиса. Скорина устраивает своего рода диалог между аристотелевской и традиционно-христианской трактовкой проблемы происхождения мира; христианский догмат о генезисе природы, по его мнению, не может быть обоснован средствами философского разума. Так, книги Бытия, где говорится о сотворении мира из ничего, «суть над розум людскый» (там же, 71). Это положение имплицитно содержит вывод о бесплодности попыток схоластической философии рационально обосновать догматы христианства, мысль о необходимости разграничения компетенций веры и разума, теологии и философии. Точка зрения Скорины на проблему происхождения мира отличалась от учения Фомы Аквинского, который считал, что сотворение в пространстве доказуемо рациональным путем. Недоступным человеческому разуму «ангельский» доктор считал догмат о сотпорении мира во времени (см. 28, 46—48). Характерно и то, что Скорина не стремится, подобно Фоме Аквинскому, установить гармонию между верой и разумом, а в большей степени старается подчеркнуть их различие. В этом заключалась одна из исходных предпосылок противопоставления науки и религии, обоснования независимости светского знания, философии от веры и религии.
Весьма показательны некоторые научные, и в частности астрономические, исследования Скорины. Следует отметить, что на протяжении XVI—XVII вв. господствующей в Белоруссии была аристотелевско-птолемеевская геоцентрическая картина мира. Учение Николая Коперника становится здесь известным лишь со второй половины XVI в. (см. 159), однако в этот период оно еще не оказывало существенного влияния на естественнонаучную мысль белорусско-литовского региона. Гелиоцентрическое учение начинает постепенно завоевывать позиции в научном мире Белоруссии и Литвы с конца XVII в., а широко утверждается лишь в XVIII в. (см. 27, 28—46. 58, 27—73. 143, 75—83). В Белоруссии XVI в. были популярны и традиционные православно-средневековые космологические представления, содержащиеся в «Толковой палее», «Христианской топографии Вселенной» Козьмы Индикоплова и др. Наряду с линией Козьмы Индикоплова в древнерусской литературе существовало и другое направление, которое хотя и основывалось на библейских догматах, однако во взглядах на природу, и в частности на астрономические явления, в большей степени придерживалось античных естественнонаучных традиций (см. 62, 48—62).
Г. Я. Голинченко, первым из исследователей проанализировавший деятельность Скорины как ученого-астронома, пришел к выводу, что мыслитель придерживался аристотелевско-птолемеевской системы мира. В «Малой подорожной книжице» Скорина ввел некоторые поправки в юлианский календарь в соответствии с новейшими астрономическими расчетами, определил время вхождения Солнца в каждое созвездие Зодиака. На основе достижений астрономической науки своего времени мыслитель сообщил о шести лунных и одном солнечном затмении. Астрономические сведения Скорины отличались большой точностью и оставались уникальными в восточнославянской кириллической литературе на протяжении XVI—XVIII вв. По предположению Г Я. Голенченко, при составлении сводки затмений Скорина пользовался книгой «Астрономические таблицы» выдающегося астронома эпохи Возрождения Иоганна Региомонтана (см. 34, 32—35). Об интересе мыслителя к естественным знаниям свидетельствуют и некоторые места из его комментариев.
Глава IV. «О мудрости, о науце, о добрых обычаех» (этика)
предисловии к «Апостольским деяниям» Скорина рассказывает, что евангелист Лука в молодости занимался врачебной практикой, однако со временем убедился в том, что во врачевании в большей степени нуждается человеческий дух, и «возжеле быти лекарем душ наших, еже на образ и на подобенство превечного бога створеных». Скорина целиком и полностью одобряет «переквалификацию» Луки, к которому относится с особой симпатией, выделяя его из всех евангелистов: «Святый Лука писал ест о слове божием навышшей, наистей и нарядней, нежели иные» (3, 117). Что привлекало в Луке Скорину? По-видимому, не только литературно-художественные достоинства его евангелия, но и сходство судьбы. «Избранный муж, в лекарских науках доктор», Франциск Скорина предпочел профессии врача миссию просветителя и морального проповедника, посвятив себя служению «посполитому, доброму», «размножению мудрости, умения, опатрености[9], разуму и науки» (там же, 24). Поэтому деятельность свою Скорина считал сродни апостольской. Для человека эпохи Возрождения такое самосознание вполне оправданно. Поместил же Скорина в Библии свой портрет!
Нравственно-философская направленность деятельности Скорины обусловила то обстоятельство, что вопросы этики в его произведениях занимают ведущее место. Для Скорины характерна попытка интерпретации целого ряда библейских сюжетов в духе ренессансного гуманизма. Стремление при помощи Библии обосновать некоторые, главным образом этические, идеи эпохи Возрождения составляет одну из существенных особенностей философско-комментаторского творчества мыслителя. Библейско-христианская этика синтезируется мыслителем с этическими идеями античной философии, модернизируется и адаптируется в соответствии с духовными запросами эпохи Возрождения, актуальными социально-политическими и национально-культурными задачами белорусского, украинского и русского народов — трех братских народов, от имени которых он выступал. В целом же мировоззрение Скорины синкретично, не приведено в строгую систему.
Скорина пытается пересмотреть ортодоксально-христианскую трактовку проблемы человеческого существования, согласно которой земная жизнь человека не представляет самодовлеющей ценности, а является лишь приготовлением к жизни потусторонней. Мыслитель утверждает самоценность человеческой жизни, реабилитирует земное бытие, не отвергая в то же время и веры в потустороннюю жизнь. Этика Скорины ориентирует человека преимущественно на реальную, практическую, общественно полезную жизнь, служение «пожитку посполитому», овладение знаниями, постоянное интеллектуально-нравственное совершенствование, «абы научившися мудрости» люди «добре жили на свете». «Без мудрости и без добрых обычаев,— утверждает Скорина, — не ест мощно, почстиве жити людем посполите на земли» (там же, 20), т. е. общественная жизнь — таковой, полагает вслед за Аристотелем белорусский мыслитель, только и может быть земная жизнь людей — невозможна без знания и совершенной нравственности.
Большой интерес представляют рассуждения Скорины о смысле жизни и высшем благе. Эти проблемы рассматриваются мыслителем в предисловиях к Притчам Соломоновым, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Екклезиасту и др. В иудейской традиции эти книги считались философскими и не были включены в канон. Такое же отношение к некоторым из них было и в Древней Руси. В частности, книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова была широко известна древнерусскому читателю и рассматривалась как светское морально-дидактическое сочинение. В Притчах Соломоновых, например, высокое признание получают разум, мудрость, утверждается ценность реальной земной жизни и т. д. Проповедь земного счастья и наслаждения содержится в Екклезиасте. В частности, некоторые идеи Екклезиаста сходны с этическими воззрениями античных эпикурейцев и стоиков (см. 148, 97—104). В книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова также обнаруживается отсутствие веры в загробную жизнь и воскрешение мертвых, утверждается самоценность земного бытия, в духе философии стоиков обосновывается мысль о тождестве естественной и божественной мудрости, логоса (разума, закона природы) и бога (см. 22, 133—134). Весьма симптоматично, что многие из этих идей привлекли внимание мыслителя и получили отражение в его предисловиях. В предисловии к Притчам Соломоновым Скорина утверждает, что главное предназначение человека заключается в совершенной земной жизни, а объектом этики является проблема, «яко ся имамы справовати и жити на сем свете» (3, 17). В комментариях к Екклезиасту мыслитель фиксирует множественность смысложизненных позиций реального человека, плюрализм его ценностных ориентаций. В частности, Скорина замечает, что автор Екклезиаста «пишет о науце всех людей посполите сущих в летех мужества, приводячи им на паметь суету, беду и працу сего света, понеже в розмаитых речах люди на свете покладают мысли и кохания своя: едины в царствах и в пановании, друзии в богатестве и в скарбох, инии в мудрости и в науце, а инии в здравии, в красоте и в крепости телесной, неции же во множестве имения и статку, а неции в роскошном ядении и питии и в любодеянии, инии теже в детех, в приятелех, во слугах и во иных различных многых речах. А тако единый каждый человек имать некоторую речь пред собою, в ней же ся наболей кохает и о ней мыслит» (там же, 28).
Данный фрагмент свидетельствует о хорошем знакомстве Скорины с античными философско-этическими концепциями высшего блага, в частности аристотелевской, эпикурейской, стоической. Скорина не приемлет этической концепции эпикуреизма, а пытается синтезировать христианские моральные нормы с нравственными принципами аристотелизма и умеренного стоицизма. Мыслитель правильно подмечает диалектический характер рассуждений «премудрого Саломона», в которых отражена противоречивость нравственного сознания и поведения человека, многообразие жизненных позиций, сложность человеческого бытия, не укладывающегося в жесткую, догматическую схему той или иной этической концепции. Скорина с пониманием относится к реальной, земной морали людей, в то же время он противопоставляет ей нравственный идеал, в качестве которого у него выступает гуманистически модернизированная христианская концепция жизни. Для Скорины высшее благо — благо земное, интеллектуально насыщенная, нравственно совершенная и общественно полезная жизнь на земле. Это служение людям, а потом уже богу, или, вернее, служению богу посредством служения людям.
Скорину интересует человек, его духовный мир, интеллект, нравственность, общественное предназначение. «Да совершен будеть человек божий,— постулирует мыслитель,— и на всяко дело добро уготован, яко святый апостол Павел пишеть. И сего ради святые писма уставлена суть к нашему навчению, исправлению, духовному и телесному, различными обычаи» (там же, 9). Однако духовное совершенство человека Скорина понимает отнюдь не в духе посланий апостола Павла. В частности, для Скорины характерен ярко выраженный интеллектуализм, культ знания, взгляд на познание как на одну из существенных функций духовной природы человека. Человека Скорина рассматривает главным образом в трех измерениях: как существо разумное, нравственное и общественное. В основе его этической концепции лежит мысль о необходимости и возможности постоянного совершенствования человеческой природы, о том, что от этого совершенствования зависит совершенство общественной жизни. Признавая приоритет «духовных» ценностей, Скорина не отвергает ценностей «плотских». Он не противопоставляет духовное и плотское начала в человеке, а пытается отыскать возможности для их примирения, гармонического сосуществования. Скорина, как это вытекает из его комментариев к Екклезиасту, понимает всю важность для реального, земного человека не только духовных ценностей, но и «богатества», «имения», «красоты и крепости телесной».
Согласно Скорине, понятия морали имеют двойственную основу: индивидуальный разум и божественное откровение. «Людьское естество,— пишет мыслитель,— двояким законом бываеть справовано от господа бога, то есть прироженым, а написаным» (там же, 93). Причем естественный нравственный закон обладает приоритетом: «Прежде всех законов или прав писаных закон прироженый всем людем от господа бога дан ест» (там же, 94). Естественный нравственный закон, полагает Скорина, «написан ест в серци единого кажного человека», он дан ему богом вместе с разумом и свободной волей, благодаря чему человек обладает способностью осуществлять самостоятельно нравственный выбор, принимать осознанное моральное решение. «От зачала убо веков,— пишет мыслитель,— егда сотворил бог первого человека, написал ест закон сей в серци его. Прото ж Адам и Евва, первии родителе наши, познали суть грех свой, иже не послушаша сотворителя своего, и для того сокрилися от лица господа бога посреди древа райскаго. Каин теже познал грех свой (курсив наш. — С. П.), иже убил брата своего Авеля, прото ж и рече: „Болши есть беззаконие мое, нежели бых могл милосердие умолити“» (там же, 93). Попутно Скорина высказывает чрезвычайно интересную и плодотворную мысль: язычники были нравственными не в меньшей степени, чем христиане; хотя они и не знали истинного бога и его закона, однако в своем поведении руководствовались естественным нравственным законом (см. там же, 9). В эпоху Скорины это была глубоко гуманистическая по своей сущности мысль, утверждавшая природное равенство людей независимо от религии, приоритет общечеловеческих моральных принципов по сравнению с вероисповедническими различиями, единство античной и христианской культур.
Основной постулат естественного нравственного закона, выводимого мыслителем из разума, формулируется следующим образом: поступай со всеми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, и не поступай с другими таким образом, как бы ты не хотел, чтобы поступали с тобой. На этом рациональном, естественно-нравственном принципе, полагает Скорина, основаны все «писаные» моральные законы, в том числе и закон Ветхого и Нового заветов. «Закон прироженый,— пишет мыслитель,— в том наболей соблюдаем бываеть: то чинити иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не хощеши от иных имети. А на том, яко на уднении, вси законы писаный заложены суть» (там же, 93). Этим естественным нравственным законом руководствовались и руководствуются люди на протяжении всей истории. «Тым же обычаем,— пишет Скорина, — и ныне единый кажный человек, имея розум, познаетъ (курсив наш.— С. П.), иже непослушание, убийство, прелюбыдеание, ненависть, татба, несправедливость, злоимание, неволя, досаждение, гордость, злоречение, нелютость, клеветание, зависть и иная тым подобная злая бытн, понеже сам таковых речей от иных не хощеть терпети» (там же, 93—94).
Скорина, таким образом, стремится отыскать некий универсальный рационально-нравственный принцип, приемлемый для всех людей независимо от социального положения и религиозной принадлежности, на основе которого можно было бы регулировать общественную жизнь.
Письменными источниками моральных норм, по мнению Скорины, являются Библия, писания отцов церкви, постановления соборов (см. там же, 95). Однако два последних источника Скориной по сути дела игнорируются; в качестве главного источника «написанного» нравственного закона у мыслителя выступает зафиксированное в Священном писании «божественное откровение». Из религиозно-этического учения Скорины, раскрывающегося в его комментариях к библейским книгам, следует, что человек посредством Священного писания осуществляет прямой и интимный диалог с богом, он самостоятельно, без церковного посредничества может разобраться в морально-этическом смысле «божественного откровения» и достичь нравственного совершенства индивидуальными усилиями, как посредством разума, так и в результате самостоятельного изучения Библии и личной веры. Исходные положения морали в представлении Скорины так или иначе осмысливаются человеком и выступают в конечном счете как веления нравственного долга и совести. Источник нравственных понятии Скорина видит в самом человеке, его разуме, личном отношении к богу. Тем самым он подрывает этический онтологизм Августина и Фомы Аквинского, согласно которому добро обладает объективной природой, существует до человека и приобщение к нему возможно только при посредничестве церкви, дарующей человеку «божью благодать». Человек у Скорины «самовластен», ему не нужны никакие внешние подпорки для достижения нравственного идеала. Именно поэтому в своих комментариях мыслитель акцентирует внимание на морально-этической стороне Библии, игнорируя ее религиозно-догматическое содержание или отводя ему незначительное место. Скорина стремится постичь внутреннюю, преимущественно философско-этическую, сущность Библии, осмыслить некоторые аккумулированные христианством фундаментальные общечеловеческие моральные ценности. Учение Скорины о способности человека своими собственными усилиями достичь морального идеала давало православным ортодоксам все основания обвинить его в пелагианстве (см. 6, 50).
Ренессансно-гуманистическая тенденция к преодолению зависимости учения о морали от официальной церковно-религиозной доктрины получила дальнейшее развитие в философско-этической мысли Белоруссии второй половины XVI и XVII в. Скорина и его отечественные последователи шли по тому же пути, по которому развивалась западноевропейская этика. В этике Скорины мы имеем дело с попыткой преодоления традиционного средневеково-теологического взгляда на человека и формированием рационалистически-натуралистической концепции морали.
В духе философской созерцательности античных мыслителей Скорина ставит перед человеком задачу самопознания. В предисловии к книге Иова мыслитель пишет: «Ест наивышшая мудрость розмышление смерти, и познание самого себе, и вспоминание на приидущие речи» (3, 15). Воскрешая эту сократовскую идею, Скорина вольно или невольно противопоставляет ее господствующему религиозному учению, согласно которому главной задачей человека является богопознание. Обосновывая принцип философской рефлексии, или разумного самопознания, Скорина не только продолжает традиции античной этики, но и выражает одну из характернейших черт философии морали эпохи Возрождения. Точка зрения Скорины перекликается, в частности, с мнением Эразма Роттердамского, считавшего, что «существует единственный путь к блаженству. Во-первых, познай самого себя, затем действуй, руководствуясь не аффектами, а соображениями разума» (70, 602).
В качестве этического идеала у Скорины выступает совершенная интеллектуально-нравственная личность. Интеллектуальные добродетели выражаются в скорининских комментариях чаще всего понятием «мудрость», нравственные — понятием «добрые обычаи». И те и другие в духе аристотелевской этики рассматриваются Скориной как благоприобретенные, связанные с активной разумно-познавательной и общественно-практической деятельностью человека. В соответствии с тенденцией эпохи Возрождения Скорина прославляет людей, которые стремятся к познанию и всем прочим наслаждениям предпочитают наслаждение духа. В качестве примера у него выступают такие библейские интеллектуалы, как царь Соломон, который «не просил еси собе дней многых, ни богатества», но «мудрости и разума» (3, 16); царь Птолемей Филадельф, владелец знаменитой Александрийской «книжницы», т. е. библиотеки, в которой насчитывалось, как сообщает Скорина, свыше 40 тысяч книг. «Таковый убо был милосник наукы и мудрости,— пишет мыслитель о Птолемее Филадельфе,— иже болей избрал оставити в науце и в книгах вечную славу и паметь свою, нежели во тленных великих царскых сокровищах» (там же, 22—23). Стремление к интеллектуально-творческому самовыражению Скорина считает одним из наиболее похвальных достоинств человека. Иисус Сирахов, рассказывает он, приехав в Александрию, был поражен книжным богатством тамошней библиотеки. Он «узрел ест тамо множество книг различных и межи ими видел писмо и книгы деда своего... И возревновал ест тому, дабы оставил теже и по собе паметь, яко и предкове его оставили суть, дабы паметь его не загинула во веки» (там же, 23—24) (курсив наш. — С. П.). В скорининской интерпретации данного сюжета имплицитно содержится мысль о том, что бессмертие человека заключается в памяти потомства и обеспечивается его добрыми деяниями, умом, способностями, служением «пожитку посполитому». Это, разумеется, не соответствовало ортодоксально-христианской догме. Само по себе желание славы, известности, памяти в потомстве является отличительной чертой ренессансного сознания и совершенно не характерно для средневековой культуры, пронизанной духом анонимности. Здесь, несомненно, содержится высокая оценка земной деятельности человека, выражено возросшее представление о ценности индивидуального человеческого существования.
«Мудрость и добрые обычаи», согласно Скорине, достигаются не только «путем разума», но и «путем прикладу», т. е. в результате изучения Библии, подражания ее положительным героям, в результате следования ее этическим заповедям (см. там же, 26). Идеалом мудреца для Скорины является человек, соединяющий в себе библейскую мудрость и мудрость философскую, «духа святого и философии исполненый, еврейского языка и греческого досконале умелый» (там же, 22). В данном высказывании опять-таки видна характерная для Скорины попытка синтеза культурно-философских традиций античности и христианства. О мудрости Скорина предпочитает говорить больше в научно-философском, чем в теологическом смысле. В его представлении «мудрость» — это главным образом знание. «Мудрость» и «наука» у Скорины постоянно соседствуют друг с другом: «Они же хотять имети добрые обычае и познати мудрость и науку» (там же, 20); «милосник наукы и мудрости» (там же, 22). Вероятнее всего Скорина понимает мудрость в аристотелевском смысле, как знание сущего. Он является противником теологической концепции науки, созданной Фомой Аквинским. Как известно, согласно Фоме, подлинная мудрость — это стремление к богопознанию. Знание у него выступает в качестве служанки богословия. Скорина же весьма скептически относится к возможностям человеческого разума в этой области. В первую очередь мыслитель призывает своих соотечественников овладеть земной мудростью, реальными знаниями. С этой точки зрения, как уже отмечалось выше, он и рассматривает Библию. Скорининская трактовка мудрости родственна учению стоиков о том, что перед каждым человеком открыта возможность для достижения интеллектуально-нравственного совершенства посредством приобщения к знанию. Она созвучна также духу эпохи Возрождения, выдвинувшей требование всестороннего развития интеллектуальных способностей человека, неограниченной свободы его разума. То, что мы почти не усматриваем в воззрениях Скорины текстуального цитирования античных философов, гуманистов, а обнаруживаем лишь концептуальные совпадения, не результат недостаточной философской эрудиции мыслителя, а свидетельство его творческой самостоятельности, способности органически усвоить, гармонично аккумулировать идейное наследие европейской культуры, подчинить его своим целям и задачам. Несомненной заслугой Скорины является предвидение той большой роли, которую должно сыграть знание в истории человечества.
Скорина весьма близок к сократовскому пониманию добродетели как знания. Мудрость, наука, разум, полагает мыслитель,— предпосылки «добрых обычаев», счастья. Своей задачей Скорина считает дать людям необходимые знания о добродетельной личной и общественной жизни. Он рассматривает знание не только в качестве самодовлеющей ценности, но и как необходимое условие нравственно прекрасной, счастливой жизни (см. там же, 20). Образование, культура указывают человеку путь к индивидуальному и общественному благу, являются основой моральных добродетелей, земного счастья. Причем доступ к моральному идеалу открыт каждому человеку, поскольку добродетели можно научиться.
Необходимо отметить, что, обращаясь к внутреннему миру человека, проявляя заботу о его интеллектуальных и нравственных добродетелях, Скорина тем самым утверждал один из прогрессивных ренессансно-гуманистических принципов, согласно которому истинное достоинство и благородство человека состоят не в происхождении, не в знатности, не в общественном положении и, наконец, не в религиозном рвении, а в таких качествах, как интеллект, моральный облик, способности, благодаря которым он приносит реальную пользу обществу.
В центре внимания Скорины находится одна из важнейших философско-этических проблем — проблема соотношения индивидуального и общественного блага. Общественная сущность человека и принцип первенства общественных интересов перед частными, как известно, получили обоснование в «Политике» Аристотеля. Учение Стагирита было воспринято и своеобразно модифицировано христианскими философами, в частности Фомой Аквинским. Скорина также рассматривает человека как существо общественное, и для его этики характерно утверждение примата общего блага. В произведениях Скорины категория общественного блага фигурирует как понятие «посполитое доброе». Лишь в обществе, полагал мыслитель, жизнь человека наполняется истинным смыслом, поэтому люди должны научиться «вкупе жити». Однако общественная жизнь требует от человека бескорыстного служения «пожитку посполитому», использования всех своих способностей и дарований в интересах общего блага. «Единому каждому,— пишет Скорина,— не хвалитися самому в собе божествеными духовными даровании. Но яко уды разно имуще в теле деание, вси вкупе собе суть помощни, тако каждый хрестианин свое имея дарование к посполитого доброго розмножению да уделяеть» (там же, 132). В предисловии к книге Есфири Скорина следующим образом формулирует свое понимание общественного долга: «Не толико бо сами народихомся на свет, но более ко службе божией и посполитого доброго» (там же, 109). Это, по-видимому, парафраза известного высказывания Цицерона из его трактата «Об обязанностях» (см. 142, 72—73). Свою собственную деятельность Скорина также рассматривал прежде всего как служение общественному благу, как выполнение своего долга перед народом, «братьями русью» и родиной (см. 3, 24). Эта мысль подчеркивается им почти в каждом предисловии и послесловии. Из этического учения Скорины вытекало, что людей прежде всего должна объединять идея общественного блага. Интересы общественного блага должны быть выше религиозных разногласий, а поэтому религиозная веротерпимость является наиболее разумным способом сосуществования людей. Высокое понимание общественного долга роднит этику Скорины с этическими представлениями римских стоиков, в частности с этикой Цицерона, «гражданским гуманизмом» итальянского Возрождения.
Одной из характернейших особенностей этико-гуманистического мировоззрения Скорины является его глубокий патриотизм. Скорина был основоположником национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры и общественной мысли. Средневековым мыслителям, как известно, был свойствен христианский космополитизм. Для Скорины же интересы своего народа и Отечества выше религиозных интересов и конфессиональных притязаний, чувство долга перед Родиной и «братьями русью, людьми посполитыми» у него гораздо сильнее, чем религиозное благочестие. Патриотическое начало в мировоззрении Скорины — одно из наиболее ярких проявлений традиций древнерусской культуры. Оно являлось также результатом влияния культурной атмосферы эпохи Возрождения. Характерно, что свою деятельность белорусский гуманист не только обосновывал интересами «пожытку посполитого», но и конкретизировал ее направленность: «Наболей с тое причины, иже мя милостивый бог с того языка на свет пустил» (там же, 11. Курсив наш. — С. П.). В связи со сказанным вполне естественно и закономерно, что мыслитель поднимает понятие патриотизма на уровень высших добродетелей. Культурные деятели эпохи Возрождения часто обращались к библейским сюжетам для обоснования актуальных философских идей и социально-политических задач своего времени. Моисей, Давид, Иудифь и другие библейские персонажи являлись излюбленными героями художников итальянского Возрождения. Скорина в качестве примера героического и самоотверженного служения своему Отечеству описывает подвиг Иудифи, которая «для места рожения своего выдала ест живот свой на небезпеченство», убила персидского полководца Олоферна и тем самым спасла свой родной город и народ от рабства. Скорина считает, что книга Иудифи дана «к нашему научению, абыхом, яко зерцало, жену сию преславную пред очима имеюще, в добрых делех и в любви отчины не толико жены, но и мужи наследовали и всякого тружания и скарбов для посполитого доброго и для отчины своея не лютовали» (там же, 59. Курсив наш.— С. П.). Свой патриотизм, любовь к Родине Скорина выразил в следующих замечательных словах: «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие по воздуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих,— тако же и люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку имають» (там же, 59. Курсив наш. — С. П.). Этика Скорины, таким образом, воспитывала в человеке гражданина и патриота, формировала в нем качества, необходимые для активной общественно-практической деятельности на благо своего народа и Родины.
Скорина не абсолютизирует «общественное благо» в ущерб «благу индивидуальному», а пытается гармонически решить проблему взаимоотношения между ними. Чтобы быть полезным обществу, способствовать его оздоровлению, совершенствованию, сохранению его целостности, человек должен постоянно развивать свою духовность, и в частности воспитывать в себе необходимые для общественной жизни моральные качества. Стремление к общественному идеалу у Скорины тесно связано с необходимостью совершенствования нравственно-духовной природы человека. Важнейшей моральной добродетелью человека Скорина в соответствии с христианской этикой считает любовь. Однако христианское, а точнее, раннехристианское, или евангельское, понятие «любовь к ближнему» гуманистически перетолковывается Скориной. В представлении мыслителя, человеколюбие не ординарная норма повседневного поведения, а высший принцип взаимоотношений между людьми, универсальный закон частной и общественной жизни (там же, 94). Любовь человека к человеку — основа всех прочих добродетелей. Каждый человек, предписывает мыслитель, «наиболей любовь ко всим да соблудаеть, еже есть совершена над все иные дарования, без нея же ничто проспешно ест» (там же, 132. Курсив наш.— С. П.). Человеколюбие, полагает Скорина, является имманентным свойством человеческой духовности, естественным нравственным законом, написанным богом в сердце каждого человека. Характерно, что в иерархии моральных ценностей «вера» у Скорины стоит после «любви» (см. там же). Принцип любви распространяется Скориной не только на представителей христианского вероисповедания, но обращен «ко всякому человеку». Скорина, таким образом, полагает, что в другом человеке необходимо видеть человека, подобного себе, независимо от его положения в обществе, вероисповедания, национального происхождения. Гуманистическое толкование Скориной проблемы человека, по-видимому, является одной из причин, в силу которых ученые до сих пор не могут установить, к какому вероисповеданию он принадлежал. Как мыслителю Скорине свойственно глубокое уважение к «простому и посполитому человеку», высокое понимание его достоинства, которое, по мнению мыслителя, заключается в интеллекте, нравственных добродетелях, общественной активности, а не в богатстве, власти, сословной принадлежности. Сам Скорина был полон чувства собственного достоинства и гордости от того, что первая в восточнославянском мире печатная книга «выдана и выложена повелением и працею» его, «ученого мужа Франциска Скорины из славного града Полоцка, в науках и в лекарстве учителя». Утверждая в духе эпохи Возрождения свою личность и свое достоинство, мыслитель тем самым утверждал личность и достоинство каждого человека: в соответствии с провозглашенным им же самим нравственным принципом поведения Скорина относился к любому человеку так же, как к самому себе.
Что касается справедливости, то она, согласно Скорине, по своему происхождению также является врожденным божественно-природным моральным понятием. Человеколюбие и справедливость — два главных критерия морального поведения человека, на базе которых Скорина формулирует свой нравственный категорический императив. На основе человеколюбия и справедливости, считал он, должны не только строиться взаимоотношения между людьми, но и составляться юридические законы, отправляться правосудие, осуществляться государственное управление и политика (см. 3, 95; 115). Скорина, таким образом, был весьма близок к мысли Аристотеля о тождестве справедливости и добродетели (153, 84—85).
Хотя Скорина и признавал важность самоуглубленности и созерцательности, однако же предпочтение он отдавал социально активной, общественно полезной, деятельно-практической жизни. Интеллектуальные и нравственные добродетели человека существенны лишь в том случае, считал Скорина, если они имеют, как мы сейчас выражаемся, «выход в практику», служат «посполитому доброму»; если люди во имя общественного блага, «отчины своея» не жалеют «всякого тружания и скарбов», отдают себя целиком и полностью «розмножению мудрости, умения, опатрености, разуму и науки» (3, 24; 59). Утверждение в качестве идеала активной, общественно полезной, деятельной жизни отражало самосознание торгово-ремесленных слоев городского населения, являлось одним из моментов формирующейся раннебуржуазной идеологии Возрождения. В итальянской этикогуманистической мысли это линия К. Салютати, Л. Бруни, Л. Альберти, переосмысливших с позиций ренессансного гуманизма стоицистскую концепцию высшего блага и социально-нравственного долга человека (см. 124, 106—190). Характерно, что служение общественному благу, Отечеству, «людем посполитым» Скорина возводит в ранг подвижничества. Следует отметить коренное расхождение мыслителя с ортодоксальным христианством по данному вопросу. Если для официальных христианских философов подвижничество — это в основном религиозная аскеза, служение богу и церкви, то для Скорины подвижничество — это главным образом служение обществу, родине, людям, т. е. светская общественно полезная деятельность. В представлении мыслителя, служение общему благу, Отечеству, людям — это и есть служение богу. Направленность своей деятельности Скорина объясняет следующим образом: «Ко чти и к похвале богу и людем посполитым всем к пожитку» (3, 34); «богу ко чти и людем посполитым к научению» (там же, 44); а свой перевод книги Иудифи мыслитель адресует просто «людем посполитым руского языка к пожитку» (3, 60).
В вопросе об оправдании человека перед богом Скориной высказываются противоречивые суждения. В одном месте он в духе протестантизма утверждает, что «вси оправдаються верою сына божия. Занеже и Авраам не от дел, но от веры оправдася» (там же, 127). В другом месте мыслитель, ссылаясь на апостола Иакова, пишет, что необходимо «не только словом, але и делом показати веру хрестианскую... вера бо без дел мертва ест» (там же, 121). Впрочем, многие противоречия во взглядах Скорины суть противоречия самой Библии.
Нельзя не отметить свойственный мыслителю оптимизм, уверенность, что нравственно прекрасные, альтруистические начала должны преодолеть человеческий эгоизм и себялюбие, утвердить в сознании людей чувство справедливости, уважение к человеческому достоинству, готовность служения общему благу. Этот оптимизм, характерный для ранней стадии Ренессанса, при столкновении с реальной действительностью все больше будет обнаруживать свой утопизм. Как отмечает А. Ф. Лосев, Ренессанс освободил человеческую личность, но в то же время он показал и то, «как ничтожна эта земная человеческая личность и как иллюзорно мечтание ее о свободе» (88, 438). Эпоха позднего Возрождения принесет с собой разочарование в ренессансных этико-гуманистических идеалах не только в Западной и Центральной Европе, но и в Белоруссии конца XVI — начала XVII в. Мыслители позднего Ренессанса и барокко придут к осознанию «разорванности» и противоречивости социального бытия, невозможности реализации гуманистических принципов в условиях современной нм действительности.
Философско-этические воззрения Скорины образуют ряд довольно противоречивых идейных пластов. Он пытается совместить христианское, а вернее, раннехристианское, евангельское, этическое учение с некоторыми идеями античной и ренессансно-гуманистической этики. С точки зрения типологической этические взгляды Скорины примыкают к идейно-философскому течению эпохи Возрождения, известному под названием христианского гуманизма (см. 106, 38—39). Без христианской веры Скорина, разумеется, не мыслит себе интеллектуально и нравственно совершенного человека; служение обществу он теснейшим образом связывает со служением богу. Наряду с философской мудростью и знаниями человека должны отличать, полагает он, истинная вера, «долготерпение», «смирение», «тихость» и прочие традиционно христианские добродетели (см. 3, 24—25). Свои этические взгляды Скорина основывает на религиозно-нравственных предписаниях Библии, извлекает морально-дидактический смысл из ее поучений, исторических сюжетов, аллегорий.
Вместе с тем он стремится выйти за пределы ортодоксально-христианской трактовки и гуманистически интерпретировать содержание Священного писания, расставить новые акценты, обратив внимание читателей на те нравственно-философские проблемы, которые игнорировались официальными комментаторами библейских текстов. Как и для представителей христианского гуманизма (Эразма Роттердамского, Джона Колета, Томаса Мора и др.), для Скорины характерно стремление гуманизировать религиозное сознание человека, синтезировать христианство с элементами античной культуры, уважение к светским знаниям, науке, философии, сделать свое учение орудием интеллектуально-нравственного совершенствования человека, морально-религиозного и социального реформирования общества, средством утверждения новых, гуманистических ценностей. Вслед за Аристотелем Скорина полагает, что общество должно исправляться «внедрением добрых нравов, философией и законами» (121, 50). В духе Эразма Скорина расширительно толкует христианские добродетели как общечеловеческие. Возможно, все это у Скорины выражено не столь явно и открыто, но тем не менее в той или иной мере и форме оно присутствует в его мировоззрении. Христианский гуманизм Скорины имеет и свою специфику: он носит просветительски-демократический характер. Во всех сочинениях Скорина обращается к народу, «людем простым, посполитым».
Глава V. «Не к пожитку единого человека, но к посполитому доброму» (социально-политические взгляды)
вляясь выразителем идеологии горожан, Скорина придавал большое значение вопросам правового регулирования общественной жизни, стремился утвердить авторитет законности, в частности он пытался обосновать концепцию «естественного права». Скорина считал, что в основе правовых и моральных норм лежит «прироженый закон», написанный богом «в серци единого кажного человека» и зафиксированный в человеческом разуме. Разум дает возможность человеку четко отличать добро от зла, справедливо поступать по отношению к другим людям (см. 3, 93—94). Стремление к правопорядку есть, таким образом, естественная потребность человека с момента сотворения.
Согласно Скорине, «права земская», или светские законы, «единый кажный народ с своими старейшими ухвалили суть подле, яко же ся им налепей видело быти» (там же, 95). Мыслитель считал, что право — человеческое установление. Оно возникает у каждого народа в разное время, обусловлено образованием общества и государства, деятельностью первых царей и правителей.
Скорина считал, что «праведному закон не ест положен», т. е. добродетельному, интеллектуально и нравственно совершенному человеку законы не нужны, ибо он руководствуется в общественной жизни, во взаимоотношениях с другими людьми «прироженым», естественным, законом. Поэтому «вчинены суть права, или закон, для людей злых, абы боячися казни, усмирили смелость свою и моци не имели иным ушкодити, и абы добрый межи злыми в покои жити могли» (там же, 95). Скорина, таким образом, разделял точку зрения некоторых античных философов, в частности Демокрита, софистов, Аристотеля, о том, что для совершенного человека, мудреца право излишне, ибо последний делает по собственному убеждению то, что другие делают, боясь строгости законов (см. 121, 132). В то же время Скорина хорошо понимал важность и необходимость права в условиях реального общества. Обосновывая мысль о естественном, историческом происхождении светского права, мыслитель выдвигал ряд критериев его истинности, совершенства. Эти критерии напоминают некоторые требования, которые предъявлял к праву Аристотель (см. там же, 111—152. 153, 84). Так же как и древнегреческий философ, Скорина считал, что главное назначение законов — служить общественному благу. Это то общее, что должно быть свойственно всякому праву. Вместе с тем закон той или иной страны может иметь и нечто особенное в зависимости от характера общества, обычаев и нравов народа. По мнению Скорины, право основывается на морали, и прежде всего на человеколюбии и справедливости. Закон должен пользоваться всеобщим уважением, быть четким и ясным, не содержать возможности для неадекватного его истолкования (см. 3, 95).
Скорина следующим образом классифицирует светское право. Первым в его классификации фигурирует «посполитое право», которое «от всех народов посполите соблюдаемо ест, яко мужа и жены почтивое случение, детей пильное выхование, близко живущих схожение, речи позыченое навращение, насилию силою отпрение, ровная свобода всем, общее имение всех» (3, 95—96). «Посполитое право» Скорины напоминает «естественный человеческий закон» Фомы Аквинского, оно фиксирует наиболее общие принципы человеческого общежития, а именно потребность в продолжении рода, самосохранении, воспитании молодого поколения и т. д. Вторым Скорина называет «право языческое», в компетенцию которого входит, «яко земель чужих мечем достование, градов и мест утвержение, послов без переказы отпущение, миру до часу прирченого выполнение, войны неприятелем своим оповедание» (там же, 96). Возможно, что Скорина имеет в виду международное право. Следующее — «право царское», или государственно-административное. Затем он называет «право рицерское, или военное, еже на войне соблюдаемо бываеть». И наконец, мыслитель говорит о существовании права «местьского» (городского), «морского» и «купецького» (торгового). Скорина не подчиняет светское право Библии, он устанавливает различие их компетенций, хотя и делает оговорку, что «вси тые права, или уставы, божий закон в собе замыкаеть» (там же, 97).
Большое значение придавал Скорина совершенствованию системы судопроизводства, в основе которого, по мнению мыслителя, также должен лежать принцип справедливости. Он полагал, что судьи должны судить людей не «яко цари или властели вышнии, силу имеюще над ними, но яко ровнии и товарищи, раду им даючи и справедливость межи ними чинячи». «Судьи и справце...— пишет Скорина, ссылаясь на Второзаконие,— да судять людей судом справедливым, и да не уклонятся ни на жадную страну, и да не зрять на лица, и не приимають даров, понеже дарове ослепяють очи мудрых людей и зменяють слова справедливых. Справедливе, что справедливаго ест чините, абы есте живи были и владели землею» (там же, 115). Характерно, что эта же мысль обосновывается в эпиграфе к Статуту Великого княжества Литовского 1588 г.: «А справуйте все шире, нет бо пред господем богом нашим неправости ани бракованья особ, ани пожеданья даров (2 Пар. 19). Милуйте справедливость, которые судите землю (Прем. 1)» (86, 4). Высказывания Скорины сходны с соответствующими рекомендациями Аристотеля, считавшего, что для сохранения общественной и государственной целостности необходимо избирать достойных магистратов, которые бы не нарушали законов, не обращали свои должности в источник личного обогащения и т. д. (см. 121, 234—238). Беззаконие Скорина трактовал как величайшее божье наказание людям и, напротив, законность — как великое благо (см. 3, 115—116).
Скорина считал право надсоциальным институтом и не рассматривал его в качестве зафиксированной роли господствующего класса. Как уже отмечалось, по мнению мыслителя, «права земская, еже единый кажный народ с своими старейшими ухвалили суть подле, яко же ся им налепей видело быти» (там же, 95). Закон у Скорины выступает как основа социальной гармонии. Нарушение законности, правосудия ведет к разрушению общественного согласия и единства. Утверждение «культа закона», поднятие его авторитета свидетельствовали о горячем и искреннем стремлении мыслителя ограничить феодальный произвол, сделать законность и правопорядок нормой для общества и, несомненно, находились в русле интересов «люду посполитого» — ремесленников и купцов Великого княжества Литовского. Постановка Скориной проблемы совершенствования законодательства и судопроизводства говорит также о том, что он был связан с отечественной действительностью начала XVI в., осознавал и реально оценивал актуальные социально-политические задачи, стоявшие перед обществом. Намерения Скорины повлиять на государственную политику говорят о его активной, деятельной натуре гуманиста и гражданина.
Политическим идеалом Скорины являлась просвещенная, гуманная и сильная монархическая власть. Идеальными государями он считал древневосточных монархов Соломона и Птолемея Филадельфа, древнегреческих и римских царей и законодателей Солона, Ликурга, Нуму Помпилия и др. В представлении мыслителя, правитель должен быть благочестивым, мудрым, образованным, добродетельным, чутким по отношению к своим подданным, справедливым. Государь обязан управлять страной в строгом соответствии с законами, следить за правильным исполнением правосудия. Вместе с тем правитель должен быть сильным и грозным, уметь в случае необходимости защитить свой народ (см. 3, 52). Предпочтение Скорина отдавал «мирному государю». Так, заслугой царя Соломона он считал, что «был мир и покой по вся времена царства его» (там же, 17).
Собственно социальный аспект слабо выражен в скорининских предисловиях. Евангельско-христианским абстрактно-гуманистическим принципам человеколюбия и справедливости Скорина поверял не только нравственные, но и социальные отношения. Мыслитель не отрицал наличия в обществе классовых противоположностей, «богатых» и «убогих», однако полагал, что взаимоотношения между различными социальными слоями населения должны строиться на основе мирного сосуществования, гармонии, «братолюбия», «друголюбия», «незлобия» (там же, 123). Человеческое общежитие, считал Скорина, должно покоиться на всеобщем мире и согласии, «згоде», «с нея же все доброе всякому граду и всякому собранию приходит, незгода бо и найболшие царства разрушаеть» (там же, 139). Скорина пропагандировал идеи раннехристианской филантропии, убеждал всех людей относиться «спомогающе друг другу со всякою любовию» (там же, 139), а имущих призывал, чтобы они «давали милостыню на споможение братиам» (там же, 133).
Трактовка в духе раннехристианского гуманизма некоторых евангельских сюжетов получает у Скорины определенное актуально-социальное звучание. В частности, его комментарии на Послание апостола Павла к Филимону содержат косвенную мысль об обязанности феодалов гуманно относиться к беглым крепостным крестьянам. «Той Онисим,— пишет Скорина,— был ест раб Филимонов, и, втекши от него, приде в Рим, и послуговаше Павлу, и бысть его велми пилен. Павел пак, занеже любляте Филимона яко брата, не хоте оскорбити его, прото ж и отсылаеть к нему раба его. Дивным же обычаем и дивными примолвами пишет за ним, дабы не толико гнев отпустил ему, но к тому, яко брата возлюбленнаго, принял его» (там же, 149—150). Если учесть, что в эпоху Скорины бегство являлось самой распространенной формой антифеодального протеста, то данное высказывание свидетельствует о критической ориентации социальных взглядов мыслителя. В качестве социально-нравственных пороков у Скорины фигурируют «неволя», «нелютость» (безжалостность) и др. Отметим, что у социальных мыслителей Великого княжества Литовского рассматриваемой эпохи понятие «неволя» означало не только рабство, но и крепостничество. В духе апостола Иакова Скорина учил, что «богатии, обидяще убогих, приимут отмщение». «Убогим» же он рекомендует «все до часу терпети и на бога вскладати» (там же, 122). Мыслитель в соответствии с Посланием апостола Павла к селуянам осуждает тех, кто «суть безчинни и празнующе», и утверждает: «Кто не хощет делати, да не ясть и к делу приставлен будет» (там же, 146). Скорина осознает различие между реальной социальной действительностью своей эпохи и идеалом. В качестве социального идеала мыслитель утверждает раннехристианский принцип «ровная свобода всем, общее имение всех» (там же, 96). Это аспект «посполитого права», т. е. естественного человеческого закона. Для Скорины социальное и имущественное равенство не историческая перспектива, а далекое прошлое, «золотой век», времена раннехристианских общин. «Тым законом,— пишет он,— живяху верующий во Христа по вшествии его на небеса» (там же, 96). Социальная ориентация мыслителя, таким образом, свидетельствует о влиянии на его мировоззрение радикально-реформационных идей. Социальные воззрения Скорины, находясь в русле идей раннего христианства, в определенной степени являлись оппозиционными по отношению к существующей феодальной действительности.
В основе политических и социальных взглядов Скорины лежит этическое начало. В его понимании, всякая социально-политическая деятельность должна базироваться на нравственно прекрасных принципах: человеколюбии, справедливости, мудрости, мужестве и т. д. Руководящий принцип социально-политической концепции мыслителя — служение общественному благу, подчинение индивидуальных интересов интересам общества. Это требование одинаково обращено как к государственным деятелям, так и к простому народу, как к богатым, так и к бедным. Скорина пытается рассматривать политико-правовые институты как человеческие установления, относительно независимые от божественного провидения и религиозно-церковного учения. Догматы церкви и библейские тексты у мыслителя не имеют силы юридического закона. В то же время тесная связь права и политики с моралью, которую устанавливает Скорина, еще отвечает духу средневековых представлений. Абсолютизируя в вопросах права и политики моральный фактор, мыслитель по сути дела игнорирует их подлинные классово-экономические основы. Некоторые политико-правовые идеи Скорины, в частности идея взаимосвязи божественного, естественного и человеческого права, по-видимому, заимствованы у Аквината (см. 133, 374—375).
Скорине свойствен социальный демократизм. Он ориентируется на «людей простых, посполитых» и постоянно апеллирует к ним. В отличие от многих гуманистов эпохи Возрождения мыслитель чужд чувства элитарности, он не третирует простой народ как темную и необразованную массу, неспособную воспринять философскую мудрость, науку, а, напротив, обращается к народу как к равному, верит в его интеллектуальные и моральные возможности.
Глава VI. «Песнь вкупе тело пением веселит, а душу учит» (эстетические суждения и оценки)
предисловии к Псалтыри Скорина приходит к выводу, что познание не может ограничиваться логико-рассудочными средствами, что в этом процессе большую роль играют также и чувственно-эмоциональные факторы. «Святые писма,— пишет мыслитель, — уставлена суть к нашему навчению, исправлению, духовному и телесному различными обычаи». В числе этих «обычаев», или средств воздействия на человеческое сознание, находятся песни и псалмы, «от царя Давыда и от иных божиих певцев сложеные» (3, 9). Скорина, следовательно, ставит проблему художественно-эстетического познания трансцендентного и реального.
Предисловие к Псалтыри — наиболее яркий документ, характеризующий эстетические представления мыслителя. Как известно, Псалтырь является одной из книг Ветхого завета. Ее название происходит от щипкового музыкального десятиструнного инструмента типа лиры, арфы или гуслей. Псалтырь — сборник поэтических произведений, предназначенных для вокального исполнения. Употреблялась Псалтырь вначале в древнееврейском, а затем в христианском богослужении. На старославянский язык Псалтырь была переведена еще Кириллом и Мефодием, а впервые напечатана в 1491 г. в Кракове. Псалтырь служила основным учебным пособием в Древней Руси, на протяжении многих столетий являлась настольной и подорожной книгой образованных православных людей России, Украины, Белоруссии.
Если каждая в отдельности библейская книга, полагал Скорина, имеет локальную задачу, затрагивает тот или иной аспект веры, морали и т. д., то Псалтырь оказывает на человеческий дух всестороннее влияние. «Псалтырь же,— писал мыслитель,— сама едина вси тые речи в собе замыкаеть и всех тых учить и все проповедуеть» (там же, 9—10). Как справедливо отмечает В. М. Конон, в данном высказывании мыслителя «содержится интересная догадка о многозначности содержания искусства в отличие от однозначности научных понятий» (82, 48). Скорина считал, что музыка максимально мобилизует дух, активизирует познавательные возможности, оказывает катартическое воздействие на внутренний мир человека. «Псалмы,— писал мыслитель,— якобы сокровище всих драгых скарбов, всякий немощи, духовный и телесный, уздравляють, душу и смыслы освещають, гнев и ярость усмиряють, мир и покой чинять, смуток и печаль отгоняют, чювствие в молитвах дають, людей в приязнь зводять, ласку и милость укрепляють, бесы изгоняють, ангелы на помощь призывають» (3, 10). Учение о музыке и песнопении, приводящих в состояние гармонии душевный настрой человека, врачующих человеческую психику, освобождающих от страстей, совершенствующих нравы, имело давние и глубокие традиции. Оно разрабатывалось пифагорейцами, Аристотелем, Боэцием, отцами церкви, византийскими философами и богословами. В частности, вышеприведенное высказывание Скорины о псалмах, по всей вероятности, является парафразой панегирика псалму Василия Кесарийского (см. 96, 105).
Так же как и Аристотель, который считал, что «музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души» (121, 368), Скорина подчеркивает нравственно-воспитательное значение музыкального искусства и его роль в развитии интеллекта человека: «Там ест справедливость, там ест чистота, душевная и телесная. Там ест наука всякое правды. Там мудрость и разум досконалый[10]. Там ест милость и друголюбство без льсти и вси иншии добрые нравы якобы со источника оттоль походять» (3, 10). Скорина обосновывает концепцию единства искусства и морали. В то же время он пытается рассматривать эстетическое как суверенный фактор духовного мироощущения человека. Музыка, согласно Скорине, имеет не только познавательное, очистительное и воспитательное значение, но и самостоятельную эстетическую ценность как бескорыстное, незаинтересованное наслаждение человека красотой. «Псалом,— утверждает мыслитель,— ест... покой денным суетам и роботам, защититель младых и радость, старым потеха и песня, женам набожьная молитва и покраса, детем малым початок всякое доброе наукы, дорослым помножение в науце, мужем моцное утверьжение... Псалом... свята украшаеть... Псалом жесткое сердце мякчить и слезы с него, якобы со источника изводить, всякую противность, еже ест бога ради, усмиряеть. Псалом ест ангельская песнь, духовный темъян, вкупе тело пением веселит, а душу учить» (там же, 10. Курсив наш. — С. П.). В то же время большую роль отводит Скорина музыке и пению как средствам религиозного воспитания человека (см. там же, 10—11). Псалтырь мыслитель сравнивает с гуслями, на струнах которых играет божественный дух (см. там же, 11).
Итак, скорининские эстетические суждения и оценки, содержащиеся в предисловии к Псалтыри, имеют двойственный, противоречивый характер. В соответствии с эстетическими представлениями средневековья мыслитель рассматривает музыку как важное средство воспитания религиозного благочестия, подчеркивает ее познавательное и морально-катартическое значение для устремленного к богу человека. Вслед за Иоанном Златоустом, Василием Великим, Иеронимом (см. 96, 17) Скорина считает, что музыкальное искусство «бесы» изгоняет, «ангелы на помощь призывает» (3, 10). Для Скорины, как и для средневековых эстетиков, характерно стремление к аллегорическому истолкованию музыки. «А была сия гудьба уставлена,— пишет он о десятиструнной псалтыри,— духом святым на знамя десятерого божьего приказанья, еже дал господь Моисеови на горе Синаи, а то к нашему научению, абы мы, Псалтырю поючи, чтучи и говорячи, всегда имели десятеро божье приказание пред очима» (там же, 11). В то же время следует признать, что в оценках и суждениях Скорины относительно музыкального искусства обнаруживаются элементы античной и ренессансной эстетики. Если средневековые мыслители почти полностью отрицали самостоятельную эстетическую ценность музыки, рассматривали ее главным образом в качестве средства, подготавливающего духовный мир человека к восприятию трансцендентного, то Скорина, не отвергая данной функции музыки, видит ее предназначение также в том, чтобы доставлять человеку «радость», «потеху», «покрасу», считает, что псалмы не только «душу учат», но и «тело веселят». Музыка, в его представлении, есть осуществление гармонии чувства и разума. Вслед за Аристотелем (см. 121, 374) и ренессансными мыслителями Скорина отмечает полифункциональный характер музыкального искусства, подчеркивает его не только религиозно-дидактическую направленность, но и светскую нравственно-воспитательную, интеллектуально-образовательную, психотерапевтическую и собственно эстетическую функцию. И наконец, как гуманист, Скорина считает, что музыка имеет большое общественное значение (см. 3, 11).
Скорина пытается преодолеть средневеково-христианское учение о красоте как категории по преимуществу божественной. Он стремится обнаружить прекрасное главным образом в самом человеке, трактуя красоту как гармонию нравственно-интеллектуальных и гражданских добродетелей. Для Скорины характерна эстетизация познавательной деятельности человека. Мудрость, в его представлении, «якобы моць в драгом камени и яко злато в земли, и ядро у вореху», она «мати всех добрых речей и учитель всякому доброму умению» (там же, 20). Мыслитель обожествляет человеческий разум, в котором обнаруживается «дух разумности святой», и называет его «сладким», «чистым», «сталым» (совершенным. — С. П.) и т. д. (см. там же, 20). В начертанной Скориной образовательной программе определенное место занимают также дисциплины, связанные с эстетическим воспитанием,— риторика и музыка (см. там же, 62—63).
Красота у Скорины тождественна с добром, человеколюбием, справедливостью, общественным благом, с гражданственностью и патриотизмом. На базе слияния этического, социально-политического и эстетического Скориной решается проблема идеала (см. 82, 44—47). Мыслитель стремится создать идеальный образ личности, гражданина, государственного деятеля, военачальника, составить представление об идеальном законе, государственном и общественном строе. Он использует творческий принцип художников эпохи Ренессанса, которые вкладывали в библейские образы и аллегории актуальное социально-политическое и этическое содержание, решали с их помощью новые художественно-эстетические задачи. В качестве идеальной личности у Скорины выступает Иисус Сирахов, который больше всего заботился о том, чтобы выразить себя в творчестве и тем самым оставить «по собе паметь, яко и предкове его оставили суть, дабы паметь его не загинула во веки» (3, 23—24). Это уже не средневеково-христианский, а ренессансный идеал личности, высшим проявлением которой является творческое самовыражение. В этом же плане изображает Скорина портреты идеальных царей-интеллектуалов — «премудрого» Соломона, «милосника наукы и мудрости» Птолемея Филадельфа и др.
Идеалом гражданственности и патриотизма у Скорины является библейская героиня Иудифь. Сюжет о ней был чрезвычайно популярным в западноевропейском искусстве; им, в частности, широко пользовались итальянские художники в целях гражданско-патриотического воспитания (Донателло, Джорджоне, Микеланджело и др.). Подвиг Иудифи, ее самопожертвование во имя любви к своему народу и родине Скорина оценивает не только этически, но и эстетически, как героический, прекрасный, возвышенный порыв, который должен служить образцом и идеалом поведения для всех людей (см. там же, 59). Возведение гражданственности и патриотизма в степень героического, прекрасного, возвышенного чрезвычайно характерно для эстетического сознания античности и Возрождения. В то же время оно чуждо средневеково-христианскому мировоззрению, отдающему предпочтение религиозно-космополитическим добродетелям человека (см. 90, 160). Мыслитель следует эстетическим традициям эпохи Возрождения и тогда, когда прославляет красоту земного, гражданского подвига, а не религиозное подвижничество. Скорина, как и многие гуманисты эпохи Возрождения, снижает библейскую сюжетность до обыкновенного человеческого понимания (см. 88, 234—235), делает ее объектом эстетического восприятия «посполитого» человека, что выражало тенденцию секуляризации искусства, его «имманентизации», «очеловечивания». Эстетизация гражданского патриотизма говорит также об исторической связи скорининских эстетических воззрений с эстетической мыслью Древней Руси (см. 18, 296).
Эстетический момент присутствует в высказываниях Скорины относительно идеального общественного устройства. В произведениях мыслителя содержится попытка ретроспективного конструирования социального идеала в духе утопических учений о «золотом веке». Взгляды Скорины на идеальное общество в какой-то мере перекликаются со средневековыми народными утопиями, в которых за эталон идеального социального устройства принимается образ жизни раннехристианских общин (см. 3, 96). Утопический ренессансно-просветительский характер носило перспективное конструирование общественного идеала, поскольку решающую роль в совершенствовании жизни общества должны, по мнению Скорины, сыграть морально-правовые факторы, а не коренное социальное переустройство.
В предисловии к книге Иова Скорина фиксирует противоречие между божественным провидением и индивидуальной человеческой судьбой и на этой основе пытается решить проблему трагического (см. 82, 43—44). Книга Иова — философская поэма, притча о превратностях человеческой судьбы по божьей воле. Иов, согласно библейской легенде, был «непорочен, справедлив и богобоязнен», у него было много детей, имущества и прислуги. И вот однажды бог по наущению сатаны решил испытать, «даром ли богобоязнен» Иов. Иов лишился всего, сатана поразил его «проказою лютою от подошвы ноги по самое темя». На почве личной трагедии в душе Иова совершается отчаянная борьба. В нем борются два человека: бунтарь, протестующий против божественной несправедливости, бессмысленного и изуверского испытания, и смиренный человек, подчиняющийся воле божьей, остающийся ему преданным и верным до конца. Библейская притча об Иове построена на античном и средневеково-христианском понимании трагического. Согласно этому пониманию, причина трагедии заключена не в свободной воле и действии субъекта, она навязывается человеку извне божественным провидением. Скорина трактует притчу об Иове как величайшее проявление человеческого духа в крайней, трагической, ситуации, как способность человека посредством долготерпения сохранить свое человеческое достоинство, остаться верным и преданным идее. В то же время следует отметить, что Скорине импонирует не Иов-бунтарь, а Иов смиренный, который был богом вознагражден за свое терпение. Сказание об Иове, полагает Скорина, «являет нам достойность, святость и терпение святого Иова... яко бо злато искушается огнем, тако и святии божии терпением» (3, 13). Однако Скорина не ограничивается констатацией трагического противоречия между богом и человеком, а ставит вопрос о характере божественного руководства миром в целом. Его волнует проблема трагической судьбы человечества, причиной которой является бог: почему по божьей воле добродетельные страдают, а порочные наслаждаются и благоденствуют? «В сих книгах,— пишет мыслитель,— открил ест нам бог великие тайны святым Иовом. Напервей, чего ради господь бог на добрих и на праведных допущаеть беды и немоци, а злым и несправедливым даеть щастье и здравие; теже о бедном и горком животе людском на сем свете и о конци добрых и злых; теже, которые зобижають убогых, что на таковых бог перепущаеть» (там же). Однако проблему теодицеи (богооправдания) Скорина решает в традиционно-христианском духе: бог вправе подвергнуть человека испытанию страданием, но он же и всемилостив, ибо пострадавший в конце концов будет щедро вознагражден, причем не только в будущей, но и в настоящей, земной жизни, как это можно убедиться на примере Иова (см. там же).
Прекрасными являются у Скорины не только человеческий дух, разум, добродетели, но и в какой-то мере физическая природа человека, его здоровье и в целом красота материального мира. Рассуждая, например, о земной, реальной человеческой жизни, мыслитель довольно терпимо относится к стремлению человека заботиться о «здравии, красоте и крепости телесной» (там же, 28).
Из предисловий Скорины следует, что Библия рассматривалась им не только как боговдохновенное сочинение, но и как результат человеческого творчества, как художественное произведение, созданное усилиями и талантом многих выдающихся людей. Мыслитель выясняет историю написания той или иной библейской книги, стремится установить ее авторство, растолковать читателю название каждой книги на древнееврейском, древнегреческом, латинском и русском языках, пересказать ее содержание, дать свою собственную оценку, отметить основную идею. Так, Скорина полагает, что с литературно-художественной точки зрения среди прочих евангельских книг следует отдать предпочтение Евангелию от Луки, ибо «святый Лука писал ест о слове божием навышшей, наистей и нарядней, нежели иные» (там же, 117). Житие Иисуса Христа, по мнению Скорины, Лука «ширей, ясней и досконалей, нежели иные евангелисты, выписуеть» (там же, 119). Пророчество Иова, в представлении мыслителя, «светлей и явней всех иных пророков божиих» (там же, 13).
Скорина интерпретирует библейские аллегории и символы, использует их в своих гравюрах. Обращение мыслителя к библейской религиозно-философской символике свидетельствует о том, что некоторые истоки его эстетических представлений восходят к византийской религиозно-культурной традиции (см. 30, 58—59).
Издавая Библию, Скорина придавал большое значение ее художественному оформлению. Издания Скорины снабжены большим количеством гравюр, заставок, орнаментированных титульных листов и заглавных букв (см. 48). По сведениям Н. Н. Щекотихина, в скорининских изданиях насчитывается 45 гравюр (см. 151, 184). Как полагают исследователи (В. В. Стасов, П. В. Владимиров, Д. А. Ровинский, А. И. Некрасов, Н. Н. Щекотихин, М. С. Кацер, Л. Т. Борозна, В. Ф. Шматов, В. М. Ко нон и др.), искусство скорининских книг находилось на уровне лучших образцов книжной графики эпохи Ренессанса. В своих предисловиях Скорина отмечал познавательную и нравственно-воспитательную функцию художественного оформления своих книг: «Абы братия моя русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разумети» (3, 47). Это дало основание П. В. Владимирову утверждать, что гравюры Скорины имели лишь вспомогательный, иллюстрационный характер. Против этой точки зрения решительно возражал Н. Н. Щекотихин, который на основе тщательного искусствоведческого анализа доказывал, что некоторые скорининские гравюры выходят за рамки объяснительных иллюстраций, представляют собой самостоятельные произведения искусства (см. 151, 184—185).
Невыясненным остается вопрос об авторстве художественных атрибутов скорининских изданий. Мнение Л. Т. Борозны, что «есть все основания утверждать, что Франциск Скорина был единственным автором всех гравюр и заставок, помещенных в его книгах» (см. 48, 8), слишком категорично и мало обосновано. На наш взгляд, ближе к истине Н. Н. Щекотихин, который писал: «Скорина принимал некоторое активное участие в деле художественного украшения своих изданий — возможно, не в качестве гравера, но как автор тех или иных рисунков или композиционных схем» (151, 186). Что касается художественного стиля гравюр и орнаментальных украшений скорининских книг, то они, по мнению Н. Н. Щекотихина, представляют собой сплав готики и Ренессанса с преобладанием последнего (см. там же, 220). В гравюрах Скорины художественно-эстетические приемы эпохи Возрождения видны в изображении человеческого тела, использовании перспективы, обращении к народным сюжетам, композиции и т. п. По мнению А. И. Некрасова, некоторые фигуры на скорининских гравюрах по форме близки образам Лукаса Кранаха (см. 99, 53). Л. Т. Борозна обнаруживает влияние Альбрехта Дюрера в скорининской гравюре «Троица» (см. 48, 20). В то же время Н.Н. Щекотихин возражал против преувеличения влияния немецкой ренессансной графики на художественное оформление скорининских изданий, подчеркивая в целом ряде моментов его оригинальный и самостоятельный характер (см. 151, 221). Для гравюр скорининских изданий характерна индивидуализация героев; в физическом типе людей, одежде, пейзаже чувствуются славянские национальные черты, приметы эпохи. Несмотря на религиозно-мифологическую тематику, многие скорининские гравюры глубоко реалистичны. Шедевром светской отечественной графики следует считать помещенный в Библии портрет самого Скорины. Выдающимися произведениями искусства являются орнаментированные буквы скорининских изданий, которые по своему художественному исполнению выше, чем заглавные буквы «Чешской Библии» и многих немецких изданий (см. там же, 218).
Большую эстетическую ценность представляет собственно литературное наследие Скорины, отличающееся высоким уровнем мастерства, живостью письма, изяществом слога, богатой лексикой, образными сравнениями, народным белорусским колоритом и т. д. Скорина, как показал П. Н. Берков, имеет большие заслуги и перед восточнославянским стихосложением. В трех своих стихотворениях, помещенных в Библии, он предпринял оригинальную попытку сочетания принципов библейской поэтики с элементами силлабического стихосложения (см. 26, 245—261).
Глава VII. Наследники Скорины (ренессансно-гуманистические идеи в отечественной этике)
амеченная во взглядах Скорины ренессансно-гуманистическая тенденция получила дальнейшее развитие в отечественной мысли, в частности в творчестве Николая Гусовского, Михалона Литвина, Симона Будного, Василия Тяпинского, Станислава Кошутского, Андрея Волана, Мартина Чеховица, Стефана Лована, Каспера Бекеша, Яна Лициния Намысловского, Беняша Будного, Лаврентия Зизания, Юзефа Доманевского, Казимира Лыщинского, Симеона Полоцкого и др.
Советскими учеными (Н. И. Конрад, Ш. П. Нуцубидзе, И. Н. Голенищев-Кутузов, В. К. Чалоян, Ю. М. Юргинис и др.) вполне аргументированно обосновывается мысль о том, что эпоху Возрождения в той или иной форме пережили не только западноевропейские, но и многие другие народы, в том числе и восточноевропейские. Как уже было показано в общих чертах, на протяжении XVI столетия в Великом княжестве Литовском, и в частности в Белоруссии, сложились реальные экономические, социально-политические и культурные предпосылки для формирования ренессансно-гуманистических воззрений в философской и общественной мысли. В скорининскую и особенно в послескорининскую эпоху культура и общественное сознание достигли уровня, на котором оказалось возможным не только усвоение прогрессивных достижений мысли европейского Ренессанса, но и выработка оригинальных отечественных гуманистических идей и концепций. «От берегов Адриатики до Балтики, от Праги до Вильно в XV—XVII вв. происходил процесс усвоения и переработки гуманистических идей, не менее значительный, чем в Западной Европе»,— писал И. Н. Голенищев-Кутузов (43, 47). В то же время мы далеки от отождествления западноевропейского и отечественного Ренессанса, механического перенесения эталонов западноевропейского гуманизма на отечественную культурную почву. Великое княжество Литовское в своем экономическом, социальном и культурном развитии, несомненно, имело целый ряд общих черт с Западной и Центральной Европой. Вместе с тем отечественная социально-экономическая и культурная жизнь имела свои особенности и специфику, что не могло не отразиться и на характере гуманизма. Среди этих специфических особенностей отметим, например, такие, как отсутствие в экономике ярко выраженных капиталистических проявлений, большую зависимость городов от феодалов, меньшую по сравнению с Западной Европой социально-политическую зрелость городского сословия, засилье религии, недостаточное развитие светского начала в культуре, многонациональный и разнорелигиозный характер населения, незавершенный процесс национальной дифференциации и культурной консолидации белорусской, украинской и литовской народностей и т. д. Все эти факторы, несомненно, накладывали отпечаток на отечественный гуманизм, характер и проблематику философской и общественно-политической мысли рассматриваемого периода. В частности, незавершенность национально-культурного обособления народностей, населяющих Великое княжество Литовское, обусловила такие уже рассмотренные нами особенности отечественной культуры, как полилингвизм и национальная неоднозначность. Своеобразие отечественного гуманизма эпохи Возрождения проявилось также в преимущественном интересе к этическим и социально-политическим проблемам; в интеграции в ряде случаев религиозно-реформационных идей и идей светского гуманизма; в связи не только с антифеодальной идеологией, но и с идейной борьбой против национально-религиозного угнетения; в ярко выраженной попытке синтеза идейных ценностей обновленного христианства, античности и Ренессанса; в развитии гуманистических воззрений на базе взаимодействия духовных культур России, Белоруссии, Украины, Литвы, Польши; в рельефно обозначенной патриотической, демократической и культурно-просветительной тенденции и т. п. Преобладание этико-политической мысли в ренессансно-гуманистической философской культуре Великого княжества Литовского было связано не только со спецификой общественных условий; оно выражало ведущую антисхоластическую традицию эпохи Возрождения. Одним из характернейших моментов формирующегося ренессансно-гуманистического сознания общества являлось обращение отечественных мыслителей к духовным ценностям античной древности (см. 111, 14—28. 115, 36—51). Как справедлив во отмечает В. В. Соколов, обращение мыслителей более поздних эпох к философскому наследию античности никогда не сводилось к простому комментированию, в нем неизбежно присутствовало свободное, творческое отношение к традиции. Даже простое воспроизведение философского учения Аристотеля «в совершенно изменившихся условиях становилось огромным идеологическим и теоретическим явлением» (см. 133, 243—244). Воспринятые общественными и культурными деятелями Белоруссии, Украины и Литвы идеи различных философских систем античности — платонизма, аристотелизма, стоицизма, эпикуреизма — творчески перерабатывались и развивались, включались в контекст сформировавшихся на отечественной почве онтологических, гносеологических, этических, социально-политических и эстетических концепций, адаптировались применительно к актуальным общественным и государственным идеологическим потребностям, использовались в прогрессивной преобразовательной деятельности. Античная культура, в том числе и философия, способствовала формированию ренессансно-гуманистического мировоззрения, секуляризации отечественной общественно-политической и философской мысли, отделению ее от теологии и религии, разложению схоластики, утверждению идей рационализма, натурализма, материализма, диалектики.
Объем книги не позволяет детально рассмотреть проявления ренессансно-гуманистических тенденций во всех сферах мысли в послескорининский период. Поэтому, проследив в самых общих чертах эти проявления в области онтологии, гносеологии, методологии, социально-политической мысли, эстетики, мы сосредоточим внимание на характеристике связанных с ренессансным гуманизмом отечественных этических воззрений, поскольку именно в сфере этики сильнее всего обозначились скорининские традиции. В связи с этикой будут рассмотрены также некоторые аспекты политической и социальной мысли.
Ренессансно-гуманистические тенденции в области онтологии проявлялись в попытке отечественных мыслителей поставить под сомнение ортодоксальную креационистскую концепцию происхождения мира; в рационалистической критике и натуралистическом истолковании библейских чудес, материалистическом и атеистическом решении проблемы генезиса природы, проблемы соотношения идеального и материального. Так, по мнению переводчиков-комментаторов Брестской Библии (1563), материя существовала вечно наравне с богом («Хаотической, неоформленной материи бог придал форму»). Они же полагали, что могущество бога ограничено, так как последний не в состоянии создать мир «из ничего» («Невозможно, чтобы какая-либо вещь была сотворена в мгновение ока») (см. 158). Белорусский эпикуреец С. Г. Лован учил: «...Штоколвек есть на свете, то все само през себе, земля, древо, вода и иншие речи сталосе, и так веки веком будет...» (65, 98). В соответствии с учением К. Лыщинского «естественной природе» принадлежит «власть и управление землей и небом» (там же, 296).
Об элементах ренессансно-гуманистического мировоззрения в гносеологии и методологии свидетельствуют: стремление некоторых отечественных мыслителей отказаться от слепой веры в устоявшиеся догмы, теологические и философские авторитеты; борьба против официальной теологии и схоластики; попытка выдвижения принципа сомнения в качестве предпосылки познания, разграничения компетенции веры и знания; утверждение приоритета философии перед богословием; признание индивидуального человеческого разума в качестве основного источника познания и критерия истины; обоснование необходимости интеллектуальной свободы, правомерности творческих дискуссий (см. 113). «Необходимо, — писал Симон Будный, — подвергать испытанию все, с чем вы имеете дело. В противном случае мы не только не избавимся от заблуждений, но еще больше погрязнем в них» (161, 159). Известный в Белоруссии и Литве переводчик и комментатор сочинений Цицерона Беняш Будный замечал: «Медицина лечит недостатки тела, а философия — недостатки интеллекта. Поэтому философа полезно слушать так же, как и медика» (171, F).
В творчестве некоторых отечественных мыслителей XVI — начала XVII в. обнаруживается одна из характерных и специфических особенностей гуманистического сознания эпохи Возрождения — диалогичность. Как показали в своих исследованиях Л. М. Баткин и А. X. Горфункель, Ренессанс не только возродил античный диалог как литературно-философский жанр, но и сделал его особым стилем гуманистического общения и мышления, творческим принципом, который основывается «не на жесткой выводной логике, а на поисках истины в общении», на «объединяющем всех собеседников чувстве терпимости, неокончательности любого утверждения перед лицом истины» (19,18). Для ренессансного мыслителя-гуманиста истина не содержится в учении или высказывании лишь одной стороны, она существует «во множественности и различии направлений, книг и имен» (47, 74). Современными исследователями обосновывается мысль о позитивном характере ренессансного эклектизма, в котором «проявилась завоеванная Возрождением свобода философского мышления», «стремление включить в сферу своего рассмотрения все многообразное философское наследие многих столетий, ничем не связывая себя и оставляя открытым путь к собственным выводам и решениям» (там же, 74). Разумеется, было бы ошибкой считать, что эта специфическая особенность западноевропейского, и прежде всего итальянского, ренессансно-гуманистического сознания целиком и полностью определяет стиль мышления гуманистов Белоруссии, Украины, Литвы XVI—XVII вв. Однако, на наш взгляд, вполне правомерно говорить о некоторых проявлениях диалогического характера общения и мышления у ряда отечественных мыслителей-гуманистов эпохи Ренессанса. «Я не вижу причины,— писал С. Будный,— почему противоположные мнения могут помешать сотрудничеству людей» (160, 218). Мыслитель отмечал, что «без споров и дискуссий никто не может обойтись» (там же, 9). Истина, согласно С. Будному, обнаруживается лишь в результате свободного обмена мнениями. Он решительно возражал против таких ситуаций, когда «всем затыкают рты, а свободно высказаться позволяют одному или нескольким» (там же, 235). По утверждению мыслителя, «недостаточно выслушать только одну сторону, должна быть выслушана и другая сторона, по обычаю Александра Великого, одно ухо обращавшего к одной стороне, а другое— к другой» (179, 158—159). Ярко выраженный диалогический момент присутствует в философско-этическом трактате-диалоге А. Волана «О счастливой жизни, или о наивысшем человеческом благе», где автор стремится обнаружить истину через столкновение противостоящих друг другу этических концепций высшего блага: христианской, стоицистской, эпикурейской и ренессансной (см. 189). Характерные для философской деятельности отечественных мыслителей элементы диалогичности, попытки критического рассмотрения различных идейных течений являлись той конкретно-исторической формой, в которой осуществлялась преемственность и взаимосвязь философских культур разных эпох и народов (см. 44, 25—26).
На протяжении XVI—XVII вв. идеи ренессансного гуманизма глубоко проникают в социально-политическую мысль Великого княжества Литовского. В сочинениях отечественных мыслителей (М. Литвина — «О нравах татар, литовцев и москвитян», С. Будного — «О светской власти», А. Волана — «О политической или гражданской свободе» и др.) подвергаются критике существующие сословно-классовые отношения, внутренняя и внешняя политика правящих верхов, феодальное право и судопроизводство; осуждается тирания, вырабатывается понятие политической свободы, складывается идеал «просвещенного государя», руководствующегося в своей деятельности интересами «общественного блага»; гуманистически трактуются проблемы войны и мира, осознается необходимость развития отечественной культуры, родного языка, освоения духовного наследия славянских народов и народов Западной Европы. Продолжателями прогрессивных скорининских традиций в этой области являлись такие белорусские и украинские мыслители и общественные деятели, как Василий Тяпинский — автор патриотического предисловия к белорусскому Евангелию; Лаврентий Зизаний, Мелетий Смотрицкий (в первый период своей деятельности) — основоположники восточнославянской филологической науки, авторы первых учебников родного языка; Симеон Полоцкий и др. Именно Лаврентием Зизанием вслед за Скориной была выдвинута гуманистическая мысль о том, что родной язык «ключей бо ест отворяючи всем ум к познанию» (см. 49). В духе скорининских заветов С. Будный убеждал молодых князей Радзивиллов, чтобы они «не только в чужеземских языках кохали, але бы ся теж... и того здавна славного языка словенского розмиловати и оным ся бавити рачили» (77, 4, об).
С точки зрения социально-классовой в ренессансно-гуманистической социально-политической мысли прослеживаются две тенденции: умеренная шляхетско-буржуазная (Ф. Скорина, М. Литвин, С. Будный, А. Волан и др.) и народная социально-утопическая[11]. Если выразители первой тенденции считали достаточным осуществление принципов справедливости, свободы, равенства на формально-юридическом и моральном уровне, то идеологи народного социально-утопического гуманизма, выступающего в Белоруссии, на Украине, в Литве по преимуществу в религиозной форме, предлагали решение данной проблемы на основе радикального социального переустройства (см. 112, 97—129). Выразители антифеодальных и наивно-коммунистических идей в отечественной социально-политической мысли (Петр из Гонендза, Якуб из Калиновки, М. Чеховиц и др.) требовали коренного изменения существующей феодальной системы в интересах человека труда, уничтожения крепостничества, ликвидации частной собственности.
Гуманистическая мысль Белоруссии и Украины XVI—XVII вв. теснейшим образом была связана с прогрессивными культурно-философскими традициями России (см. 112. 117. 81. 104). Многовековая связь и единение братских русской, украинской и белорусской культур являлись отражением общности происхождения, духовной жизни, языка, социально-экономического и политического сотрудничества, совместной классовой и народно-освободительной борьбы. Отечественными мыслителями обосновывалась идея единения и дружбы русского, украинского и белорусского народов, необходимости сотрудничества между всеми европейскими народами (см. 113, 164).
Гуманистическую направленность имело идейно-теоретическое обоснование (С. Зизанием, Г. Смотрицким, М. Смотрицким, А. Филипповичем и др.) борьбы белорусского и украинского народов против национально-религиозного угнетения, католической экспансии, насильственного навязывания унии (см. 65. 122. 79. 85). Ими выдвигалось и требование веротерпимости.
«Не только до ереси отщепенства, але и до щирое веры през гвалт и войну абы жадного не притягали»,— писал С. Зизаний (71, 34). В патриотический период своей деятельности М. Смотрицкий утверждал: «...в нашем государстве каждый человек волен свободно исповедовать такую веру, какую он пожелает» (цит. по: 123, 84).
Ренессансно-гуманистические мотивы проникают и в отечественную эстетическую мысль XVI—XVII вв. (см. 59. 82. 113). Возникает светская поэзия, публицистическая, мемуарная и историческая проза, драматургия на латинском, польском и родном языках (см. 69, 62). Складывается теория восточнославянского стихосложения. Делаются попытки трактовать литературно-художественное творчество как воспроизведение реальной действительности на основе поэтического воображения. Подражание начинает рассматриваться как акт творчески активного вторжения поэта в область природы и человеческой жизни, как синтез объективнореального и созданного творческим воображением идеального мира правды и красоты. В сферу художественного творчества вводятся явления общественной и индивидуальной жизни человека, природы, фольклор, народная мифология, сельский и городской быт; литературное творчество приобретает философскую, концептуально-этическую и социально-политическую направленность. Разрабатываются понятия прекрасного, возвышенного, героического, трагического, комического, идеального, безобразного и т. д. Осознается роль свободы в творческом процессе, индивидуально-неповторимый характер последнего, указывается на необходимость для поэта, писателя, художника профессионализма, эрудиции; отмечается не только познавательная и нравственно-воспитательная роль искусства, но и его эстетическая функция. В поэзии и прозе возникают и усиливаются черты субъективности, индивидуальности, психологизма, эмоциональности, возрастает личностно-авторское начало; получает дальнейшее развитие присутствующая уже в произведениях Скорины национально-патриотическая тенденция; провозглашается не только национально-культурная, но и эстетическая ценность родного языка, который рассматривается как «здавна славный» (С. Будный), «окраса и оздоба» (В. Тяпинский), «приоздобляючи и светлый чинячи разум человечий» (Л. Зизаний).
С конца XVI и в продолжение XVII в. в отечественной поэзии, полемической литературе, архитектуре и других видах искусства утверждается стиль барокко. Как справедливо подчеркивает Д. С. Лихачев, по сравнению с Ренессансом барокко не отличается идейной определенностью. Оно более многозначно и плюралистично, связано не только с позднеренессансными тенденциями, но и с контрреформацией и социально-политической реакцией. В России, по мнению Д. С. Лихачева, барокко приняло на себя функцию Ренессанса, сыграв весьма существенную роль в начальный период формирования русской литературы нового времени (см. 87, 45). В Белоруссии, на Украине и в Литве, как нам представляется, барокко в своем прогрессивном выражении продолжило некоторые ренессансные традиции, разумеется соответствующим образом приспособив их к новым условиям. Для отечественного гуманизма эпохи позднего Ренессанса и барокко характерно более зрелое философское отношение к действительности, осознание сложности, противоречивости, трагизма бытия, невозможности реализации гуманистических идеалов в условиях существующего социального миропорядка (см. 114, 51—65).
В самых общих чертах рассмотрим вопрос об отношении отечественных мыслителей-гуманистов к философскому знанию вообще и схоластической философии в частности. В объем понятия «ренессансно-гуманистическая философия и общественная мысль XVI—XVII вв.» мы включаем всю совокупность социально-философских аспектов, содержащихся как в собственно философских, так и в религиозно-теологических, художественно-литературных, публицистических произведениях эпохи, связанных с возрожденческими тенденциями и оппозиционных схоластике. В зависимости от отношения к философскому знанию, с одной стороны, и к схоластике — с другой, среди представителей несхоластической философской и общественной мысли можно наметить три течения: 1) негативное, 2) компромиссно-негативное, 3) позитивно-негативное.
Первое, негативное, течение было представлено мыслителями, связанными с плебейско-крестьянской партией в радикальном реформационном и гуманистическом движении (Петр из Гонендза, Якуб из Калиновки, Мартин Чеховец и др.). К нему примыкали некоторые представители демократических слоев православного духовенства. Для представителей негативного течения характерно отрицательное отношение к церковно-теологическим авторитетам, философии вообще, в том числе и схоластической. Человек, полагали они, постигает истину или религиозно-интуитивно, или посредством индивидуального осмысления Священного писания. Отягощенность всякого рода образованностью, а тем более богословско-схоластической, только замутняет здоровый и свободный разум простого человека, препятствует постижению истины (см. 112, 130—139). Это был доведенный до крайности антиавторитаризм. Положительный момент заключался здесь лишь в ломке старых философско-схоластических и богословских традиций. Однако негативному течению принадлежит заслуга в выдвижении в центр общественно-философских интересов своего времени социально-этической проблематики, в обосновании идеи непримиримости социально-классовых противоположностей в условиях не только феодального, но и всякого эксплуататорского строя, необходимости его коренного преобразования на основе принципов равенства, братства, человеколюбия и т. д. Отрицая ценность философского знания, плебейско-крестьянские идеологи, разумеется, не рассматривали философию в качестве теоретического источника социально-преобразовательной деятельности. Их теоретическим арсеналом являлись соответствующие эгалитарно-демократические идеи Евангелия.
Второе, компромиссно-негативное, течение (Ф. Скорина, С. Будный, М. Литвин, А. Волан, С. Кошутский, Б. Будный и др.) объединяло мыслителей умеренно гуманистической ориентации. Его социальной базой являлась мещанско-шляхетская среда. Представители этого течения пытались осуществить компромисс между идейно-культурными ценностями христианского мира и античности, синтезировать философское знание с идеями обновленного христианства. Что касается схоластической философии, то они ее или игнорировали, или открыто отвергали. В большинстве своем связанные с гуманизмом и Реформацией, мыслители компромиссно-негативного течения рассматривали схоластическую философию как апологетику, призванную, как выражался С. Будный, «софистическими уловками и хитроумными силлогизмами» обосновать заблуждение, т. е. католическую доктрину. Они выдвигали и другие серьезные аргументы в пользу непризнания схоластического способа философствования, в частности гуманисты смотрели на схоластику как на дисциплину сугубо академическую, оторванную от реальной жизни, сомнительную не только в смысле истины, но и с точки зрения общественно-практической значимости. Теоретическое обоснование своей деятельности гуманисты находили в ясных и отчетливых концепциях античной философской мысли, реальном историческом опыте европейских народов, текстах Священного писания. В античной философии отечественных мыслителей-гуманистов интересовал по преимуществу этический и политический аспект, в меньшей мере — онтологический и гносеологический. Разрабатывая новаторские онтологические и гносеологические идеи, мыслители этого направления обращались главным образом к религиозному рационализму и натурализму эпохи Возрождения. Они плодотворно работали в сфере отечественной несхоластической философской и общественной мысли, внесли наибольший вклад в отечественную философскую культуру своего времени, обогатили ее актуальными и оригинальными идеями. Вместе с тем взгляд на философию как на дисциплину прикладную послужил причиной недооценки самодовлеющего значения философского знания, отсутствия специально-философской профессиональной ориентации. Однако тенденция к преодолению подобного рода недостатка во взгляде на философию существовала и особенно усилилась в социнианизме конца XVI—XVII в. (см. 181).
И наконец, позитивно-негативное течение решительно разрывает со схоластикой, теологией и религией. Представителями его являлись отечественные эпикурейцы конца XVI в.— С. Г. Лован, К. Бекеш и др., а в XVII в.— К. Лыщинский. Для этого течения характерно признание атеистически-материалистической философии единственным инструментом теоретического осмысления природы и человека. В отечественной философской мысли с ним связано материалистически-атеистическое решение проблемы происхождения мира, соотношения духа и материи; утверждение естественно-природного характера основ человеческой морали; решительное отвержение божественного откровения, врожденных идей; признание индивидуального разума в качестве основного средства познания; представление о религии как сознательном обмане; убеждение в ложности не только теологии, но и всякой философии, зависимой от религии (см. 65, 285—286). Уже у Лована и Бекеша, наследующих традиции античного эпикуреизма, материализм выступает в качестве определенной и осознанной философской позиции. Тем более это характерно для Лыщинского, к базисной философской культуре которого следует отнести: а) материалистические и скептические традиции античности, б) атеистические и натуралистически-материалистические учения эпохи Возрождения (Бруно, Ванини), в) идеи отечественного свободомыслия и религиозного рационализма.
Какова дальнейшая судьба несхоластической, ренессансно-гуманистической философской и общественной мысли, в частности, в Белоруссии и Литве? Мы пришли к выводу, что в течение XVI — в начале XVII в. в несхоластической отечественной мысли созрели предпосылки для формирования новой философии. Однако этот процесс был приостановлен, а затем и прерван в результате усиления феодально-католической реакции. К середине XVII в. была упразднена существовавшая в Белоруссии и Литве относительная веротерпимость, иезуитами были взяты под контроль почти все сферы культуры, и прежде всего образование, была установлена жесткая цензура, закрывались иноверческие школы и типографии, были изгнаны из страны социниане — предшественники новой философии в Речи Посполитой и т. д. Попытки философствования вне религии преследовались, о чем свидетельствует трагическая участь К. Лыщинского (см. там же, 270—304). И в Белоруссии, и в Литве приблизительно с середины XVII в. философствование осуществлялось в русле схоластики, которая преподавалась в католических учебных заведениях. На наш взгляд, возвращение к схоластической философии было шагом назад в духовном развитии общества. Однако, как показали в своих работах Р. Плечкайтис, А. А. Бирало, Э. К. Дорошевич, А. Я. Цукерман, В. В. Дубровский, Л. А. Чернышева (см. 185. 27. 58. 144. 61), связь с некоторыми идеями гуманизма, новой философии и естествознания создавала предпосылки для превращения схоластики в эклектическую философию, и тем самым отечественная схоластическая философия формировала условия для своего собственного отрицания. Что касается Украины, то здесь процесс преодоления схоластики и формирования просветительской философии осуществлялся в рамках Киево-Могилянской академии.
На протяжении XVI—XVII вв. в области отечественной этики совершается процесс преодоления церковно-теологического взгляда на человека и становления рационалистически-натуралистической концепции морали. В прямой или косвенной форме развивается и углубляется характерная для этики Скорины тенденция к разрыву связи между моралью и официальной религией, разрабатывается идея рационально-естественного происхождения нравственных понятий. Предпринимаются все более энергичные попытки реабилитации земного бытия, утверждается ценность посюсторонней жизни, человеческой личности, ставится задача морального обновления общества, нравственного воспитания человека. Обосновывается мысль о моральной свободе человека, в качестве регуляторов поведения выдвигаются разум и совесть. Идеологами народного гуманизма ставится вопрос об индивидуальной моральной ответственности человека за свои поступки, провозглашается обязанностью борьба против существующего социально-нравственного зла. Утверждается идеал мужественного человека-борца, готового к самопожертвованию, осуждаются паразитизм и моральные пороки феодалов и духовенства, роскошь, праздность, лень, пьянство. В качестве моральных добродетелей провозглашаются трудолюбие, умеренность, бережливость, общественная активность и т. д.; разрабатываются понятия патриотизма, общественного долга, счастья, высшего блага, свободы, мудрости.
Этико-гуманистические воззрения отечественных мыслителей XVI—XVII вв. складывались на весьма противоречивой идейно-философской основе. Источником большинства из них являлись некоторые исходные принципы христианской этики. Однако с течением времени нравственно-этические учения отечественных мыслителей-гуманистов все более удалялись от христианской ортодоксии, подвергались существенной деформации под воздействием реформационно-гуманистических доктрин, идей античной этической мысли и т. д. Возрождение и Реформация, борьба вероисповеданий (православия, католицизма, протестантизма, униатства) и некоторые другие факторы обусловили своеобразный «плюрализм», известную «открытость» (см. 46, 145) философско-этической мысли Великого княжества Литовского разнообразным идейным влияниям. В течение XVI—XVII вв. в отечественную этическую мысль интенсивно проникают идеи аристотелизма, умеренного стоицизма и эпикуреизма. При рассмотрении вопросов морали авторитет светских, античных этических учений постепенно возрастает, в то время как авторитет Священного писания падает. Эта тенденция, например, зафиксирована в предисловии к «Апофегмам» Б. Будного, где говорится, что древние, «не просвещенные еще учением христианского евангелия и обладая лишь светом естественного разума, не только сами жили добродетельно, но и вели и побуждали ко всяческим добродетелям, красоте и приличию других людей. Не знаю, правильнее было бы удивляться этому или стыдиться, ибо нам приходится в своей жизни и поступках следовать тем, кто, согласно нашим представлениям, почти не имел никакого понятия о боге» (171, 1—2). К концу XVI в. особенно заметно усиливается влияние на отечественную этическую мысль умеренно стоических (цицероновских) и эпикурейских идей, о чем, например, свидетельствуют возникшее в Белоруссии и Литве течение «эпикурейцев» (см. 108, 100—103), возросший интерес к философским сочинениям Цицерона, диалог Волана «О счастливой жизни или наивысшем человеческом благе». Как один из источников формирования моральных норм и критерий истинности нравственного сознания и поведения человека популярность приобретает стоическо-эпикурейский принцип следования природе (С. Кошутский, А. Волан и др.). «Возвращение к принципам стоицизма,— отмечает В. В. Соколов,— отражало рост морального самосознания личности, решительно протестовавшей против феодально-теологического игнорирования ее интересов... возрождение эпикуреизма свидетельствовало о возрастании жизненности этих интересов» (132, 307). В то же время следует отметить, что наиболее влиятельной в отечественной этике продолжала оставаться аристотелевская традиция.
Начиная со Скорины и вплоть до конца XVII столетия развитие отечественных этикогуманистических воззрений осуществлялось в основном в трех направлениях. Первое — это компромиссная, умеренная христианско-гуманистическая линия, совмещавшая религиозные и философские рационалистически-натуралистические этические мотивы. Для ее представителей были характерны попытки ревизии традиционно-христианской моральной доктрины, стремление элиминировать из господствующего религиозно-этического учения ряд положений, не отвечавших духу времени, обогатить и согласовать моральную концепцию христианства с философско-этическими идеями античности, Возрождения, Реформации. Второе направление — атеистическая линия в отечественной гуманистической этике — представлено мыслителями, которые, отвергая бога, а вместе с ним и всю религиозно-нравственную доктрину христианства, утверждали безрелигиозный характер морального сознания человека, обосновывали мысль о естественно-природном происхождении нравственности, ложности и аморализме христианского религиозно-этического учения. И наконец, третье направление, представителями которого являлись идеологи плебейско-крестьянской Реформации, в специфической, реформационной религиозно-мистической форме выражало негативное отношение народных низов к официальной церковной и светской морали, общественным и государственно-правовым институтам феодализма. Мыслителей этого направления отличало стремление к гуманизации морали на основе возрождения принципов «истинной», евангельской этики Христа и его апостолов, искаженных, по их мнению, господствующей церковью, богословами, философами-схоластами, преданных забвению и попранных в современном им обществе. Для теоретиков этого направления были одинаково неприемлемы как официальноцерковное, так и светское философское учение о морали. Разумеется, подобного рода классификация весьма условна, она чревата известным огрублением реального процесса развития отечественных этико-гуманистических представлений, утратой тех или иных не укладывающихся в рамки классификационной схемы черт и нюансов.
Рассмотрим указанные направления в той последовательности, в какой они здесь перечислены.
Основоположником умеренного христианско-гуманистического направления в этической мысли Белоруссии являлся Скорина. Современником Скорины был поэт-латинист Николай Гусовский, автор поэтических произведений «Песнь о зубре» (1523), «К божественному Севастьяну», «О жизни и деяниях божественного Иакинфа», «Молитва к св. Анне», «К высокочтимому Карлу Антонию Бононскому» и др. В целом мировоззрение поэта неоднозначно и противоречиво, ренессансно-гуманистические идеи сосуществуют в его взглядах с традиционно-средневековыми религиозно-философскими представлениями. Вершиной этико-гуманистической концепции Николая Гусовского и его литературного творчества является поэма «Песнь о зубре». Если Скорина связывает моральность человека с овладением книжной культурой, то Николай Гусовский, разумеется не отвергая теоретического знания, важнейшим средством формирования духовного мира человека и его нравственности считает опыт, познание природы, и прежде всего природы родного края: «Начетчиков чем удивишь ты! Все они знают — какие читают страницы!.. Но да известно им будет мое добавление: тайна сокрыта в лесах, и о том напишу я, что не найдете ни в книгах, ни в грамотах древних... цель же моя — увести тебя в лоно природы, с нею знакомя» (54, 52—53). Незнание природных явлений деформирует нравственное сознание человека, порождает жестокость и изуверство. Поэт рисует потрясающую картину расправы невежественной и фанатичной толпы с «колдунами» — людьми, которые пользовались во врачевании средствами народной медицины. Разумное взаимодействие с природой, по мнению Николая Гусовского, жизненно необходимо человеку, с ним связано не только физическое, но и духовное здоровье. Общение с природой родного края формирует характер, нравственные и гражданские добродетели, учит понимать красоту (см. 54, 56), воспитывает в человеке мужество, находчивость, ловкость. Николай Гусовский с одобрением отзывается о военно-воспитательной деятельности князя Витовта, который в мирное время устраивал в белорусских и литовских пущах лагеря, где молодежь училась военному делу и охотилась. «Доблесть при нем почиталась достоинством первым» (там же, 64),— пишет поэт. В представлении Николая Гусовского, такие моральные достоинства, как доблесть, мужество, стойкость, находчивость, суть универсальные, общечеловеческие качества; обладание ими не связано ни с классовым происхождением, ни с сословной принадлежностью. Идеализированный герой поэмы Витовт «трусов не баловал: будь ты себе из богатых, но если трус, то бесславие будет уделом» (там же, 64). Николай Гусовский полагает, что добрая память о князе утвердилась в народе не в связи с его военными подвигами, а главным образом благодаря его государственной мудрости, нравственным добродетелям (см. там же, 65). Как и Скорина, одним из моральных достоинств человека Николай Гусовский считает справедливость. Свидетельством моральности и мудрости его идеального героя выступает также свойственное ему религиозное благочестие. Однако в поэме «Песнь о зубре» религиозное благочестие по сравнению с прочими добродетелями играет второстепенную роль.
В соответствии с ренессансно-гуманистической установкой Николай Гусовский отдает приоритет интеллектуально-моральным качествам человека. Знатность, богатство, т. е. все, что получает человек по наследству от предков или волею случая, не может восполнить недостатки ума, нравственную ущербность. Об одном из героев своей поэмы «О жизни и деяниях божественного Иакинфа» Николай Гусовский пишет: «Видя племянника разум, рост дарований, серьезность, созревшие в юные годы, принял юнца в монастырское братство... причиною часто кровные связи, когда недостойных возносят на должность: нет у таких добродетели, видят корысть в каждом деле, ждет их падение, надломлен их дух, нечиста их совесть» (55, 160).
Для Николая Гусовского характерно утверждение свободы воли: «Дело свое защищаешь своими руками и в них же держишь судьбу свою: выпустишь — все потеряешь. Жизнь на весах, коль сплошаешь — пощады не будет» (54, 59). Утверждая свободу в качестве важнейшего фактора человеческой деятельности, поэт указывает и на ее пределы. Свобода ограничена необходимостью, которая в поэме носит по преимуществу естественный характер, выступая наподобие античной судьбы: «Хоть каждый сноровист, а отвернется фортуна — погибнет и сильный» (там же, 62).
Прославление поэтом воинской доблести отнюдь не означало, что он являлся апологетом войны. Напротив, как гуманист, Николай Гусовский горячо и искренне осуждал бессмысленные военные кровопролития, междоусобицы, безответственное отношение правителей к жизни человека, судьбам народов. Главным ориентиром деятельности правящих верхов, считает Николай Гусовский, должна являться «забота о благе народном» (там же, 68).
Центральным мотивом мировоззрения поэта является патриотизм. Как и для Скорины, для Николая Гусовского любовь к Отечеству — самое прекрасное и возвышенное чувство. Родина для него — «начало начал», «смысл жизни и чувства святого». Заброшенный на чужбину, поэт пишет о родной Белоруссии: «Я мыслью туда возвращаюсь, денно и нощно все памяти сеть расставляю — то есть охочусь за каждым мгновеньем бесценным, раньше потерянным, ныне — увы! — невозвратным» (там же, 52). Важнейшая заслуга Николая Гусовского как поэта-гуманиста — постановка проблемы охраны природы родного края. Для него характерно осознание ценности природы не только как естественной среды обитания, первоосновы физического и морального здоровья человека, красоты, но и как народного достояния, национального богатства: «И на червоное злато народ наш сокровища эти не разменяет — его убеждение твердо: наши леса — это кладезь бездонный богатства, благо страны» (там же, 55). Поэт пишет о необходимости бережливого и разумного отношения к природным ресурсам страны.
Отличающая поэму «Песнь о зубре» ренессансно-гуманистическая трактовка некоторых аспектов морального сознания и поведения человека в последующих сочинениях поэта, созданных в обстановке глубокого духовного личного кризиса, в значительной степени уступает место традиционным средневеково-христианским воззрениям. В произведениях позднего периода Николаем Гусовским поэтизируются аскетизм, религиозное подвижничество, чудотворная деятельность святых, осуждается Реформация, которая, по мнению поэта, подтачивает моральные устои общества. Моральное сознание человека ставится им в зависимость от этических предписаний господствующей церкви. В поэме «О жизни и деятельности божественного Иакинфа» автор пишет: «Но решать, что добро, а что худо, дело навряд ли ума моего, лишь община пути освещает» (55, 177).
Ренессансно-гуманистические тенденции прослеживаются в социально-этических воззрениях Михалона Литвина, автора сочинения «О нравах татар, литовцев и москвитян», написанного на латинском языке в середине XVI в. и вышедшего в свет в 1615 г. в Базеле[12]. Сочинение посвящено королю Сигизмунду-Августу. Оно является типичным для своего времени трактатом, в котором автор в целях побуждения своих соотечественников к социально-нравственной реформаторской деятельности сознательно идеализирует образ жизни, некоторые общественные, государственные и правовые институты соседних народов. Как известно, подобного рода литературный прием использован русским социально-политическим мыслителем XVI в. Иваном Пересветовым.
Несомненной заслугой автора трактата «О нравах татар, литовцев и москвитян» является осознание несовершенства существующего общества. Отсюда вытекает его мысль о необходимости некоторых реформ в области социально-политической и нравственной жизни Великого княжества Литовского. Вместе с тем, выступая как прогрессивный шляхетский мыслитель, Михалон Литвин не затрагивает основных общественных и государственных устоев, в частности феодальных отношений, крепостнической системы эксплуатации и т. д. Одним из существенных моментов позитивно-преобразовательной программы Литвина является мысль о необходимости радикального нравственного обновления и оздоровления общества, народа, индивида, и в первую очередь представителей господствующего класса. Порча нравов — вот основной источник зла, по мнению мыслителя. Из нравственных пороков, полагает он, вытекают все прочие недостатки существующего социально-политического строя Великого княжества Литовского. Для Литвина характерна идеалистическая трактовка проблемы взаимосвязи морали и социальной среды. Как и многие мыслители-гуманисты эпохи Возрождения, жизнеспособность общества, совершенство его социальных, государственных и правовых институтов он ставит в зависимость от общественной и индивидуальной морали.
Идеализируя образ жизни крымских татар, Литвин доказывает все преимущества жизни скромной, воздержанной, умеренной, которая, по его мнению, способствует воспитанию в народе таких качеств, как мужество, выносливость, стойкость. Воинственность крымских татар он ставит в прямую зависимость от их умения «чрезвычайно терпеливо переносить голод, жажду, бессонницу, жар, холод, всякого рода непогоды и бедствия» (66, 11). Мыслителю импонирует жизнь татар «первобытная, пастушеская, какую вели святые патриархи в золотом веке», а также то, что татары «ничего не ставят выше воздержания и умеренности и все живут вне изобилия и крайнего недостатка» (там же, 13), «презирают изнеженность и удовольствия, ведут жизнь суровую» и т. д. (там же, 18—19). Идеальными представляет Литвин нравы русского народа. «В Московии,— пишет он,— нет нигде шинков, а если у какого-нибудь домохозяина найдут хоть каплю вина, то весь его дом разоряется, имение конфискуется...» (там же, 31). Русское государство, полагает мыслитель, освободилось от татарского ига благодаря обновлению нравов народа, утверждению трезвости и воздержания. Иван Васильевич Грозный, замечает автор, защищает свободу своего народа «не сукном мягким и не золотом блестящим, а железом, народ у него всегда в оружии, крепости снабжены постоянными гарнизонами; мира он не вымаливает, силу отражает силою, воздержанию татар противопоставляет воздержание своего народа, трезвость трезвости, искусству искусство, подражая нашему герою Витовту» (там же, 34). Трезвость, умеренность, воздержание русского народа — основа его благосостояния, военных успехов, развития городского ремесла, торговли, строительного дела, искусства.
Скромной, умеренной жизни татар и русских Литвин противопоставляет порочный, по его мнению, образ жизни народов Великого княжества Литовского. «Литовцы,— пишет он,— питаются роскошными, привозными кушаньями, пьют разные вина, отчего и разные болезни» (там же, 29). «День начинается питьем водки, еще в постели кричат „вина, вина“, и пьют этот яд и мужчины, и женщины, и юноши на улицах, на площадях, а напившись, ничего не могут делать, как только спать, и, кто раз привык к этому злу, в том постоянно возрастает страсть к пьянству...» (там же, 31). «Крестьяне,— продолжает Литвин,— оставив поле, идут в шинки и пируют там дни и ночи, заставляя ученых медведей увеселять себя пляскою под волынку. Отсюда происходит то, что, потратив свое имущество, они доходят до голода, обращаются к воровству и разбою» (там же, 31).
Литвин приходит к выводу, что уделом нравственно падшего народа неизбежно является утрата свободы, рабство. Эту мысль он вкладывает в уста якобы встреченного им в Кафе своего «знакомого и земляка», ставшего татарским пленником. Повествуя о своей горькой судьбе, последний будто бы сказал автору трактата: «Мы должны опасаться, чтобы не постигла и вас та же участь, чтобы и вы также когда-нибудь не взошли на эти корабли, нас увозящие, и чтобы, наконец, все племя наше не погибло, теряя так часто свою кровь. А этого сильно следует бояться, если только вы упорно будете держаться тех же пагубных нравов, ведущих вас прямо к гибели» (там же, 25. Курсив наш.—С. П.). Литвин обращает взоры своих современников к «старым добрым временам», «золотому веку» Великого княжества Литовского. «Прародители наши,— пишет он,— избегали пищи и питья чужестранного. Трезвые и воздержанные, они всю славу свою полагали в военном деле, удовольствие в оружии, лошадях, большом числе слуг твердых и отважных и, отражая внешние племена, распространяли свои пределы от одного моря до другого и назывались врагами „храбрая Литва“» (там же, 31).
Мыслитель подвергает критике не только нравы светского общества, но и нравы католического духовенства, господствующую религиозно-церковную мораль. Свои критические замечания в адрес католицизма и официальной христианской морали мыслитель камуфлирует мусульманскими обличениями христианства или, наоборот, критикой в адрес мусульманской религии (см. там же, 71). Обнаруживается реформационно-гуманистический характер критики мыслителя, направленной на обличение показной, обрядовой морали католицизма. Как и Скорина, автор трактата «О нравах татар, литовцев и москвитян» убежден, что истинная моральность проявляется не в формальной приверженности к христианству, а в искреннем следовании его нравственным принципам. Отсюда вытекает резко выраженный антиклерикализм мыслителя, критика стяжательства, корыстолюбия католического духовенства, целибата, церковных обрядов и т. д. С реформационно-гуманистических позиций Литвин выступает против сословной исключительности духовенства, его претензий на монопольное право посредничества как в делах веры, так и в вопросах морали между богом и людьми, утверждая тем самым обосновывавшийся еще Скориной принцип личного отношения человека к богу, неинституционной, автономной моральности. «Они молятся ежедневно утром, вечером и в часы полуденные,— пишет Литвин о мусульманах.— От исполнения этой обязанности они не позволяют себе отвлекаться никакими нуждами и не слагают ее на одних священников... но всякий за себя, как духовный, так и мирянин, тайно и пред сборищем людей исповедует бога». «Смеются татары,— продолжает мыслитель,— над нашими духовными или пророками, осуждают храмы за утварь, за седалище, алтари — за изображения бога, склоняющегося к старости, и красивых женщин, возбуждающих страсть. Смеются над тем, что почетные люди мягко покоятся и спят на скамьях, когда совершается божественная служба, а людей бедного состояния не пускают садиться... Они осуждают нас за то, что мы услаждаем слух свой в храмах дудками, органами, которые заглушают слова молитвы, в то время как естественные наши органы молчат» (там же, 71—74. Курсив наш.— С. П.)
Пафос своей критики Литвин направляет не только против образа жизни, нравов, но и против социальной роли католического духовенства. Духовенство рассматривается им как паразитирующее на общественном организме сословие: «Как трутни съедают мед пчел, так они поедают труды народа, пируют, одеваются великолепно, необдуманно ищут духовных должностей, многих вместе». Католические священнослужители «не довольствуются десятинами, приношениями и другими разными доходами, которые они получают от богатых и бедных, с родин, браков, с больных и умерших, кроме богатых имений домогаются еще, ко вреду общественному, управления многими церквами вместе, против права и вопреки смыслу» (там же, 75—77). «А мы,— с горечью констатирует Литвин,— на этих наемников возлагаем обязанности прославления бога, для нас слишком тягостную, между тем как они своими развратными нравами более раздражают бога, нежели склоняют на милость» (там же, 75).
Этические воззрения Литвина содержат известную долю свободомыслия. Критикуя, например, мусульманские представления о чувственном наслаждении в потусторонней жизни, мыслитель косвенно распространяет эту критику и на христианский догмат о загробном воздаянии. «Закон этот,— пишет Литвин о религиозно-этическом учении пророка Мухаммеда,— который они считают обязательным распространять силой оружия, до такой степени баснословен, что они крайнее добро и величайшее наслаждение полагают в удовольствиях, которыми блаженные будут наслаждаться в будущей жизни вкусом, осязанием и всеми внешними чувствами» (там же, 57. Курсив наш.— С. П.). Данный фрагмент свидетельствует о протесте мыслителя против насильственного навязывания религии, неприятии как традиционно-христианской, так и противоположной ей эпикурейской концепции высшего блага, о сомнении в способности догмата о посмертном воздаянии служить стимулом добродетельной земной жизни. Судя по контексту сочинения «О нравах татар, литовцев и москвитян», автор его разделяет компромиссную умеренно стоическую концепцию морали, полагая счастье и высшее благо человека в нравственном совершенствовании, исполнении своего гражданского долга, заботе об общественном благе.
Значительный вклад в развитие отечественных ренессансно-гуманистических этических представлений внес Симон Будный (ок. 1530—1593) — виднейший представитель и идеолог вначале кальвинизма, а затем и антитринитаризма в Великом княжестве Литовском (см. 112). В его этическом учении более последовательно проявилась наметившаяся уже во взглядах Скорины тенденция натурализации и секуляризации морали (см. 113). Так, отрицание Будным загробного воздаяния и личного бессмертия означало радикальный пересмотр источников человеческой нравственности. Уже в «Катехизисе» Будный приближался к мысли о несуществовании загробного мира, а муки ада, подобно Эразму Роттердамскому, склонен был рассматривать как угрызения совести (см. 77, 131—144 об). Исторически и натуралистически объяснял мыслитель происхождение понятия ада в комментариях к Новому завету (см. 161, 149). В сочинении «О главнейших положениях христианской веры» Будный категорически отверг бессмертие души и загробный мир. Из концепции Будного косвенно вытекало, что основанием нравственности должны являться не страх перед наказанием и не надежда на райскую жизнь, а разумное и естественное стремление человека к добродетельной жизни. Таким образом, если Скорина отвергал в качестве регулятора нравственности человека лишь официальную церковь, то Будный в сущности отнимал это право уже у религии в целом.
Весьма заметный этико-гуманистический аспект содержала христология Будного. Свойственный ему взгляд на Христа как на выдающегося человека, который благодаря своим высоким нравственным качествам был удостоен «божественности», подводил к мысли, что эта возможность потенциально сохраняется для любого смертного человека, стремящегося достигнуть морального совершенства. От современников, главным образом от феодалов и государственных деятелей, мыслитель требовал радикального нравственного обновления, отказа от тех моральных качеств и свойств, которые, по его мнению, не согласуются со званием «истинного христианина».
Будный считал, что в нравственном отношении люди равны между собой, добро или зло не заложено в них от природы, оно является результатом обстоятельств, среды, воспитания. Пытаясь, например, вскрыть причины неповиновения подданных своим господам, мыслитель пишет: «Не следует удивляться, ибо это у них не от природы, а от дурного воспитания» (160, 206). По мнению Будного, социальная среда, сословно-классовое положение, собственность оказывают существенное влияние на моральное сознание и поведение человека. Он обличал магнатов, стремящихся унизить тех, кто находится на низшей ступени феодальной иерархической лестницы. Знатные феодалы не должны возноситься над низшими сословиями, но обязаны помнить, «что они такие же, как и все люди» (там же, 149). Этические воззрения Будного в значительной степени подрывали официальное христианское учение об изначальной греховности рода человеческого, а также концепцию кальвинизма о фатальной предопределенности человеческой судьбы. Ренессансно-гуманистический взгляд Будного на истоки человеческой нравственности, его мысли о роли среды, воспитания предвосхищали просветительские философско-этические учения. Вместе с тем на этических воззрениях Будного лежит печать сословно-классовой ограниченности. Социальные противоречия, по мнению мыслителя, вытекают из морального несовершенства людей. Крайности феодальной эксплуатации, жестокое обращение господ со своими подданными суть не пороки существующего феодального строя, а результат нравственной неполноценности того или иного господина, должностного лица, судебного чиновника. Виновен не социальный строй как таковой, а отдельные нравственно ущербные индивиды, несправедливо и недобросовестно исполняющие свои обязанности (см. там же, 65). Существующие сословно-классовые противоречия мыслитель пытался разрешить посредством моральной проповеди, равно обращенной как к феодалам, так и к крестьянам, как к начальникам, так и к подчиненным. Первых он побуждал к послушанию, скромности, трудолюбию, вторых — к человечности, умеренности и т. д.
Одним из наиболее видных представителей умеренно гуманистического направления в отечественной философско-этической мысли являлся Андрей Волан (Волян) (1530—1610) — политический деятель и мыслитель Великого княжества Литовского. Основные сочинения, характеризующие Волана как философа и социально-политического мыслителя, следующие: «О политической или гражданской свободе» (1572), «Речь к Сенату Королевства Польского и Великого княжества Литовского» (1572), «Размышление над посланием божественного апостола Павла к эфесцам» (1592), «О счастливой жизни или наивысшем человеческом благе» (1596), «О князе и его личных добродетелях» (1608) и др. Перу мыслителя принадлежат также «Речи», обращенные к высокопоставленным особам Великого княжества Литовского. Волан являлся одним из образованнейших людей своего времени, большим знатоком философии, истории, литературы и в целом культуры античности и эпохи Возрождения (см. 131. 76. 155. 166. 174. 168. 175).
Как и большинство мыслителей-гуманистов Великого княжества Литовского, Волан смотрел на философию как на практическую мудрость. В связи с такой установкой в центре его философских интересов находились политика и этика. Предназначение земной человеческой жизни, полагает Волан, состоит в счастье. Однако счастливая жизнь зависит от правильного понимания человеком сущности «высшего блага». По мнению Платона и Аристотеля, «которое подтверждается самой природой», существуют три разновидности блага: души, или ума, тела, фортуны, или судьбы. В соответствии с платоновско-аристотелевской концепцией у Волана блага «тела и фортуны» оказываются зависимыми от благ «ума или души». Платон в своем диалоге «Евтидем» учит, поясняет мыслитель, что людей делает счастливыми не обладание благами «тела и фортуны», а мудрое пользование ими (см. 182, 12). В представлении Волана счастье состоит в правильной ориентации в жизненных ценностях, мудром пользовании совокупностью данных человеку природой и обстоятельствами благ, в подчинении материальных интересов высоким устремлениям человеческого духа.
По мнению мыслителя, любое общество, государство (Волан, так же как Платон и Аристотель, отождествляет эти понятия) «образовано с целью достижения общими усилиями и при взаимной помощи счастливой и благословенной жизни» (182, 12). Однако ни духовными, ни материальными благами человек не сможет в полной мере воспользоваться, «если они не будут сопряжены со свободой» (там же). Свобода, в представлении Волана, предполагает сохранность имущества человека, безопасность личности, всеобщее согласие и мир в обществе (см. там же, 46). Средством, обеспечивающим человеку неприкосновенность личности, охрану имущественных прав, свободу и в конечном счете счастье, являются законы, «изобретенные людьми» в соответствии с нравственной красотой (см. там же, 18—19). В той стране, где нет хороших законов, не может быть ни согласия, ни мира, ни свободы, ни счастья (см. там же, 46). Ссылаясь на сочинения Платона «Государство» и «Законы», аристотелевскую «Политику», Волан утверждает, что законопочитание есть основа нравственно прекрасной и свободной жизни. «Мы являемся невольниками законов, чтобы быть свободными»,— приводит он высказывание Цицерона (см. там же, 14). В свою очередь реализация законов зависит от мудрой и справедливой власти. Волан пишет: «В шестой книге о законах Платон утверждает, что мало пользы от хороших законов, если нет в наличии достойно подготовленных должностных лиц, которые бы их хорошо могли сохранять и соблюдать» (там же, 84). В сочинениях «О политической и гражданской свободе», «Речи к Сенату Польского Королевства и Великого княжества Литовского» Волан обосновывает мысль о том, что законопорядок может утвердиться в обществе лишь в том случае, если власть с ним будет считаться и последовательно проводить в жизнь. Одна из главных обязанностей короля, полагает мыслитель, состоит в том, чтобы защищать законы и обычаи народа.
Нетрудно заметить, что Волан стремится установить взаимосвязь между такими социально-этическими и политическими категориями, как счастье, благо, свобода, закон, власть и т. д. «Ведь все добродетели,— пишет мыслитель,— находятся в такой взаимосвязи, что, лишенные взаимной поддержки, они не могут как следует выполнить свое назначение и не обеспечивают похвального созвучия человеческих действий» (189, DI)[13].
Для Волана, как и для мыслителей умеренно гуманистического направления в целом (Ф. Скорина, С. Будный, М. Литвин и др.), характерно стремление к разрешению общественных противоречий на морально-этическом и формально-юридическом уровне, к «исправлению Речи Посполитой» посредством совершенствования нравов народа и государственного законодательства без существенного вторжения в социальную сферу жизни. Волан — решительный противник классовой борьбы, открытых конфликтов, которые, по его мнению, разрушают «гармонию», «мир», «согласие» в обществе и в конечном счете ведут к утрате свободы, счастья, высшего блага.
Ренессансно-гуманистическая сущность этики Волана чрезвычайно ярко выражена в его учении о благородстве. Мыслитель считает ошибочным мнение, согласно которому «наследие добрых нравов всегда будет врождено в умы потомков, что без труда и старания, только посредством самой природы кто-либо может добиться того, что сделало его предков благородными и знатными» (182, 26). Нельзя отрицать, развивает мысль Волан, что нередко добрые рождаются от добрых и что семена добродетелей предков дают всходы в потомстве. Однако в природе проявляется «великое божье добродеяние», которое раздает «многие благородные дары, разум и острый ум», «не взирая на лица». «И нередко случается так,— пишет Волан,— что люди, происходящие от низких и незнатных родителей, рождаются с таким острым умом и разумом, что они затем благодаря своему мужеству резко выделяются среди окружающих своими значительными и превосходными добродетелями. И напротив, часто бывает, что потомки так сильно отличаются от своих благородных предков, что всяческими пороками сводят на нет их добродетели». Мыслитель приходит к выводу, что «добродетель не должна пониматься как наследственное благо», что «благородными не столько рождаются, сколько становятся» (там же, 27). Волан приводит многочисленные примеры из древней истории, из современной ему действительности, свидетельствующие о том, «что сыновья и внуки тех предков, которых мы знали мужественными и стойкими, растут мерзкими и ленивыми» (там же). И поэтому, замечает мыслитель, «должно быть осуждено и предано осмеянию выдвинутое некоторыми людьми пустое и ошибочное мнение, согласно которому многие, получив от своих предков шляхетство, гордятся им, словно они вместе с ним получили по наследству и добродетели» (там же, 29). Волан, разумеется, не призывал к упразднению сословных различий, ликвидации шляхты; напротив, он стремился к «оздоровлению» феодального сословия, надеялся своими советами побудить шляхту к интеллектуально-нравственному совершенствованию. В его концепции. содержалась гуманистическая идея о том, что «природные недостатки могут быть восполнены воспитанием и самовоспитанием, а природные достоинства суть лишь потенции, которые требуют реализации и развития» (19, 56—57).
Этический идеал мыслителя представлен в сочинении «О князе и его личных добродетелях». Здесь воссоздается идеальный образ государственного деятеля, являющегося для Волана своего рода эталоном идеального человека и гражданина вообще. В человеке, полагает мыслитель, а особенно в том, который происходит из знатного рода и призван руководить государством и обществом, «должно быть гармоническое сочетание всех добродетелей и отменных нравов» (188, В3 об). Князь (princeps) обязан быть благочестив, «внутренне удерживать себя от любого преступления не столько из-за страха перед судом божьим, сколько из-за одной любви» к богу (там же, С). Мыслитель, таким образом, как и Скорина, утверждает по преимуществу интровертный характер человеческой религиозности и моральности. Теоретическим источником «истинной» веры, по мнению Волана, является Священное писание, а «истинной» морали — помимо Библии также и некоторые философско-этические учения древности, в основном Платона, Аристотеля и Цицерона. Так, мыслитель отмечает, что богопознание, как и познание морально-философских основ, «возможно только путем усердного изучения Священного писания и правильной оценки мысли более чистой древности» (там же, D2 об). Волан скептически относится к схоластическим интерпретациям Библии, внешней, показной религиозности католической церкви, представляющейся ему «театральной помпой» (там же, D2).
Для идеального мужа «весьма важно знать науки». Однако процесс овладения знанием требует от человека больших умственных и физических усилий, подвижничества, самоотверженности, отречения от многих чувственных удовольствий жизни. «Поскольку знание наук,— пишет Волан,— приобретается только огромной затратой времени и труда, то принцепсу следует полностью избавиться от всякой косности ума и тела, чтобы достигнуть той крутой вершины добродетели и мудрости, путь к которой лежит через прилежание и труд... И хотя корни учения горьки, плоды его, однако, сладки. Это знают все, кто, будучи обучен свободным наукам, испытывает от этого чувство большого наслаждения» (там же, D3 об). В духе традиций эпохи Возрождения Волан воздает хвалу светскому знанию, науке, духовной культуре в целом, подчеркивает их огромную роль в жизни общества, в развитии человечества от «животного состояния» к «цивилизации». «То, что скрыто природой, что не дано всякому человеческому уму, укрывалось бы в вечной темноте, если бы не было обнаружено светочем науки и с ее помощью не стало бы известно людям,— пишет мыслитель.— Ну а что уже сказать о делах политики и тех вещах, которые относятся к сфере управления гражданским обществом? Ведь то, что предписывали ученейшие философы, объясняют и обращают на общую пользу только ученые умы. Да и саму сложную цепь всех добродетелей, которые относятся прежде всего к культуре и полной гуманности человеческого разума, подобающим образом изучают только люди, вооруженные свободным знанием. Они же соответственно используют их для того, чтобы вывести людей из их животного состояния на путь всяческой цивилизации» (там же, D4—D4 об). Чрезвычайно важно для человека знание истории человеческой культуры. «Ведь незнание всего того, что происходило много столетий тому назад,— пишет Волан, повторяя Цицерона,— уподобляет человека ребенку и окутывает его густым туманом невежества» (там же, Е—Е об). Тем более существенна эрудиция для государственного деятеля: «Не без причины также и Платон считал некогда счастливыми те государства, которыми начинают управлять или ученые, или мудрецы, или же те, кто, начав править, все свои стремления и усилия прилагают к тому, чтобы овладеть наукой и мудростью. В самом деле, разве есть, я спрашиваю, в государстве хоть какая сфера, в которой можно было бы управлять без большого знания и опыта?» (там же, Е об). Если государственный деятель, заключает свою мысль Волан, желает «нести благополучие гражданам, способствовать благосостоянию людей», он обязан «вооружить себя знанием наук» (там же, Е2 об — Е3).
Принцепс, по мнению мыслителя, должен вести «безупречный образ жизни», что предполагает уважение «священных уз супружества», заботу о «целомудрии жены», умеренность и воздержанность в чувственных наслаждениях и т. д. Муж ответствен не только за свой моральный облик, но и за нравственную чистоту своей жены. Жена не должна предаваться праздности, веселью или скуке, ей следует заниматься трудом, соответствующим ее положению. Волан осуждает стремление женщин роскошно и изысканно одеваться, украшать себя «блеском золота и серебра», ибо «своим пышным убранством» они разжигают сладострастие мужчин. Почти у всех народов роскошь настолько вошла в моду, замечает мыслитель, что кажется, будто за шлейфами женщин тащатся все богатства мира. Однако в своем протестантском пуританизме Волан соблюдает известную меру. «Но это не означает,— пишет он,— что должны быть запрещены всякие украшения настолько, что им (женщинам. — С. П.), и в особенности женам принцепсов, не разрешается иметь элегантный наряд и одеваться в зависимости от сословия и положения. Главное здесь, чтобы придерживаться золотой середины и чтобы ничего не было излишнего и чрезмерного» (там же, F4—F4 об). Извращенность в одежде означает извращенность ума. Забота о красоте тела далеко не достаточна, если пренебрегают заботой о разуме и добродетелях. И женщины, резюмирует свою мысль Волан, должны знать, что самым изящным их украшением является скромность, пристойность, сдержанность, нравственная чистота, супружеская верность. «Христианским женщинам» Волан ставит в пример «жен язычников», и в частности римскую Лукрецию.
Принцепсу должна быть свойственна справедливость, по мнению Волана, «самая прекрасная из всех добродетелей» (там же, G об). Справедливость сводится к тому, чтобы никто не терпел вреда и тот, кто нуждается в помощи, быстро получал ее. По мнению Волана, справедливость является регулятором социального поведения людей, сдерживающим фактором алчности могущественных и знатных, гарантией неприкосновенности собственности и личной безопасности человека, мира и спокойствия в обществе, основой социальной гармонии (см. там же, G2). Человек, утративший чувство справедливости, «вырождается в дикого зверя и свирепо рвет человеческое общество, в котором все взаимно связаны» (там же, G2). Принцепс, полагает мыслитель, должен не только удерживать себя от нанесения обиды другим, но также сдерживать алчность своих должностных лиц (см. там же, G2—G2 об).
Как и Скорина, Волан главным ориентиром деятельности идеального гражданина, и в первую очередь принцепса, считает общественное благо. Принцепс должен осознавать, «что рожден не для собственного блага», а для «блага общества» (там же, G3). В волановской трактовке категорий блага, справедливости, щедрости, мудрости и др. обнаруживается явно выраженное и не скрываемое самим автором влияние Цицерона, в частности его трактата «Об обязанностях». Обосновывая приоритет общего блага над индивидуальным, Волан пишет: «Цицерон вполне заслуженно называет глупым того, кто, потеряв государство, думает сохранить свое благополучие. Ведь только целостность государства обеспечивает целостность всего частного имущества...» Как и Скорина, Волан считает, что «самым мудрым и достойным большой похвалы является тот, кто ради блага отечества, ради благополучия и процветания государства без колебания идет навстречу опасности и сознательно подвергает себя самому большому риску. Из всех связей ни одна не является столь близкой и дорогой, как связь с государством» (там же, G3—G3 об)[14].
Одним из достоинств принцепса является щедрость. В представлении Волана, щедрый государь обязан заботиться о приобретении книг, которые «составляют главное сокровище принцепсов. Ведь ничто так не украшает принцепсов, как глубокое знание вещей» (там же, Н3). Принцепс обязан быть гуманным, проявлять благосклонность «к бедным и обиженным» (там же). В то же время щедрость государя не должна переходить в расточительство.
Не менее важными добродетелями являются мужество и величие души: «Заслуживает похвалы смерть, принятая ради отечества, а не сохраненная для природы. Именно поэтому воздвигая самые большие памятники, воздавали самую большую похвалу тем, кто ради спасения отечества не страшился никаких опасностей» (там же, J). В произведениях древних, отмечает мыслитель, мы находим много примеров мужества. Однако мужество требуется не только на войне, но и «в общественных делах, спорах, которые приходится вести в интересах государства» (там же, J2). Государю не следует теряться в трудных обстоятельствах, проявлять безволие. Он должен быть тверд, решителен, деятелен, сохранять спокойствие и выдержку «при любых поворотах судьбы». В то же время в деятельности правителя не должны иметь место безрассудная опрометчивость, ложная видимость мужества. Тех, кто безрассудно ввязывается в бессмысленные войны, следует считать лишенными «всякого рассудка». Их «нельзя причислить не только к какому-либо виду нормальных людей, но с полным основанием следует отнести к диким зверям» (там же, J4).
Таким образом, нравственный идеал Волана составляют традиционные компоненты античной этики: мудрость, умеренность, справедливость, мужество, щедрость. Мыслителем вводится также весьма актуальный для его эпохи момент — христианское благочестие. Однако доминирующими в его этическом идеале являются светские начала. В целом же этические воззрения Волана несут в себе отпечаток ренессансного эклектизма. Наряду с христианско-гуманистическими моментами в них присутствуют довольно ярко выраженные мотивы платоновско-аристотелевской и умеренно стоицистской, цицероновской этики.
В XVI—XVII вв. одним из самых читаемых авторов в Великом княжестве Литовском был Цицерон. Его сочинения находились почти во всех отечественных библиотеках, штудировались в школах и академиях. Во второй половине XVI в. ряд философских сочинений Цицерона («Об обязанностях», «О старости», «О дружбе») переводятся в Белоруссии и Литве на польский язык. Под влиянием цицероновских идей находились многие мыслители-гуманисты Великого княжества Литовского, которым импонировал натурализм этики римского философа, его взгляды на закон как на важнейший инструмент регулирования общественной жизни, стремление к социальной гармонии, осуждение тирании и т. д. Их привлекали также некоторые особенности цицероновской мысли, отвечающие ренессансно-гуманистическому характеру философствования, а именно отсутствие у римского философа догматической приверженности к тому или иному идейному течению, свойственное ему правило «не сковывать себя никакими уставами одного учения», а «искать на каждый вопрос самого правдоподобного ответа» (141, 299). В 1575 г. в белорусском городе Лоске был издан на польском языке трактат Цицерона «Об обязанностях» с обширными комментариями. Переводчиком и комментатором цицероновского произведения являлся библиотекарь короля Сигизмунда-Августа, большой эрудит в области античной философии, истории, литературы Станислав Кошутский (ум. в 1559 г.).
Цицерон учил об изначальном совершенстве человеческой природы, естественном происхождении морали. В то же время римский философ полагал, что подлинное нравственное совершенство доступно лишь избранным. Люди, как правило, достигают лишь подобия нравственного идеала. Принимая цицероновскую концепцию морали в целом, Кошутский подвергает ее некоторой христианизации. Он пытается предельно сблизить цицероновское и христианское учения о природе человека. Под совершенной нравственной природой, свойственной мудрецам, пишет Кошутский, следует «понимать естественную природу человека в ее первозданном виде, т. е. ту, которой не коснулся грех... Именно так и понимал Цицерон данную проблему, хотя как философ ничего не знал о грехе» (178, С с об). И дальше: «Здесь виден великий разум Цицерона, который хотя о грехе, как язычник, и не знал, однако же близко подошел к мысли, что человек весьма далек от совершенства» (там же ЕЗ—ЕЗ об). Тем не менее Кошутский полагал, что природа человека заслуживает доверия в качестве регулятора морального сознания и поведения. «Подобающее, — пишет он,— следует за человеческой природой» (там же, N об).
Кошутский подразделял благо на три вида: телесное (здоровье, сила, красота), внешнее (родовитость, богатство) и внутреннее (интеллектуально-нравственные добродетели) (см. там же, В b). Выясняя сущность категории «высшее благо», комментатор Цицерона обращается к истории античной этики. Он анализирует этическое учение киренаиков, эпикурейцев, скептиков, академиков, перипатетиков, стоиков. Рассматривая этические воззрения античности, Кошутский устраивает своеобразный диалог, обнаруживая позитивные и негативные элементы в том или ином философском учении, и уже после этого высказывает свое мнение об истине. В основном он разделяет этические воззрения Средней Стои, представители которой (Панэтий, Посидоний и вслед за ними и Цицерон) смягчили этический ригоризм древнестоического учения, дополнив его отдельными положениями этики Платона, Аристотеля и их последователей (см. 136, 89—91). Высшим благом Кошутский считает нравственно прекрасное. В то же время он не отрицает определенной ценности телесных и внешних благ, т. е. здоровья, материального благополучия и в целом утилитарно-полезного, однако признает все это лишь в том случае, если полезное не вступает в противоречие с нравственно прекрасным.
Главным объектом рассмотрения в цицероновском трактате является проблема обязанности, т. е. морального долга человека в частной и общественной жизни. Как известно, Цицерон различал две разновидности обязанности: «совершенную» и «среднюю». Совершенная обязанность связана с идеальным устремлением человека к высшему благу; средняя обязанность заключается в выполнении человеком повседневного долга. В своих комментариях Кошутский весьма обстоятельно раскрывает сущность этих понятий. «Философы,— пишет комментатор,— различают два вида обязанности... Одну они называют совершенной, т. е. ту, которая доводит любое предприятие до окончательного результата, высшей степени совершенства. Другую обязанность они называют средней, а именно ту, которая не приводит человеческие поступки к абсолютному совершенству, но тем не менее, если человек в соответствии с ней выполняет свой долг, во всем поступает нравственно прекрасно и благородно, жизнь его может считаться добродетельной, хотя в своем поведении он и не достигает истинного и полного совершенства. Об этой-то средней обязанности и учит в этих книгах Цицерон. О ней и другие философы[15] писали, в то время как об обязанности, которую называют совершенной, никто нигде не писал и писать не мог. О ней не может быть никакого учения, потому что она свойственна самому совершенному и мудрому человеку, которого на свете после первородного греха не было и быть не могло» (178, Е3 — Е3 об). Кошутский, таким образом, разделяет мнение философов Средней Стои, в частности Цицерона, о том, что для реального человека нравственно-этический идеал недосягаем. Тем не менее жизнь человека может считаться добродетельной если он по мере своих сил и возможностей поступает нравственно прекрасно, выполняет свой человеческий и общественный долг. Кошутский правильно подметил метафизический, условно-теоретический, утопический характер учения об идеально-совершенном человеке. В то же время комментатор по достоинству оценил натурализм, гуманизм, реализм цицероновской этики, основанной на принципе «средней обязанности» и рассчитанной на «человека весьма далекого от совершенства», живущего в реальном обществе, являющегося гражданином, политическим и общественным деятелем, должностным лицом, воином, отцом семейства и т. д.
Перенесенное на почву XVI столетия учение о «средней обязанности» и «средней мудрости» приобрело ярко выраженную гражданско-гуманистическую направленность, явилось средством секуляризации морали, ее частичного освобождения от авторитета религии: чтобы обрести нравственное совершенство, не обязательно стремиться к достижению христианского идеала, вполне достаточно вести нравственно прекрасный мирской образ жизни, быть справедливым, разумным, умеренным, человечным в отношениях с людьми, добросовестно исполнять свои общественные обязанности и т. д. Идея «средней обязанности» отвечала этико-гуманистическим воззрениям эпохи Возрождения, противостоящим, с одной стороны, христианскому аскетизму и религиозному максимализму; с другой — эпикурейскому гедонизму, и была в основном связана с умеренно стоической, а точнее, цицероновской интерпретацией сущности высшего блага.
В соответствии с учением Цицерона Кошутский решает одну из важнейших этических проблем — проблему выбора жизненного пути. Действительность ставит человека перед альтернативой, зафиксированной в эпикурейской и стоической этике: наслаждение или добродетель. Символом человека, который добровольно отказался от наслаждения и предпочел ему наполненную трудами и опасностями добродетельную жизнь, у Кошутского, как, кстати, и у Колуччо Салютати (см. 124, 153), выступает Геркулес (178, Р). В соответствии с ренессансной концепцией «гражданского гуманизма» (см. 124, 176—190) Кошутский считает наиболее достойным для молодого человека активный, деятельный, общественно полезный образ жизни, ведущий к славе и бессмертию (178, Р2).
Заметный вклад в процесс натурализации и секуляризации отечественной этической мысли внесли социниане. Основоположником этого религиозно-философского течения в Речи Посполитой был Фауст Социн (Фаусто Соццини) (1539—1604). Он учил, что в жизни человека решающую роль играют не религиозные убеждения, а моральные принципы. Социн обосновывал мысль о том, что человек способен сделать правильный нравственный выбор, руководствуясь свободной волей. Истинность этого выбора, полагал мыслитель, ссылаясь на Платона, зависит от уровня знаний человека об окружающем мире и о самом себе (см. 181, 24). Как уже отмечалось, еще Скорина в своих предисловиях к Библии склонялся к тому, что основой моральности человека является постоянное интеллектуальное совершенствование и рефлексия. Однако если Скорина считал мораль свободной лишь от церкви, то социниане уже пытались сделать ее независимой от религии (см. 112, 90).
Проблемы этики находились в центре внимания Беняша Будного, жившего на рубеже XVI—XVII вв., известного в Белоруссии и Литве популяризатора античной философии, переводчика и комментатора Цицерона (см. 115, 36—51). В произведении «Короткие и ясные повести, которые по-гречески называются Апофегмы», в предисловиях к книгам Цицерона «О старости» и «О дружбе» Б. Будный пытался привлечь внимание читателей к античной философии, и в частности к этике. Для него, так же как и для Скорины, Волана, Кошутского, характерно стремление к установлению контакта между христианской и античной культурами. Основой для такого контакта, полагал мыслитель, являются выработанные античной философией моральные ценности, имеющие общечеловеческую значимость. Б. Будный близко подошел к мысли, что добродетельная жизнь возможна без христианской веры, что ее основой могут служить человеческий разум, знание, философская мудрость (см. 171, 1—2. 177, 2).
Концепция безрелигиозной морали представлена в учении отечественных атеистов и материалистов С. Г. Лована (конец XVI в.), К. Бекеша (1520—1579), К. Лыщинского (1634—1689).
Со второй половины XVI в. в отечественной этике усиливается эпикурейская тенденция. Белорусский эпикуреец, мозырский судья Стефан Григорьевич Лован считал, что поскольку, кроме вечно существующего мира, пет иного бытия, то и социально-этические отношения складываются на реальной основе (см. 65, 98). Лован полностью исключал божественное вмешательство в человеческую жизнь. Этой же точки зрения придерживался и гродненский атеист Каспер Бекеш, полагавший, что человек является абсолютным властелином своей судьбы и не нуждается в милости божьей (там же, 99).
Следует отметить, что в отечественной мысли XVI—XVII вв. эпикурейская мораль нередко трактовалась неадекватно. Упор делался на гедонизм, игнорировались интеллектуализм и духовность. О характере интерпретации эпикурейской этики в отечественной мысли свидетельствует, например, диалог А. Волана «О счастливой жизни, или наивысшем человеческом благе». Один из участников диалога, Филидон, представляющий эпикурейскую позицию, говорит: «Человеческая природа устроена богом так, что она состоит не только из души, но и тела и последнее не может оставаться здоровым и невредимым, если оно не прибегает к внешним вещам, которые относятся к пище и одежде. Поэтому и душа вследствие тесных уз, которыми она связана с телом, не может не приходить в замешательство и расстройство, когда тело переносит холод, голод или какое-либо мучение, если только мы не хотим уподобить человеческий род бревну или камню... Разнообразный опыт и повседневная человеческая практика все время подтверждают, что душа человека испытывает воздействие и наполняется каким-то блаженством от вещей, приятно возбуждающих чувства; вещи же неприятные, отталкивающие приводят ее в сильное расстройство. Итак, я думаю, что лучше поступают те, которые не объявляют природе войну и не отвергают тщетно то, что она позволяет, а устраивают свою жизнь так, чтобы избавить душу от всяческих горестей. Вкушая все удовольствия, приятные телесным чувствам, они пребывают в счастливом и блаженном состоянии. Это, пожалуй, имеет в виду знаменитый мудрец в своем Екклезиасте, когда, перечислив различные житейские стремления и намерения людей в погоне за счастьем, он заявляет, что истинное благо для человека состоит в том, чтобы он ел, пил, веселился, умащенный, сверкая одеждами, покоился в объятиях своей супруги и все свое рвение направлял к тому, чтобы получать удовольствия и наслаждения. Ведь все ощущения человека избегают боли и от неприятных вещей испытывают отвращение. Человеческая природа поэтому устроена так, что она больше всего любит наслаждения» (189, В об—ВЗ об).
В XVII в. наиболее ярким представителем атеистической этики, выразителем концепции безрелигиозной морали являлся Казимир Лыщинский. Этические взгляды Лыщинского, автора не дошедшего до нас трактата «О несуществовании бога», формировались на основе его атеистически-материалистической онтологии и гносеологии. «Власть и управление землей и небом», полагал мыслитель, принадлежат «естественной природе». Бог является «выдумкой», «человеческим творением», «сущностью, не имеющей бытия» (65, 296—298). Поэтому религия есть циничный и преднамеренный обман священнослужителями и теологами простого народа, усугубляющийся тем, что сами служители церкви суть неверующие люди. «Религиозный обман», полагает мыслитель, держится на «трех китах»: страхе божьего наказания, страхе земного наказания и невежестве простого народа (см. там же, 286). Поскольку религия является преднамеренным обманом, она не может служить основанием человеческой нравственности. Главным побудительным мотивом поведения человека здесь является страх. «Церковники,— писал Лыщинский,— обманывают простой люд, пугая его адом, как отец пугает плохих детей розгой, чтобы сдержать от проступков» (там же, 299). Аморальны также «теоретики», служители религии, ибо они являются сознательными проповедниками лжи. Определения, которые давал им мыслитель,— «ремесленники пустозвонства», «слепцы, которые лживо утверждают, что видят во тьме», «защитники глупостей», «обманщики» и др.— не только являлись эмоционально-полемическим приемом, но и логически вытекали из его философской концепции религии. Лыщинским отвергался и теоретический источник христианской морали — Священное писание, которое мыслитель считал собранием «басен и выдумок» (см. там же). Таким образом, по мнению мыслителя, вся система поддержания в обществе нравственности, выработанная церковниками и теологами, является ложной и фальшивой. Она зиждется на обмане, страхе, принуждении, что искажает истинные мотивы поведения человека и не способствует воспитанию добродетелей.
В противовес господствующему религиозно-теологическому учению Лыщинский обосновывал атеистически-натуралистическую концепцию морали. Поскольку человек не создан никем из богов и принадлежит вечной и несотворенной природе, постольку естественно-природное происхождение имеют его разум и нравственный мир (см. там же). Во Вселенной мы не обнаруживаем высшего разума, или бога. Разумностью наделен лишь человек, выступающий в роли познающего и самопознающего субъекта (см. там же, 303). Поэтому не может существовать врожденных нравственных идей, моральные понятия имеют естественное происхождение, являются результатом человеческой деятельности.
Специфический характер носили религиозно-этические воззрения отечественных идеологов радикальной Реформации, выражавших морально-нравственные идеалы вовлеченных в реформационное движение плебейско-крестьянских масс. В основе социально-этического учения плебейско-крестьянских идеологов лежала трансформированная августиновская концепция о борьбе двух миров: наличного мира зла и несправедливости («света») и мира добра и справедливости, представленного верными последователями неискаженного социально-этического учения Христа, «истинными христианами». Социально-этическое учение идеологов радикальной Реформации в целом проникнуто оптимизмом: результатом борьбы непременно является торжество «истинных христиан» над «светом», добра и справедливости над злом и несправедливостью. Несмотря на глобальный характер этой борьбы, она, как полагал Мартин Чеховиц, в основном моральная (см. 162, 89). Он и ему подобные идеологи предлагают «верным» воспользоваться тактикой гражданского неповиновения, объявить моральный бойкот всем существующим феодальным общественным и государственным институтам: игнорировать сословно-классовые привилегии, господствующую мораль, отказываться от владения собственностью, участия в органах светской власти, от военной службы и т. д. В то же время предписывается послушание светской власти, выполнение феодальных повинностей. Мирный, непротивленческий характер социально-этического учения плебейско-крестьянских идеологов объяснялся конкретно-историческими условиями, невозможностью в обстановке тогдашней Речи Посполитой вести явную антифеодально-революционную пропаганду. В связи с этим свою задачу плебейско-крестьянские теоретики видели в том, чтобы морально поддержать народные низы, не дать им впасть в отчаяние и примириться с существующей социально несправедливой действительностью. Выстоять, полагали они, поможет человеку радикальное нравственное обновление. Они стремились к пробуждению в человеке таких моральных добродетелей, как любовь, братство, равенство, самоотверженность. Только посредством нравственного обновления, считал Чеховиц, человек может заслужить «спасение», стать полноправным членом «царства божьего», которое он полагал на небе, но и не исключал его возможность на земле. Человек, по мнению Чеховица, должен не только порвать с имущественными и социальными связями старого мира, но и отказаться от его духовно-нравственных идеалов и ценностей. «Необходимо,— писал Чеховиц,— расстаться в самом себе со старым человеком и обрести обличье нового человека» (173, 65). Причем «спасение» может получить не только трудовой народ, но и представители господствующего класса, морально переродившись и отказавшись от своих сословно-классовых привилегий. В частности, эту мысль Чеховиц обосновывал в письме к белорусскому магнату-арианину Яну Кишке (см. там же, 179).
По мнению плебейско-крестьянских идеологов, человек обладает нравственной свободой. Он должен сознательно и добровольно определить избираемый им путь: остаться ли во власти «света» или примкнуть к «истинным христианам» (см. там же, 260—273). Чеховиц весьма остро ставит вопрос об индивидуальной моральной ответственности человека за свои поступки независимо от того, добровольно ли он делает моральный выбор, или к этому его кто-либо побуждает со стороны. В том случае, если внутренние, нравственные убеждения человека вступают в конфликт с внешними обстоятельствами, человек должен следовать велению своей совести, отождествляемой мыслителем со «словом божьим». Человек, пишет Чеховиц, «должен быть послушен властям и выполнять все их предписания, но только в соответствии со словом божьим — и не больше» (там же, 111). Во имя социально-нравственного идеала «истинный христианин» обязан отказаться от сословно-классовых привилегий, собственности, а если необходимо, то и от семьи, быть готовым пожертвовать всем, в том числе и своей жизнью. «Эта аскетическая строгость нравов,— пишет Ф. Энгельс,— это требование отказа от всех удовольствий и радостей жизни, с одной стороны, означает выдвижение против господствующих классов принципа спартанского равенства, а с другой — является необходимой переходной ступенью, без которой низший слой общества никогда не может прийти в движение» (1, 7, 377—378). В то же время самопожертвование должно иметь известные пределы. Чеховиц полагал, что на человека будет возложено бремя испытаний, «согласно его духу и силе» (173, 67).
Чеховицем отвергалось всякое насилие. Однако евангельские тексты, в которых излагалась концепция непротивления злу насилием, трактовались Чеховицем нетрадиционно. В своем диалоге «Христианские беседы» мыслитель следующим образом интерпретировал слова апостола Павла. «Не воздавайте никому злом за зло» (Рим, 12, 17): «Ученик. Лишение человека возможности мстить за нанесенные обиды противоречит природе и разуму. Защита — врожденное свойство не только человека, но и всего живущего на земле — скотов, зверей, птиц, гадов. Как же может разумный человек не защищаться, когда на него нападают или обижают? Надо быть пнем или камнем, немым или мертвым, чтобы выносить все то, что ты говоришь. Учитель. На это я тебе коротко отвечу следующее. Ты говоришь, что неразумные звери и гады за обиду мстят,— это верно. Но они мстят потому, что не обладают разумом, предусмотрительностью, рассудком... Но ведь человек — разумное творение, ему не подобает мстить так, как мстят звери, но он должен преодолевать зло и противоречия своим разумом... Когда он поступает иначе, то уподобляется зверю» (173, 92). Чеховиц, таким образом, считал, что месть за зло противна разумной человеческой природе, она низводит человека до уровня неразумного животного. Зло неизбежно порождает зло. Ради торжества принципа человеколюбия человек обязан поступиться не только личной обидой, но и жизнью, что явится великим нравственно-очистительным примером для человечества.
Религиозно-этическое учение Чеховица противостояло официальной феодально-средневековой морали своего времени. Наряду с абстрактно-гуманистическими, антифеодальными элементами оно содержало и ярко выраженную консервативно-реакционную тенденцию, поскольку сковывало социальную активность масс, настраивало народные низы непротивленчески по отношению к эксплуататорам. Однако вместе с пассивной евангельски-непротивленческой, абстрактно-гуманистической тенденцией в социально-этическом учении плебейско-крестьянских идеологов присутствовали и другие — антифеодальная, плебейско-бунтарская — тенденции, выражавшие протест против существующей общественной несправедливости, господствующей феодально-церковной морали, социального и духовного угнетения человека труда. Убеждение Чеховица в неизбежной победе добра над злом, торжестве разумных и нравственных начал в человеке являлось опосредствованным результатом ренессансно-гуманистических веяний эпохи.
Чеховиц считал, что «необходимо почитать слово божье больше, чем государственные декреты» (там же, 111). Подобного рода позиция не только выражала отрицательное отношение мыслителя к общественным и государственноправовым институтам феодализма, но и содержала идею о том, что человеческие убеждения, в частности вера, не могут контролироваться светской властью. Чеховицем было выдвинуто требование религиозной веротерпимости: «В Польше и других государствах, примыкающих к ней,— писал он,— должна быть свобода вероисповедания».
Религиозно-этическое учение Чеховица представляет собой теологическую модификацию народного гуманизма эпохи Возрождения и Реформации. В специфической, религиозно-мистической форме оно отражало нравственные идеалы трудящихся масс эпохи позднего феодализма (см. 80, 82).
Указатель имен
Аверроэс (Ибн-Рошд) 90
Августин 103
Авиценна (Ибн-Сина) 90-91
Алексеев Л. В. 24
Алексютевич Н. О. 77, 90
Аристотель 46, 48, 52, 66—68, 97, 108, 117, 119, 121, 129, 131, 143, 175—176, 180, 188
Бабич Я. 41, 49, 72
Барбах Ю. 54
Боден Ж. 46, 47
Борозиа Л. Т. 137, 138
Будный Б. 44, 52, 140, 145, 153, 191-192
Будный С. 8, 12, 43, 50, 57, 62—63, 140, 146, 147, 148, 153, 154, 172-174, 177
Буридан Ж. 66
Бэкон Ф. 46
Верниа Н. 68
Вишенский И. 59
Владимиров Л. И. 65, 75—76, 81, 137
Волан А. 26, 44, 46, 50, 55, 62, 140, 147-148, 153, 159, 175—185, 192, 193
Волович О. 54
Гегель 14
Голениченко Г. Я. 73, 93, 94
Голенищев-Кутузов И. Н. 140—141
Головаха И. П. 47
Головацкий Я. Ф. 76—77
Горский В. С. 47
Гращенков В. Н. 37
Грушевский М. С. 77
Гуго Г. 46
Гусовский Н. 140, 161-165
Данте 68
Демокрит 119
Журавский А. И. 81
Зизаний Л. 14, 28—29, 44, 45, 61, 63, 140, 148, 149, 150
Иисус Сирахов 89, 105
Ипатий Потей 34
Кальвин Ж. 38, 46, 80
Карцан Я. из Велички 43, 44, 50
Кастеллио С. 38, 46
Кишка Я. 49, 50, 197
Клибанов А. И. 37
Коменский Я. А. 46
Конон В. М. 53, 128, 137
Конрад Н. И. 140, 176
Коперник Н. 80, 93
Копысский З. Ю. 23
Копыстенский З. 32
Кошуцкий С. 43, 140, 153, 155, 187-191
Курбский А. 9, 76
Ликург 89
Литвин М. 140, 147, 148, 153, 165—171, 177
Лихачев Д. С. 151
Лован С. Г. 155, 192
Лука (евангелист) 95
Лукреций Кар 46
Лютер М. 9, 38, 46, 74, 79, 80
Лыщинский К. 140, 155, 156, 194, 195
Мамонич К. 8, 43
Мамонич Л. 8, 43
Маркс К. 14, 16
Миколай Радзивилл (Черный) 49
Могила П. 61
Моджевский А. Ф. 43, 46, 50, 55
Монтень М. 46
Мор Т. 46, 80, 117
Мстиславец П. Т. 8, 42, 43
Мусати Т. 69
Мюнцер Т. 38
Немилов А. Н. 37
Ничик В. М. 35
Нума Помпилий 89
Павел из Ворчина 66, 67
Перуев В. Н. 77
Пичета В. И. 77
Платон 46, 48, 67, 175, 176, 180, 181, 188, 191
Плетенецкий Е. 61
Полоцкий С. 61, 140
Птолемей Филадельф 89, 105, 133
Пьетро д’Абано 68
Региомонтан И. 94
Сапега Л. 54, 55
Сенека Л. А. 46
Сковорода Г. 12
Славенецкий Е. 61
Смотрицкий Г. 149
Смотрицкий М. 32, 45, 148—150
Соколов В. В. 143, 159
Соломон 89, 105, 122, 123, 132
Солон 89
Социн Ф. 46, 191
Толстой Л. Н. 10
Тяпинский В. 8, 44, 61, 63, 140, 148, 151
Федоров И. 8, 42
Филиппович А. 32, 149
Фома Аквинский 89, 92, 103, 106—108, 120
Цицерон М. Т. 43, 46—48, 52, 66, 67, 109, 110, 145, 177, 180, 184, 186—190, 192
Чеховиц М. 62, 140, 149, 152, 196-201
Щекотихин Н. Н. 72, 137, 138
Энгельс Ф. 13, 37, 91, 198
Эразм Роттердамский 9, 44, 46, 67, 80, 104, 117
Литература
1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. М., 1955—1978.
2. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1958—1970.
* * *
3. Скарына Францыск. Прадмовы i пасляслоуi. Мiнск, 1969.
* * *
4. Абрамович Д. И. К литературной деятельности мниха Камянчанина Исайи. — Памятники древней письменности и искусства. Спб., 1913.
5. Аверинцев С., Соколов В. Патристика. — Философская энциклопедия, т. 4. М., 1967.
6. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью.— Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
7. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссиею, т. 2. Спб., 1865.
8. Алексеев А. В. Полоцкая земля. М., 1966.
9. Алексютович М. А. Скарына, яго дзейнасць i светапогляд. Мiнск, 1958
10. Алексютовiч М. А. Светапогляд Ф. Скарыны. — 450 год беларускагэ кнiгадрукавання. Мiнск, 1968.
11. Алиева Б. И. Теория двойственной истины. М., 1972.
12. Анiчэнка У. В. Скарынiнскiя традыцыi на Украiне — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
13. Антология мировой философии, т. 1, ч. 1. М., 1969.
14. Анушкин А. И. На заре книгопечатания в Литве. Вильнюс, 1970.
15. Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Том третий. Вильна, 1867.
16. Архив Юго-Западной России, т. VIII, ч. 1. Киев, 1914.
17. Бардах Ю. Литовские Статуты — памятники права периода Возрождения. — Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в. (проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения). М., 1976.
18. Баскин М. П. Об эстетических теориях европейского средневековья.— Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1951.
19. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
20. Беларуская савецкая энцыклапедыя, т. XII. Мiнск, 1975.
21. Беларускi apxiу, т. II. Мiнск, 1928.
22. Беленький М. С. О мифологии и философии Библии. М., 1976.
23. Белоруссия в эпоху феодализма, т. 2. Минск, 1960.
24. Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979.
25. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.
26. Беркау П. Н. Скарына i пачатак усходнеславянскага вершаскладания.— 450 год беларускага кнiгадрукавання.
27. Бирало А. А. Философская и общественная мысль в Белоруссии и Литве в конце XVII — середине XVIII в. Минск, 1971.
28. Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1966.
29. Ботвинник М. Лаврентий Зизаний. Минск, 1973.
30. Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.
31. Викторов А. Е. Замечательное открытие в древнерусском книжном мире.— Беседы в обществе любителей российской словесности, вып. 1. М., 1867.
32. Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. Петербург, 1888.
33. Владимировас Л. Франциск Скорина — первопечатник вильнюсский. Вильнюс, 1975.
34. Галенчанка Г. Я. Астранамiчныя звесткi у «Малай падарожнай кнiжыцы» Скарыны. — «Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi». Мiнск, 1974, № 4.
35. Голенченко Г. Я. Книгоиздательская деятельность в Белоруссии. — Из истории книги, библиотечного дела и библиографии в Белоруссии. Минск, 1970.
36. Голенченко Г. Я. Новое о Скорине и его окружении.— Вторая всесоюзная конференция по проблемам книговедения. Секция истории книги. Книговедение и его задачи в свете актуальных проблем советского книжного дела. М., 1974.
37. Голенченко Г. Я. Студенты Великого княжества Литовского в Краковском университете в XV—XVI вв. — Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.
38. Гегель. Сочинения, т. XI. М., 1935.
39. Гiсторыя беларускай дакастрычнiцкай лiтаратуры, т. 1. Мiнск, 1968.
40. Гiсторыя Беларускай ССР, т. I. Мiнск, 1972.
41. Гоббс Т. Избранные произведения, т. 2. М., 1964.
42. Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы. М., 1963.
43. Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. М., 1975.
44. Головаха Н. П., Горский В. С. Проблема взаимосвязей в историко-философском исследовании. — Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII-XVIII вв.). Киев, 1978.
45. Головацкий Я. Ф. Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской Библии из XVI ст., обретающейся в библиотеке монастыря св. Онуфрия в г. Львове.— Науковы сборник, вып. IV. Львов, 1865.
46. Горфункель А. X. От «Торжества Фомы» к «Афинской школе» (философские проблемы культуры Возрождения).— История философии и вопросы культуры. М., 1975.
47. Горфункель А. X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
48. Гравюры Франциска Скорины. Минск, 1972.
49. Грамматiка словенска совершеннаго искуства осми частiй слова. Новосоставлена Л. 3. В Вильне, 1596.
50. Гращенков В. Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения.— Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978.
51. Гринблат М. Я. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. Минск, 1968.
52. Громов М. Н. Древнерусская философия XI—ХIV веков (Автореф. дис.). М., 1976.
53. Грушевский М. С. Культурно-национальний рух на Украiни в XVI—XVII вв. Киiв—Львiв, 1912.
54. Гусовский Николай. Песнь о зубре. Пер. с лат. Я. Порецкого и И. Семежона.— «Неман», 1968, № 7.
55. Гусовский Николай. О жизни и деятельности божественного Иакинфа. Пер. с лат. Я. И. Порецкого.— Беларуская лiтаратура i лiтаратуразнауства, вып. 2. Мiнск, 1974.
56. Данилова И. Е. О категории времени и живописи средних веков и раннего Возрождения.— Из истории культуры средних веков и Возрождения.
57. Джордано Бруно перед судом инквизиции.— «Вопросы истории религии и атеизма», вып. 6. М., 1958.
58. Дорошкевич Э. К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. Минск, 1971.
59. Дорошкевич Э., Конон В. Очерки истории эстетической мысли Белоруссии. М., 1972.
60. Дорошкевич В. И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы (первая половина XVI в.). Минск, 1979.
61. Дубровский В. В. Казимир Нарбут. Минск, 1979.
62. Естественнонаучные представления Древней Руси. Сборник статей. М., 1978.
63. Жураускi А. I. Мова друкаваных выданняу Ф. Скарыны. — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
64. Журнал Московской патриархии, 1968, № 12.
65. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVI — начала XIX в. Минск, 1962.
66. Извлечения из сочинения Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москвитян». — Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачевым. Книги второй половина вторая. М., 1854.
67. Iсаевiч Я. Д. Братства та iх роль в розвитку украiинскоi культури XVI—XVIII ст. Киiв, 1966.
68. Iсаевiч Я. Д. Першодрукар Iван Федоров i выникненне друкарства на Украiнi. Львiв, 1975.
69. История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977.
70. История эстетики, т. 1. М., 1962.
71. Казанье святого Кирилла, патриарха Иерусалимского. Вильно, 1596.
72. Калеснiк У. А., Галенчанка Г. Я. Скарына — Беларуская савецкая энцыклапедыя, т. IX, 1973.
73. Капыскi 3. Ю. Полацк часоу Ф. Скарыны. — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
74. Копысский 3. Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. Минск, 1975.
75 Копысский 3. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII в. Минск, 1966.
76. Каралёу I. А. Сацыялагiчная думка Беларусi канца XVI — першай паловы XVII в. аб сутнасцi грамадства. — «Becцi АН БССР. Серыя грамадскiх навук». Мiнск, 1976, № 4.
77. Катихисис то ест наука стародавная христианьская от светого писма для простых людей языка руского, в пытаннах и отказех собрана. Несвиж, 1562.
78. Кацер М. С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода. Минск, 1969.
79. Кашуба М. В. 3 icтopii боротьбы проти унii XVII—XVIII ст. Киiв, 1976.
80. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России (период феодализма). М., 1977.
81. Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV — первой половине XVI в. М., 1960.
82. Конон В. М. От Ренессанса к классицизму. Становление эстетической мысли Белоруссии в XVI—XVIII вв. Минск, 1978.
83. Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972.
84. Коршунау А. Ф. Знойдзена «Пасхалiя». — «Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi». Мiнск, 1972, № 4.
85. Коршунов А. Ф. Афанасий Филиппович. Минск, 1965.
86. Лаппо И. И. Литовский статут 1588 г., т. II, текст, Каунас, 1938.
87. Лихачев Д. С. Барокко и его русский вариант XVII века.— «Русская литература», 1962, № 2
88. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
89. Любавский М. К. Кто был Михайло Тишкевич, написавший во второй половине XVI в. трактат «О нравах татар, литовцев и москвитян»? — «Ученые записки Института истории. РАНИОН», т. 4. М., 1929.
90. Майхрович А. С. Об эстетическом освоении действительности. Минск, 1973.
91. Мараш Я. Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии. Минск, 1971.
92. Мараш Я. Н. Из истории борьбы народных масс Белоруссии против экспансии католической церкви. Минск, 1969.
93. Медынский Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI—XVII вв. М., 1954.
94. Мещеряков В. П. Братские школы Белоруссии (XVI — первая половина XVII вв.). Минск, 1977.
95. Миловидов А. В. Новые документы, относящиеся к биографии Франциска Скорины.— «Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук», т. XXII, кн. 2. Петроград, 1918.
96. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
97. Мыльнiкау А. С. Ф. Скарына i чешскае кнiгадрукаванне. — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
98. Нарысы гicторыi народнай асветы i педагагичнай думкi у Беларусi. Мiнск, 1968.
99. Некрасов А. И. Орнамент славянских печатных изданий XV—XVI вв.— Древности. Труды славянской комиссии Императорского Московского археологического общества, т. V. М., 1911.
100. Немилов А. Н. Специфика гуманизма Северного Возрождения. — Типология и периодизация культуры Возрождения.
101. Немировский Е. Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964.
102. Немiроускi Я. Л. Iван Фёдарау i Петр Цiмафееу Мсцiславец у Беларусi — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
103. Нiчик В. М. До пытання про схоластичнiсть фiлософсьских курсiв у Киево-Могилянськiй академii.— Вiд Вишенського до Сковороди (3 гiсторii философськой думки на Украiнi XVI—XVIII ст.). Киiв, 1972.
104. Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца XVII—начала XVIII в. Киев, 1978.
105. Нуцубидзе Ш. П. Руставели и Восточный Ренессанс. Тбилиси, 1947.
106. Осиновский И. Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. М., 1978.
107. Отдел рукописей Центральной библиотеки АН Лит. ССР, ф. 40, д. 782.
108. Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии. Минск, 1973.
109. Падокшын С. А. Гусiзм i грамадскi рух Белаpyci i Лiтвы XV—XVII ст. — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
110. Падокшын С. А. Роля антычных традыцый у развiццi культуры i грамадскай думкi на Беларусi у XVI—XVII ст. — «Беларуская лiтаратура», вып. 5. Мiнск, 1977.
111. Подокшин С. А. Идеи античной философии в гуманистической мысли Белоруссии. — Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии. Минск, 1977.
112. Подокшин С. А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы. Минск, 1970.
113. Подокшин С. А. Скорина и Будный. Очерк философских взглядов. Минск, 1974.
114. Подокшин С. А. Философ-гуманист Юзеф Доманевский. — Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии.
115. Подокшин С. А. Философско-этические опыты Беняша Будного. — Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии.
116. Подокшин С. О., Рогович М. Д. До джерел вищоi освити. — Вiд Вишенського до Сковороди.
117. Подокшин С. А., Рогович М. Д. Франциск Скорина и философская мысль восточнославянских народов. — Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII—XVIII вв.).
118. Перцау У. М. Грамадская дзейнасць i светапогляд Георгiя Скарыны.— «Весцi АН БССР», 1948, № 6.
119. Письма князя А. М. Курбского к разным лицам. Спб., 1913.
120. Пичета В. И. Белоруссия и Литва в XV—XVI вв. М., 1961.
121. Политика Аристотеля. Спб., 1911.
122. Прокошина Е. С. Мелетий Смотрицкий. Минск, 1966.
123. Прокошина Е. С. Гуманистические идеи в полемической литературе первой половины XVII в.— Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии.
124. Ревякина Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV — первой половины XV в. М., 1977.
125. Рукописный отдел библиотеки Вильнюсского государственного университета, ф. 3, д. 154, 155, 222.
126. Русская историческая библиотека, т. IV. Спб., 1878.
127. Русская историческая библиотека, т. XIX, кн. 3. Спб., 1903.
128. Русская историческая библиотека, т. 31. Спб., 1914.
129. Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). М., 1973.
130. Слоунiк мовы Скарыны. Мiнск, 1977.
131. Сокол С. Ф. Социологическая и политическая мысль в Белоруссии во второй половине XVI века. Минск, 1974.
132. Соколов В. В. Философия Спинозы и современность. М., 1964.
133. Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979.
134. Сопиков В. С. Опыт российской библиографии, ч. 1. Спб., 1813.
135. Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. Опыт этико-философского исследования. М., 1974.
136. Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977.
137. Фiлософiя Григорiя Сковороди. Киiв, 1972.
138. Флароускi А. В. Скориниана.— 450 год беларускага кнiгадрукавання.
139. Флоровский А. Чешская библия в истории русской культуры и письменности. — «Sbornik filologicky Ceske Akademie Ved». XII, Praha, 1940—1946.
140. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века. Казань, 1898.
141. Цицерон. Избранные сочинения. М., 1975.
142. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1975.
143. Цукерман А. Я. Вучэнне Мiкалая Капернiка у Беларусi (канец XVII — 60-я гады XVIII ст.).— «Becцi Акадiмii навук БССР. Серыя грамадскiх навук». Мiнск, 1975. № 4.
144. Цукерман А. Я. Характэрныя рысы фiласофскай думкi Беларусi 50—60-х гадоу XVIII ст.— «Becцi Акадiмii навук БССР. Серыя грамадскiх навук», 1977, № 6.
145. Чалоян В. К. Армянский Ренессанс. М., 1963.
146. Чапко В. У., Грыцкевiч А. П. Эпоха Ф. Скарыны — 450 год беларускага кнiгадрукавання.
147. Чистович И. А. Очерки истории западно-русской церкви, ч. 1. Спб., 1882.
148. Шахнович М. И. Происхождение философии и атеизм. Л., 1973.
149. Шинкарук В. И. Философское учение Сковороды.— «Вопросы философии», 1972, № 12.
150. Шляпкин И. А. К биографии Франциска Скорины. — «Журнал Министерства народного просвещения», CCLXXX, апрель. Спб., 1892.
151. Шчакацiхiн Микола. Гравюры i кнiжныя аздобы у выданнях Францiшка Скарыны.— Чатырохсотлецьце беларускага друку. 1525—1925. Мiнск, 1926.
152. Экзамен в Падуе. — «Неман», 1967, № 8.
153. Этика Аристотеля. Спб., 1908.
154. Юхо И. А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. Минск, 1978.
155. Balinski М. Andrzej Wolan, jego zycie uczone i publiczne. Pisma historyczne Michala Balinskiego, t. III. Warszawa, 1843.
156. Barycz H. Spojrzenia w przeszlosc polska-wloska. Wroclaw—Warszawa—Krakow, 1965.
157. Barycz H. Uniwersytet Jagiellonski w zyciu narodu polskiego. Wroclaw—Warszawa— Krakow, 1964.
158. Biblia. Brzesc, 1563.
159. Bienkowska B. Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umyslowej do konca XVIII w. Wroclaw—Warszawa—Krakow, 1971.
160. Budny S. О urzedzie miecza uzywajacym. Warszawa, 1932.
161. Budny S. Przedmowa i przypisy do Nowego Testamentu z 1574 r. — Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk tekstow biblijnych. Krakow, 1913.
162. Czechowic M. Rozmowy chrystyanskie. 1575.
163. Czerkawski Jan. Arystotelizm na wydziale sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XVI—XVII w. — Nauczanie filozofii w Polsce w XV—XVIII wieku. Zbior studiow pod redakcja Lecha Szczuckiego. Wroclaw—Warszawa— Krakow, 1978.
164. Domanski J. Erazm i filozofia. Studium о koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu. Warszawa, 1973.
165. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. Zesz. 5: Wielkie Ksiestwo Litewskie. Wroclaw—Krakow, 1959.
166. Jarra E. Andrew Wolan Sixteenth Century Polish Calvinist Writer and Philosopher of Law.— Studies in Polish and Comparative Law. London, 1945.
167. Jurginis J. Renesansas ir Humanizmas lietuvoje. Vilnius, 1965.
168. Kempfi A. Frycz a Wolan.— Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia. Wroclaw—Warszawa—Krakow— Gdansk, 1974.
169. Kosman M. Tolerancja wyznaniowa na Litwie do XVIII w.— «Odrodzenie i Reformacja w Polsce», 1973, t. XVIII.
170. Kot S. Szymon Budny. Der grosste Haretiker Litauens im 16 Jahrhundert.— Wiener Archiv fur Geschichte des Slaventums und Osteuropas. Bd. II. Graz Koln, 1956.
171. Krotkich a wezlowatych powlesci ktore po grecku zowia apophtegmata ksiegi IV przez Bieniasza Budnego. Wydrukowano w Lubczu u Piotra Blastusa. 1614.
172. Kwartalnik historyczny, R. XL. Lwow, 1926.
173. Literatura arianska w Polsce XVI w. Wyd. L. Szczucki i J. Tazbir. Warszawa, 1959.
174. Luksaite J. A. Volano paziuros i visuomenes kilme, struktura ir teises funkcjas.— «Труды Академии наук Литовской ССР», серия А, т. 2 (27). Вильнюс, 1969.
175. Luksaite J. Lietuvos publicistai valstisciu klasimu XVI a pabaigoje XVII a pirmoje puseje. Vilnius, 1976.
176. Marka Tulliusa Cicerona ksiegi о przyjazni przelozone przez Bieniasza Budnego. Drukowano w Wilnie u Jana Karcana. Nakladem tegoz autora. Roku 1603.
177. Marka Tulliusa Cicerona ksiegi о starosci teraz nowo z lacinskiego na polski jezyk z pilnoscia przelozone у wydane przez Bieniasza Budnego w Wilnie w drukarni Jana Karcana, roku 1595.
178. Marka Tulliusa Cicerona о powinnosciach wszech stanow ludzi przez Stanislawa Koszutskiego przelozone i dostatecznymi przypiskami objasnione. Wilno, 1766 (1593).
179. Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk tekstow biblijnych. Krakow, 1913.
180. Ochmahski J. Michalon Litwin i jego traktat о zwyczajach tatarow, litwinow i moskwianow z polowy XVI wieku. — Kwartalnik Historyczny. Rocznik LXXXIII, Nr. 4. Warszawa, 1976.
181. Ogonowski Z. Socynianizm a Oswiecenie. Warszawa, 1966.
182. О wolnosci Rzeczypospolitej albo szlacheckiej od pana Andrzeja Wolana sekretarza J. J. M. pisana, a dopiero nowo z lacinskiego jezyka na polski przelozona od Stanislawa Dubingowicza (1606).— Biblioteka Polska, serya na R. 1859, zeszyt 11, 12, 13. W Krakowie, 1859.
183. Palacz R. Nauczane filozofii na Uniwersytece Krakowskim w XV w. Glowne tendencje i kierunki.— Nauczanie filozofii w Polsce w XV—XVIII wieku.
184. Pamietnik zjazdu naukowego im. J. Kochanowskiego. Krakow, 1931.
185. Pleckaitis R. Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje. Vilnius, 1975.
186. Sajkowski A. Od Sierotki do Rybenki. W kregu radziwillowskiego mecenatu. Poznan, 1965.
187. Vilniaus universiteto istorija. 1579—1803. Vilnius, 1976.
188. Volano Andrea. De principe et propriis eius virtutibus. Dantisci, 1608.
189. Volani Andreae. De vita beata sive summo hominis bono. Dialogus. Vilnae, 1596.
Примечания
1
Посполитый — от лат. publicus — публичный, общественный, государственный. В старобелорусском языке это слово употреблялось также в смысле «простой», «массовый», «общенародный».
(обратно)2
Здесь и далее в круглых скобках сначала дается номер источника в списке литературы, затем курсивом — том, если издание многотомное, и, наконец, страница (Прим. ред.).
(обратно)3
Северным Возрождением (в отличие от итальянского) принято называть ренессансно-гуманистическую культуру стран, расположенных к северу от Альп. Отто Бенеш относит к Северному Возрождению культуру XV—XVI вв. Франции, Германии и Нидерландов (см. 25). По мнению А. Н. Немилова, «с некоторыми оговорками» к данному типу можно отнести ренессансную культуру Чехии, Польши и Англии XV—XVI вв. (см. 100, 39—50). В. Н. Гращенков также полагает, что отдельные явления искусства Венгрии, Чехии и Польши в XVI—XVII вв. «могут рассматриваться в орбите художественных проблем Северного Возрождения» (50, 236). Для гуманизма Северного Возрождения характерны связь с религиозно-реформационными учениями, национально-патриотическое самосознание, ярко выраженная религиозно-этическая направленность и т. д. Читателю нетрудно будет убедиться, что все эти черты в той или иной мере выражены у Скорины и его последователей. В то же время, по мнению автора, вопрос о типе отечественной, восточноевропейской гуманистической культуры XVI—XVII вв. остается открытым.
(обратно)4
Принято считать, что Скорина окончил Краковский университет со степенью бакалавра. Однако, поскольку он учился не один, а два года, вероятно, он вышел из его стен с ученой степенью магистра «свободных искусств».
(обратно)5
Скорина впоследствии называл себя «в навуках вызволсных и в лекарстве доктор» (3, 57), т. е. доктором философии и медицины.
(обратно)6
В латинском оригинале — Ruthenus (см. 150, 324).
(обратно)7
Названия издаваемых Скориной библейских книг даются по современному русскому синодальному написанию.
(обратно)8
Понятие «наука» Скориной употребляется в двух смыслах: как наука, т. е. знание, и как учение (см. 130, 370).
(обратно)9
Опатреность — осторожность, умеренность, благоразумие.
(обратно)10
Досконалый — совершенный.
(обратно)11
О существовании в эпоху Возрождения и Реформации самостоятельного теоретико-гуманистического движения см. 1, 29, 493.
(обратно)12
Относительно личности Михалона Литвина (псевдоним) в настоящее время существуют две гипотезы. По мнению М. К. Любавского, Ю. Юргиниса, С. Ф. Сокола и др., автором трактата «О нравах татар, литовцев и москвитян» является Михайло Тишкевич, православный белорусский или украинский шляхтич (см. 89, 47—52. 167, 129, 131, 35—63). Ежи Охманьский считает, что под именем Михалона Литвина скрывался литовский боярин-католик Венцлав Миколаевич из Мойшаголы (см. 180, 765—783).
(обратно)13
Сочинения А. Волана «О счастливой жизни или наивысшем человеческом благе», «О князе и его личных добродетелях» здесь и далее цитируются о переводе с латинского языка, выполненном В. К. Шатоном.
(обратно)14
Данная цитата является парафразой следующего высказывания Цицерона: «...из всех общественных связей для каждого из нас наиболее важны, наиболее дороги связи с государством. Дороги нам родители, дороги дети родственники близкие, друзья, но отечество одно охватило все привязанности всех людей. Какой честный человек поколеблется пойти за него на смерть, если он этим принесет ему пользу?» (142, 72—73).
(обратно)15
Кошутский имеет в виду Панэтия и Посидония, учителей Цицерона.
(обратно)






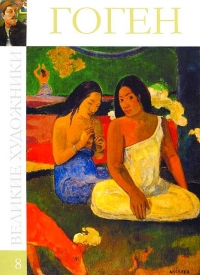
Комментарии к книге «Франциск Скорина», Семен Александрович Подокшин
Всего 0 комментариев