Александр Борин Проскочившее поколение
От автора
Моих сверстников, родившихся на рубеже двадцатых и тридцатых годов, можно, пожалуй, назвать людьми проскочившего поколения. Конечно, репрессии 37-го года многим из нас сломали судьбу, лишили детства, обрекли на сиротство, но, как бы то ни было, в 37-м мы были еще детьми и весь ужас Лубянки и ГУЛАГА в полной мере не хлебнули. И в войну моим ровесникам немало досталось: гибель под бомбами, кошмар немецкой оккупации, ленинградский голод, то же сиротство, но фронт, мясорубка войны пришлись все-таки прежде всего не на нашу долю, а на долю наших отцов и старших братьев.
Словом, проскочили.
Но как при этом жили мы, люди пощаженного судьбой поколения, какими были, какие носили в себе страхи, как преодолевали их (или не преодолевали), как умели (или не умели) сохранить лицо, какими усилиями становились (или не становились) на ноги, как приспосабливались к своему времени, как оно отпечаталось на нас, и что испытываем мы сегодня, чудом дожив до времен, которые и во сне даже не могли ни предвидеть, ни загадать?
Глава первая ПУГАЙ МЕНЯ, ГОСПОДИ…
Выступление Вышинского
Студенческие годы в Московском юридическом институте вспоминаются сейчас как сумбур самых разнообразных событий и впечатлений. На лекциях мы обычно не скучали. Логику нам читал красавец и кумир наших девочек Сергей Сергеевич Остроумов. Любил рассказывать о женской логике: известно, «объем суждения» и «содержание суждения» обратно пропорциональны, когда увеличивается его объем, уменьшается его содержание, но как-то он спросил о том одну милую студентку, и она ответила: «Содержание? Тоже увеличится». — «А вы подумайте». Она беспомощно посмотрела на него и очаровательно улыбнулась: «Ну… совсем немножечко увеличится, чуть-чуть, да?» Мы смеялись. Вообще мы очень часто смеялись. Смеялись, когда профессор Гурвич, один из авторов первой советской конституции, читал нам ГУБС, государственное устройство буржуазных стран: «Единственная область, куда английская королева может совать свой нос — это ее… носовой платок». Он был очень маленького роста, ходил в валенках. Читая лекции, не стоял за кафедрой, а сидел на стуле посреди сцены в Большом актовом зале имени А. Я. Вышинского. За руку Гурвич здоровался в институте только с гардеробщицами, говорил, что они единственные здесь заняты своим делом. В сорок восьмом Гурвича обвинили в космополитизме и вышибли из института. Он прочел нам свою последнюю лекцию «Об ошибках Гурвича». Мы слушали ее, затаив дыхание: по форме она была покаянием, а по сути издевательством — над курсом, который он читал, над руководством института, над обвинениями, которые ему были предъявлены, и, конечно, над самим собой. Кончив говорить, встал со стула и, маленький, в теплых валенках, навсегда ушел из нашей жизни. А мы продолжали нашу бурную, битком набитую событиями и треволнениями, замечательную студенческую жизнь. Слушали лекции генерала-международника Перетерского. О нем ходил веселый стишок: «Остряк, пошляк и бабник зверский Иван Сергеич Перетерский». Но однажды к нам в институт приехал сам Вышинский. С утра уже стало ясно, что должен приехать некий очень высокий чин и явно мужчина: мужские уборные были отмыты до блеска, а женские, как доложили нам наши девочки, оставались нетронутыми. Официально занятия никто не отменял, но все аудитории сразу же опустели, весь народ собрался в Большом зале его имени. Поводом для выступления Вышинского было обсуждение макета учебника профессора Денисова «Теория государства и права». Однако говорил он о чем угодно, только не о книге Денисова. Попросил не ограничивать его регламентом, сказав, что даже в ООН ему разрешают говорить сколько нужно, и зал восторженно разразился овацией. Сообщил, что Советский Союз признал Израиль, и в ответ на наши аплодисменты загадочно усмехнулся: «Юридический институт». Выдал гневную отповедь нашему профессору Стальгевичу. У них в свое время завязался острейший научный спор по поводу определения права. Вышинский говорил: «Право — это воля господствующего класса, выраженная в совокупности норм», а Стальгевич, наоборот, утверждал, что «право — это совокупность норм, выражающая волю господствующего класса», за что Вышинский тут же обозвал его «буржуазным нормотивистом»: «нормы» он ставит впереди господствующего класса. Выступая, в выражениях Вышинский не стеснялся, говорил: «Профессор Стальгевич тридцать лет как баба сидит на печи и высиживает…» Почему как баба и что высиживает, оставалось неясным, но в смысл его речи мы особенно не вникали, мы были в восторге: во дает! И каждое его слово опять и опять встречали бурными, продолжительными аплодисментами. А сам Стальгевич сидел в первом ряду, и было видно, как шея его постепенно багровеет.
Еврейская молитва
21 декабря 1949 года страна торжественно отмечала семидесятилетие великого Сталина. В «Правде» были напечатаны статьи членов политбюро. Каждый из них описывал, какой неоценимый вклад внес гениальный вождь в ту или иную сферу нашей жизни: в экономику, в международные отношения, в железнодорожный транспорт.
В институте, в Большом зале имени Вышинского, состоялось торжественное собрание. Говорили речи, а затем директор института произнес вдохновенную здравицу в честь отца и учителя. Стоя, мы аплодировали.
Аплодисменты продолжались пять минут, десять, двадцать, полчаса… В президиуме никто не решался их прекратить. Я подумал, что так ведь мы можем простоять до самого вечера, и сам испугался своих мыслей.
А через несколько дней я узнал, что на директора нашего института уже поступил донос: раньше времени он прекратил овацию в честь товарища Сталина и тем сорвал собрание.
В то лето моя жизнь чуть было не пошла наперекосяк.
В июле ребята с нашего курса выехали в подмосковное Томилино, в Училище имени Верховного Совета РСФСР, на военные сборы. Вместе с нами были там и студенты Московского университета. Жили мы в палатках, носили военную форму, каждый день уходили в лес на тактические занятия, на стрельбищах стреляли по мишеням и три раза в день строем шагали в столовую, обязательно с песнями.
В первые же дни замполит приказал создать редколлегию и немедленно начать выпуск стенгазеты. Кто-то вспомнил, что я этим занимаюсь в институте, и меня тут же назначили редактором. Быстро договорились, кто напишет заметки в первый номер, но когда стали обсуждать, каким должен быть уголок юмора, возник спор. Мне показалось, что писать фельетоны и рисовать карикатуры на своих ребят не стоит, зачем им причинять неприятности, тем более и сборы-то продлятся всего три недели. Давайте просто поместим в газете рисунки из журнала «Крокодил», все будут довольны. Мне возразил студент МГУ Мильграм. Сказал, что моя позиция беспринципна, критики и самокритики нам опасаться нечего, иначе мы пойдем на поводу у лодырей и нарушителей дисциплины. Я вспылил. «Ну и прекрасно, — сказал я, — тогда делайте газету без меня». — «Значит, ты отказываешься?» — спросил Мильграм. — «Отказываюсь!» — гордо сказал я. — «Ну что ж…»
Мильграм тут же подошел к замполиту и, показав на меня, доложил: «Он отказывается делать газету». Замполит с интересом посмотрел на меня. «Отчего же?» — спросил он. Надо было срочно придумать какое-нибудь веское объяснение, и я придумал: «К сожалению, — сказал я, — я не знаю специфики армейской печати». — «Да? — спросил замполит. — А если Родина прикажет, и вам дадут оружие, вы тоже скажете, что не знаете армейской специфики?» — «Если меня призовут, — важно ответил я, — я, конечно, возьму оружие и пойду служить. Я говорю про специфику армейской печати». Замполит просто ел меня глазами. «А если Родина прикажет вам стать офицером? Там придется всем заниматься, и стенгазетами тоже». — «Профессиональным военным я не собираюсь быть, — обстоятельно объяснил я. — Государство тратит деньги, чтобы я стал юристом».
Я был горд собой, мне казалось, что я нашел очень удачный ответ и прекрасно вышел из дурацкого положения. Но не тут-то было. Назавтра состоялось комсомольское собрание. Замполит проинформировал собравшихся о том, что студент такой-то отказывается служить в советской армии. Выступил Мильграм, рассказал, как студенты возмутились отщепенцем, попытавшимся взять под защиту лодырей и нарушителей. Его поддержали еще несколько человек, главным образом, студенты МГУ, но к ним присоединился и кое-кто из наших. Выступающие говорили, что я позорю честь института и высокое звание советского студента. Решено было передать мое персональное дело на рассмотрение комсомольской организации юридического института.
Сборы между тем продолжались. Я ходил вместе со всеми на тактические занятия, стрелял по мишеням и в строю с песнями шагал в столовую. Постепенно мне стало казаться, что тучи обошли стороной, нельзя же всерьез принимать вздорные обвинения этого дурака замполита.
Но буря, оказывается, только приближалась.
Осенью, когда начались занятия, на доске объявлений появилось сообщение о том, что такого-то состоится открытое комсомольское собрание института. Шел пятидесятый год, разоблачение еврея с его антипатриотическими настроениями пришлось как нельзя кстати.
Дома был траур. Мама ходила вся в слезах и все время повторяла: «Я знаю, тебя исключат из комсомола и из института». Папа молчал.
На собрании на меня нашло какое-то оцепенение. Я знал, что сейчас рушится вся моя жизнь, но по-настоящему в тот момент это еще до меня не доходило. Что-то говорили про меня выступающие, разоблачали, клеймили, выводили на чистую воду, а я сидел весь заторможенный, не в состоянии ни на что реагировать. Только удивился, когда при голосовании за мое исключение трое воздержались, по правилам полагалось единогласное решение.
Через несколько дней меня исключили и из института.
Я торчал дома, изнывая от безделья. Время от времени ко мне заходили однокурсники, те самые, кто голосовал на собрании за мое исключение. Я спрашивал себя, а как бы сам поступил на их месте. Если бы исключали кого-то другого и от меня потребовали поднять руку, разве бы я ее не поднял?
Ребята долго у меня не засиживались, говорить нам в сущности было не о чем. Я понимал: так навещают безнадежно больного, которого утешать трудно, а не прийти нельзя.
Чтобы чем-то себя занять, я попытался было читать книги, но чтенье не шло. Глаза скользили по тексту, а думал я в это время совсем о другом. Занялся кроссвордами. Решал их пачками с утра до вечера. С тех пор кроссворды видеть не могу, никогда не беру их в руки.
Из военкомата прислали повестку и меня направили на медицинскую комиссию. Но тут-то выяснилось, что в армии я не могу служить из-за зрения. Постановили: «годен к нестроевой в военное время». А в мирное — вообще ни на что не годен. Получалось: меня исключили за отказ служить в армии, а я не смог бы стать в строй даже при всем желании. Нелепость?
Я подал апелляцию в горком комсомола. Не знаю, восстановили бы меня, несмотря на весь абсурд ситуации, логика тогда мало что значила. Однако помог случай.
В школе, до девятого класса, я учился с прекрасным, добрейшим парнем Женей Гнатовским. Потом он перескочил класс, сдал за десятый экстерном и на год раньше меня поступил в технический вуз. Женя был замечательным товарищем. В день, когда ему предстояло сдавать очередной институтский экзамен в весеннюю сессию, у меня как раз должен был быть экзамен по химии на аттестат зрелости. Но химию я не знал совершенно. Женя сказал, что выход есть один: он наплюет на свой экзамен в институте, потом пересдаст, и за сутки расскажет мне всю химию, неорганическую и органическую. На один день я запомню. Так и сделали. Рассказывал он мне все двадцать четыре часа подряд. Поливали головы холодной водой и шли дальше. Назавтра я химию сдал. Получил, правда, только четверку. Нужно было налить в пробирку какой-то реактив, он отчего-то не лился, члены комиссии с любопытством наблюдали за моими манипуляциями, пока кто-то из них не заметил, что жидкость из сосуда никогда не выльется, если не открыть пробку.
О грозящем мне исключении из комсомола Женя сразу же рассказал своему отцу, Семену Осиповичу, члену партии с дореволюционным стажем. «Ты уверен, что Саша рассказывает тебе правду? — спросил он. — Хорошо, я приду на их собрание». Присутствие незнакомого старого большевика, надо сказать, несколько озадачило институтских комсомольских вожаков, во всяком случае, они настойчиво допытывались у меня, кого я привел. Но на решении это не отразилось. Комсомольский билет в райкоме у меня отобрали.
Однако перед подачей апелляции к секретарю горкома Давыдову приехал Семен Осипович. Он Давыдова знал. В свое время преподавал ему курс в институте цветных металлов и золота. И, в результате, в комсомоле меня восстановили. Дали всего-навсего «строгач» «за политическую незрелость». А затем восстановили и в институте.
Много позже я узнал, что еще на армейских сборах материалы обо мне были переданы военному следователю, но он, рассмотрев их, отказался возбудить уголовное дело. Человек, имени которого я не знаю, сохранил мне жизнь.
Отец мой, человек совсем не религиозный, любил повторять одну замечательную еврейскую молитву: «Господи Боже, пугай меня сколько хочешь, только не наказывай».
А вот судьба самого секретаря горкома Давыдова сложилась неблагополучно. Через несколько лет, уже при Хрущеве, будучи на партийной работе, он слетел с должности за то, что восстановил в партии кого-то из членов «антипартийной группы».
«А как после этого я буду жить?»
Юра Бразильский поступил на первый курс Московского юридического института в сентябре 1948 года, на год позже меня. А подружилась мы с ним еще во время войны, в омском Доме пионеров — он тоже жил там в эвакуации. Я посещал драмкружок, а он — шахматный. В драмкружке ставили небольшие одноактные пьесы и к октябрьским праздникам готовили торжественную программу. В день 7 ноября мы должны были прочесть со сцены областного театра стихи, написанные каким-то известным московским поэтом, тоже эвакуированным в Омск:
В день годовщины 25-й, Когда в горах кипит война И к Волге рвется враг проклятый, Наш рапорт выслушай страна. Тебе расскажем мы о жизни Веселой омской детворы…Но еще в начале лета 1942 года нас с мамой постигла огромная беда. Когда началась война, отца перевели в Сталинград директором цементного завода, выпускавшего какие-то особые бомбы, поражавшие живую силу противника. Письма от него приходили более или менее регулярно, и вдруг он замолчал. Мама послала телеграмму по адресу, который он нам оставил, и получила официальный ответ: «Ваш муж арестован органами НКВД».
Как? Почему? За что? — спрашивать было бесполезно. Все ночи напролет мама рыдала, это был конец, конец всем — и отцу, и нам с ней. Мы жили в Сибири у чужих людей, в холодной маленькой комнатушке, где не имелось даже своей печки, обогревалась она теплом, еле поступающим сюда из кухни. Думали, мечтали: вот кончится война, и мы вернемся к себе домой. А что теперь? Гибель?
Мама строго приказала мне о сообщении из Сталинграда никому не рассказывать, ни единой живой душе. Когда узнают — тогда и узнают. А пока мы как все. И я молчал. Но одному человеку я все-таки открылся — Юре Бразильскому. Я должен был посоветоваться с ним, имею ли я теперь право выступать со сцены областного театра в день 25-ой годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. Или, может, лучше притвориться, что я заболел?
Юра сказал, что я обязательно должен выступить. Во-первых, как известно, сын за отца не отвечает. А во-вторых, ответ из Сталинграда ни о чем еще не говорит: может, отец мой послан на какую-нибудь очень секретную работу, о которой нельзя никому рассказывать. Бывает же такое? И я охотно согласился: да, конечно, бывает.
Но осенью, почти перед самыми праздниками, мы получили от отца телеграмму из Чкалова, куда, оказывается, эвакуировали завод: «Выздоровел, письмом подробно».
Лишь много позже мы с мамой узнали, как все было.
Арестовали его по доносу одного из сослуживцев, отец неосторожно сказал ему, что у трофейных немецких машин, которые он видел во время командировки в Москву, замечательная резина, гораздо лучше нашей. Особое Совещание сочло это пораженческой пропагандой в военное время, отца уже посадили в камеру смертников. Но тут на его счастье по каким-то своим делам в Сталинград приехал один из членов Государственного Комитета Обороны, хорошо знавший по работе моего отца. Выяснив ситуацию, он немедленно отправился к секретарю обкома (хотя отец был беспартийным). Какой уж у них в обкоме произошел разговор, не известно. Но отца срочно вызвали к следователю, напоили крепким чаем, побрили, повязали чей-то галстук и отвезли в обком.
Но тогда в телеграмме было только одно великолепное, спасительное, прекрасное слово: «выздоровел».
Я тут же побежал к Юре Бразильскому.
На всю жизнь запомнил я его сияющие глаза и победный крик: «А что я тебе говорил!»
И вот через шесть лет мы снова, совершенно неожиданно, встретились с ним в стенах Московского юридического института.
Когда разразилось мое персональное дело, Юру вызвали в партком и растолковали: как комсомолец и мой друг, он обязан на собрании выступить и потребовать моего исключения из комсомола. Этим он докажет свою высокую политическую зрелость. А иначе, если увильнет и не придет на собрание, при будущем распределении его гнилая примиренческая позиция несомненно сослужит ему дурную службу.
От этого распределения завесила судьба всей его семьи: отец был тяжело болен раком, мать выбивалась из сил, чтобы хоть что-то заработать. Уезжать из Москвы Юре нельзя было никак.
«Ты не можешь рисковать, — сказал я. — Все равно твое выступление на собрании ничего уже не изменит. Скажи все, что они от тебя требуют, и пускай подавятся». — «А как после этого я буду жить?» — спросил он.
После института Юру оставили без распределения. Но юридическая профессия его не слишком и манила. Всю жизнь любовью его оставались шахматы. Только за победы на шахматной доске он не очень и боролся. То ли знал свой потолок, то ли тщеславия не хватало. Устроился в шахматный журнал и, кажется, был этим вполне доволен.
Очень часто приезжал ко мне в подмосковное Кратово, где на даче мы проводили каждое лето. По соседству жила его однокурсница Нели Микш, чешка по отцу, в которую он был тихо влюблен. Его чувства ей явно льстили, она с удовольствием встречала его, мило с ним кокетничала, но дальше этого дело не шло. Он был хорош собой, любил, насколько позволяли средства, красиво, даже франтовато одеваться, но решительности, напористости, уверенности в себе ему всегда не хватало. Его губила природная сдержанность и деликатность. Однажды кто-то сказал о нем: «Он до того порядочный, что даже немножко ограниченный». Сказал, не осуждая, а, скорее, наоборот, сочувствуя: мол, слишком уж закрепощен, надо бы ему хоть немножко раскрепоститься. Но о степени своей порядочности Юра, наверное, никогда не задумывался. Да и имеет ли она степени? Академик Леонтович заметил однажды: «Очень подлым человек может быть, но очень порядочным — нет. Он или порядочный, или непорядочный».
В конце концов Юра женился, был редким мужем, безропотно занимался домашним хозяйством. О юношеской влюбленности в Нели Микш вспоминал с улыбкой и с легкой грустью. Она вышла замуж, переехала в Ленинград и работала диктором на ленинградском телевидении. О Юре она вряд ли часто вспоминала.
Но когда через много лет, приехав в Ленинград, я нашел ее телефон и позвонил сказать, что Юра Бразильский умер, в трубке я услышал горькие рыдания.
Я держал трубку, слушал, как рыдает красавица Нели Микш, и очень жалел, что рыданий этих не услышит Юра Бразильский.
Телефонный звонок
В год, когда Юра умер, я уже работал в «Литературной газете». Помню, мы — Евгений Богат, Аркадий Ваксберг, я — собрались в нашей 433-й комнате в здании «Литгазеты» на Цветном бульваре. Обсуждалось что-то крайне важное и интересное, мы были с головой поглощены очередной увлекательной газетной идеей. Все, что как-то отвлекало — кто-то заглянул в комнату, раздался телефонный звонок, — нас невероятно раздражало.
Зазвонил телефон. Я поднял трубку. Звонил Юра Бразильский. «Юрочка, — сказал я, — прости ради Бога, если у тебя ничего срочного, позвони через полчаса. Мы в дикой запарке». «Да, да, — сказал он. — Конечно, извини…» Он не позвонил, а я тоже забыл ему отзвонить.
Это была пятница, из редакции я поехал на дачу. Там кто-то мне сказал, что Юру сегодня положили в больницу.
Я подумал: как нехорошо. Видимо, он звонил сообщить мне. Решил, что в понедельник непременно его навещу. А в понедельник узнал, что в ночь с субботы на воскресение Юра умер. Ночью он вышел из палаты в уборную, но не дошел. Ему, наверное, стало плохо, и он сел на стул в коридоре. Здесь его утром и нашли — мертвого.
Я не знаю, что он хотел сказать, позвонив мне в тот день. Может быть, просто объяснить, что в больницу его берут в пятницу, потому что в конце недели освобождаются места. Пошутить, в трудные минуты он всегда старался гордо шутить. Попросить не рваться к нему, он не собирается долго залеживаться в больнице. А я его не дослушал. Очередная статья в газете казалась мне в тот момент важнее всего на свете.
Уже потом, когда он умер, я подумал, что Юра в последнее время стал звонить мне реже, чем прежде. Наверное, сами того не замечая, работая в «Литературной газете», игравшей тогда особую роль в нашем обществе, мы, «литгазетчики», ощущали свою некоторую избранность. Свою силу, если угодно. Другим нельзя, а нам можно. Пусть говорим не всю правду, пусть полуправду, — но в той атмосфере глухоты и недомолвок и она звучала на всю страну.
Юра без сомнения ощущал эту мою высокую самооценку. Не спорил, не возражал, он вообще был на редкость терпимым человеком. Но она была ему чужда. Ему вообще была чужда всякая исключительность в людях. Он просто тихо, молча ее сторонился.
А тут вдруг взял и позвонил.
Значит, ему было очень нужно в тот день мне позвонить.
А я не откликнулся. Не по злой воле. Не от равнодушия. Важные дела вершились. Товарищ подождет.
Не подождал. Ушел.
Сколько лет прошло, но до сих пор болит сердце.
Глава вторая ОРДЕР НА АРЕСТ ПУШКИНА
Две тонны цемента
Еще в институтские годы Юра Бразильский познакомил меня с бывшими учениками знаменитой в Москве 110-й школы. Они, как и Юра, были заядлыми шахматистами. Я в ту пору заканчивал второй курс юридического института, Юра был на курс младше. Входили в эту компанию: Валя Смилга, он учился на физтехе, Юлик Крелин — учился в медицинском, и Натан Эйдельман, для нас Тоник, — студент исторического факультета МГУ.
Ребята как ребята, дулись в подкидного дурака, и проигравший — чаще всего им почему-то оказывался шахматист Бразильский — должен был громко блеять барашком. Устраивали небогатые, но очень веселые и шумные застолья, во время которых Смилга и Эйдельман затевали буйные словесные баталии, один из них называл какое-нибудь историческое имя, скажем, Навуходоносор, а другой тут же обязан был отчеканить: «605–562 до нашей эры». Юлик Крелин находился в состоянии постоянной влюбленности, и нас, еще заставших раздельное обучение и окончивших мужские школы, это очень занимало.
В школьных и студенческих застольях я участвовал и прежде, и девочки давно уже меня интересовали. Однако компания Натана чем-то существенно отличалась от всех, где я бывал раньше. По возрасту мы были ровесниками, и росли примерно в одинаковых семьях, но что-то в этих ребятах было такое, чего не было в других моих сверстниках. Может быть, раскованность, легкость в общении друг с другом, этого мне лично всегда не хватало. Может быть, начитанность не по годам, чем они даже чуть-чуть кичились. От них впервые и услышал я запомнившуюся мне фразу о том, что всегда надо уметь «сохранять лицо». Я в ту пору об этом еще не задумывался.
Скоро в семью Эйдельманов пришла беда. Его отец, фронтовик и известный журналист, был обвинен в сионизме и посажен. Освободился он уже после смерти Сталина. Рассказывал, как в бараке сосед, старый еврей, однажды спросил его, сколько писем разрешено ему писать домой. Яков Наумович ответил: одно в полгода. Сосед вздохнул: «А если бы победил Лев Давыдович, вам бы разрешали писать целых два письма».
Эйдельман-старший отличался энциклопедической образованностью и взрывным темпераментом. Этим в полной мере наградил он и сына.
Когда через много лет отец умирал от рака, Натан от него не отходил. Умирал Яков Наумович тяжело, мучительно и при полном сознании. Накануне смерти, с трудом произнося слова, он спросил, когда играет бразильская команда — в те дни шло первенство мира по футболу. «Послезавтра», — сказал Натан. «Жаль, — прошептал Яков Наумович, — я уже не узнаю результат».
МГУ Натан закончил в 1952 году, диплом защитил о банковском капитале, очень тогда увлекался экономикой.
Отец еще сидел, и Натана никуда не брали на работу. Помогли… две тонны цемента. В одном из подмосковных городов — устроиться в самой Москве Натан и не рассчитывал — директор заводской школы рабочей молодежи, с которым Натан вел переговоры, спросил, чем он может им помочь. «В каком смысле?» — не понял Натан. «Ну, скажем, нашему заводу очень нужен цемент». Цемент? Откуда у Натана цемент? Но случайно оказалось, что дальний родственник Эйдельманов как раз занимается строительными материалами. Цемент был отправлен, и Натана взяли преподавать историю.
Слава о его уроках очень скоро обошла всю Москву. То не были уроки в обычном смысле, Натан устраивал увлекательные исторические игры. Персонажи из далекого прошлого здесь оживали, вели между собой дискуссии, потомки судили предков, опровергалось известное изречение о том, что история не имеет сослагательного наклонения, здесь она его имела: а если бы Петр не казнил сына, а если бы Самозванец взял столицу?.. Впрочем, учителей тогда катастрофически не хватало, и кроме истории Натану приходилось преподавать еще и географию, немецкий язык и даже астрономию. Когда через несколько лет он оставил эту школу и перебрался в Москву, у учеников был траур.
В Москве, однако, осесть ему не удалось. В ту пору разразилось громкое политическое дело так называемой «группы Краснопевцева». Уж не помню, как она точно формулировала свои задачи, но провозглашалось возвращение к подлинному марксизму и объявлялась борьба с его искривлениями. То, что позже получит название «За социализм с человеческим лицом». Бывший студент истфака МГУ Краснопевцев и его единомышленники писали теоретические работы, живо их обсуждали, кажется, даже готовили прокламации. Натан в саму группу не входил, но в ней были его товарищи, и работы их он, конечно, читал. А дальше уж как водится: ночной обыск в квартире Натана, многочасовые допросы в КГБ, волчий билет. Его не арестовали, по уголовному делу он не проходил, но из комсомола тут же исключили и из московской школы, где он уже преподавал, немедленно выгнали. Директор школы, очень хорошо к нему относившаяся, сказала: «Натан, сейчас начнется собрание, я буду выступать, говорить про тебя, но ты не слушай».
Делались потом и другие попытки устроиться в Москве. Его согласилась было взять директор Исторического музея, старая большевичка, человек влиятельный, но КГБ наложил запрет: учреждение режимное, находится на Красной площади, подозрительным лицам здесь не место.
Пришлось опять искать работу вне Москвы. Приняли его в краеведческом музее в городе Истре. И, как оказалось, то был его счастливый билет. Приводя в порядок архивы, к которым никто никогда не прикасался, он обнаружил документы, связанные с Герценом, и они дали толчок к серьезной исследовательской работе Натана. Но произойдет это позже. А тогда он очень смешно рассказывал об атмосфере, царящей в краеведческом музее. Коллектив был женский, не случалось дня, чтобы по самым разным, чаще всего ерундовым поводам не вспыхивали склоки, не возникали два люто враждующих между собой лагеря. Каждый из них всячески пытался привлечь Натана на свою сторону. Его затаскивали в какую-то комнату и горячо, перебивая друг дружку, объясняли, какое исчадие ада их недруги. Натан слушал, кивал и говорил, вздыхая: «Да, бывает…» А за дверью его уже поджидали представительницы той, другой стороны. Зазывали к себе и не менее жарко доказывали, что мир еще не видел таких страшных людей, как их противницы. И Натан снова слушал, и снова говорил, вздыхая: «Да, бывает…»
Космическая куртизанка
В компаниях, в застольях Тоник всегда держал площадку, лучшего рассказчика среди нас не было. Ему говорили: «Хватит болтать, бери перо и пиши». Но до пера и бумаги руки все время как-то не доходили.
Однажды он зашел в редакцию «Литературной газеты» к своему товарищу Юре Ханютину. (Впоследствии Ханютин с Майей Туровской напишут сценарий к кинофильму «Обыкновенный фашизм».) В кабинете, кроме Ханютина, за маленьким столиком сидела незнакомая пожилая дама. Ханютин неожиданно спросил: «Тоник, а сейчас, в наше время, можно найти клад?» Натан возмутился: «Какой клад? Если ты имеешь в виду археологию…» И стал рассказывать. Ханютин слушал, кивал головой, а минут через пять неожиданно встал и вышел из комнаты. Натан растерянно замолчал. «Продолжайте», — строго сказала пожилая дама: это была стенографистка. И Тоник прочел ей великолепную лекцию об археологии.
Через несколько дней Ханютин взял стенограмму, сказал, что все годится, надо только начало поставить в конец, а конец в начало, и статья Натана о проблемах археологии была напечатана в «Литературной газете».
Так, почти анекдотически, появилась первая, насколько я помню, публикация замечательного писателя и историка Натана Яковлевича Эйдельмана.
Впрочем, в Союз писателей Натан вступил тоже довольно весело.
У него уже вышла книжка о Герцене, появилось «Путешествие в страну летописей», другие книги, они имели успех, ими зачитывались, но на приемной комиссии Союза писателей кандидатуру его каждый раз упорно отклоняли: да, конечно, все это очень интересно и лихо написано, но где же тут литература? Это скорее наука, история.
Не знаю, чем бы борьба с приемной комиссией закончилась, если бы не очередной забавный случай. Как-то в ресторане Дома литераторов (в просторечии мы его называли «гадюшником») кто-то из сидящих за столиком пожаловался: он, мол, взялся составить сборник фантастических повестей и рассказов, сроки поджимают, а материалов нет. Тут же возник спор: можно ли за неделю написать фантастическую повесть. Натан сказал: да, можно. Поспорили на бутылку коньяка и четыре порции шашлыка-бастурмы.
Натан написал в срок. О чем там шла речь, уже не помню, помню только, что главной героиней была… космическая куртизанка. В том самом сборнике повесть эта была напечатана.
И когда в очередной раз Эйдельмана представили на приемной комиссии, докладчик сказал: «Вы говорите — наука, наука, но космическая куртизанка — это же настоящая литература, прекрасный художественный образ». И Натана Эйдельмана наконец приняли в Союз писателей.
«Не можешь помочь — страдай!»
Понимали ли мы, какого масштаба этот человек, как глубоки и блестящи его книги, какую роль начал играть он в нашем, взбудораженном оттепелью шестидесятых обществе? Вероятно, понимали. Но в житейской суете, в повседневных контактах, в шумных застольях, в вываливании друг другу всего, что накопилось на душе, в яростных спорах и в веселых стычках — этого, наверное, не ощущали. Или ощущали не в полной мере. Для нас он был Натан, Тоник, который, проиграв в пинг-понг любимой дочери Тамаре, мог в ярости швырнуть наземь ракетку, а через минуту уже смущенно улыбаться. Который отказывался ехать смотреть свою новую квартиру (тогда расселяли обреченные на снос арбатские переулки), говоря, что ему достаточно увидеть ее план, на Сенатской площади в декабре 1825 года он тоже не был, но по схемам знает, что там происходило лучше, чем сами декабристы. Который, отличаясь драгоценнейшим умением жить вкусно, увлеченно, даже азартно, часто в сердцах пенял мне: «От твоего занудства скисает молоко». А в конце восьмидесятых, в письмах из Москвы в Пицунду, где я каждый год отдыхал, писал: «Сейчас твое время, смотри, не упусти». Он говорил мне: «Вот такой-то (и называл одного из наших близких друзей) — суетный, а ты суетливый». «Почему я суетливый?» — не понимал я. «А потому что уже сегодня ты нервно соображаешь, что тебя ждет послезавтра».
Можно было не видеться с ним неделями, но при встрече оказывалось, что он в курсе самых мельчайших подробностей твоей жизни. Он обладал редчайшим, почти не встречающимся сегодня качеством: каждый, кто с ним общался, чувствовал, как он Натану интересен. И это не было вежливой маской, это было действительно так. Иной раз я даже отказывался его понимать, спрашивал: «Ну о чем ты два часа болтал с этим тупым партийным функционером?» — «Ты ничего не понимаешь, — возражал он, — это такой кладезь информации!»
Бывало, услышав, что с кем-то поступают несправедливо, Тоник просил меня, чтобы вмешалась «Литературная газета», где я работал, и помогла человеку. Говорил он это даже чуть-чуть стесняясь: вот, мол, наваливаю на тебя лишние хлопоты, но что делать!
Нередко действительно удавалось заступиться за невиновного. Но случалось и так: Тоник просил за кого-то, не очень даже будучи в курсе той ситуации. Ему кто-то что-то рассказывал, и он тут же обращался ко мне. А иногда речь шла о человеке, которого неправильно исключили из партии, что по тем временам означало крушение всей карьеры.
Я объяснял: «Есть категорическое указание Чаковского в партийные дела „Литературной газете“ не вмешиваться. На то существует партийная пресса. Даже если статья и будет написана, ее у нас никогда не опубликуют».
И тут Тоник взрывался: «Ненавижу твой советский тон, — кричал он мне. — Не можешь помочь — страдай! Страдай, если не можешь помочь! Слышишь?»
До сих пор звучат у меня в ушах эти его слова.
Как историк Эйдельман вылечил меня от гриппа
Натан очень любил выступать перед слушателями, делал он это блестяще и никогда не отказывался от приглашения.
Помню в Коктебеле, собираясь на какую-то встречу с читателями, писатель Зиновий Паперный (шутки его передавались из уст в уста) сказал: «Тоник, смотри, какая хорошая погода. Море, солнце. Люди приехали сюда отдыхать. Пожалуйста, не огорчай их, не порть им настроение. Не говори, что Дантес убил Пушкина».
Но одна лекция Натана, если ее можно так назвать, навсегда останется в моей памяти. И если мне бывает худо, тоскливо, на душе скребут кошки и хочется всех и все послать подальше, я вспоминаю тот необыкновенный день.
Я тяжело заболел гриппом. Пять дней температура держалась под сорок. Через день приезжал доктор Юлик Крелин и, кажется, впервые смотрел на меня с явным профессиональным интересом.
Когда жена выходила в магазин или в аптеку, входную дверь она не запирала: подняться и отворить ее у меня не было сил.
И вот слышу, кто-то вошел в переднюю. «Кто там?» — хриплю я. «Ну чего разлегся?» — раздается бас Тоника, и со своим всегда туго набитым, видавшим виды портфелем он появляется у меня в комнате. «Тоничка, — прошу я, — пожалуйста, не подходи ко мне, я очень заразный». — «Да плевал я на твою заразу, — говорит он, употребляя слово куда покруче, берет стул и садится у постели. — Я еду сейчас из архива, — сообщает он. — Час назад я нашел ордер на арест Пушкина».
Какой ордер, какой арест? У меня разламывается голова, меня тошнит, я не очень даже соображаю, о чем идет речь.
Но Тоник рассказывает. Он возбужден и взволнован. Давно уже было известно, что в июле 1826 года некий шпион Бошняк под видом странствующего ботаника отправился в Псковскую губернию разузнать о поведении ссыльного Пушкина, о его опасных стихах и разговорах. Только что закончилось следствие над декабристами, и Пушкин был у властей на большом подозрении.
Я слушаю с трудом. В голове полный туман. Но о поездке Бошняка ведь много уже сказано, написано, пытаюсь возразить я, какая тут новость?
«Да, — соглашается Тоник. — Тут новости нет. Известно и то, что, сидя за крепкой наливкой с игуменом Ионой, Бошняк не узнал о Пушкине ничего его порочащего. Самым опасным с точки зрения правительства было свидетельство, что Пушкин иногда ездит верхом, а приехав, приказывает отпустить лошадь одну, говоря, что „всякое животное имеет право на свободу“».
Это смешно. Я пытаюсь рассмеяться, но меня тут же бьет дикий кашель.
Тоник ждет, пока кашель утихнет.
«Ты слушаешь?» — спрашивает он. — «Да, да, — говорю я. — Я слушаю». Мне трудно, я задыхаюсь, но я слушаю. Мне становится интересно.
«Известно, — продолжает Тоник, — что, вернувшись, Бошняк подал генералу Витту рапорт. При нем он возвратил полученный им при отъезде из канцелярии царя „оставшийся без употребления открытый лист за № 1273“. До сих пор этот „открытый лист“ никто не видел. Ни в одном архиве обнаружен он не был». Тоник придвигает стул поближе к моей кровати и сообщает: «Сегодня я его нашел. Час назад». — «Сегодня?» — «Да, в центральном военно-историческом архиве».
Голова у меня продолжает раскалываться, но мне уже не до того. «Почему в военном?» — спрашиваю я. «В том-то и дело», — смеется Тоник. Пушкинские архивы искали где угодно, но только не здесь. Какое отношение, казалось бы, имел Пушкин к военному ведомству? Но Российская империя — государство военное, в фонде бывшего главного штаба или канцелярии военного министра вдруг находятся документы о разливе Невы или о пьяной драке. Да и шпион Бошняк связан с военным ведомством. И Натан отправляется в военный архив. Здесь ему попадает в руки папка, названная: «Дело о разных сведениях, собранных коллежским советником Бошняком в С.-Петербургской, Псковской, Витебской, Смоленской губерниях на 25 листах. Начато 8 августа 1826 г., кончено 15 декабря 1826 г.»
«Соблазнительное название, не находишь?» — спрашивает Тоник. Еще бы! Те самые места и то же самое время. Я уже не лежу пластом, я пытаюсь сидеть, опершись на подушку. Его увлечение передается и мне.
Первый же документ в папке назван: «Открытое предписание № 1273…» «Тот самый номер, помнишь?» — Тоник открывает свою тетрадь и читает только что переписанный в архиве текст: «Предъявитель сего… отправлен по высочайшему повелению Государя императора для взятия и доставления по назначению, в случае надобности при опечатании и забрании бумаг одного чиновника, в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании…»
«Ты понимаешь, — говорит он. — Это же ордер на арест Пушкина. Если бы Бошняк счел поведение его предосудительным, поэта бы скрутили и тут же взяли под стражу. Вот повеление самого императора. Пушкин был, можно сказать, на волоске от крепости».
Я понимаю. Я понимаю, что до сегодняшнего дня это можно было предполагать, имелось множество косвенных подтверждений, но документ, прямо на это указывающий, стал известен нам только сегодня, час назад. Тоник узнал о нем и по дороге из архива заехал мне рассказать. Ему не терпелось поделиться.
Он смеется, и я смеюсь. Документ найден совсем невеселый, но нам весело от того, что в руках Натана оказалась редчайшая находка. Чудо!
«Тоник, — говорю я, — по-моему, мне здорово полегчало. Дай-ка я поставлю градусник».
Температура — 36,6. Впервые за несколько дней.
История эта у нас называлась: «Как доктор Крелин не смог меня вылечить от тяжелого гриппа, а историк Эйдельман взялся и вылечил».
Унизительно!
Недавно, в апреле 2003 года, в газете «День литературы» была напечатана переписка двух литераторов — Андрея Мальгина и Сергея Есина. Оба они печалились о том, что стоит лишь проявить некоторое инакомыслие, как тут же тебя без всякого повода окрестят антисемитом. А какие они антисемиты? Мальгин даже уверял, что, не будучи евреем, «животных антисемитов» он «не переваривает с детства». Правда, тут же огорчался: «разгромив НТВ и еще кого-то в еврейском лагере, Путин не создал никакого идеологического бастиона для подлинных государственников, для настоящих патриотов». Убежденный же неантисемит Есин, которому «до чертиков надоело говорить о евреях» и который «с удовольствием не знал бы о них», ему вторил: «процентное соотношение евреев-литераторов… чудовищно по отношению к русским. Мы что хуже пишем?» И с тоской вспоминал, что когда-то в журнале «Юность» он «стоял всегда во вторую очередь и проходил только тогда, когда проходили все свои». Ну, словом, обыкновенные инакомыслящие — что с них взять.
Так вот, среди прочего Мальгин рассказывает, как в свое время он сильно пострадал из-за Эйдельмана. Вспоминает редакционную летучку в «Литературной газете», где обсуждалась его статья об Эйдельмане. В ней он «доказательно», по его словам, назвал Эйдельмана «плагиатором». «Зная, что по поводу Эйдельмана меня будут бить, — продолжает он, — я взял с собой на летучку целую папку дополнительных материалов. Меня втоптали в грязь шестьдесят Эйдельманов, сидевших в зале, …я понял, что никому не интересна суть вопроса. И я им сказал с трибуны фразу, из-за которой меня выгнали с работы… Я сказал в сердцах: „Вот вы всегда так, слышите только одно: „Наших бьют““».
Мальгин врет. Врет беспардонно. Дело в том, что, работая в «Литературной газете», я был на той самой летучке и отлично помню всю позорную историю с его статьей, громившей книгу Натана «Большой Жанно».
Статью эту я увидел еще в верстке. Прочел ее. Злобный разнос. Создавалось впечатление, что Мальгин, готовя свой материал, выполнял чей-то влиятельный заказ. Позже стало ясно: действительно, статья эта, как и некоторые другие публикации в «Литгазете», должна была помешать выдвижению Натана Эйдельмана на Государственную премию.
Впрочем, квалифицированно справиться с поставленной задачей Мальгин не сумел. Статья его была вопиюще безграмотна. Имена исторических персонажей, даты, фактические обстоятельства — все было переврано, перепутано.
Прочтя полосу, я позвонил Натану. «Любопытно, — сказал он, — захвати полоску, вечером я приеду».
Проглядев текст, Натан возмутился. Нет, не руганью в свой адрес, она его не тронула, он возмутился фантастическим количеством ошибок. «Ну какой неуч!» — вздохнул он и… стал править материал. Весь вечер он приводил ругавшую его статью в божеский вид.
Удивительно, но мне это показалось тогда совершенно нормальным. Уж не знаю, что на меня повлияло, может быть, въевшаяся профессиональная привычка при виде ляпов тут же хвататься за карандаш.
Однако когда Натан уехал, я подумал: идиоты, что мы делаем? Почему мы помогаем злопыхателю, исправляем его огрехи, прячем его безграмотность? Пусть читатель видит, как он дремуч.
Я позвонил Натану. Но он не согласился. «Понимаешь, — сказал, — тогда я не смогу публично ему возразить. Ловить его на незнании, тыкать носом в его ошибки — мелко и унизительно. Если я решу с ним спорить, то разговор надо вести по сути, принципиально и без дураков. Нельзя терять лицо».
Слова, которые я от Натана слышал с ранней юности.
Я попытался было отговорить заместителя главного редактора «Литгазеты» Изюмова печатать безграмотный материал, но Изюмов возразил: «Я видел полосу, ошибки, кажется, уже исправлены?» Что я мог ответить. Видно, начальство имело на этот счет твердую установку.
А на той летучке я, конечно, рассказал, как Эйдельман приводил в порядок поносящую его статью, выгребал из нее все нелепицы. Очень смеялись. И выгнали из редакции Мальгина, разумеется, отнюдь не «шестьдесят Эйдельманов» (что они могли тогда, в начале восьмидесятых?), и не за мнимую его смелость на летучке. Просто в какой-то момент в нем разочаровалось редакционное начальство, делавшее на него свою ставку. Как говорилось тогда, не оправдал оказанного ему доверия. Однако виноватыми оказались, естественно, евреи.
Впоследствии, когда, рассказывая об Эйдельмане, я приводил этот случай, люди недоуменно пожимали плечами: «Помочь злопыхателю тебя же и поносить, улучшить направленную против тебя статью — это, знаете ли, уже слишком. Такого не требует даже христианское непротивление злу». Но Эйдельман так поступил отнюдь не ради христианского милосердия. Когда чьи-нибудь слова или поступки вызывали у него гнев, резкое неприятие (речь в таких случаях не шла о причиненной лично ему обиде, дело касалось всегда вещей общих, принципиальных), то выступал он смело и яростно, не щадя ни оппонента, ни самого себя. Его резкие отповеди, бывало, причиняли ему немало неприятностей. Однако мелочные придирки, мелочное сведение счетов, ловля блох — ему претили. Самоуважение, чувство собственного достоинства, которые были в нем очень сильно развиты, не позволяли ему вместо спора опускаться до мелких разборок. «Унизительно!» — сказал он мне.
Похороны
Месяца за два до смерти Натан позвонил мне, сказал, что находится рядом и сейчас зайдет. Придя, рассказал, что художник Борис Жутовский составляет альбом рисунков, сделанных в лагерях осужденными. Отца Тоника там тоже нарисовали, и Жутовский берет этот рисунок в альбом. Но должен быть какой-то текст, и Тоник написал о своем отце. Если хотим, он нам с женой сейчас прочтет.
Те несколько страниц, что он нам тогда читал, вызвали у меня какое-то особое, щемящее чувство. Он не просто рассказывал другим о своем отце, казалось, он торопился сказать ему самому все, что не успел и, может быть, уже не успеет сказать в этой жизни.
Мы сели ужинать. И вдруг, уж не знаю почему, я стал говорить Тонику, как я его люблю.
Жена моя очень удивилась. Такой тон у нас не был принят. В ходу была, скорее, мальчишеская грубоватость. От Тоника так и не отлипло до конца дней его старинное, школьное прозвище «Гусь».
Но в тот вечер он сказал мне: «Нет, ты говори, говори…»
Чокнувшись, мы выпили в память об его отце. Тоник настаивал, что за мертвых нужно пить, чокаясь, как за живых. «Может, они там сейчас тоже пьют за нас?»
В эту пору Натан с женой Юлей собирались в Швейцарию, уже были куплены билеты. Но чувствовал он себя отвратительно, скакало давление, все время ему было жарко, постоянно просил открыть окно. Однако к врачам не шел. В поликлинику Юля его залучила обманом, сказала, что болит сердце, и ей надо сделать кардиограмму. Анатолий Исаевич Бурштейн, прекрасный врач и наш большой приятель, предложил Тонику: «Может, и вам заодно сделаем?» А поглядев его кардиограмму, велел: «Срочно, срочно в больницу, никаких отговорок» и созвонился с приемным покоем.
Но в больнице произошла какая-то неразбериха. Эйдельмана долго не брали. Потом он длинным подземным коридором шел из одного помещения в другое…
Уже вечером мне позвонил Крелин. Спросил, на каком этаже в той больнице лежит моя жена — ей тогда предстояло удаление желчного пузыря. «Понимаешь, — сказал он, — Тоника туда положили. Не знаю, может быть, разовьется инфаркт».
Особой опасности я почему-то не почувствовал. Мелькнула даже мысль: если Тоника признают ходячим, жене до операции будет с ним веселей.
А ранним утром меня разбудил телефонный звонок. Я посмотрел на часы: жена? почему так рано? В трубке, однако, слышалось какое-то всхлипывание, я не сразу и разобрал, чей голос. Потом понял: звонит Юля. Услышал: «Умер Тоник».
Через час мы с Крелиным были у нее. Что Тоника нет, по-настоящему еще до меня не доходило. Надо было срочно что-то делать, решать… Где организовать прощание, в Большом или Малом зале Дома литераторов? Если в Большом и он будет полупуст, это ужасно. Значит, решили мы, в Малом. (Потом окажется, что и Большой не вместил бы всех, пришедших проститься с Эйдельманом. А радио «Свобода» передаст, что власти намеренно выделили для панихиды Малый зал, мстили покойному.) Кто будет вести панихиду? Положено, чтобы то был какой-нибудь литературный начальник. Но кто из них достоин стоять у гроба Тоника? Мы сошлись на том, что попросить надо члена правления ЦДЛ, кинодраматурга Якова Ароновича Костюковского. Его участие не оскорбит памяти Натана.
Потом там же в ЦДЛ были поминки. Опять говорили речи. Я никого и ничего не запомнил. Помню только чьи-то слова: «Надо привыкать жить без Натана».
Привыкнуть к этому я не могу до сих пор.
Глава третья «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
101-й километр
Московский юридический институт я закончил в 1951 году. Лето, как я уже сказал, мы с родителями проводили на даче в Кратове, по Казанской дороге. Вторую половину дачи занимала семья Веры Горностаевой, ставшей в будущем известной пианисткой. Жили весело. До одури катались на велосипедах. Уезжали подальше, на Егорьевское шоссе, покупали у крестьян парное молоко и, завалившись на скирдах скошенной соломы, всласть тянули его из маленьких бутылок. По вечерам ставили пьесу собственного сочинения «Приподнятая целина». Там был танец маленьких блох, они плясали и пели: «Нам не страшен ДДТ, ДДТ…»
Как-то поздно вечером, родители уже легли, двери были заперты, я услышал внизу стук, и рядом залаяла соседская собака. Я спустился. «Кто тут?» — «Открой», — на пороге стоял мой сокурсник Игорь Кравцов. Несмотря на конец лета, на нем почему-то было теплое пальто. «К тебе можно?» Я увидел сразу: он сам не свой. Мы прошли на террасу. Он налил из чайника стакан воды и жадно, залпом выпил. «Твои здесь, на даче?» — тихо спросил он. «Да, уже легли». Из-за стенки взволнованно спросила мама: «Кто пришел?» — «Спи, — сказал я. — Это Игорь Кравцов». — «Что-нибудь случилось?» Я вопросительно посмотрел на Игоря. Он молчал. «Ничего не случилось, — сказал я. — Спи, мама. Игорь опоздал на электричку». — «Постели ему на террасе», — сказала мама. — «Хорошо».
Игорь сидел, не снимая пальто, опустив руки и глядя в пол.
Я ждал.
«Вчера арестовали отца, — сказал он. — Наверное, по делу врачей. По-моему, слежки за мной не было, ты не волнуйся». «А я и не волнуюсь», — сказал я и тут же подумал о своих родителях.
Месяца за три до этого у нас дома, в Москве, произошел случай, после которого мать целую неделю болела. Ее брат, мой дядя, после десятилетней отсидки получил так называемый «101-й километр»: жить ему разрешалось не ближе, чем за 101 километр от Москвы, и, разумеется, никаких приездов в столицу. Он выбрал Тулу, работал там в газете художником. Звали его Яном, но подписывался он: «рисунки Яно-ша». В смысле: «Ша! Тихо, молчите!»
Однажды он все-таки рискнул приехать к нам в Москву. Очень соскучился, да и надо было подкупить каких-то красок.
Ночью, часа в три, раздался настойчивый звонок в дверь. Мы замерли. Ян побелел, я никогда прежде не видел, чтобы человек был таким белым.
Через минуту звонок повторился. Длинный, требовательный.
Отец в пижаме вышел в переднюю, спросил: «Кто?»
Из-за двери ответили: «Откройте, милиция!»
Делать нечего, отец открыл. Вошли двое. Один из них, оглядевшись, спросил: «Кто проживает в этой квартире?» — «Мы с женой и наш сын», — ответил отец. «И все?» — «Еще живет соседка, но сейчас она на даче». — «Ключ от ее комнаты у вас есть?» — «Лежит здесь под ковриком». — «Откройте!» Отец поднял ключ, открыл дверь и вместе с милиционерами вошел в комнату соседки. И с великим изумлением увидел, как, сидя на корточках, незнакомый оборванец жадно уплетает из банки варенье.
Оказалось, что постовой милиционер случайно заметил, что какой-то человек залез в окно, выходившее на крышу соседнего дома. Это и было окно нашей соседки.
Увидев милиционеров, оборванец продолжал жадно доедать из банки варенье, видимо, он был зверски голоден.
Его увели.
К нам милиционеры так и не заглянули. Господи Боже, пугай сколько хочешь…
Когда отец вернулся в нашу комнату, с Яном случилась истерика.
Больше в Москву он не приезжал. Через месяц он умер в Туле.
Игорь Кравцов сидел, не произнося ни слова. «Мать тоже забрали?» — спросил я. «В ту же ночь ее положили в больницу с инфарктом», — ответил он. «Знаешь что, — сказал я, — моим родителям ты ничего не говори. Скажем, что я пригласил тебя пожить у нас на даче». — «А что дальше? — спросил он. — Меня могут искать». «Необязательно, — сказал я. — К делу врачей ты отношения не имеешь». — «Тут нет логики, — возразил он. — Лучше всего мне уехать из Москвы». — «Куда?» — «Куда-нибудь… Можно я лягу, я очень устал…»
Я ему постелил.
Утром, когда я встал. Кравцова на даче уже не было. Никакой записки он не оставил.
Позже я узнал, что он завербовался в какую-то геологическую партию.
Материнская интуиция
Сегодня трудно представить наше тогдашнее душевное состояние. Мы прекрасно понимали, в какой обстановке живем, ощущали гадливость, раскрывая каждый раз свежую газету и слушая ежедневную восторженную ложь радиодикторов, испытывали непреходящий страх за себя и за своих близких, но все-таки в полной мере не воспринимали весь бред нашего тогдашнего существования. Спустя много лет, уже в шестидесятых, ко мне приехал из Праги мой приятель, журналист Олджих Ендрулек. Я водил его по Москве, он изумленно осматривал все кругом и то и дело повторял: «Саша, это — ненормально! Но — естественно». Вот с таким чувством мы тогда, в пятидесятых, и существовали. Да, жуть, дьявольщина, весь мир нас чурается, но что делать, для нас здесь естественно. Мы тут родились. Мы тут живем. Другой жизни, другой молодости, других радостей, других увлечений, даже веселья другого у нас уже никогда не будет. Значит, остается вот так жить и вот так предаваться земным радостям. А что? Ничего. Свыклись ведь. Живем.
Как-то на первомайский праздник меня пригласили мои друзья, одна супружеская пара. Ее отец был очень крупным ученым, насколько я знал, связанным с атомной бомбой. В их квартире, кроме членов семьи, постоянно проживал охранник, звали его Иваном Ивановичем. Когда раздавался звонок и в прихожей появлялся кто-то из гостей, Иван Иванович выходил из своей комнаты, молча оглядывал пришедших и, вежливо поздоровавшись, удалялся.
Отправляясь в тот день к друзьям, я уже купил бутылку вина и сговорился о встрече с девушкой, за которой в ту пору волочился. Но тут вмешалась моя мама. Она никогда особенно не интересовалась, с кем я общаюсь. Однако на этот раз на нее что-то нашло. Со слезами на глазах она повторяла: «Не ходи к ним сегодня, я тебя прошу, умоляю. Ради меня, ради нас с отцом, не ходи». — «Да почему?! — слова ее мне показались полнейшей дикостью и нелепицей. — Почему не ходить? Я же дружу с ними, у них бываю». — «А сегодня не ходи. Тебя посадят». — «Да за что?!» — я расхохотался. «Не знаю. Ты еврей, а там охрана. Военные секреты. В чем-нибудь обвинят. Я тебя умоляю. Хочешь, встану на колени?» — «Ты сама не понимаешь, что говоришь, — возмутился я: — Какое-то сумасшествие! Нельзя же потакать своим психозам.» Но тут вмешался отец. «Тебя мать просит, — сказал он. — Права она или не права, но просит мать. Этого мало?»
К друзьям я в тот вечер не пошел. Позвонил им, что-то наврал, наплел с три короба своей девушке, где-то распил с ней купленную бутылку вина. И был безумно раздражен собственной матерью. «Имей в виду, — предупредил я, — в следующий раз потакать твоим нелепым фантазиям я не стану. Даже не проси».
А через несколько дней я узнал, что двух человек, посетивших в тот первомайский вечер квартиру ученого-атомщика, действительно арестовали.
Что это, материнская интуиция?
Запах колбасы
Писать небольшие рассказы начал я уже в институте. Но ни в одну из редакций свои рукописи не относил. Останавливали меня не только сомнения в собственных силах, но и прочное тогдашнее убеждение, будто напечататься смогу, лишь написав то, что сегодня требуется. Я не имел в виду элементарную агитку, Бог миловал, агиток не писал ни тогда, ни позже. Но я твердо знал, что есть события, которые годятся лишь для обсуждения в своем кругу, на московской кухне, и никак их нельзя путать с теми, что предназначены, так сказать, на вынос.
Мой добрый знакомый Юрий Николаевич Семенов, член редколлегии журнала «Знамя», сказал мне, что журналу очень нужна увлекательная статья, рассказывающая об истории и фантастических возможностях кукурузы. В ту пору как раз гремела по стране знаменитая хрущевская кукурузная эпопея. Я засел за книги, за старые газетные и журнальные публикации. Ощущение, что делаю что-то на потребу, я постарался в себе подавить. С головой ушел в записки российских агрономов и помещиков, в статистические выкладки, в научные прогнозы, в американскую «Песнь о Гайавате»… Многое здесь мне было действительно интересно. В результате, «Знамя» опубликовало мою статью. По этому поводу очаровательная Сашенька Ильф, дочь Ильи Ильфа, нарисовала и подарила мне замечательный рисунок: я выглядываю из консервной банки из-под кукурузы, а в руках у меня многозначительное красное знамя. Это было весело, это было остроумно. Мы с ней долго смеялись. Я понимал, что ирония ее вполне обоснована, я сам готов был сколько угодно иронизировать над собой, но, что делать, так надо. Слова эти прочно укоренились в моем тогдашнем сознании.
В ту пору по заданию разных газет и журналов мне часто приходилось выезжать на Урал. Там бурно возникали всевозможные общественные организации: советы новаторов, ячейки Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов… В Свердловске была проведена Всесоюзная научная конференция, называвшаяся, если не ошибаюсь, «Завтра начинается сегодня». Съехались видные философы, писатели, передовики производства. Закопёрщиком всей этой шумной кампании был секретарь горкома партии Борис Николаевич Ельцин. Мне поручили подготовить материал об этой конференции. Понимал ли я, что многое здесь — блеф, натяжка, откровенная лажа? Конечно, понимал. Но старался об этом особенно не задумываться. Некоторые люди, собравшиеся в Свердловске, мне были интересны, их истории меня занимали. Вернувшись в Москву, я написал большой очерк «Потомки катальщика Гаврилы» (когда-то действовал такой на демидовском заводе). Друзья весело шутили: «Служил Гаврила сталеваром», однако очерк напечатал «Новый мир» Твардовского. Это было безумно приятно, журнал выражал тогда самые прогрессивные взгляды, его авторами были люди талантливые и порядочные. Только я не мог не понимать: очерк опубликовали не потому, что он привел «новомирцев» в восторг — журналу, печатавшему по тем временам крамолу, очень требовалась для баланса рабочая тема. Опять же — так надо.
Между тем, бывая на Урале, я видел многое, что в эту формулу никак не укладывалось, что волновало меня уже по-настоящему, без дураков.
Как-то в Нижнем Тагиле я попросил одного сталевара зайти ко мне вечером в гостиницу, нужно было что-то уточнить для статьи. Мы сидели, разговаривали. Я заметил, что сталевар ведет себя как-то странно, к чему-то все время принюхивается. «Что-нибудь не так?» — спросил я. «Очень извиняюсь, — смущенно сказал он. — У вас, что, пахнет копченой колбасой?» — «Да, — подтвердил я, — жена дала мне в дорогу несколько бутербродов». Он усмехнулся: «Сколько же лет я не слышал этого запаха? На картошечке сидим, на пшенной кашке». А я вспомнил, как перед отъездом в Тагил сотрудник Свердловского обкома партии повел меня обедать в их столовую. Зимой там подавали свиные отбивные, помидоры, свежую клубнику… Я заставил своего гостя забрать московские бутерброды, он категорически отказывался, упорствовал, но в конце концов сдался: «Такую невидаль домой принесу».
Но жизнь этого сталевара газетам и журналам была совершенно ни к чему, им требовались «зримые черты будущего», советы новаторов…
Встретился я в Нижнем Тагиле и с секретарем парткома комбината Торшиловым, любопытнейшим человеком. Он закончил школу КГБ, и первым его заданием было познакомиться и войти в доверие к певцу Вертинскому, тот как раз совершал поездку по Уралу. Разработали план: Торшилов зайдет в вагон-ресторан, подсядет к «клиенту», представится корреспондентом газеты «Уральский рабочий» и завяжет знакомство. Все получилось наилучшим образом. Они очень мило побеседовали. Но перед тем как встать из-за столика, Вертинский наклонился к Торшилову и тихо сказал: «Товарищ чекист, не надо за мной следить, я не шпион». «Как же он догадался? — недоумевал Торшилов, — хорошая же была легенда».
Погорел он по пьянке: стрелял на улице в машину директора комбината. В наказание Торшилова отправили в цех сталеваром. Но впоследствии директора этого уволили и посадили, а Торшилов пошел вверх по партийной линии.
Он пригласил меня присутствовать на открытом партийном собрании, где должны были принимать в партию молодых рабочих. Кто-то из них не мог ответить ни на один вопрос. «Ну ты подумай, вспомни, — просил Торшилов. — Кого Ленин называл „политической проституткой“? Ты же знаешь». Парень весь напрягся, хмуро молчал, потом нерешительно спросил: «Фурцеву?»
История как раз для тогдашней печати.
Рассказали мне и о легендарном старике-снабженце, уволившем с работы директора одного крупного завода, который благодаря своим высоким связям долгие годы был совершенно неуязвим. Этот директор, страшный хам, деспот, безнаказанно издевался над людьми, а все жалобы на него ему же, как водится, и пересылались. Снабженец сказал: «Не надо никуда писать, я знаю, как его уволить». Он собрал профсоюзное собрание заводоуправления: двух секретарш, личного шофера директора, курьершу, кого-то еще, и они за недостойное поведение… исключили директора из профсоюза. Решение собрания направили в обком партии. Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Партийные решения санкционировались сверху, они были строго управляемы, а несколько безответственных членов профсоюза совершенно ведь бесконтрольны. И что если такой метод получит распространение? Словом, через неделю директора убрали.
В Харькове я познакомился с известным конструктором паровых турбин Леонидом Александровичем Шубенко-Шубиным. С должности его сняли… за честность. На ГРЭС произошла крупная авария. Для выяснения ее причин тут же прибыла высокая государственная комиссия. Виновниками могли оказаться либо проектировщики турбины, либо изготовители генератора, либо строители трансформатора, либо эксплуатационники, работники самой ГРЭС. После нескольких дней работы комиссия начала склонятся к выводу, что турбина здесь ни при чем, Леонид Александрович мог вздохнуть с облегчением. А он вместо этого сказал: «Нет, я не уверен, что не подвела турбина, точку ставить рано. Иначе до истины мы так и не доберемся». Заводское начальство такой его вольностью страшно возмутилось, и Шубенко-Шубина с должности сняли. Беседовать с ним было чрезвычайно интересно, он рассказывал уйму любопытного. Вспомнил, например, как несколько лет назад его пригласили в милицию и попросили взять паспорт с новой фамилией: не Шубенко-Шубин, а Шубин-Шубенко. Леонид Александрович очень удивился, но ему объяснили: «Никита Сергеевич, называя вас в своей речи, перепутал, сказал Шубин-Шубенко, теперь неудобно…» Когда Хрущева сняли, Леониду Александровичу вернули его прежнее имя.
Все это я записывал в блокнот, рассказывал друзьям, но и попытки даже не делал опубликовать.
Сломало этот стереотип, прочно въевшийся в мое сознание, общение с писателем Ильей Зверевым.
«Действительно, озвереешь»
Существует такое английское выражение: «человек, который сам себя сделал». Точнее, пожалуй, о Звереве и не скажешь.
В 1947 году он приехал из Донецка, где работал литературным сотрудником в газете «Социалистический Донбасс», в Москву. Уж не знаю, что побудило двадцатилетнего парня вдруг бросить местную газету и решить завоевывать столичную прессу, может быть посещение Донецка группой московских журналистов из «Огонька», которым приглянулись статьи юного корреспондента. А может, просто отважный характер и удивительная легкость на подъем, которой он отличался всю свою недолгую жизнь.
Только время для таких его грандиозных планов было не самое лучшее. Поэтесса Людмила Давидович как-то спросила его: «Илья Зверев — это твой псевдоним, а какая твоя настоящая фамилия?» — «Я — Изольд Юдович Замдберг», — гордо ответил он. «Да, действительно озвереешь», — сказала Белла.
Жить в Москве ему было негде. Ночевал у случайных знакомых. Когда по какой-то причине это не получалось, шел на Центральный телеграф. Так просто сидеть до утра там не разрешалось — делал вид, что ждет звонка из какого-то города.
Однажды по какому-то делу зашел туда писатель Александр Шаров. Разговорились. Назавтра Шаров привел его в альманах «Год XXXI». Альманаху позарез требовались произведения, прославляющие трудовые подвиги советских людей.
Зверев подготовил для альманаха литературную запись ответов на американскую анкету знаменитой колхозницы Паши Ангелиной. Пятый пункт в собственной анкете особенно этому не препятствовал, псевдоним звучал вполне благопристойно.
Начались бесконечные поездки. От альманаха, от журнала «Советская женщина», от кого угодно. Иркутск, Таллин, Ленинград, Хакасия, Красноярск… И писал, очень много писал. Только успехами своими он совершенно не обольщался, прекрасно знал им цену. Друзьям своим он говорил в ту пору: «Вы меня не читайте, вы меня любите».
В сентябре 1949 года он перебрался к молодой жене, Жене Кожиной. Она жила вместе с матерью на Зацепе, в многонаселенной коммуналке, в длинной комнатушке, два на семь метров. Представляю картинку: является толстый парниша, в одной руке — огромный толстый портфель, в нем бритва и пижама, в другой — пишущая машинка. Постелили ему на полу, и, улегшись — то ли от смущения, то ли от нахлынувших чувств, — он вдруг запел. Спел арию Русалки, потом арию Мельника. Надо сказать, слух у Изольда был абсолютный.
А уже через три года, в 1952 году, у него случился первый сердечный приступ. В больнице, когда врачи ненадолго отлучились, Женя смогла заглянуть в историю болезни. Прочла: злокачественная гипертония и еще какие-то медицинские термины. Вечером она позвонила своей приятельнице, врачу, сказала, что у ее сослуживца вот такой диагноз, это серьезно? «Бедняга, — ответила врач, — протянет полгода, от силы год».
Изольду тогда было 26 лет.
Но прожил он не полгода и не год, он прожил еще 13 лет.
По-прежнему мотался из конца в конец по всей стране, сотрудничал со всякими редакциями. Родилась дочь, денег постоянно не хватало. Зарабатывал, где только мог и как мог. На телевидении предложили выступить в прямом эфире с разными зверями — выступил. Сохранились фотографии: он в обнимку с тигренком, обезьяна сидит у него на голове.
Только писать по-прежнему, слепо воспевать «нашу замечательную действительность», он уже не хотел, да и не мог. «С 1947 года, с тех пор как одно снисходительное издательство выпустило мою первую книжку, — скажет он, — я старался все время ездить, смотреть, влезать в разные острые истории. И накопилось много такого, о чем уже невозможно не рассказать. Пятнадцать лет я больше смотрел, чем писал, все откладывал главный для меня разговор. А сейчас уже нельзя откладывать…»
Да и не было у него времени откладывать.
В ту пору уже начали появляться произведения о страшных сталинских репрессиях. Зверев тоже написал о них. Но как! В маленькой повести «Защитник Седов» рассказана история вроде бы со счастливым концом. Понимая всю тщетность своих усилий, адвокат Седов все-таки берется защищать четверых приговоренных к расстрелу «врагов народа». Едет в город Энск, добивается разрешения встретиться с ними в тюрьме. Вернувшись в Москву, ему удается попасть на прием к Большому прокурору. Когда-то они вместе выступали на одном процессе по хозяйственному делу. Большой прокурор узнает его, он чрезвычайно любезен, обещает лично разобраться в деле этих четверых. И о чудо! Все они признаны невиновными и освобождены. Но через месяц, выступая на республиканском совещании следственных работников, Большой прокурор говорит, что те четверо пострадали в результате вредительской деятельности ныне разоблаченных прокурора области, его заместителя, председателя облсуда, его заместителя и еще многих и многих бывших городских руководителей, как теперь выяснилось, японских шпионов. Смешно? Так смешно, что, кажется, не хочется жить.
Или веселый, даже озорной рассказ «Второе апреля». Ученики шестого класса наперекор дню Первое апреля, когда полагается всех обманывать, решили объявить Второе апреля днем без вранья. Замечательно, что может быть лучше правды. Но, оказывается, безудержная, навязанная в обязательном порядке правда способна привести к таким драматическим ситуациям, завести в такие тупики, из которых и не знаешь, как выбраться. Этот, казалось бы, забавный рассказ из школьной жизни, перепечатывает парижская газета «Русские новости».
Одно только для нас оставалось секретом: когда успевал Изольд так много писать. Он находился всегда на людях, в доме его чуть ли не каждый вечер собирались друзья, более общительного человека я не знал и не знаю. Как-то ответственный секретарь «Знамени» Василий Васильевич Катинов спросил его: «Когда же вы садитесь за письменный стол? Вы же все время на виду». Изольд наклонился к нему и таинственно сказал: «Никому не рассказывайте, но дома в кладовке заперты у меня два еврея. Я не говорю им, что кончился космополитизм, и они за меня работают».
Судить веселых и находчивых на телевидении он едет с горчичником на сердце. В Коктебеле все отправляются на гору Карадаг — как можно пропустить такое? И вот мы, несколько человек, толкаем его в спину, чтобы, поднимаясь, он тратил поменьше усилий. Поликлиника Литфонда помещается рядом с метро «Аэропорт», там крутая лестница, поэтому Изольд доезжает на метро до «Динамо», где есть эскалатор, а дальше уже добирается троллейбусом. Когда ему становится плохо, он не ложится, а наоборот, встает. Объясняет: «Если лягу, могу уже и не подняться». Однако очередную заграничную турпоездку от Союза писателей он не пропустит. У других еще случится шанс, а он может и не успеть. Польша, Чехословакия, Германия, Австрия…
Я спросил его: как он выдерживает такую нагрузку? Он ответил: «Вы все живете так, как будто вам осталось сто лет, а я — как будто два часа».
В 1965 году, за год до смерти, вышла его книжка «Что за словом?». Начинается она так: «Однажды на шоссе у въезда в Феодосию я увидел громадный придорожный щит: „Смотрите кинофильмы в кинотеатрах“. И, конечно, подумалось: кто он, автор этого маленького шедевра? Что его вдохновило? Может быть, боязнь, что автопутники отправятся смотреть кинофильмы не в кинотеатры, а в какое-нибудь другое место? В булочную? В баню? Вряд ли… Скорее всего, здесь другое. Некое должностное лицо лихорадочно искало способа оправдать свое существование, изобразить деятельность».
Книга эта — о «девальвации слов», — написал в предисловии к ней Корней Иванович Чуковский. «Свои незаурядные силы Зверев… отдает гневному разоблачению бытующих у нас в обиходе звонких фраз и патетических слов, не обеспеченных мыслью и делом… Разрыв между словом и делом, — подытоживает К. И. Чуковский, — служит низменной корысти и шкурничеству».
Умер Изольд в 39 лет.
Так вот, когда однажды зашел у нас с ним разговор о том, что напечататься можно, лишь написав то, что сегодня требуется редакциям, а не то, о чем ты на самом деле думаешь, Изольд сказал мне: «Тебя могут десять раз не напечатать, сто раз, но если ты не истребишь в себе внутреннего цензора, то пропадешь. Поверь моему опыту». И я ему поверил.
Единица порядочности — «один Галлай»
С Марком Лазаревичем Галлаем я познакомился и подружился в доме у Изольда Зверева.
Эльдар Рязанов как-то сказал, что если вводить единицу измерения порядочности человека, то называться она должна — «один Галлай». Аршин этот можно одинаково применить ко всему, что в своей жизни делал Марк — и в ночном небе 22 июля 1941 года, во время первого налета немецких самолетов на Москву; и пробираясь к партизанам в Брянском лесу после того, как был подбит его самолет; и садясь за штурвал каждой новой, неиспытанной машины; и на космодроме, готовя в полет Юрия Гагарина; и в дружеской компании.
Я не верю, когда говорят, что существует профессиональная этика, не понимаю, что это значит. Получается, у инженера одни нравственные нормы, у строителя — другие, а у летчика — третьи? По-моему, чепуха. Нравственность есть одна, человеческая. Иное дело, что нравственный человек обычно оказывается и хорошим профессионалом, лучше прочих выполняет свою работу.
Известно, что в том ночном бою над Москвой Галлай сбил первый немецкий бомбардировщик. Но каждый раз, слыша это, Марк недовольно морщился: а вдруг здесь допущена ошибка, а если в самолет попал зенитный снаряд? В ту пору могли и ошибиться. Поступал он так не оттого только, что обладал редкой скромностью и опасался, что ему припишут лишние заслуги. Но и потому еще, что всегда и во всем был скрупулезно точен. Не терпел никакой приблизительности.
После публикации в «Новом мире» его документальной повести «Первый бой мы выиграли», рассказывавшей, в каком трудном положении мы оказались в начале войны, в печати появилось ругательное письмо четырех генералов. Написано оно было в известном стиле: «где откопал М. Галлай…», «дегероизация», «сомнительные обобщения», «огульно приписывает»… Пикантнее всего было, что Марк, говоря о начале сороковых, опирался на документы, подписанные в то время некоторыми из этих самых сегодняшних генералов. Понятно, что в издательстве «Советский писатель» книгу, куда входила и эта повесть, немедленно остановили.
Будучи тогда председателем Совета по очерку и публицистике Московской писательской организации, я предложил Марку обсудить на Совете его повесть: пусть другие участники тех событий, люди тоже в немалых чинах, дадут бой четырем клеветникам. «Пустое, — сказал Марк. — Ты обратил внимание, как заканчивается их письмо? „Вызывает удивление журнал „Новый мир“, опубликовавший на своих страницах политически незрелую, ошибочную статью М. Галлая“. Это же не по мне удар, а по Твардовскому». Совет мы все-таки провели, генералам было выдано по первое число, но ничего, разумеется, не изменилось. Марк наотрез отказался что-либо менять в повести, и книга вышла в свет только через семь лет.
Вообще он не подавался никаким уговорам, его нельзя было уломать, взять на «слабо», если в чем-то был совершенно уверен.
Однажды к очередной торжественной дате решили приурочить первый полет нового самолета. Так уж было у нас заведено — отмечать красный день календаря производственным успехом.
Сесть за штурвал корабля предстояло Марку. Но погода, как на грех, стояла отвратительная, взлет сопровождался бы огромным риском. К тому же риск этот ничем совершенно не оправдывался. На аэродром съехалось большое начальство, однако приказать летчику лететь никто не мог: он один решает. Его стали подбадривать, намекать, что такой-то уже поднялся, такой-то тоже в воздухе. Но когда самый большой начальник проговорил: «Я бы на вашем месте…», Марк, вежливо улыбаясь, ему ответил: «Если бы мы с вами поменялись местами, я, может быть, месяц в вашем кабинете и продержался бы, пока не прогнали. А вы, сев в машину, пожалуй, и взлететь не сможете». С тем начальство и уехало.
Вообще, не раз доказывавший свою исключительную храбрость, Марк часто приводил авиационную поговорку: «Осторожность — лучшая часть мужества». Любил повторять слова своего друга и коллеги Героя Советского Союза Григория Александровича Седова: «Если летчик, отправляясь в испытательный полет, считает, что он идет на подвиг, то значит, что он к полету просто не готов».
Но если уж Марк в чем-то был уверен, если все рассчитал и досконально выверил…
В художественном фильме о летчиках-испытателях, где Марк работал консультантом, значился такой эпизод: у самолета отказывает двигатель, и летчик, чтобы спасти машину, сажает ее прямо на шоссе. Начальство категорически запретило Галлаю совершать такой маневр: шоссе узкое, может не попасть. Тогда Марк поступил иначе: он снизился, удержал самолет на высоте одного-двух метров, а потом резко ушел наверх. При монтаже у зрителя создавалось полное впечатление, что самолет сел. Конечно, это потребовало от летчика огромного мастерства, виртуозного искусства, приземлиться было бы гораздо легче. Но приказ есть приказ.
Однако, если речь шла о человеческой жизни, о спасении человека, он мог и ослушаться. Отличал разумное требование от непродуманной догмы.
Когда запускали первого космонавта, не знали, как поведет себя там его психика, сможет ли он в тех условиях действовать адекватно. А вдруг автоматика будет вполне исправна, но он все равно начнет испуганно хвататься за ручное управление. Чтобы не допустить этого, соорудили пультик на подобие тех, что стоят в подъездах домов: на панели шесть цифр. Если автоматика откажет, то надо будет в определенной последовательности нажать три из них. Какие именно, космонавту, отправлявшемуся в полет, не сообщили, при необходимости их передадут ему по радио. Но Марк понимал, что непрохождение радиоволн, плохая слышимость, какое-то слово не разобрал — все это куда опаснее, чем отказ психики пилота. И уже на космодроме Галлай шепнул Гагарину: «Юра, запомни, 125». Ручное управление, к счастью, не понадобилось, а Галлай после полета узнал, что секретные эти цифры раскрыл Гагарину не он один.
Однажды кто-то спросил Галлая: почему он никогда не носит Звезду Героя? Неужели ему совершенно не льстит, когда заговаривают об его заслугах? Это же даже неестественно. Марк засмеялся и сказал: «Отчего же, однажды мне было весьма лестно».
И рассказал такую историю.
Марку позвонил брат его покойного друга и коллеги и сказал, что им необходимо безотлагательно повидаться. В тот момент Марк собирался на дачу, все уже было собрано. «А нельзя ли отложить дня на два?» — спросил он. «Нет, только сегодня!» — «Ну что ж, приезжайте». Через некоторое время появился этот человек, они уединились, и собеседник стал говорить, что Горбачев явно не отдает себе отчет, в каком положении находится страна, нужны экстренные меры, которые привлекли бы к себе внимание. А поэтому было бы в высшей степени полезно, если бы Галлай, Герой Советского Союза, обладатель высоких степеней и званий, вышел на Красную площадь, облил себя бензином и сжег.
Услышав это, Марк сперва оторопел, но, придя в себя, сказал, что идея ему очень нравится, но почему бы самому автору не реализовать ее? «Нет, — печально вздохнув, ответил тот, — мое самосожжение не произведет должного эффекта».
16 апреля 1964 года я находился в командировке в Киеве. Уже собрался было идти на почту, дать Марку телеграмму — в тот день ему исполнялось ровно пятьдесят — как вдруг в вестибюле гостиницы увидел… самого Марка. Оказалось, он удрал из Москвы. Он тогда расставался со своей первой женой, на душе было нехорошо, не хотелось никаких празднеств, и авиаконструктор Олег Антонов решил устроить ему юбилей в Киеве.
А назавтра мы вдвоем пошли посидеть в гостиничном ресторане. Марк был грустен, и я сказал ему какую-то пошлость о том, что жизнь, мол, зебра, за темной полосой непременно последует светлая. Марк спросил: «Когда? В восемьдесят лет?»
Но как раз восьмидесятилетие Марка мы отпраздновали замечательно. За столом сидел очень счастливый человек, и рядом с ним его вторая жена, Ксения Вячеславовна. Я напомнил ему тот наш, тридцатилетней давности, разговор в киевской гостинице, и Марк, молодецки расправив плечи, произнес: «Да, Галлайский еще хоть куда!»
О том, что особой профессиональной этики не существует, что человек обязан оставаться человеком — и на земле, и в небесах, и на море, лучше всего сказал он сам.
«Мне понадобилось несколько лет, — написал он в своей книге, — чтобы сформировать представление о летной этике как совокупности каких-то моральных норм, связанных с конкретными профессиональными обстоятельствами нашей работы. Не меньше времени потребовалось и для того, чтобы, вновь вернувшись от частного к общему, понять общечеловеческий характер так называемой (теперь говорю: так называемой) летной этики».
В этих словах нет ни малейшего принижения своей профессии, в них, наоборот, высочайшая ее оценка.
«Только без „давай-давай!“»
С кем-то судьба сводила меня прочно и надолго, с другими связывало не слишком близкое знакомство, выпадали только редкие случайные встречи. Многие из них забылись, выветрились из памяти, но что-то запомнилось чрезвычайно ярко и отчетливо.
Константин Михайлович Симонов был председателем правления Центрального дома литераторов, когда я состоял его членом. Благодаря Симонову, наши заседания превращались каждый раз в яркое действо, не имеющие ничего общего с тем, что называется официальным мероприятием.
Помню, на очередном заседании заместитель директора ЦДЛ Михаил Минаевич Шапиро, волнуясь, рассказал Симонову, что накануне произошел весьма неприятный случай, и правление Дома, видимо, должно как-то отреагировать.
Оказывается, когда писатель Георгий Вайнер, отличавшийся могучим телосложением, проходил по вестибюлю, навстречу ему вышел некий литератор, хорошо нагрузившийся в ресторане, и, увидев Вайнера, прошипел: «У, жиденок!» — «Нет, ты ошибаешься, — возразил Вайнер, — я не жиденок, я жидище», и так двинул литератора, что тот грохнулся на пол. Возвращаясь через какое-то время, Вайнер заметил людей, столпившихся вокруг лежащего на полу человека, и поинтересовался, что тут происходит. «Это вас надо спросить, что происходит», — сказали ему.
«Как же нам теперь поступить?» — вздохнул Шапиро. Симонов засмеялся. «Ну, во-первых, — сказал он, — счет, по-моему, один-один. А во-вторых, если уж ты антисемит, то как минимум должен уметь драться…»
На том инцидент и был исчерпан.
В другой раз тот же Шапиро сообщил Симонову, что звонили из райкома и требуют в очередную субботу выделить для их мероприятий несколько комнат. Но это совершенно невозможно, план Дома перегружен. «Ничего, — сказал Симонов, — пускай позвонят мне». — «И, вы им разрешите?» — испугался Михаил Минаевич. — «Не волнуйтесь, мне они не позвонят».
Однажды Симонов, смеясь, рассказал, как в провинции к нему пришла молодая корреспондентка местного радио, чтобы уговорить его выступить перед микрофоном. Исчерпав все возможные доводы, она с чувством произнесла: «Ну, Константин Михайлович, это же будет такая прекрасная ваша лебединая песня!..» Значение таких слов девушка, видимо, не знала, но, насколько помню, Симонов рассказал нам это на последнем при его жизни заседании правления ЦДЛ. Вот такие случались горькие совпадения.
Александр Альфредович Бек работал председателем приемной комиссии Союза писателей, когда меня принимали в Союз. Позже мы несколько раз вместе бывали в Доме творчества в Малеевке. А в 1966 году в одной писательской туристической группе выезжали в ФРГ.
На валютном счету в Агентстве по охране авторских прав у Бека лежала крупная сумма, накопившаяся от издания его книг за границей. Но по тогдашним правилам взять из нее столько, сколько писатель считал нужным, не разрешалось, агентство само решало, какую сумму выдать хозяину денег. Бек запросил две тысячи западногерманских марок, рассчитывая, что, может быть, дадут пятьсот. А ему выдали все две тысячи.
Он сказал мне: «Никаких вещей я не беру. По приезде в Кельн садимся в такси и едем по магазинам».
Александр Альфредович был человеком провидчески мудрым и проницательным. Работал он чрезвычайно основательно. Каждому его произведению предшествовало очень серьезное и кропотливое изучение материала. Познания его в самых разных отраслях науки, производства отличались исключительной глубиной. Но в жизни любил иной раз выглядеть настоящим простачком. Таким и запомнил я его в тот день в кельнских магазинах.
Покупая плащ, будто бы с трудом подбирая немецкие слова, он долго расспрашивал продавца о материале, из которого плащ пошит, хорошо ли защитит он от дождя, носят ли сегодня в Европе такие фасоны и не посоветует ли продавец взять что-нибудь другое. Тот почему-то рассердился и сказал по-русски: «Только без „давай-давай“!» «Понятно, — объяснил мне Бек, — был у нас в плену».
Приставленная к нашей группе работница Интуриста, а по совместительству сотрудница совсем иного ведомства, с Бека и его жены Наталии Всеволодовны Лойко не спускала глаз: куда они пошли, с кем встречались? Поздно вечером, когда они уже спали, звонила якобы попросить нитки с иголкой, а на самом деле проверить, в номере ли они.
Бек относился к этому весьма иронически. А однажды поставил даму в тупик.
В Мюнхене, в издательстве «Дежферлаг» нашей группе устроили прием. На стол подали сортов, наверное, двадцать разных сосисок. Бек расчувствовался и попросил разрешения поднять тост.
«Господа, — сказал он громко, — мне нравится капитализм!» — и сделал долгую паузу. В глазах у интуристовки появился жуткий страх: это говорит советский писатель! Да завтра же все станет известно в Москве. Помолчав, Бек добавил: «Одно меня смущает». И после новой паузы добавил: «Власть денег». Он развел руками: «А что делать, не знаю». И сел.
В такой растерянности мы нашу даму еще не видели.
На обратном пути на два дня мы остановились в Праге. Ужинать нас привезли в роскошную гостиницу у Пражны браны, но тут выяснилось, что чехословацкая турфирма забыла заказать номера, и после ужина нас повезут в загородное спортивное общежитие. Вместо того чтобы осматривать вечернюю Прагу, мы проторчим весь вечер в какой-то дыре.
Каждому из нас разрешалось обменять рубли на сто крон, стало быть, у нас с женой было двести крон, столько же получили и Бек с Наталией Всеволодовной. И тогда Александр Альфредович предложил: «Двухкомнатный люкс стоит как раз четыреста крон. Мы можем сообща его снять и жить по-человечески. Зачем нам деньги? Нас кормит турфирма».
Так и сделали. Вся группа уехала, а мы с Беками до поздней ночи гуляли по прекрасной Праге.
Наутро, выспавшись, приняв душ, очень довольные вышли к завтраку. Появились и наши спутники. Злые, раздраженные, в этом общежитии не оказалось даже полотенец.
Вот тут-то все и произошло.
К нашему столику подошел метрдотель и, извинившись, спросил, кто здесь есть пан Бек. Александр Альфредович отозвался. «Прошу прощения, — сказал метрдотель, — но пана любезно просит пожаловать портье отеля». «Наверное, мы недоплатили», — шепнул мне Бек. А это уже вырастало в целую проблему: рубли у нас были, но все, что тогда разрешалось обменять на кроны, мы уже обменяли. У Бека оставалась и валюта, но в ту пору в социалистической Чехословакии она не ходила.
Возвратился Бек минут через десять. Очень смущенный. В руке он держал… четыре стокроновые бумажки. Оказалось, ему вернули все наши деньги. Он, как почетный гражданин Праги, имел право на бесплатную гостиницу. А так как номер был оформлен на Бека, то деньги ему и отдали.
Ох, как разволновались наши спутники: выходит, и жили мы с комфортом, и ни гроша не потратили. Мне сказали: «Ладно Бек, он почетный гражданин, но ты-то по какому праву? Ты обязан немедленно возвратить деньги». «Я готов, — сказал я, — но как? Подойти сейчас к портье и объяснить, что полномера Александра Альфредовича занимал я?» Бек засмеялся: «Очень его развлечете. Почетный гражданин Праги торгует в своем номере койками».
На том дело и кончилось. Но некоторые попутчики мне этого не простили. Уже в Москве, я заметил, что, встречаясь со мной, они осуждающе на меня смотрят и здороваются сквозь зубы.
Глава четвертая «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
Психология гроша и миллиона
Говоря о людях шестидесятых, «шестидесятниках», некоторые пожимают сейчас плечами: а какова, собственно, их заслуга? Всю правду они все равно не сказали, по-прежнему оставались в рамках дозволенного.
Те, кто тогда не жил, не приучил себя к тому, что немота или полунемота естественное человеческое состояние, могут, конечно, так рассуждать. Но мы даже самые малые крохи свободы воспринимали как настоящее чудо, как неожиданный подарок судьбы. Не лишали нас этого ощущения ни злобное фиглярство Хрущева на выставке художников в Манеже, ни позорная выволочка, устроенная художественной интеллигенции на встрече в Кремле. Чему тут удивляться? Это в порядке вещей. Зато ведь напечатан «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.
Для меня это время знаменательно прежде всего тем, что впервые, кажется, между понятиями — «так надо» и «я хочу» — уже не всякий раз пролегала непреодолимая пропасть, бывало, что они даже сливались, совпадали. О тупике, в который загнана наша экономика, о ее парадоксах и абсурдах, о бессилии руководителей предприятий можно было теперь говорить почти открыто. Хрущевская, а затем и косыгинская реформы ставили своей целью навести в существующем бардаке порядок. Тема эта меня по-настоящему волновала, и — удивительно! — редакциям такие материалы тоже вдруг понадобились.
Разве прежде я мог быть уверен, что газета напечатает о любопытном разговоре с министром местной промышленности Латвии? Он рассказывал мне, в каком плачевном состоянии находятся его заводы. «Они нищие, у них нет денег?» — предположил я. Министр расхохотался: «Деньги? А зачем им деньги. Денег у меня навалом. Только что я смогу на них купить, если на каждый гвоздь спускается разнарядка из Москвы?» И вот министр проявляет чудеса смекалки и сообразительности. Он выпускает чайник, который, закипая, не свистит, а кукарекает петухом. Потребителю такое кукареканье ни к чему. Но министр везет свое изделие в Москву, в учреждение, спускающее наряды. Там слушают и очень веселятся: «Смотри ты, петух настоящий, сейчас куру топтать будет», и на радостях выдают дополнительные наряды на дефицитнейший металл или медную проволоку.
В Ленинграде, заранее договорившись о встрече с председателем совнархоза (они были созданы при Хрущеве) Афанасьевым, я пришел в его приемную в семь вечера. Просидел там до двенадцати ночи. У Афанасьева шло совещание. Вышедший оттуда работник доверительно мне сказал: «Все прикидывают, насколько ленинградская промышленность перевыполнила квартальный план, на полтора процента или на один и девять десятых». «Подсчитать не могут?» — спросил я. Он удивился: «Да кто же подсчитывает? Гадают, какая цифра будет приличнее смотреться».
Теперь статьи обо всем этом охотно печатала «Литературная газета». Впрочем, требовалось тут же сказать, что экономическая реформа ликвидирует подобные нелепости и наведет наконец полный порядок. Однако вера в благополучный исход реформы у людей сведущих с каждым днем таяла.
Я встретился с министром приборостроения Рудневым. Его министерство первым перешло на хозрасчет. На мой вопрос, чего он ждет от экономической реформы, Руднев спросил: «Хотите расскажу вам байку? Только соленая». — «Хочу», — попросил я. «Можно прийти к женщине, снять штаны и заняться любовью, — сказал он, — это нормально. Можно не снимать штаны, выпить с ней чаю и уйти. Это тоже совершенно нормально. Но прийти к женщине, снять штаны и сесть пить чай — это абсолютно ненормально. Вот так и мы с нашей реформой. Штаны сняли, а дальше что?»
Он оказался прав, через несколько лет тогдашняя экономическая реформа постепенно захлебнулась, сошла на нет. Предоставление директорам заводов даже самой урезанной самостоятельности, освобождение их от некоторых дутых, пустых производственных показателей — все это было совсем не ко двору. Партийное руководство, и в центре и на местах, сперва тайно, а затем и открыто всеми силами реформу тормозило. Ожидались серьезные, коренные изменения, сдвиги, а мы — «сели пить чай». Пройдет немало лет, и станет ясно, что реформирование сложившейся системы все равно было бы обречено на провал, система реформированию не поддается. Но тогда казалось: вот осуществим реформу, и страна расцветет.
Связывались с ней не только надежды на рост экономики. Новый подход давал возможность выступить и против насаждавшегося десятилетиями культа самоограничения и бедности, защитить естественное желание человека быть состоятельным и богатым. Статьи мои в «Литературке» так и назывались: «Психология гроша и миллиона», «Хороший „длинный рубль“»…
Через несколько дней после опубликования этой статьи я зашел в кабинет к заведующей отделом Валентине Филипповне Елисеевой. Там сидел человек, с которым мы не были знакомы, но которого знала тогда вся страна, первый наш фельетонист Леонид Лиходеев. «Вы незнакомы?» — спросила Елисеева. Лиходеев протянул руку и чуть надменно произнес: «Брат Лиходеева». Елисеева, назвав меня, поинтересовалась, читал ли он про «длинный рубль». «А, — сказал Лиходеев, — тогда давайте знакомиться, мы единомышленники».
Так началось наше знакомство, переросшее скоро в очень близкую, на всю жизнь, дружбу.
Лиходеев против Лиходеева
На фронт Леонид Лиходеев ушел добровольцем. Как белобилетник, больной туберкулезом, призыву он не подлежал. Жив он остался чудом. Осенью 1942 года его повели на расстрел — не немцы, наши. Произошло это так. Месяц назад Сталин подписал свой знаменитый приказ № 227, предписывавший на месте расстреливать всех паникеров, трусов и предателей. Ни паникером, ни трусом, ни предателем Лиходеев, понятно, не был. Но командир части, в которой Лёня в ту пору служил, накануне вызвал его вместе с офицером связи и велел им пробраться по азимуту в такую-то точку (он показал ее на карте), где предположительно мог находиться штаб армии, и вручить там пакеты.
На вторые сутки пути по горным кавказским тропам их остановила группа наших военных. Позже Лиходеев описал эту встречу:
«Я не помню лица того полковника, я помню только четыре шпалы под пьяным лицом… Вспыхнул черный рот и я услышал: „Кто такие?“
Мой товарищ, как старший по званию (а он был целый лейтенант), откозырял и доложил, какой мы части и куда идем. „Ага-а, предатели, — вспыхнул черный рот. — Расстрелять!“ И прежде чем я успел осознать то, что услышал, раздался поспешный, торопящий, нетерпеливый и испуганный голос: „Разрешите исполнять, товарищ полковник?“ — „Валяй!“
…Это был безусый школяр в безразмерной шинели. Пилотка его неуверенно сидела на высоко торчащих черных волосах. У него были толстые, очень толстые роговые очки. Он неумело толкнул меня в бок коротким прикладом автомата Дегтярева. Меня никогда не водили под конвоем, меня никогда не водили на расстрел, и я до сих пор не могу понять, почему я привычно завел руки за спину, как опытный арестант… На тропинке этот близорукий тощий парень тихо сказал: „Ребята, сейчас я буду стрелять… не бойтесь, в воздух… а вы бегите… Через каньон. Кажется, там наши…“»
Не окажись тогда, в 1942-ом, рядом с пьяным полковником безусого школяра, в одну секунду, может быть, не стало бы Леонида Лиходеева, замечательного, самобытного писателя, прекрасного, порядочного человека, моего друга.
Лиходеев приехал в Москву в 1949 году в самый разгар борьбы с космополитизмом. Естественно, его нигде не печатали, и очень часто у него не было даже гроша в кармане. Иной раз удавалось заработать тем, что, как и Зверев, писал очерки за так называемых «бывалых людей».
Однажды Лёня работал с одним капитаном дальнего плавания. Они подружились, и капитан предложил ему место замполита на своем корабле. Лиходеев сразу же согласился. Осталось утвердить кандидатуру в политотделе Министерства морского флота. Как только Лиходеев вошел к начальнику политотдела, тот вскочил, обнял писателя и, вздохнув, сказал: «Сынок, да ты же, оказывается, еврей! Вот беда-то какая. Ах, беда, беда. А я смотрю — такой парень, такой хороший, а еврей!»
Отплытие в море, естественно, не состоялось.
Еще на фронте Лёня стал писать стихи. Были они совсем неплохие, многие всю жизнь пишут не лучше и прекрасно процветают. Как поэта его приняли в Союз писателей. Вышла одна его поэтическая книжка, потом другая. Радуйся, срывай аплодисменты. Но Лиходеев неожиданно порывает с поэзией. Начинает писать фельетоны. И здесь его тоже ожидает громкий успех, он становится первым, лучшим фельетонистом страны. Популярность его огромна. Имя его не сходит с газетных страниц.
Однако в декабре 1966 года в журнале «Советская печать» вдруг появляется его статья, озаглавленная: «Лиходеев против Лиходеева». Речь в ней шла о том, что за семь лет до этого Лиходеев напечатал фельетон против стяжательства. Кто только не вытирал тогда ноги об это гнусное, позорное, несовместимое с нашим строем явление, кто, борясь со стяжательством, не наживал себе богатых каменных хором. А Лиходеев, заклеймив стяжательство, крепко задумался. «Мое пионерское прошлое дало себя знать, когда я писал этот фельетон, — признавался он через семь лет. — Детская нетерпимость сделала свое дело… Мы не замечали или не хотели замечать элементарной экономической несуразицы, которую поставляло время…» Он говорил о том, какие беды порождает презрение к частной собственности, как рынок, зашедший в подполье, порождает стихию в таких отвратительных формах, о которых «ни в законе сказать, ни в фельетоне описать…» И сказано это было, повторяю, в 1966-ом, до гайдаровских реформ оставалось еще четверть века.
Помню, главный редактор «Литературной газеты» Александр Борисович Чаковский как-то мне признался: «При определенных обстоятельствах я сумел бы даже напечатать: „Долой Советскую власть!“ Смотря, как подать… Но когда Лиходеев пишет, что дворники должны чисто подметать улицы, то напечатать это уже совершенно невозможно. Это такая антисоветчина!»
Честно говоря, я расценил тогда эти слова как свидетельство невероятной обличительной силы в фельетонах Лиходеева: чуть тише можно, а так — уже нельзя. Позже я понял, что был не прав. Обличать разрешалось как угодно громко, особенно дворников. Лиходеев же не обличал, он, наоборот, жалел: дворников, своих читателей, главных редакторов, которым приходилось ерзать на стуле от его фельетонов. Вот такая жалость и оказывалась чаще всего недопустимой, махровой антисоветчиной.
И вдруг новый резкий поворот в его творчестве. Так же как когда-то он оставил поэзию, теперь он уходит от фельетона. Почти совсем. Редко когда появляется в печати его имя. Слава, успех, немыслимая популярность — можно ли пренебречь всем этим? Но Лиходеев за достигнутое опять не держится. Мы, близкие друзья, знаем: Лиходеев сочиняет роман. Знаем, что при нашей жизни он напечатан скорее всего не будет. Более того, если кто-нибудь донесет об этом сочинении, то не поздоровится ни его автору, ни нам, кому он читал только что написанные главы. Называется роман «Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала».
Книга охватывает огромный пласт жизни нескольких поколений. Начало двадцатого века, люди, которым суждено было, кажется, сделать Россию расцветающей и богатой, и другие, фанатики, под пламенные призывы к всеобщему счастью пустившие страну под откос, драма палачей, ставших жертвами, и драма жертв, приведших к власти своих палачей, — все это написано было с такой подлинностью, словно бы рукой очевидца.
Однако времена изменились, и книга все-таки успела выйти при его жизни. Даря ее мне, он написал: «Ты мог в это поверить?»
У него было больное сердце, врачи настоятельно посоветовали ему вживить специальный стимулятор, и он говорил: «Теперь я буду жить долго-долго, вы все умрете, и мне без вас будет очень скучно». Но нас он не пережил. Через несколько лет у него обнаружили рак. Умирал он на даче в Переделкино. Умирал тяжело, но когда мы приезжали к нему, шутил, живо обо всем расспрашивал, был тем же мудрым Лёней, которого мы всегда знали.
Каждое утро я со страхом ждал звонка Нади, его жены, мы понимали, что счет идет на дни. Но в один из таких дней она позвонила мне: «Знаешь, чем он вчера занимался? Вспоминал частушки, которые когда-то слышал».
К нему приехала корреспондентка газеты «Досье», приложения к «Литературной газете», и он продиктовал ей статью «От протопопа Аввакума до Ленина». Говорил, как безжалостны и опасны фанатизм, нетерпимость, сколько бед они натворили и, увы, еще натворят. Журналистка оказалась молодой, неопытной, неаккуратно записала его слова, и Лёня ужасно огорчился. Втроем, с ним и с Надей, мы выправляли текст. Он не шел ни на какие уступки, требовал абсолютной точности.
«Досье» с его статьей вышло в день его похорон.
Всю жизнь Лёня занимался только своим делом. Любил одну-единственную, свою женщину. В друзьях его не было случайных людей. Он был счастливым человеком.
Взрыв
Говорят, что мы в «Литгазете» были поставлены в особые условия, что нам разрешалось многое, чего другие газеты напечатать бы не смогли. Что ж, все так. Опубликованы воспоминания Константина Симонова, рассказавшего, как в разговоре с ним Сталин заметил, что нам нужна своя неофициальная, оппозиционная газета. Вот пусть ею и будет «Литературная газета».
Однако на самом деле все обстояло гораздо сложнее. Прежде всего, немало зависело от фигуры главного редактора. В ЦК все знали, что Чаковский выходит на самый верх, и работники «среднего звена» не могли этого не учитывать. Помню, он при мне буквально отшил инструктора одного из отделов ЦК, осмелившегося позвонить ему по «вертушке» с какими-то наставлениями: «Я занят, не мешайте работать».
Но помню также, как Чаковский при всем старании не смог пробить несколько статей, которые ему очень хотелось напечатать. Так было, например, с материалом о минском взрыве.
Люди постарше, очевидно, не забыли необычную публикацию, появившуюся в центральных газетах 13 мая 1972 года. В ней сообщалось об аварии, происшедшей в цехе футляров Минского радиозавода. Говорилось о человеческих жертвах.
В ту пору о подобных случаях газеты никогда не писали, такие трагедии строжайше секретились. А тут — прямо, открыто, на всю страну. Видимо, слишком уж велика была беда, чтобы удалось ее замолчать. Состоялся и суд над виновниками аварии. Одиннадцать человек были приговорены к различным срокам лишения свободы. О судебном процессе тоже появилось короткое, в несколько строк, сообщение.
Однако скудная эта информация не только не удовлетворяла общественный интерес — наоборот, еще больше его распаляла. Поползли дикие слухи. Говорили, что взорвалось секретное производство — «футляры, сами понимаете, только камуфляж»; что бросили бомбу гигантской разрушительной силы; что раскрыта целая злодейская организация…
Но судебное дело, которое я изучил, показало: и в помине не было никакого «секретного производства». В этом цехе делали обычные деревянные ящики, футляры для телевизоров и радиоприемников. Бомбу тоже никто не взрывал. А произошло вот что. Цех этот проектировали в Ленинграде. Встал вопрос, какие взять фильтры для удаления полировочной пыли. Из Минска привезли баночку такой пыли. Посмотрели, понюхали, потерли между пальцев, сказали: «Очень похожа на текстильную». Решили текстильные фильтры и взять: для настоящих исследований времени не было, поджимали сроки, секретарь ЦК Устинов торопил побыстрее сдать цех — крупнейший в Европе. А когда его запустили, оказалось, что такие фильтры никуда не годятся, в трубах скапливается пыль, начались возгорания. Директор завода подал несколько докладных: цех необходимо срочно остановить, может быть несчастье. Ему отвечали: «Остановишь цех — положишь партбилет». Утром 10 марта 1972 года заводская комиссия по чистоте и культуре производства, обследовав цех, поставила отметку — «отлично». А в 19 часов 35 минут, спустя четверть часа после того как вечерняя смена вернулась с обеденного перерыва, цех взорвался. Под его обломками погибли сто человек. Директор завода пошел в тюрьму.
Прочитав мою статью, Чаковский сказал: «Напечатать это будет непросто. Надо бы заручиться поддержкой первого секретаря ЦК Белоруссии Машерова. Поезжайте в Минск». Я усомнился: если уж искать поддержку, то, наверное, не в Минске. Кто захочет выставлять напоказ свои беды? «Нет, нет, — сказал Чаковский, — именно Машеров. Поезжайте».
С вокзала я отправился прямо в ЦК Белоруссии. Помощник Машерова был предупрежден о моем приезде. «Петр Миронович вас ждет, пожалуйста».
Помню свое первое впечатление: небольшой кабинет, и за столом человек, чем-то неуловимо напоминающий постаревшего артиста Олега Ефремова.
Петр Миронович спросил меня: «Какова цель вашей публикации?» — «Прежде всего, чтобы рассеять слухи». — «А разве они еще продолжаются?» — «В Москве — да». — «А в Минске по-моему прекратились».
Но я знал, что и в Минске слухи не умолкают, мне рассказывали, что на рынках вовсю толкуют про еврейский заговор. Главным инженером завода был еврей.
Я положил на стол сверстанную газетную полосу и спросил, когда можно зайти.
«Зачем же, — сказал Машеров, — я прочту сейчас, при вас».
Читал он медленно. Время от времени прерывал чтение и говорил, какой это бич — непрофессионализм, самообман, стремление все видеть в радужных красках и как дорого мы за это платим. Не дочитав, вдруг произнес: «Сегодня ночью, под Минском, сгорел еще один заводской цех». — «Есть жертвы?» — «Да, несколько человек».
Прочтя полосу, Петр Миронович сказал, что ему кажется, статью целесообразно напечатать. «Я могу позвонить сейчас Чаковскому?» — спросил я. «Да, пожалуйста, помощник вас соединит».
Из приемной по прямой линии ВЧ я связался с Чаковским и сообщил ему, что Машеров материал одобрил, все в порядке, материал можно ставить в номер. Чаковский перебил: «Подождите, трубку возьмет Сырокомский».
Первый заместитель главного редактора Виталий Александрович Сырокомский был душой газеты. Все самые острые статьи проходили его стараниями. В сущности, он и делал газету. Чаковский был ее архитектором и ее «крышей», роль же рабочей лошади выполнял Сырокомский.
«Слушай меня внимательно, — сказал он, — наверху большое сопротивление материалу, секретарь ЦК Устинов категорически против публикации…» — «Но, Виталий, Машеров сказал…» — «Слушай внимательно. Попроси Петра Мироновича позвонить Устинову и сказать свое мнение».
Я обратился к помощнику Машерова: «Мне нужно опять зайти к Петру Мироновичу, есть информация». — «Вот прямой телефон, звоните», — предложил помощник. Я снял трубку, Машеров ответил, и я ему рассказал о разговоре с редакцией. — «Хорошо, я сообщу Дмитрию Федоровичу свое мнение».
Назавтра я вернулся в Москву.
Каждый день я спрашивал Чаковского, что с материалом. «Пробиваем», — отвечал он.
Пробить, однако, статью так и не удалось.
Позже я узнал, что газетная полоса каким-то образом попала к руководителям тогдашнего Министерства радиопромышленности, и они сигнализировали в верха о том, что «Литературная газета» собирается опубликовать антисоветский материал.
Я видел письмо, подписанное заведующим тогдашним отделом ЦК Сербиным. Ни одного факта в статье он не опровергал, ни одного довода против статьи не приводил, но вывод делал тот же самый: Борин написал клевету и антисоветчину.
При таких обстоятельствах даже могущественный Чаковский был бессилен.
«Ответственность выдается у нас в закрытом распределителе…»
Не удалось напечатать в газете и о сильнейшем пожаре в московской гостинице «Россия», который люди старшего поколения наверняка хорошо помнят.
Произошел он ранним вечером 25 февраля 1977 года. И опять как тогда, в Минске, весь город заговорил о том, что гостиницу подожгли. На мысль эту и вправду наталкивала целая цепь наблюдений.
Те, кто стоял внизу, на улице, видели, например, как в окнах то здесь, то там ярко вспыхивали взрывы. Но что могло взрываться в мирной гостинице? Взрывчатка, не иначе. Это же очевидно.
Люди наблюдали, как за считанные минуты пламя охватило почти весь высотный корпус. Сам по себе огонь вряд ли способен распространяться с такой быстротой. Не естественнее ли предположить, что гостиницу подожгли злоумышленники сразу на нескольких этажах?
Подозрение это усилилось при первом же беглом осмотре пострадавшего от пожара здания. Один номер выгорел дотла, угла целого не осталось, а другой, расположенный рядом, по соседству, почти не пострадал. Отчего? Не оттого ли, что в первом номере горели вещи, мебель, облитые бензином или керосином?
Следствие, однако, шаг за шагом опровергало эти скоропалительные впечатления.
Очевидцы видели яркие вспышки в окнах, которые приняли за взрывы? Но специалисты объяснили, что вспышки эти могли и не быть взрывами. При горении выделяются раскаленные горючие газы. Они распространяются по всему зданию. Попадая в помещение, где еще не выгорел весь кислород, газы могут самовоспламеняться, при этом происходит вспышка, очень похожая на взрыв.
За считанные минуты пламя успело распространиться почти по всему высотному блоку, разве без посторонней помощи такое возможно? Возможно, объяснили специалисты. Нам, непосвященным, как рисуется картина пожара? Вот загорелась стена. Запылали обои. Огонь дошел до двери. Загорелась дверь. Пламя вышло в коридор… Однако на самом деле все обстоит иначе. Главный инструмент распространения огня — те же раскаленные газы. А скорость их движения гораздо выше, чем скорость движения самого пламени. Расчеты, сделанные специалистами (с помощью ЭВМ), показали, что пожар, охвативший гостиницу, и должен был распространиться за считанные минуты почти по всему блоку, и для этого вовсе не требовалось, чтобы на разных этажах кто-то одновременно чиркнул спичкой.
Что же на самом деле произошло тогда, 25 февраля 1977 года, в московской гостинице «Россия»? Следствие, в конце концов, выяснило.
Пожар начался в радиоузле. Люди, занятые в тот день на дежурстве, приятно проводили здесь время. К кому-то из них зашла знакомая. Кто-то сидел на телефоне, узнавал, где поблизости продается балалайка. Рыбку к пиву разделывали. Балагурили о том о сем. Служебное помещение превратили в распивочную, в курилку.
А тем временем в отдельной маленькой комнате, именуемой «коммутационной», уже что-то горело. То ли чайник оставили без присмотра. То ли не выключили паяльник. То ли бросили горящий окурок. Из-под двери медленно струился слабый белый дымок.
Если бы сразу заметили, подняли тревогу, вызвали пожарную команду, начали действовать — кто знает? — может, пожар удалось бы остановить в самом начале.
Увы, сразу действовать не начали.
А тут, на беду, сказался и вопиющий брак, допущенный при строительстве роскошной гостиницы. В «коммутационной», как требовал проект, соорудили двойной, навесной потолок, но, вопреки проекту, от вентиляционного короба изолирован он не был, не доложили нескольких кирпичей. Раскаленные газы через дыру проникли в этот короб, и воздушный поток с бешеной скоростью разнес их по всему зданию.
По правилам полагалось разместить на каждом этаже несколько лестниц, чтобы в случае пожара можно было быстро вывести людей из задымленного помещения. Но облик здания складывался тогда нехорошо, неэлегантно. Правилами пренебрегли. В результате десятки постояльцев гостиницы погибли в дыму.
Строительные нормы требовали все горючие синтетические покрытия непременно обработать огнезащитным составом. Но его под рукой не оказалось, а жесткие сроки строительства сильно поджимали. Решили обойтись. И за это тоже расплатились человеческими жизнями.
Многочисленные упущения заставили нескольких членов Государственной комиссии отказаться подписать акт приемки здания. Однако гостиницу, несмотря ни на что, приняли — приказал Хрущев.
Хотя следствие доказало, что никакого поджога не было, людей, как и в Минске, погубил наш родной бардак, секретарь московского горкома партии Гришин долго еще продолжал настаивать, что гостиницу все-таки подожгли злоумышленники. По установившейся тогда практике очень удобно было списывать на врагов наше собственное головотяпство. При этом достигалась еще одна немаловажная политическая цель: мерещившиеся повсюду коварные враги позволяли потуже завинчивать гайки, вводить новые, дополнительные строгости, увеличивать ряды органов госбезопасности, устанавливать очередной полицейский надзор и контроль. Бдительность, доведенная до истерии, многим была очень на руку, сотрудники спецорганов неплохо паразитировали на борьбе с мнимыми вредителями. Легенда о поджоге «России», как и другие подобные ей легенды, служила еще более широкому распространению нашего любимого советского запретительства, во всех гостиницах страны тут же ввели пропускной режим. Будучи в командировке в Ленинграде, я спросил администратора гостиницы, чем это вызвано. Он объяснил: «А вы не понимаете? После того как диверсанты подожгли „Россию“, приняты необходимые меры, и мы получили инструкцию».
А дальше уж как водится. Когда полоса с моей статьей, рассказывающей о пожаре в «России», была сверстана, ее немедленно затребовали в горком партии, и тот же Гришин наложил резолюцию: «Надо ли печатать?» Она была равносильна приказу.
Так что, несмотря на высокое положение Чаковского и его контакты с самой верхушкой, возможности его были, конечно, весьма ограничены. Он это знал, но относился к тому достаточно цинично.
Однажды мне пришлось писать ответ в ЦК по поводу какой-то своей публикации, вызвавшей там сильное неудовольствие. Когда Чаковский прочел подготовленный текст, я его спросил: «Ну как, убедительно?» Он посмотрел на меня как на последнего дурачка и сердито сказал: «Что значит „убедительно“? Если захотят убедиться — убедятся. Не захотят — что угодно пишите».
Членом редколлегии работал у нас замечательный человек Александр Иванович Смирнов-Черкезов. За то, что он подписал письмо в защиту писателя Даниэля, осужденного за антисоветские произведения (даже не в защиту, несколько писателей попросили разрешить переслать заключенному мазь от укусов москитов), Александра Ивановича… не пустили в турпоездку в Финляндию. Однако с работы его не сняли. Уж не знаю кому, Чаковскому или Сырокомскому, удалось его отстоять. Так вот на редколлегии зашла как-то речь об одной весьма острой статье. Смирнов-Черкезов предложил: «Давайте сделаем так: я один подпишу статью в печать, возьму на себя всю ответственность». Чаковского слова эти крайне раздражили. «Александр Иванович, — резко сказал он, — ответственность выдается у нас в закрытом распределителе. А вы к нему не прикреплены».
Доктор Илизаров
Не помню, чтобы в то время говорили о журналистских расследованиях, по-моему, термин этот вошел в широкий обиход несколько позже. Но журналистские расследования велись, и особенно в «Литературной газете». У нас был создан специальный институт так называемых разработчиков. Опытные юристы, чаще всего пенсионеры и военные отставники, тщательно проверяли поступившие в редакцию сигналы, и уже по результатам этой проверки мы каждый раз решали, есть ли здесь материал для будущей публикации. Если есть, то начинали действовать неукоснительные правила, которые требовалось строго соблюдать. Прежде всего, знакомясь с материалом, следовало опасаться первых, скоропалительных выводов. Анатолий Аграновский, пожалуй лучший журналист того времени, говорил, что, отправляясь в командировку по читательскому письму, он очень настораживается, когда первоначальные его представления о событиях вроде бы подтверждаются. Это означало, скорее всего, что он скользит по поверхности, еще не добрался до настоящих глубин. Когда же первоначальный замысел статьи, наоборот, рушился, в жизни все оказывалось гораздо сложнее, противоречивее, запутаннее, то появлялся шанс, что в конце концов он доберется до истины. Второе обязательное правило: разбирая какой-либо конфликт, необходимо было выслушать обе стороны. И мало выслушать: все объяснения и доводы того, против кого ты выступаешь, должны быть представлены в твоей статье. Читатель должен их знать и понимать, отчего все-таки ты считаешь их несостоятельными. Иначе статья твоя окажется нечестной, односторонней. В понедельник, поздно вечером, когда номер уже был подписан и ни единой строки уже нельзя было изменить, мысль о том, что не все аргументы своего оппонента я привел, что-то все-таки осталось за кадром, доставляла, бывало, немало тревог. И, наконец, третье: худо, если в статье говорить будут только люди, с которыми ты встречался, их суждения чаще всего субъективны, у каждого из них свой интерес. Говорить должны также и строгие, неопровержимые документы. А уж как, каким образом ты их добудешь — дело твоего профессионального умения.
Бывало, публикация одного такого документа все и решала. Без него статья осталась бы только пустым сотрясением воздуха, а документ этот придавал ей и силу, и доказательность, и точность — попробуй теперь, отмахнись от нее.
В начале семидесятых многие периодические издания обошел рассказ о хирурге-кудеснике из Кургана Гаврииле Абрамовиче Илизарове, творившем чудеса. С помощью изобретенного им аппарата калеки вставали на ноги. Метод его уже получил официальное признание, в приказе тогдашнего министра здравоохранения Б. В. Петровского говорилось: «метод Г. А. Илизарова занял лидирующее положение». Отмечалась его «высокая научная значимость», он рекомендовался «к широкому внедрению в практику здравоохранения». Но так обстояло лишь на словах, на деле же использование аппарата Илизарова всячески, упорно тормозилось. Почему? Какие силы противодействовали? Чаковский сказал мне: «Слетайте в Курган, посмотрите, в чем дело». Я усомнился: «Об Илизарове писали многие, однако это ему не помогло». Чаковский возразил: «Многие, но не „Литгазета“».
А что значит — «Литгазета»? Что она может сказать нового по сравнению с другими газетами и журналами, на все лады расхваливающими изобретение Илизарова?
Я понимал: еще раз объявить в печати, какая творится несправедливость, призвать к состраданию чиновников, от которых зависит строительство современного лечебного комплекса в Кургане — дело пустое. Нужно было постараться обнажить то, что происходит за плотно закрытыми дверьми чиновничьих кабинетов, заглянуть в их тайная тайных, на чем-то их поймать, разоблачить. Короче, нужен был обличающий их документ.
Вся переписка, связанная со строительством лечебного комплекса, по действующим тогда правилам сосредоточивалась в союзном Госплане. Я пришел к заместителю председателя Госплана Михаилу Евгеньевичу Раковскому, все ему честно рассказал и попросил показать мне документы, связанные с илизаровской больницей. Михаил Евгеньевич мог бы и отказать. Никакой государственной тайны в тех документах, разумеется, не было, но служебные дела у нас не принято было выставлять на всеобщее обозрение. Однако, вызвав начальника соответствующего отдела, Раковский велел ему дать мне все бумаги. Чиновник немножко поартачился, но приказ начальника выполнил. И тут среди документов я увидел письмо заместителя министра здравоохранения А. Ф. Серенко: министерство здравоохранения считает нецелесообразным строительство в текущем пятилетии института травматологии и ортопедии в Кургане. То есть гласно, на публику, министр Б. В. Петровский объявляет, что метод Илизарова превзошел все другие методы, рекомендует широко внедрять его в практику здравоохранения, а тайно, негласно, заместитель Б. В. Петровского сообщает в Госплан: нет, помогать Илизарову не надо, обойдется.
Вот теперь можно было и взяться за статью.
Самолет в Курган отправлялся ранним утром. Войдя в салон, я увидел: чуть не все ряды занимали люди на костылях. В Кургане на площади у аэровокзала их поджидали многоопытные квартирные хозяйки: «Милок, нужна коечка? В гостиницу не попадешь, не надейся».
Утром, с разрешения Илизарова, я присутствую на хирургическом совете клиники. Докладывается история болезни трехлетнего Володи М. из Москвы. Когда он родился, левая ножка была короче правой на 5 сантиметров, теперь — на 14. Мальчик, опираясь о материнское плечо, здоровой ножкой стоит на диване, больной, короткой, болтает в воздухе. Играет.
В материалах прошлогоднего симпозиума врачей травматологов-ортопедов отмечалось, что при подобных заболеваниях метод Илизарова весьма эффективен. Конечность удлиняется примерно на 3 сантиметра в месяц. Чтобы вылечить мальчика, достаточно, стало быть, пяти месяцев.
Но матери мальчика Илизаров говорит: «Поймите, мы не можем взять вашего сына. У нас всего сорок детских коек. Очередь на них установлена уже на десять лет вперед…»
Мать всех нас обводит взглядом. На мне сейчас тоже белый халат, для нее я тоже врач, мне в глаза она тоже глядит умоляюще… «Доктор, — говорит она Илизарову, — доктор, запишите нас в очередь…»
…Сережа Л., шести лет, из Кемерова. Диагноз тот же. Дома ему уже сделали пять операций. Как обычно поступают в таких случаях — брали кость из ребра, из руки, пересаживали в ножку. Пять лет из шести мальчик не снимает гипсового панциря.
В материалах симпозиума отмечалось, что Илизаров кость вытягивает бескровным способом.
«…Поймите, — говорит Илизаров отцу Сережи, — вашего сына мы не можем положить, у нас всего сорок коек…» Мужчина спокойно его выслушивает, говорит: «Да, да, я знаю, очередь, десять лет. — И вдруг кричит: — Но пусть в шестнадцать он перестанет быть калекой!»
…Антонина Ш. из Москвы, красавица. Входила в троллейбус и оступилась. Думала — пустяк, а сейчас, после лечения, врачи велят ампутировать ногу. Ей всего двадцать два года… Улыбаясь, она бодро говорит Илизарову: «Мне, доктор, нельзя в очередь. Я тогда безногой останусь».
…Виктор С. из Кустанайской области, двадцати четырех лет. Ехал в командировку, на автобус налетел самосвал…
«Не имеем возможности вас положить, — говорит Илизаров. — Вы — житель Казахстана, а мы обслуживаем только РСФСР. Если не в состоянии вам помочь казахстанские врачи, они должны вас направить в Москву, в Центральный институт травматологии и ортопедии. Там прекрасные, высококвалифицированные специалисты…»
Больной смотрит на Илизарова и вдруг смеется.
Звучит это жутковато.
Больной роется в кармане и протягивает Илизарову письмо. Тот читает его, пускает по кругу. Письмо доходит до меня. Официальный ответ из Центрального института травматологии и ортопедии, служебный номер 1135-а. Главный врач института отвечает главному врачу кустанайской больницы: судя по присланным вами документам, у больного С. остеомиелит. «В связи с этим ни о каких пластических оперативных вмешательствах не может быть и речи». Лишь «через 5–6 месяцев после закрытия свища можно думать о костной аутопластике».
Действительно, таково сегодня традиционное лечение. В материалах симпозиума, однако, особенно подчеркивалось, что гнойные воспаления Илизарову не мешают лечить кость.
«Ну так что же, доктор, — спрашивает больной, — выгоните меня?»
Цифры. За 1970 год в поликлинике у Илизарова было принято 4678 человек. На очередь для госпитализации поставлено только 169. Самые сложные, самые серьезные, не поддающиеся лечению другими методами случаи. Ждать этим 169 предстоит долго, очень долго…
После хирургического совета Илизаров показал мне помещения, где приходится ему работать. Своего угла клиника не имеет, арендует 180 коек в городской больнице. Поликлиника, куда съезжаются люди со всей страны, ютится в нескольких комнатушках городской школы-интерната. Медико-конструкторское бюро, совершенствующее аппараты Илизарова, занимает угол прачечной. Лаборатория и виварий расположены в больничном морге.
Отчего же все это происходит? Почему метод, занявший, по словам министра здравоохранения Б. В. Петровского «лидирующее положение», долго еще не сможет помочь больным?
Тут-то и назвал я добытое в Госплане письмо заместителя министра здравоохранения А. Ф. Серенко: в текущем пятилетии строить в Кургане илизаровский Центр травматологии и ортопедии не надо. Не целесообразно.
Что ж, писал я, заместителю министра, конечно, виднее. Только как объяснит он матери трехлетнего Володи М., что сыну ее вернут ногу только через долгие годы, хотя вернуть ее можно уже через пять месяцев? Как объяснит он тысячам несчастных, отчего должны они выстаивать долгую очередь не за дефицитным автомобилем или мебельным гарнитуром, а всего лишь — за собственными руками и ногами?
Выступление «Литгазеты» не осталось не замеченным. Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Кургане целого лечебного комплекса.
Сегодня он успешно действует. В клинике и в амбулаторно-реабилитационном отделении одновременно лечатся до тысячи больных. Сооружены три спортивных зала, бассейн, зимний сад, уютные, благоустроенные палаты. Метод Илизарова широко применяется во всей стране. Благодаря ему тысячи и тысячи инвалидов стали здоровыми людьми. Приезжают пациенты из-за границы.
Однако недруги Илизарова все эти годы не успокаивались, не оставляли его. Когда на «Мосфильме» готовился художественный фильм, в основу которого была положена судьба курганского хирурга, некоторые его коллеги добились, чтобы главного героя превратили… в женщину, дабы ни у кого уже не возникли слишком лестные для Илизарова ассоциации.
Только пока недруги ополчались на живого Илизарова, все их бесконечные выпады — и оглушительные удары в спину, и мелкие блошиные укусы — как ни крути, вписывались в малосимпатичное понятие: научная борьба. Пусть без правил. Пусть без стыда и совести. Пусть, не выбирая средств. Но все-таки шла борьба. Действовали люди, движимые ревностью, ослепленные завистью… Та же возня, которую затеяли после его смерти, над его гробом, оказалась куда страшнее и отвратительнее. И самое мерзкое, что усердствовали в ней уже не враги Илизарова, а, наоборот, верные единомышленники, преданные последователи, благодарные ученики. И старались они не по причине научных разногласий, не из авторских амбиций и даже не в погоне за соблазнительным лавровым венком, а исключительно ради денег. Из-за них готовы были опозорить, очернить того, кто привел их в большую науку, чье имя носит учреждение, в котором они работают.
И мне снова пришлось взяться за перо.
В свое время итальянская фирма «Межикопластик» заключила с советским «Лицензинторгом» соглашение, по которому итальянцам предоставлялось право изготавливать и продавать в ряде стран аппарат Илизарова. За это итальянцы обязались выплачивать «Лицензинторгу», а точнее — советскому государству, пять процентов от всех вырученных сумм.
Но наступили новые времена, строжайшая монополия внешней торговли в СССР постепенно давала трещину, предприятия одно за другим начали самостоятельно выходить на внешний рынок, и вчерашняя безграничная власть «Лицензинторга» оказалась сильно урезанной. Деньги итальянцы стали платить уже непосредственно Курганскому институту. Однако из-за этого и возникли у них ненужные проблемы.
30 апреля 1991 года Илизаров получил от итальянцев письмо. В нем они писали, что им все время приходится объясняться с банком: в контракте назван «Лицензинторг», а деньги они перечисляют другому учреждению. Нужно заключить новый контракт. Пусть господин Илизаров скажет — с кем. И 16 июня 1991 года в городе Кургане такой новый контракт был заключен. С одной стороны, его подписала все та же итальянская фирма «Медикопластик», а с другой — создатель аппарата и метода «чрескостного управляемого остеосинтеза», лично Гавриил Абрамович Илизаров. Деньги теперь итальянцы должны будут перечислять на его банковский счет.
Корректен ли этот контракт с точки зрения строгих юридических правил? Не знаю. Пусть юристы этим занимаются. Меня куда больше интересуют возможные мотивы Гавриила Абрамовича, пошедшего на такой шаг. Элементарное корыстолюбие? Нет, дело, думаю, здесь гораздо сложнее.
Раскрепощение, которое начинало тогда входить в нашу жизнь, коснулось не только жестких монопольных уз, еще вчера связывающих по рукам и ногам внешнюю торговлю. Постепенно, шаг за шагом, крупицы свободы, независимости получали люди самых разных профессий и занятий. Писатели, которые прежде и думать не смели, чтобы самостоятельно заключать договоры о публикации их произведений за границей, вдруг получили такое право. Появился новый закон «Об изобретениях в СССР», по которому советским изобретателям переставали выдавать так называемые «авторские свидетельства», а только, как во всем мире, полноценные патенты. Разница огромная. Выдавая «авторское свидетельство», государство, по сути, беззастенчиво грабило изобретателя. Отстегивало ему какую-то сумму, а взамен становилось полным хозяином его детища. И в родной стране, и за ее рубежами. Советский изобретатель и думать прежде не мог, чтобы самостоятельно выйти на мировой рынок. Бери подачку и скажи спасибо. Автор изобретения, равного аппарату Илизарова, в любой другой стране давно бы уже стал хозяином положения, да и миллионером.
Так что вопрос о «корыстолюбии» Илизарова совсем не прост. Речь тут надо бы скорее вести о том, как родная держава долгие годы притесняла и обирала как могла тех, кто был ее гордостью и славой. И не настала ли пора от такого грабежа освободиться?
Итак, новый контракт был заключен, и в 1991 году за использование его аппарата итальянцы заплатили самому автору. Сослуживцы Гавриила Абрамовича, сотрудники созданного им института, никакого неудовольствия по этому поводу не выражали. А 24 июля 1992 года Илизаров умер. Сослуживцы горько его оплакивали, со всех трибун говорили, какой это был великий человек, сколько пользы он принес людям, на фасаде своего учреждения с гордостью вывели «Российский научный центр „Восстановительная травматология имени академика Г. А. Илизарова“», а затем, вытерев слезы, предъявили итальянцам иск. Платили этому самому Илизарову? А почему, собственно? Незаконно. Наш дорогой учитель, в сущности, был самозванцем, присвоил себе то, что ему не принадлежало. Его аппарат, да и сам метод Илизарова «созданы, — цитирую исковое заявление, — в порядке выполнения служебного задания в государственной организации» и «все правомочия на изобретение принадлежат государству». Улавливаете? Опять государство. Исключительно государство. А ты, талантливый изобретатель, как был его послушным холопом, так и оставайся. Разве что-нибудь изменилось? Да и о каком «служебном задании» идет речь? Когда вблизи замаячили большие деньги, илизаровские сотрудники захотели, видно, забыть, что Гавриил Абрамович придумал свой аппарат, когда и «служебное задание» некому еще было ему давать. Уже потом, под илизаровский метод, был создан и Курганский институт, и нынешний превосходный Центр.
Ладно, допустим, что Илизаров что-то нарушил. Не выполнил, превысил, поступил не так. Ну и что? Этого уже достаточно, чтобы сегодня посмертно топтать его имя? Публично позорить? Ведь не к итальянцам, строго говоря, предъявлен этот иск. К нему, к покойному. Пусть из гроба, с того света даст ответ, зачем взял эти деньги. А ну-ка, голубчик, отчитайся! При жизни не посмели его спросить. А теперь, что ж, теперь все можно. Мертв.
Однажды я получил приглашение на прием в Итальянское посольство. В роскошной бумаге было сказано, что прием проводится «с рассадкой» (знающие люди объяснили, что прийти надо в вечернем костюме), а по какому случаю торжество, в приглашении не говорилось. Я позвонил в посольство, и любезная барышня сообщила, что прием дается в честь господина Илизарова, награжденного высшим орденом Итальянской Республики.
За ужином посол произнес речь. Рассказал, как ценят у него на родине великого российского хирурга. Его пациент, известный итальянский ученый и путешественник Карло Маури, участник экспедиции Тура Хейердала, даже назвал Илизарова «Микеланджело ортопедии». Гавриил Абрамович весело посмеялся: ох уж эти пылкие итальянцы. А потом, перед тем как попрощаться, я его спросил: «Беды, будем считать, миновали? Теперь можно и спокойно пожить?». «Беды находятся всегда, — ответил он. — Кончаются одни, появляются другие. Но есть главное: институт, соратники, верные друзья, последователи, в которых я уверен как в самом себе».
Счастье, что умирал он с этой прекрасной мыслью.
«Борин, вы убийца»
Нередко, однако, приходилось не опираться на документ, не брать его себе в союзники, а, наоборот, спорить с ним, опровергать то, что в нем утверждалось. Чаще всего это относилось к судебному приговору.
Доказывая несостоятельность иных приговоров, газете удавалось, бывало, освобождать из тюрем многих, формально переступивших через закон, но, в сущности, совершенно не виновных людей. Даже интересный термин с нашей легкой руки появился: «бескорыстные преступники».
На заводе останавливалось производство, потому что не было какого-то необходимого насоса, а на соседнем предприятии лежал точно такой же, никому не нужный. Получить его легально нельзя было, так как обмен оборудованием между предприятиями запрещался под страхом уголовной ответственности, действовали строжайшие разнарядки. И тогда главный инженер завода дал за насос взятку работнику соседнего предприятия, и тут же, конечно, сел в тюрьму.
В Хабаровске остались в гараже все машины «скорой помощи», кончился выделенный бензин, а на «номерном», то есть оборонном предприятии, было его — хоть залейся, водители сливали его в канавы. Работник исполкома — аналогичная история — за взятку добыл у оборонщиков бензин для санитарных машин и немедленно оказался за колючей проволокой.
Когда удавалось добиться справедливости и я получал трогательные письма от освобожденных из тюрьмы людей, от их жен и детей, казалось, как радостна и прекрасна моя работа, чего еще желать? Но бывало, что и тут, отстояв правду, защитив человека, меня ожидала новая печаль, новые терзания.
В ленинградском онкологическом институте уволили отличного специалиста, профессора, доктора наук, бывшего фронтовика. Еще недавно директор института публично, в печати, дал высочайшую оценку работам этого специалиста, писал о больших их перспективах. И вдруг назначается внеочередная переаттестация, и специалисту набрасывают полным-полно «черных шаров». Из института он должен уйти. Совершенно ясно, что без директора тут не обошлось. На вопрос корреспондента, чем все-таки вызвано увольнение хорошего работника, директор понес какую-то невнятицу. Мол, человек неправильно себя вел. По ночам, когда все нормальные люди спят, он гулял с собакой. Ходил с тросточкой, хотя ноги здоровые, такое пижонство людей раздражало. Словом, полная чушь. Очерк мой так и назывался — «Черные шары».
На публикацию пришел ответ. Директор писал, что ничего выдающегося в работах уволенного, оказывается, не было, они не стоили и выеденного яйца. Газета напечатала этот ответ, снабдив его язвительным комментарием: мы привели выдержку из совсем недавней статьи директора в научном журнале, где те же самые работы превозносились до небес, и спрашивали: чем же за такой короткий срок бывший сотрудник и соратник мог вызвать начальственный гнев, какая черная кошка между ними пробежала?
Из института поступала информация, что директор очень тяжело переживает выступление «Литературки». На каком-то совещании, желая произнести «литературные работы», он по Фрейду оговорился и сказал: «Литературная газета».
А еще через некоторое время мы узнали, что в метро с директором случился тяжелый сердечный приступ и, не приходя в сознание, он умер.
Из института я получил письмо: «Борин, вы убийца».
Но тогда же открылась и причина загадочного увольнения сотрудника: он встречался с Солженицыным, у которого подозревали рак, и давал ему какие-то медицинские советы. Об этом узнали в ленинградском обкоме партии, позвонили директору института, и сотрудника этого велели выгнать в два счета. Директор безропотно подчинился.
Подоплеку неожиданного увольнения профессора Сырокомский, оказывается, знал уже тогда, когда еще только готовилась моя статья, но публикацию не остановил. И правильно, думаю, сделал. Назвать негласное указание обкома газета, конечно, не могла, но поднять вокруг этих закулисных интриг широкий общественный резонанс мы, в меру своих сил, старались.
Но какой ценой?
Я не мог не написать о человеке, которого вдруг с позором, без объяснения причин, выгоняют из института. Заносят в черные списки. Нигде не берут на работу. Я видел, как переживал он, сколько это ему стоило здоровья.
Но ведь и тот, другой, директор института, тоже оказался человеком ранимым, с неспокойной совестью, так все переживал, что не выдержало сердце. Слабым был, не сумел противостоять давлению сверху? Да, вероятно. Но многие ли в то время оказывались не слабыми?
И еще один камень ложился мне на душу. Никакие резоны и аргументы здесь не помогали. Снова и снова думал я о том, какая опасная у меня работа. Сколько сомнений, терзаний и душевных тягот приходится испытывать даже тогда, когда уверен, что творишь добро. Попытки преодолеть нападки цензоров и партийного начальства переносились все-таки легче: тут я имел дело с врагом, я мог огорчаться, что не удалось сказать что-то очень важное, что статья, которой отдано много сил, шла в корзину, но зато совесть моя была совершенно спокойна.
Сегодня я вижу, как свободна современная журналистика, не знающая цензуры (по крайней мере, пока), как богата ее палитра, как расцвели таланты моих молодых коллег. Это прекрасно. Однако журналистские расследования (если можно их так назвать) ведутся сейчас совсем иначе, многие обязательные для нас правила, табу, очень часто не соблюдаются. Сомнения, бессонные ночи в раздумьях о том, не причинили ли они вред, желая принести добро, нынешних авторов чаще всего уже не мучат. И обливая человека грязью (заслуженно или нет), никаких терзаний, судя по всему, они не испытывают. Да и публично пригвожденный к позорному столбу человек в метро от инфаркта, скорее всего, не умрет. Другие ценности, другие правила игры. Это хорошо, нормально, что газетная статья не воспринимается сейчас как приговор, как диктат, как бесспорное руководство к действию. (Худо только, что вообще перестают прислушиваться к печатному слову: доказываешь, приводишь вопиющие факты — никакого результата.) И газетная полемика разных лагерей, кланов и холдингов тоже дело, вероятно, вполне естественное в открытом обществе, даже если не выбираются выражения, все можно, все прилично, и за версту видно, какой куш выложен за ту или иную бочку дегтя, вылитую на противника.
Я не уверен только, что в таких условиях можно, как говорили друзья моей молодости, «сохранить лицо». Впрочем, быть может, при сегодняшней конъюнктуре этот вчерашний товар и не имеет уже особого спроса.
За что Иван Грозный сына убил
Как-то мне передали короткую записку, всего несколько слов. «Саша, — прочел я, — как хватило у тебя совести разругать талантливого педагога, бросить в него камень? Ты поступил мерзко, считай, что мы больше не знакомы. Сима Соловейчик».
Замечательный педагог и журналист Сима Соловейчик — мой хороший товарищ, я его нежно люблю — и вот такое вдруг письмо.
Еще через несколько дней я встретил на улице Эдика Успенского, отца Чебурашки и крокодила Гены. «Знаете, — сказал он, — я виделся с героем вашего очерка, он пишет вам ответ и собирается вас разнести. Сдается мне, вполне справедливо».
В очерке, который вызван такое негодование у хороших людей, моих товарищей, я рассказал подлинную историю, случившуюся в одном из подмосковных городов — только сам город я не назвал и изменил фамилию главного героя, окрестил его Морозовым. А все остальное — чистая правда.
В городской отдел народного образования поступило заявление, подписанное тремя учителями одной школы. В заявлении приводились факты — страшные, вопиющие. Говорилось о том, что директор школы Виктор Михайлович Морозов угрожает неугодным учителям оружием, обещает их оставить без куска хлеба, учеников развращает подкупами и подачками, а также кощунствует над великими произведениями русского классического искусства.
Заявление вызвало, разумеется, тревогу, переполох. В школу тотчас же выехала квалифицированная комиссия. Две недели ее члены с пристрастием расспрашивали авторов заявления и вообще всех преподавателей школы.
Выяснилось следующее.
Учителю физики директор Морозов сказал как-то: «Учтите, если станете тормозить мои начинания, я на собрании использую против вас весь арсенал доводов». Арсенал, известно каждому, — склад оружия. Угрожать арсеналом — выходит, угрожать оружием. «Кусок хлеба» тоже появился не с потолка. Преподавательнице русского языка директор предложил: «Присылайте ко мне ребят, любящих декламировать. Сам с ними позанимаюсь, лишу вас, как говорится, куска хлеба». «Развращал детей подкупами»: первого сентября плачущей первокласснице сунул в руки куклу, чтобы не ревела… Что же касается кощунства над великими произведениями искусства, то в виду имелся такой факт: в директорском кабинете с давних времен висела в багетной рамке репродукция из «Огонька» — «Иван Грозный и сын его Иван». Морозов все собирался снять ее со стены, а однажды взял да и прикрепил под картинкой записку: «Грозный убивает сына за двойки». Когда к нему приводили на расправу лодыря, директор спрашивал: «Знаешь, за что царь сына убил?» — «Знаю», — басил лодырь, глядя в пол. «То-то, — говорил директор. — Учти, пожалуйста». И вокруг все смеялись…
Установив это, комиссия с легким сердцем отмела все страшные обвинения трех учителей карповской средней школы против ее директора.
Но одновременно комиссия пришла к выводу, что Виктору Михайловичу Морозову продолжать далее директорствовать здесь, в этой школе, нецелесообразно. Более того, комиссия сочла, что Морозову вообще сейчас следует где-то в другой школе поработать рядовым преподавателем. Поручать ему руководство коллективом, по крайней мере пока, в ближайшее время, не стоит.
От центра города до школы — полчаса езды автобусом. У калитки — гипсовый лебедь, недавно крашенный, но весь опять в желтых дождевых подтеках. Облупившееся крыльцо, битые черные ступеньки. Одноэтажная деревянная изба постройки тридцатых годов…
Изба эта доживает последние месяцы. В новом микрорайоне, в трех километрах по шоссе, для школы строится прекрасное здание. Пять этажей, широкие окна, светлая, кофе с молоком, облицовка. Внутри — тоже настоящий дворец: два зала, актовый и спортивный, кабинеты, комнаты для самодеятельных кружков, даже кондиционирование воздуха предусмотрено…
— …Разве я мог везти в этот храм дремучие педагогические порядки, которые царили в старой школе? — говорит мне Морозов.
Он — моложав, строен. Чувствуется офицерская выправка. Правильные черты лица, высокий лоб, спокойные серые глаза. Сдержан. Если увлекается, то тут же себя смиряет: вот вам, пожалуйста, факты, одни только факты, делайте выводы сами…
…Когда Морозов год назад пришел в школу, прежде всего заметил: как-то странно щурятся дети. Гримасничают, что ли? Потом сообразил: освещение! Прошелся с экспонометром возле стен грязно-серого цвета и ужаснулся: одна четвертая установленного люксажа. Спросил учителей: «Когда в последний раз зрение ребятам проверяли?» Те удивились: «Никогда не проверяли». Морозов с шапкой объездил городские организации, достал быстросохнущей светло-розовой краски, в три дня стены перекрасил… Завез старшеклассникам парты покрупней, а то все десять лет те сидели на маленьких, посмотреть — кузнечики, коленки выше головы…
Побывал на уроках. Тоска, анархия… Учитель спиной к классу бубнит что-то у доски. Класс не его слушает, своими делами занят: кто — свисток режет, кто — голубя складывает… За стеной, в коридоре, шум. Перемена, что ли? Звонка не слышно. Звонок в школе — слабый, квартирный. Каждый преподаватель занимается по своим часам…
Прошелся по коридору во время уроков. На подоконниках, в уборной, на крыльце — полно ребят.
«Вы что тут делаете?» Отвечают лениво, равнодушно: «Нас с урока выгнали». За один урок учитель выгонял, бывало, до десяти учеников.
После уроков у дверей директорского кабинета целая очередь. Наставники со своими питомцами. Втолкнет учитель парня к директору: «Виктор Михайлович, этот шумел», «Виктор Михайлович, этот из рогатки стрелял» — и сам уйдет. Директор — что твой полицейский, разбирайся, наводи порядок…
Морозов говорит мне:
— Только в дом с кондиционированным воздухом въезжать…
Через месяц новый директор собрал учителей, объявил им приказ: «Считать удаление ученика с урока капитуляцией учителя перед учеником». Сказал: «Не водите вы ко мне ребят, не роняйте свой авторитет, справляйтесь сами. Меня привлекайте только в самых крайних случаях. Понятно?» — «Понятно, — согласились. — Что ж тут непонятного?»
А в конце дня к Морозову явилась преподавательница литературы Варвара Сергеевна. Доложила: «Виктор Михайлович, пятый „А“ стены чернилами измазал». Она стояла, ждала указаний. «Пусть сотрут», — сказал он. — «Чем?» Он ответил спокойно: «Резинками». Она ушла и через две минуты возвратилась: «Виктор Михайлович, они говорят, у них нет резинок». Он молчал. Она стояла, ждала. Ангельски чистый был у нее взгляд. Он сдержал себя, отвернулся. «Виктор Михайлович, — сказала она, — еще с вечером Некрасова ничего не получается. Портрет Чехова у нас есть, а Некрасова нету. Что делать?» Если бы она предложила сейчас что-нибудь нелепое, любую глупость сморозила, ничего бы, наверное, не произошло. Но она только стояла и ждала указаний. Пятидесятилетняя учительница, мать семейства. Он не сдержался, посоветовал вдруг: «А вы Чехову некрасовскую бороду пририсуйте, может, сойдет?» Она растерялась, не поняла: «Как это пририсовать?»
Морозов смотрит на меня.
— Если бы она тогда обиделась на грубость, — говорит он, — с каким бы удовольствием я перед ней извинился. Счастлив был бы извиниться! У нас, может, установились бы потом нормальные, здоровые отношения. Но она обиделась и затаилась оттого, что я с ней непонятно говорю. Понимаете: не-по-нят-но!.. Улавливаете?
— Улавливаю, — говорю.
Прежде всего необходимо было найти с детьми общий язык. Все слова, все уговоры, все нотации — совершенно бесполезны, если ты говоришь, проповедуешь, учишь, а перед тобой торчит десятилетний человек и совершенно тебя не слышит. Ну ни единого твоего слова! Будто вы объясняетесь на разных языках. У парня — постное, скучающее лицо, в глазах — тоска зеленая, заранее знает: сейчас объявишь ему сто тысяч сплошных «нельзя». И то нельзя, и это нельзя, и ничего на свете нельзя…
Чтобы такое недоверие когда-нибудь сломить, чтобы десятилетний человек тебя впервые вдруг услышал, необходимо было ему однажды сказать: «можно». И не по поводу его святой обязанности — не шалить и учиться, а в ответ на его детские, естественные, пускай даже не слишком обязательные для учебного процесса потребности. Например: можно бегать на переменах.
Морозов так и объявил: да, можно, бегайте.
Вольность эту некоторые преподаватели встретили в штыки.
Сильнее всех разволновался прежний директор школы, учитель физики Федор Игнатьевич. Он явился к Морозову и вызывающе ему сказал: «При ваших новых порядках в коридор не выглянешь. Воспитанники собьют с ног и не заметят». Морозов оглядел его: приземистый, тяжелый, свинцом налитые ручищи и ножищи… Посоветовал: «А вы, Федор Игнатьевич, крепче за стеночку держитесь…»
Что — беготня! Морозов детям драки разрешил. Ну, не всякие, конечно, а справедливые. Если на твоих глазах сильный обижает слабого или несколько человек напали на одного и никакие уговоры и убеждения не помогают, то, что ж, действуй. Можно. Беда только в том, что драться-то вы по-настоящему не умеете… «Как это не умеем?» А очень просто: нос расквасить — разве это называется уметь драться. Вот введем в школе занятия самбо — тогда научитесь.
Когда узнал об этом Федор Игнатьевич, он вошел неслышным шагом в директорский кабинет, где тихо-мирно процарствовал до того пятнадцать лет, и страшным шепотом осведомился: «Говорят, вы и финки им разрешили носить за голенищем?» Морозов смерил его взглядом. «Дельное предложение, Федор Игнатьевич, — сказал, — я обдумаю».
Скандал разразился на вечере художественной самодеятельности. Старшеклассники подготовили кукольный спектакль, но, видно, что-то не ладилось у них, представление задерживалось.
Ребята в зале устали ждать. Послышались выкрики, началась возня.
Морозов сидел в первом ряду. Обернулся к ребятам: «А ну, давайте их поторопим. Дружно, все вместе, раз-два-три: „Время!“ Зал грохнул: „Вре-мя! Вре-мя!“ Занавес не поднимался. Какой-то четырехклассник с места пискливо закричал: „Сапожники!“ Морозов засмеялся: „А ну, все вместе, хором… Два-три“. Зал восторженно протянул: „Са-пож-ники!“
Как это им понравилось, какое ликование вызвало!
И тут Морозов вдруг увидел перед собой Федора Игнатьевича. У того было несчастное, опрокинутое лицо, „В чем дело?“ — спросил Морозов. Тот не мог даже слова сказать, так дрожали у него губы. „Это плевок мне в лицо, — проговорил он наконец, — верх издевательства надо мной“. — „Да что случилось?“ — „Я с ними сегодня, час назад, провел беседу, как вести себя в общественном месте, — сказал Федор Игнатьевич. — Вы это знали, наверное, вы — преднамеренно!..“
Ох, как Морозов обозлился тогда. Как он обозлился!
Он сказал себе: с какими же дураками ему приходится иметь дело, с какими скучными, ограниченными, непрошибаемыми дураками! Нет, все, баста! С этими каши не сваришь. Только без них и против них…
Морозов сидит передо мной — ладный, подтянутый, красивый. Раздельно, диктуя будто, произносит:
Буквализм, узость, косность — все это первые враги интеллигентности! Там, где узость взглядов, там и не пахнет педагогикой. Умная, интеллигентная педагогика — это обязательно широта взглядов… Так?
Морозов решил: раз его не понимают учителя, общий язык он найдет с самими школьниками. Они умнее многих своих наставников.
Прежде всего ребята должны увидеть в директоре не „полицейского“, к которому водят на расправу, а собеседника, очень интересующегося тем, что ученик думает, что ему в школе нравится и что не нравится. Десятилетний человек должен почувствовать: в класс он приходит не часы отбывать, он здесь — хозяин.
Морозов предложил необычную тему сочинения: „Что вам нравится и что не нравится в нашей школе? Что вы предлагаете?“ Кто-то из ребят, услышав задание, понимающе протянул: „Да-а, напишешь, а тебе же потом и припомнят“. Морозов разрешил: „Если боишься, можешь не подписываться“.
Написали. Морозов сам собрал тетрадки. Сложил в стопку. Унес с собой.
Через неделю классный руководитель шестого „Б“ Ольга Филипповна спросила его: „Так что же все-таки написали про нас наши деточки? Поделились бы, Виктор Михайлович“. — „Я чужие тайны не привык разглашать, Ольга Филипповна, — сказал Морозов. — Не так воспитан“.
Он мне объясняет:
— Видите ли, ничего особенного в этих сочинениях, конечно, не было: милые детские претензии, смешные обиды, забавные предложения… Нормальным учителям я бы их, конечно, показал. Людям — с тактом и с чувством юмора. Но вы ведь знаете, с кем мне приходилось иметь дело… Эта Ольга Филипповна, например, грамотная учительница, но характер — властный, ревнивый, подозрительный… Чего доброго, стала бы с детьми счеты сводить…
— Значит, учителя видели, что у вас с ребятами от них тайны?
— Ну и что?
— Слухи могли пойти. Когда нет гласности, обычно возникают слухи.
Он понимающе кивает.
— Разумеется, гласность — прекрасная вещь! Необходимая! Я сам — принципиальный, убежденный сторонник гласности. Однако ведь для нее созреть прежде надо. Нравственно и психологически. Не всякая среда готова сразу, сегодня же, воспринять гласность. Верно?
…Слухи действительно пошли. И самые фантастические! Поводом к ним послужило одно обстоятельство.
В педагогике хорошо известен так называемый „игровой принцип“, „игровой эффект“. Тимуровские команды, клубы мушкетеров — все это, в конце концов, благородная, умная и полезная игра.
Морозов с той же целью решил организовать в школе сводный отряд „Железная звезда“. (Название подсказал роман Серафимовича.) Разумеется — секретный, какая же игра без тайны? Собрал у себя в кабинете несколько ребят — потруднее и посмышленее, объявил им: „Никому — ни слова! Примем в отряд только самых достойных. Собираться станем после уроков. Торжественно, при свечах“.
Морозов написал текст клятвы: „Обязуюсь быть бесстрашным, тренировать себя в решительности, твердости, выдержке, дисциплине, чтобы стать настоящим человеком. Обещаю воздерживаться от слез, быть справедливым, защищать слабых, заслонять собою товарища от опасности, хранить тайну, не быть доносчиком, охранять справедливость и порядок… Если нарушу эту клятву, пусть меня презирают и смеются надо мной товарищи, пусть назовут меня позорным именем труса…“
С каким чувством, как взволнованно произносили ребята эти слова!
И вдруг — дело было в субботу, после уроков — в кабинет к Морозову, не постучавшись, вошла Ольга Филипповна.
Остановилась в двух шагах от его стола, уперла руки в боки, спросила: „А что, Виктор Михайлович, у нас в школе подпольная банда завелась?“ Он опешил: „Какая банда?“ Покачиваясь с носка на каблук, она сказала: „Железная звезда“… Мать одной девочки ко мне прибегала сегодня. Дочь ей проговорилась: нас, мол, скоро в подвал поведут. В темноту, со свечами». — «Успокойтесь, Ольга Филипповна, — сказал он. — Никто никого не поведет. В подвале ваша картошка лежит». Она победоносно, торжествующе глядела на него. Какие козыри против директора оказались у нее в руках, какие козыри! Наслаждаясь, продолжала: «Девочка проговорилась и тут же слезами залилась. Бросилась умолять мать: только ни слова никому, ни гугу. Если узнают, что я тайну выдала, мне плохо будет». — «Успокойтесь, Ольга Филипповна, — повторил он. — Уверяю вас, все в порядке». Она глядела на него, как кошка на мышь, разве что не облизывалась… Вдруг, на всю школу, чтобы все слышали, закричала: «А я вам не верю! Я не выйду одна на улицу! Я бандитов боюсь! Позвоните мужу, пусть немедленно придет за мной!..»
Морозов смотрит мне в глаза.
И, по-вашему, мог я что-то объяснить этим людям? Они бы поняли меня? — Он произносит непримиримо, ожесточенно: — Гла-ас-ность, как же!..
Он сказал себе: все, хватит. Пора переходить в наступление. Пусть сами стены вопиют против таких вот «педагогов». В учительской развесил плакаты, короткие и хлесткие, как удары: «Хочешь получить умный ответ на уроке — научись умно спрашивать», «Корень учения горек — если учитель скучен», «Причина ухода с урока бывает в самом уроке», «Мы часто любим контролировать то, чему сами еще не научили»… Сочинил «Грамоту от Плюшкина». Круглой славянской вязью вывел: «Грамота коллективу учителей средней школы за высокую захламленность учительской». И подпись: «Степан Плюшкин».
На каждого преподавателя специальную папку завел. Досье. Чтобы любой антипедагогический проступок того был на виду, не исчезал бесследно. Всем дал понять: от его директорских глаз и ушей никогда ничего не укроется, все ему становится известным. Встречая в коридоре Федора Игнатьевича, наклонялся к его уху, спрашивал: «Отличились вы, Федор Игнатьевич, вчера?.. Мне Ольга Филипповна сказала». А Ольге Филипповне говорил: «Знаю, Ольга Филипповна, все знаю… Мне доложил Федор Игнатьевич».
Он решительно объясняет мне:
Да, я вынужден был так поступить. Нельзя было позволить людям против меня объединиться. Действия мои вызывались тактической необходимостью…
…Произошло все на общем собрании.
Морозов предложил необычную повестку дня: «Суесловие — враг педагогики». Вместо традиционного доклада встал и вслух прочел замечательное стихотворение А. Твардовского «Слово о словах»:
…Я знаю, как слова опасны, Как могут быть вредны подчас, Как, обольщая нас окраской, Слова — труха, слова — утиль, В иных устах до пошлой сказки Низводят сказочную быль…Удивительно точно сказано. И особенно это надо помнить им, учителям. Ведь если терпит инфляцию педагогическое слово, то обесценивается и само педагогическое действие… Кто хочет выступить?
Все молчали. Морозов по лицам видел: обескуражены. Такого не было никогда, чтобы вместо доклада — стихи читать. Не знали, как и реагировать.
Морозов поторопил: «Начинайте, товарищи, начинайте, — пошутил: — пусть самый умный из вас возразит мне с пеной у рта…»
Поднялась Ольга Филипповна. С ласковой ледяной улыбочкой проговорила: «Я хоть и дура, наверное, но ладно, скажу… Виктор Михайлович прочел нам стихотворение о том, как надо правильно выбирать выражения. Но сам-то он разве их с нами выбирает?»
Морозов терпеливо объяснил с места: «Ольга Филипповна, речь шла не о вежливости, а о соответствии между словом и делом».
Она и бровью не повела. «В народе говорят: заставят хрюкать — свиньей станешь. Так и у нас получается. Если мы поверим всем обидным словам Виктора Михайловича, посмотрим на себя его глазами, то хоть в петлю лезь. Люди второго сорта! Он один — умный, один — образованный, один — способный. А мы все — пни с глазами. С нами считаться нечего. Нас он открыто презирает…»
Морозов с места резко возразил: «Неправда! Ложь! Я не вас не уважаю, а те устаревшие, негодные методы, которыми вы сегодня пытаетесь учить детей».
Она опять не обратила на него ни малейшего внимания. Продолжала: «Посмотрите, как он нас сталкивает друг с другом лбами. Как разговаривает с нами. Не словами даже, а через бумажечки на стенах. Живых слов ему на нас жалко».
Он резко возразил: «Я на ваше чувство юмора рассчитывал. Извините».
Тут она наконец обернулась к нему. «Чувство юмора у нас есть, неправда, — сказала. — Мы люди тоже веселые. Над шуточкой умеем похихикать. Но шутка шутке — рознь. Шутка должна делу помогать, стимулировать человека к работе. А ваша шутка — злостная, стремится человека в порошок стереть. Таких шуточек мы не потерпим. — Она обратилась к собранию: — Кощунствовать над картиной Репина, детей убийством пугать — разве это шутка? Велеть пририсовать Чехову бороду — шутка? Противопоставить пионерской организации какую-то чуждую нам „Железную звезду“ — шутка? Сказать, что у нас, как у припадочных, пена изо рта — тоже шутка?..»
Морозов понял: сейчас она его обвинит в том, что он на завтрак грудными младенцами питается, ей все равно…
Он встал, произнес: «То, что вы здесь говорили, — чистейшей воды демагогия. Как человек старше вас годами и имеющий некоторый житейский опыт, хочу дать вам добрый совет: не прибегайте к демагогии. Бесперспективное, гиблое дело».
Она любовно посмотрела на него. «Понятно, — сказала. — Так и запишем. Советские учителя — демагоги…»
…В тот вечер он один долго сидел в школе.
На стене, в багетной рамке, царь Иван Грозный обнимал окровавленную голову сына. За стеной, по бетонке, бесконечным потоком шли грузовики, везли кирпич и светлую, кофе с молоком, плитку для строящейся школы.
В учительскую вошла преподавательница географии, старушка Серафима Цезаревна, работающая здесь, в школе, дольше всех, четверть века. Стала рыться в шкафу, готовить назавтра какие-то карты. Морозов спросил: «Серафима Цезаревна, вы умный человек, скажите, как на духу, осуждаете меня?» Она сказала: «Вы мне нравитесь, с вами интересно работать. Только зачем вы так нерасчетливо вооружаете против себя людей?» — «То есть?» — «Полагаете, нетерпимость, прямолинейность, неразборчивость в средствах помогут вам?» — «У меня нет иного выхода, Серафима Цезаревна, — объяснил он. — За год я должен ликвидировать в школе этот мезозой». Она усмехнулась: «Вы и сроки уже перед собой поставили?» — «А как же! — сказал он. — Не везти же дремучие нравы в новое помещение». Она произнесла печально: «Нас всегда учили, Виктор Михайлович, сеять разумное, доброе, вечное. Я не уверена, однако, что к нему можно принуждать людей силой…»
Через неделю стычка у него произошла — с Серафимой Цезаревной…
Морозов продолжает не сразу. Собирается с силами…
…В первый день весенних каникул, рано утром, Серафима Цезаревна постучала к нему в кабинет и сказала, что везет детей в областной театр. Три дня ходила в гараж к шефам, договорилась наконец об автобусе. Теперь нужен только его звонок. «Где дети?» — спросил Морозов. «У крыльца». — «Выстройте их, я сейчас выйду».
Он вышел. Оглядел строй. Произнес: «Каждый день мы с вами говорили о том, что школьник должен выглядеть как настоящий джентльмен: стрелка на брюках, чищеные ботинки, все пуговицы — на месте… А вы на кого похожи?» Ребята молчали. «На подошвах грязь, пуговицы по огородам валяются… Стыд и позор! Бедные родственники!» — Они молчали. «Решаю так, — объявил он, — в театр, раз собрались, поедете. Но в наказание за неряшливость автобуса не получите. Отправляйтесь на поезд. Я убежден, вы поймете меня и поддержите». Серафима Цезаревна сказала: «Виктор Михайлович абсолютно прав. Все пуговицы завтра же будут на месте. Но сегодня просим нам не отказывать в автобусе. Мы его с трудом добились». — «Нет, Серафима Цезаревна, — возразил он. — Очень сожалею, но автобус разрешить не могу…»
Морозов повернулся и пошел к себе.
Минут десять спустя в его кабинет вошла Серафима Цезаревна. Молча положила перед ним ворох розовых бумажек. «Что это?» — спросил он. — «Билеты в театр. Дети отказались ехать».
Он почувствовал, как его охватывает гнев. Крикнул: «Вы их настраиваете против меня!» Она сказала сочувственно: «Нет, Виктор Михайлович, вы их сами против себя настраиваете. Хуже того, вы детям доказываете, что их учитель — никто, его слова пустой звук…» Спросила: «Виктор Михайлович, зачем вы хотите остаться в полном одиночестве?..»
Морозов смотрит на меня: видите, мол, ничего не скрываю, все карты на стол.
…Когда Серафима Цезаревна вышла из комнаты, завуч Ирина Павловна ему сказала: «Напрасно вы обидели ее, ох, напрасно».
Надежнее союзника и единомышленника, чем Ирина Павловна, не было у Морозова во всей школе. Она его понимала с полуслова. Терпеливо объясняла людям, как умны и правильны его педагогические цели. Единственная выступила на собрании против Ольги Филипповны…
Морозов ответил Ирине Павловне: «Я не мог поступить иначе, никак не мог». Чтобы наконец прекратились демагогические разговоры о «первосортных» и «второсортных», люди должны увидеть, что директор ко всем относится одинаково. Личные симпатии или антипатии роли не играют. Есть принципы, порядок, и перед ними равны все. Если он строго спрашивает с Федора Игнатьевича, с Ольги Филипповны, то как же он может делать поблажки Серафиме Цезаревне? Ирина Павловна вздохнула. «Вы хотите быть святее самого папы римского», — сказала она. «Да! — горячо согласился он. — Да! Именно!» Он хочет, чтобы никто не имел повода обвинить его в непоследовательности. Это что, грех разве? Она промолчала.
А еще через несколько дней Морозов впервые поссорился — с самой Ириной Павловной.
Он надолго замолкает, и я боюсь его поторопить неосторожным словом…
…До Морозова все в школе, начиная с директора и кончая нянечкой, занимались каждой сломанной партой, каждой форточкой. Он ввел правило: ежедневно назначается дежурный преподаватель. Если где случилось какое ЧП, мелкое или крупное, докладывать о нем следует не классному руководителю, не завучу или директору, а только дежурному преподавателю. Тот, кто ЧП увидит, но дежурному о нем не сообщит, несет сам полную ответственность.
Однажды, войдя в учительскую, Ирина Павловна с досадой заметила: «В пятом „Б“ еще утром, оказывается, стекло разбили». — «Кто вам сказал?» — спросил Морозов. «Вася Климов». — «А дежурному он сообщил?» — «Нет, кажется». — «Сам тогда пусть и платит за стекло». Ирина Павловна сказала: «Все-таки как-то несправедливо получается: мальчик ни при чем и вдруг — плати». При их разговоре присутствовала Ольга Филипповна. Отвернулась, делала вид, что занята очень, но Морозов знал: ушки на макушке! «Справедливо, Ирина Павловна, потому что таков порядок». — «Значит, несправедливый порядок!» Он ее мягко остановил: «Не будем спорить, Ирина Павловна». — «Почему? — возразила она. — Надо спорить. Мы парня заставляем клясться по бумажке быть справедливым и тут же ему показываем пример несправедливости. К чему это приведет?» Ольга Филипповна живо обернулась к ним — каким ликующим, каким победоносным был ее взгляд! Морозов подумал: этого он Ирине Павловне вовек не простит. Сказал очень вежливо, очень внятно: «Пожалуйста, Ирина Павловна, выполняйте мое распоряжение…»
— Такие вот пироги, — говорит мне Морозов. — Такие, понимаете, пироги…
Заявление в гороно подписали трое: Ольга Филипповна, Федор Игнатьевич и учительница литературы Варвара Сергеевна, когда-то спросившая у Морозова про портрет Некрасова.
Приехала комиссия.
В конце недели председатель ее попросил Виктора Михайловича и Ирину Павловну задержаться вечером для разговора.
Втроем они остались в пустой школе.
Председатель объяснил: «Все глупые, демагогические обвинения мы отметем, конечно. Но есть вещи, по поводу которых очень хотелось бы посоветоваться». Морозов сказал: «Знаю. Я бывал резким, нетерпеливым, иногда непозволительно негибким. Признаю». Председатель помедлил. «Не в этом только дело, Виктор Михайлович, — сказал он. Поискал слова, спросил: — Виктор Михайлович, вам не кажется, что прогрессивной педагогикой нельзя… размахивать будто дубинкой?» — «Не понял», — сказал Морозов. «Ну, нельзя пугать людей на всех перекрестках: берегитесь, мол, меня, я очень прогрессивный». — «А если люди мешают, сопротивляются, вредят, наконец? — вызывающе, повысив голос, спросил Морозов. — Надо им подчиниться, волю дать? Вы слышали, наверное: добро должно быть с кулаками». — «Кулаками не стоит любоваться, даже если и приходится ими иногда пользоваться», — сказал председатель. «Я и не любовался никогда», — возразил Морозов. «Ошибаетесь, Виктор Михайлович, — сказал председатель, — когда на стенах развешивали остроумные плакаты, когда стихи читали… Вы ведь заранее знали, что хорошие стихи дойдут не до всех… Но вы не столько заботились о результате, сколько гордились собой, своей находчивостью и эрудицией… Разве я не прав, Виктор Михайлович?» Морозов не ответил.
Ирина Павловна произнесла горячо: «Виктор Михайлович — талантливый педагог, педагог божьей милостью… Он, безусловно, поймет все свои ошибки и перестроится». Председатель помолчал. «Ирина Павловна, — сказал он, — Виктор Михайлович — не провинившийся ученик, который сейчас нам пообещает: простите, никогда больше не буду… Он зрелый человек, знает, что делает… Ему ведь надо, чтобы комиссия сегодня целиком его поддержала, разгромила всех его противников, чтобы завтра в школу он въехал, так сказать, победителем, на белом коне… Иной вариант его не устроит. Правду я говорю, Виктор Михайлович?» Морозов ответил: «Совершенно верно. Или я должен продолжать свое дело, или оставить его»… Ирина Павловна вздохнула. «Нет, — произнесла она, — на белом коне… никак не получится… Это невозможно…»
Когда председатель ушел, Ирина Павловна попросила Морозова задержаться. Он полагал, она будет сейчас перед ним оправдываться. Поверьте, у него хватило бы силы, выдержки не попрекнуть ее ни единым словом. Но она не оправдывалась. Куда там! Она кричала на него. Морозов никогда не думал, что эта тихая, деликатная женщина способна так кричать. Она кричала: «Да понимаете ли, что вы сделали? Вы позволили победить Федору Игнатьевичу и Ольге Филипповне. Допустили, чтобы глупость и демагогия хоть на час взяли верх. Пожертвовали своими же хорошими педагогическими принципами… Как я могла не вмешаться раньше?..»
Он умолкает.
— И все? — спрашиваю.
— Все, — говорит он. — А что вы еще хотите? Чтобы я, на самом деле, как провинившийся школьник, бил себя в грудь, клялся: никогда больше не буду?.. Несерьезно это.
Молчим.
— Моя совесть чиста, — говорит Морозов. — Я ничего не хотел для себя. Не знал покоя, в школе торчал от зари до зари, не щадил ни сил, ни здоровья… — Он вдруг спрашивает: — Знаете, в том, что здесь произошло, — не вина моя, наверное, а беда. А? Как вы думаете?
Ему очень хочется, чтобы я с ним согласился.
Директором школы назначили Ирину Павловну. Она очень долго отказывалась, сопротивлялась, но в конце концов дала согласие. Мне она сказала: «Нас ожидает чрезвычайно трудная жизнь. Предстоит осуществить педагогические идеи Виктора Михайловича, но только уже иным способом». Я спросил, а что будет с авторами постыдного доноса против Морозова? Эти питекантропы останутся в школе? Она тяжело вздохнула: «А что вы предлагаете? Написать им в трудовой книжке: „Уволен из-за отсутствия чувства юмора“, „склонен к демагогии“? И после этого дела в школе пойдут как по маслу? Не пойдут, увы… С косностью и глупостью нельзя бороться в два счета, административным приказом, бесполезно… Это процесс долгий и очень мучительный…»
Я понимал, отчего, прочитав мой очерк, рассвирепел Сима Соловейчик и почему не одобрил меня Эдик Успенский. Действительно, получалось, что дремучие люди, которым противопоказана профессия учителя, в результате победили: талантливый Морозов из школы ушел, а они, тупые бездари, благополучно продолжали работать. И я с этим вроде бы смирился. Но мне казалось, что никчемность этих тупиц и так за версту видна, о чем тут еще говорить, и так все ясно. А вот когда талантливый, замечательный педагог действует чисто большевистскими, разрушительными методами, желая созидать, наоборот, крушит — это уже требовало серьезного разговора.
Эдик передал мне книжку, сочиненную человеком, которого я назвал Морозовым. В ней он вывел меня, тоже под другой фамилией, рассказал, как я продался начальству и по их указке написал свой гнусный очерк. Но иначе, вероятно, он и не мог отнестись ко мне, он держался за свою правду и готов был всячески, любым способом ее отстаивать. Что ж, я его понимал.
А с Симой Соловейчиком у нас состоялся очень долгий разговор о нетерпимости и большевизме, выяснилось, что мы тут полные единомышленники, и наши добрые, очень дружеские, теплые отношения сохранились до самой его безвременной кончины.
Читательское письмо
В начале семидесятых в редакцию «Литературной газеты» пришло любопытное читательское письмо. Его автор спрашивал, можно ли подписаться на одну лишь вторую «тетрадку», а первую не получать вовсе, она ему не нужна. Письмо это нас позабавило, однако в нем содержался глубокий смысл. Дело в том, что на первых восьми полосах, составлявших как раз первую «тетрадку», печатались чаще всего верноподданнические идеологические статьи, громились диссиденты и им сочувствующие, выводились на чистую воду акулы империализма. Конечно, и там порой удавалось напечатать честную критическую статью или опубликовать настоящую поэзию, но каждый раз это требовало почти героических усилий журналистов из первой «тетрадки» — Геннадия Красухина, некоторых других моих коллег. Нам, работающим во второй «тетрадке», жилось несравненно легче. Хоть и мы нередко оказывались бессильны пробить цензурную стену, хоть печальная судьба постигла не только мои очерки о взрыве на Минском радиозаводе и о пожаре в гостинице «Россия», многие другие неугодные начальству материалы точно так же шли в корзину, — на восьми полосах второй «тетрадки», отданных разделу «внутренняя жизнь» и «Клубу 12 стульев», практически в каждом номере можно было прочесть смелый по тем временам правовой очерк Евгения Богата или Аркадия Ваксберга, содержательный аналитический материал Павла Волина или Александра Левикова, фельетон Владлена Бахнова или Леонида Лиходеева.
Наши товарищи, работавшие в первой «тетрадке», не без обиды говорили нам: «Вы, конечно, чистенькие, но за наш счет». И то была правда. Идеологическая канонада первой «тетрадки» в известной степени прикрывала относительную вольницу «тетрадки» второй.
Такие противовесы, такие ходы очень соответствовали духу Чаковского, его характеру. Он был человек в высшей степени карьерный, без высоких постов и лычек не мыслил своего существования, ему необходимо было состоять кандидатом в члены ЦК, быть депутатом Верховного Совета СССР, господствующему строю служил он верой и правдой, но к барабанному бою коммунистических лозунгов относился равно с тем же цинизмом, что и к правозащитным призывам диссидентов. И то, и другое вызывало у него легкое презрение, чего в иные минуты он даже не особенно скрывал.
А вот успехи газеты волновали его по-настоящему. Редактором элементарной газетной жвачки, той, что представляли собой наши тогдашние периодические издания, он быть не хотел, да и, вероятно, не смог бы. Ему, разумеется, очень важно было, чтобы о газете одобрительно отзывались в самых высоких кабинетах, любые средства здесь годились, иначе обесценивалась бы вся его работа, однако этого ему было мало. Ему еще требовалось, чтобы о газете заговорила вся страна, чтобы миллионы людей каждую среду читали ее от корки до корки, чтобы из года в год росли ее тиражи, чтобы читательская почта неиссякаемым потоком шла в редакцию.
Услужить начальству и породниться с рядовым читателем — задачи, конечно, взаимоисключающие. Но Чак (как его назвали в редакции) виртуозно умел их совмещать.
Проработав много лет в газете, я видел Чаковского самым разным и в самых разных ситуациях. Иной раз он бывал разговорчив, даже пускался в откровения, но чаще, проходя мимо вас, еле кивал. Нередко учил, как надо поступать в той или иной ситуации. Мой коллега Евгений Богат в редакционной машине спешил на вокзал. По дороге машину безо всякого повода остановил гаишник, придрался к водителю, Женя чуть было не опоздал на поезд. Вернувшись из командировки, он возмущенно рассказал об этом Чаковскому. «Ну и что? — презрительно сказал Чак, — вы, конечно, объясняли милиционеру как тот не прав, говорили ему про нравственные искания? Знаете, как надо было? Ткнуть ему в лицо свое редакционное удостоверение, не выпуская его, конечно, из рук, и крикнуть: „Представьтесь!“». Но министру внутренних дел Александр Борисович все-таки позвонил, того гаишника быстро нашли, он явился с повинной в редакцию, два часа продержали его в приемной, а, приняв, Александр Борисович сказал: «Не знаю, не знаю… Просите прощения у Евгения Михайловича. Простит — так и быть. Не простит — пеняйте на себя». Чаковский мог замолвить за кого-то из нас слово в издательстве, и тогда книга быстрее шла в набор, моей тете, потерявшей на войне сына, помог в Ленинграде установить телефон — но делал он это, как бы даже не очень вникая в ситуацию, почти мимоходом, не интересовался, чем завершилось его вмешательство: то ли не сомневался, что к нему прислушаются, то ли его это не слишком и занимало. На юге в автомобильной аварии трагически погибла его дочь. Тело привезли в Москву, и все мы поехали на похороны. Из крематория Чаковский отправился прямо в редакцию, назначил на этот час заседание редколлегии. В коридоре я подошел к нему. Он был серый, сразу как-то осунулся, в один день постарел на несколько лет. Мне захотелось обнять его, что-то сказать… Но, не дослушав меня, он спросил, пришел ли ответ на какое-то наше письмо. Мне показалось, в своем горе он бежит, прячется от человеческого сочувствия.
Он мог совершать поступки, которые от него никто не ждал, делать то, что никак уж не укладывалось в наше о нем представление.
Как-то сотруднику международного отдела велели срочно, за один вечер, написать в номер какой-то пропагандистский материал, который пойдет за подписью секретаря Союза писателей СССР Георгия Маркова. Возможно, вечер у журналиста был занят, а может быть, сочинять эту халтуру ему просто претило — он открыл какой-то старый выпуск «Блокнота агитатора», нашел статью на ту же тему и перекатал ее слово в слово. Кто читает такую макулатуру? Но случилась так, что некий военный пенсионер статью в «Блокноте агитатора», увы, прочел. И написал секретарю Союза писателей СССР, депутату Верховного Совета СССР и члену ЦК КПСС Георгию Мокеевичу Маркову: «Как вам не стыдно! Я вас уважал, а вы, оказывается, низкий плагиатчик».
Что тут началось! Чаковский орал так, что стены дрожали. Сотрудника редакции немедленно выгнали.
Прошло некоторое время, и к Чаковскому стали приходить товарищи этого журналиста. Да, конечно, поступку его нет оправдания, он ужасно подвел газету, но ведь, если разобраться, то и Марков, наверное, не должен был ставить подпись под материалом, который не он писал. К тому же журналист этот уже не молод, много лет проработал в редакции, никогда никаких нареканий не имел. Нельзя ли его простить?
Чаковский ничего не желал слышать. Кричал: «Что вы тут несете? Я со стыда готов был сгореть, встретившись с Марковым». Но как-то, накричавшись, сказал ходатаям: «Добренькие какие! Ведь не на вас, а на мне лежит ответственность за этого дурака». И журналиста — с выговором, с криками, с попреками — в конце концов восстановили на работе.
И еще. В ту пору, когда во всю свирепствовал в стране пресловутый «пятый пункт», в редакции «Литературной газеты» работало очень много евреев. Известно было, что на Старой площади нас так и называли — синагога. Многие «золотые перья» в редакции принадлежали людям с подпорченной анкетой.
Для чего это было нужно Чаковскому, вопросов не вызывало. Ему необходима была команда талантливых, ярких журналистов, а таланты, как известно, раздаются не по паспорту. Но какими соображениями руководствуясь, позволял себе это Чаковский, я не знаю. Заручился молчаливой поддержкой высокого начальства, также желающего иметь первоклассную газету? Нет, не верю. Кадровая политика ставилась тогда превыше всего. Полагал, что ему, еврею, не посмеют указать на преобладание в редакции евреев? Совсем уж неправдоподобно, такие наивные мысли даже в голову ему не могли прийти.
Не знаю.
«Что вы, никогда не пойдет!»
Не знаю, можно ли сказать, что у нас в редакции процветала демократия, что начальство держалось с нами на равных. Нет, конечно. Чаковский бывал и крут, и часто повышал голос (правда, объяснял, что он лечится от раздражительности). И Сырокомский мог вам устроить ледяной душ. Все так. Но при всем при том…
Редактором знаменитой шестнадцатой полосы, «Клуба 12 стульев», работал наш замечательный рыжебородый Виктор Веселовский. Однажды к нему пришел молодой автор, чтобы отметить свою первую публикацию. На столе — хорошо опустошенная бутылка коньяка, приложились как следует, и Виктор рассказывает молодому коллеге, как противен ему наш главный редактор, как по каждому поводу придирается он к людям, капризам его нет конца, отвратителен даже сам запах его сигары, провонял всю редакцию. В это время раздается звонок внутреннего телефона, и секретарь Чаковского Тамара Моисеевна говорит: «Виктор Васильевич, Александр Борисович просит вас получше положить трубку селектора». «Ну вот, — вздыхает Веселовский. — Трубка ему, видишь ли, не нравится. Лежит трубка! Всегда ему что-нибудь не так…» Минут пять идет такой разговор, и тут на пороге появляется Чаковский. Собеседники растерянно подымаются. «Что у вас происходит?» — кричит главный. Веселовский, трезвея, объясняет: «Работаем, Александр Борисович».
Чаковский несется к секретарю парторганизации Олегу Прудкову и срочно созывается партбюро. Веселовский здесь же, он не знает, куда девать глаза, а Чаковский рассказывает: «Сижу, читаю полосу, а из динамика на весь кабинет голос Веселовского… И так он меня, и этак, уж сколько раз он мою матушку склонял…» И начинает смеяться. И все начинают смеяться. И партбюро принимает решение: рекомендовать Веселовскому лучше класть трубку селектора. Все!
Думаю, дело здесь в том, что нас, работников редакции, всерьез Александр Борисович не очень и воспринимал. Да, часто говорил, что все мы — пайщики одного общего дела. Признавался, что друзей в жизни у него нет, есть только мы, редакция… И, говоря так, наверное, не слишком даже кривил душой. Однако реагировать на выпады какого-то Веселовского не считал нужным. Они ему были не опасны, смешны. Веселовский тоже ведь не был прикреплен к закрытому распределителю, где выдавалась тогда ответственность.
Или другой случай. Мне говорят: «Главный снял из номера вашу статью». — «Почему?» — «Не объясняет. Зол ужасно». Захожу к нему. Чаковский, не дав сказать ни слова, начинает кричать: «Если по поводу статьи, разговора не будет». Ну, не будет, значит, не будет, собираюсь уйти. «Я прочел одну гранку, — кричит он, — черт знает что!» «А как вы можете судить, — спрашиваю, — если прочли одну гранку? Там восемь». «Резонно, — отвечает, — пусть мне дадут набор». Я иду к себе. Через пятнадцать минут вызывает: «Хорошая статья». — «Что же вы?» — «А кто же так начинает материал? Читатель дальше и читать не станет, отбросит газету. Надо вот с этого…» И, кстати, он был прав.
В отделе Веселовского работал талантливейший Илья Суслов, ныне гражданин Соединенных Штатов Америки. На столе у него лежали три папки с материалами. На первой было написано: «Пойдет», на второй — «Не пойдет», на третьей — «Что вы, никогда не пойдет!»
Перед тем как поместить материал в ту или иную папку, Илья заходил к заместителю главного редактора Артуру Сергеевичу Тертеряну, курировавшему отдел юмора. Мы старались не пропустить этот момент и под разными предлогами тоже собирались в кабинете у Тера, знали, будет спектакль.
«Тер, — говорил Суслов, — у меня есть отличный материал. Но показывать его вам я не стану. Вы ведь все равно зарубите». «Конечно, — отвечал Артур Сергеевич, — зарублю. Всем известно, что я маленький трусливый армянин. И все-таки, что за антисоветчину вы притащили в зубах?» — «Не делайте вид, что вам любопытно, Тер, — говорил Суслов. — Ни за что ведь не поверю». — «А мне и не любопытно, правильно, — отвечал Артур Сергеевич. — Это вам, Илюша, любопытно, под каким предлогом я зарежу ваш поклеп на нашу прекрасную действительность».
Разговор такой мог продолжаться очень долго. И оба собеседника, и мы, зрители, получали от него огромное удовольствие. Бывало, что после этого «поклеп на нашу прекрасную действительность» все-таки ложился в папку: «Пойдет». Но случалось, что и пополнял грустную папку с надписью: «Что вы, никогда не пойдет!»
Команда
«Литературная газета» отличалась от других печатных изданий того времени не только тем, что ей разрешалось быть нестандартной, иметь собственное лицо. Люди в редакции работали тоже далеко нестандартные. Действовала единая, крепко спаянная команда, но команда людей чрезвычайно разных.
Заместителем ответственного секретаря был Владимир Константинович Кокашинский, превосходный журналист, неиссякаемый выдумщик и наш постоянный мучитель, потому что его никогда не устраивала кем-то с ходу предложенная идея, даже если всем другим она казалась удивительной и прекрасной. Он долго молчал и задумчиво, даже печально глядел на нас. Мы раздражались, говорили, что «Кока» сам не знает, чего он хочет, ну что, что ему опять не нравится? Он не отвечал нам, не спорил, продолжал печально на нас глядеть. У него были красивые, очень выразительные серые глаза. Мы сердились, волновались, доказывали, что в любой идее, в любом материале можно найти порок, что лучшее враг хорошего, что мы так вообще никогда не выпустим газету. А он по-прежнему молчал, только взгляд его становился все более далеким и печальным. И вдруг он что-то говорил. Поначалу его мысль казалась нам странной, абсурдной, даже нелепой, он предлагал, скажем, выбросить половину статьи, а вторую половину превратить в диалог автора со своим героем. Или — не описывать подробно само происшествие, дать о нем в двух словах, но зато рассказать, что было до него и как развивались события после… Но постепенно мы начинали понимать, что именно такой ход, такой поворот, такой аспект и сделает обычный материал — необычным, «литгазетовским». Слово это служило высшим мерилом похвалы, все материалы делились не на хорошие и плохие, а на «литгазетовские» и «нелитгазетовские».
Сам Кокашинский писал немного, но я не помню ни одной его проходной, нейтральной статьи. Каждая из них поднимала какой-то пласт жизни, затрагивала какую-то острую, болезненную проблему. Особенно интересовала его экономика. На всю стану прогремел его очерк «Эксперимент в Акчи» — об экспериментальном хозяйстве Худенко. Он был директором совхоза, ввел бригадный подряд, ликвидировал уравниловку и заработки впрямую связал с результатами труда. В итоге они существенно повысились, и совхоз процветал. Такое начинание подрывало существовавшую везде систему, простить ему этого, разумеется, не могли, и против него было заведено уголовное дело. Кокашинский написал на материале эксперимента в Акчи кандидатскую диссертацию и даже успел защитить ее в Плехановском институте. Однако рецензент ВАК’а (некто Мрачковская) прислала разгромный отзыв, обвинив автора в ревизионизме и множестве других самых тяжких грехов. Диссертация была похоронена. Худенко тем временем посадили в тюрьму, а Кокашинского неделями таскали на допросы в прокуратуру, грозя тоже привлечь в качестве обвиняемого. Худенко в тюрьме погиб, а Кокашинского редакции, к счастью, удалось отбить. Однако история эта не прошла для него даром, через некоторое время он тяжело заболел и умер. Так тоже заканчивалась порой честная и вроде бы не выходящая за рамки дозволенного, подцензурная работа журналиста.
Рано ушел из жизни и Евгений Михайлович Богат, наш праведник, философ, книгочей, знаток литературы и искусства, обладатель прекрасной эйнштейновской шевелюры. Он любил писать о чудаках, о человеческом бескорыстии, о духовности, о нравственных исканиях. Мы, люди практичные, приземленные, иной раз заводили с ним шутливый, ироничный разговор о его «заоблачных высотах». Евгений Михайлович живо откликался, с удовольствием включался в разговор, отвечал нам весело и остроумно. Ему нравилось философствовать, и наша ирония по поводу его философствования ему тоже нравилась.
У Богата был свой читатель — верный, преданный, влюбленный в его статьи и очерки и, что самое ценное, находивший в них необходимую опору в жизни. Люди писали в редакцию о том, как статьи Богата в трудную минуту помогли им не оступиться, удержаться, сделать единственно правильный выбор. И это было правдой.
Однако при всем том, когда дело касалось сугубо земных, житейских перипетий и людям нужен был уже не столько добрый совет, сколько вполне реальная, конкретная помощь, витающий в облаках Богат неожиданно оказывался весьма практичным реалистом. Его вмешательство чаще всего приводило к благополучному исходу. Да и вообще, не прекраснодушие, а скорее жесткая трезвость была присуща этому, как мы шутили, «певцу нравственных исканий». Недаром так запомнились его очерки «Уроки» и «Уроки уроков» о детской жестокости, о страшном избиении девочки-школьницы ее подругами.
Юрий Павлович Тимофеев писал совсем мало, имя его широкий читатель почти не знал. Но в том, что появлялись те известные «литгазетовские» статьи, может быть, особая заслуга была именно его, заведующего отделом коммунистического воспитания (так назывался тогда отдел) Юрия Павловича Тимофеева. Он обладал редчайшим, почти уникальным талантом — талантом доброжелательства. Я не знаю человека, который умел бы столько делать для успеха других и так бы радовался чужим успехам. Когда в газете выходила очередная громкая статья Евгения Богата, Ольги Чайковской, Аркадия Ваксберга, наш Юрий Павлович весь светился от радости, это был его звездный час. Маленький, подвижный, с длинными развевающимися волосами, он носился по кабинетам и всем рассказывал, какой идет резонанс, сколько звонков, как радуются друзья газеты и как злятся ее враги.
У него были свои пристрастия: старинные книги, дома на стенах была вывешена коллекция старинного холодного оружия. Он любил женщин, и женщины тоже искренне и преданно его любили. И удивительное дело, все его подруги, бывшие и настоящие, если и не дружили между собой, то находились в ровных, вполне приязненных отношениях. Однажды я спросил его подругу, мою приятельницу, чем Юрий Павлович так покоряет женщин, что в нем особенного. Она усмехнулась: «Вот ты, ты скажи мне, что я — океан, пучина, что ты во мне тонешь». Я удивился: «Но ты же засмеешься». — «Правильно, — сказала она. — Если ты скажешь, я засмеюсь. А когда он говорит, я ему верю».
Хотя имя его на газетных страницах почти не появлялось, слава о том, что Тимофеев охотно и успешно помогает людям, попавшим в беду, распространилась далеко за стенами редакции. Помню, придя как-то на работу, я застал здесь… целый цыганский табор. Оказывается, где-то на юге арестовали кого-то из цыган (кажется, по подозрению в конокрадстве), и там, за тысячи километров от Москвы, родственникам арестованного сердобольные люди сообщили, что в Москве, в «Литгазете», есть такой Тимофеев, он — единственный, кто может помочь их горю.
И еще одна особенность отличала этого худощавого, хрупкого, отнюдь не богатырского сложения человека: все удары, которые время от времени сыпались на каждого из нас, он с готовностью принимал на себя, объявлял себя и только себя ответственным за то или иное вызвавшее начальственный гнев выступление. Одна из судебных публикаций особенно задела начальство, последовал грозный окрик, и Юрию Павловичу пришлось уйти. Но через несколько лет его опять призвали. Он вернулся, все так же носился по кабинетам, радовался чужим успехам, чужим победам, пока однажды вдруг не исчез. Два дня его не было видно, домашний телефон не отвечал. Взломали дверь и нашли его мертвым: тяжелый инфаркт.
Внук Достоевского
Время от времени в редакции возникал разговор о том, что газета не может все время писать только о плохом, мазать все и вся черной краской, нам крайне необходимы положительные материалы. Об этом не уставали говорить на каждой планерке и летучке, Чаковский даже изобрел такой термин: «Нам нужен острый позитив». Что это такое и с чем его едят никто, конечно, не понимал, да и каким вообще должен быть положительный материал, способный заинтересовать «литгазетовского» читателя, тоже было не совсем ясно. Мы знали только, что благостные, лакировочные статьи, наводнявшие тогда всю советскую прессу, «Литературной газете» совершенно противопоказаны.
Выход нам виделся один: находить по-настоящему интересных людей и рассказывать о них на страницах газеты. Конечно, и их судьбы часто складывались не слишком благополучно, и здесь темного нередко бывало больше, чем светлого, но сама яркая личность такого человека при большом желании уже могла потянуть на позитив. А кроме того, общение с таким человеком нас всегда привлекало.
С Андреем Федоровичем Достоевским, внуком Федора Михайловича Достоевского, я познакомился, прочтя в одном из ленинградских журналов короткое сообщение о том, что внук великого писателя недавно изобрел какое-то весьма хитроумное приспособление, перерабатывающее прямо на лесосеке щепу и сучья в сырье для бумажных фабрик.
Приехав в очередной раз в Ленинград, я созвонился с ним и попросил о встрече.
В назначенное время ко мне в номер «Октябрьской» гостиницы вошел человек, чем-то похожий на доброго пожилого фельдфебеля со старинной гравюры: длиннолицый, светлоглазый, рыжие усы и худая шея с кадыком. И сразу же предложил вместо того, чтобы сидеть в душной комнате, отправиться в Лавру, к могиле его деда.
Здесь, на кладбищенских аллеях, он и рассказал о себе.
Через некоторое время в «Литературной газете» появился мой очерк «Внук Достоевского».
Я писал в нем, что сорок лет назад Андрей Достоевский не мечтал ни о машинах, ни о лесосеках. Бегал на Ростовские литературные вечера и сочувственно слушал стишки:
Мне дорог снежок талый, Я не люблю металлы…Но однажды он узнал, что в Херсонесе сняли с церквей все серебряные колокола и выменяли их в Италии на десять автобусов «Фиат». Тогда-то, наверное, впервые и возникла у него мысль, что без собственных инженеров никогда не будет в России и собственных автобусов.
Через несколько лет посетитель литературных вечеров послал заявление в Ленинградский политехнический институт. Заявление затерялось, его нашли, когда набор уже кончился. Однако он знал, что так говорят всем поступающим, которые не подходят институту по социальным соображениям.
Достоевский поехал в Москву, добился встречи с наркомом Орджоникидзе и прямо спросил его, подходит ли советской власти по социальным соображениям внук писателя Достоевского. И Орджоникидзе дал ему записку в институт: «Принять при любом укомплектовании».
Чем бы Андрей Федорович ни занимался, где бы ни жил, меньше всего он был приспособлен к спокойной, размеренной жизни. Без очередных фантазий и головокружений он тут же начинал засыхать, чахнуть. В 1937 году окончил с отличием институт, и прямо со студенческой скамьи, тепленьким, его взял Ленинградский леспромтрест. Прелесть работа, живешь в Ленинграде, а в подчинении сорок леспромхозов. Здесь и охота, и воздух, и добрый крестьянский стол. Но Достоевский завербовался на Дальний Восток. Он объяснил мне: «В Ленинграде худосочные дети и худосочная древесина, а там кедры выше Исаакия, но никакого порядка в лесном деле. Представляете, деревянные лопаточки для мороженого самолетом возили тогда из Одессы в Хабаровск. Тайга, кедрачи в три обхвата, а лущить щепу некому, нет производства».
Его экспедиция шла от Ситы на Дурмин. Намечали будущие трассы лесовывозки. Самолетов не дали, одежда некачественная. Денег для расчета с рабочими центр тоже не слал. Дошли до Дурмина, а рассчитываться нечем. Народ, пока не встал Дурмин, начал расходиться, а им, трем начальникам секторов, не расплатившись с людьми, не уйти. Начальство отзывает, а они сидят, иначе скажут: обманщики. Люди, не дождавшись денег, разошлись, а они, трое, так и остались на Дурмине. Просидели тут ползимы. Веселили себя байками о том, как им на могилы поставят по добротному кедровому кресту, кедр, наверное, и архиереям не ставят, не то что безбожникам. Голыми рукам ровняли на реке лед: единственный шанс выбраться, если прилетит за ними какой-нибудь шалый самолет. Через два с лишним месяца действительно прилетел Р-5. Но он двухместный, а их трое, да еще летчик. Наутро они все-таки взлетели. Достоевского, самого тощего, запихали в фюзеляж, и он не видел, как пошла метель и дребезжавший Р-5 чуть было не врезался в сопку.
Перед войной Достоевский получил звание мастера по мотоспорту. Двадцать второго июня 1941 года он должен был судить гонки Пушкин — Павловск, утром вышел из дому с судейскими флажками. У Литейного — толпа под громкоговорителем. Он соскочил с трамвая, послушал и так, с флажками, пошел в военкомат. В Петергофе обучал новобранцев ездить на мотоцикле. Гоняли вокруг бронзового Самсона, и по мирной привычке им свистели сторожа в фуражках с околышками.
Осенью Достоевского ранило в ногу. Он бегал на костыле, но в санбат не шел. Смеялся: других ночью останавливают часовые, а его, хромого, узнают и так.
Через два месяца его все-таки отправили к врачам. Там решили: надо отрезать ногу, начинается гангрена. А он не дал. Санбатом командовал военврач по фамилии Рубитель. Достоевский сказал ему: «Не уподобляйтесь своей фамилии». Тот обиделся и ногу вылечил.
Из санбата Достоевский сбежал. Выкрал свое обмундирование и сбежал. Стал ходить в ночные разведки. А сержант Гусаров, был у них такой, смеялся: «Удрал, слабак, от санбатовских баб».
Однажды Достоевский ударил Гусарова. Он притащил немецкую листовку, а в ней сказано, что еще писатель Достоевский засвидетельствовал психическую неполноценность русского народа. Андрей Федорович рассердился: «Глупость и подлость». А Гусаров: «Твой дед оклеветал Россию». Достоевский дал ему пощечину. И написал письмо в Москву: «Самое для меня ценное — личные вещи Федора Михайловича, сданные на хранение в Литературный музей, — с гордостью отдаю в дар сражающейся Родине».
Войну Достоевский окончил инженер-майором танковых войск. После войны преподавал в Ленинградском машиностроительном техникуме детали машин и сопротивление материалов. Как-то он выгнал из аудитории студентку Тамару. Она принесла на занятия заводную лягушку. Лягушка прыгала по столу и нежно квакала.
В тот семестр Андрей Федорович поставил Тамаре за сопромат четверку, а за детали машин — тройку. Считал, что она была твердой троечницей, но не по способностям — им позавидуешь, — а из-за лени.
Он надеялся, что к зимней сессии Тамара исправит балл, но зимой Андрей Федорович уже не принимал зачеты, в ноябре с ним случился удар.
Утром он почувствовал себя худо. Но на занятия притащился: студентам он задал вычислить степень тщеславия Монферрана, архитектора, который воздвиг в Петербурге Александровскую колонну. Студенты облазили ее с рулеткой, подсчитали — и оказалось, что тщеславный Монферран дал запас прочности в пять раз больше, чем требовалось. Славу себе заготавливал на века.
Они смеялись над тщеславным Монферраном, и вдруг Андрей Федорович почувствовал, как отнимаются его рука и нога. Встать он уже не смог, студенты вынесли его из аудитории. Его отвезли в Мечниковскую больницу. Врач в приемном покое, поглядев в окно, спросил: «Что за митинг тут во дворе?» Достоевский объяснил: «Мои бандиты».
Они ходили к нему изо дня в день, каждому полагалось по три минуты: халат давали один, а внизу ожидало двадцать человек. Тамара принесла свой собственный халат и сидела в палате с утра до вечера.
Через год вопрос о Тамаре встал всерьез. Тамара сказала, что если Андрей Федорович ее любит, то она переедет к нему жить. Ему, больному и не скопившему лишнего рубля, было сорок семь, а ей двадцать два. Другой бы этого испугался, а он сказал себе, что такая лодырка и филонка только с ним и будет счастлива. Тамара не заходила к своим родителям полгода, он не видел их семь лет, а через семь лет принял тестя с коньяком и любезностями, и все, кажется, остались довольны друг другом.
Но брак свой они так и не зарегистрировали, ни ему, ни ей штамп в паспорте не казался существенным.
Он продолжал преподавать в техникуме, но здоровье совсем избарахлилось. Обнаружилась обширная язва, он с грелкой приходил на занятия. Вырезали желудок. Через год — воспаление мозга. Пока поставили диагноз, три недели пролежал в сыпнотифозном бараке. В пятьдесят шестом, на юбилее деда, сидел в Колонном зале, а за спиной — два врача с чемоданчиками: накануне грохнулся в обморок.
Ему предложили уйти на покой. Учли Дальний Восток, Ленинградский фронт, пятьдесят две ночи в разведке. Назначили персональную пенсию союзного значения. А он сказал Тамаре: «Съезжу в Новгородский леспромхоз, хочу поколдовать над лесорубкой».
Достоевский поехал в Новгород в декабре. Морозы — минус двадцать пять. К концу года «Гипролестранс» съел все командировочные, Достоевский отправился за свой счет. Жил в доме для приезжих. Название громкое, а весь дом — комната да сени. До десяти вечера дают свет, а в клубные дни даже до двенадцати, сиди, рисуй будущую лесорубку. С ее помощью прямо на делянке станут молоть сучья и тонкомер. Мелкую щепу погрузят в мешки и отвезут на бумажные фабрики. Добрых пятнадцать процентов леса загнивает на делянках. Привыкли говорить: лес рубят — щепки летят, а ведь это притча о нашей бесхозяйственности.
Машина пошла. На испытание заехал корреспондент «Ленинградской правды», спросил, как называется новинка. Ему объяснили: тракторная рубительная барабанного типа — ТРМБ-5. Назавтра появилась корреспонденция: «„Трембита“ на лесосеке». Газету Достоевскому принесли уже в больницу, на испытании ему опять стало худо.
Тамара сказала, что его конструкторов в палату больше не пустит. Ей надоели эти оперетты на лесосеках. Хватит.
А через месяц после больницы он вдруг позвонил ей на работу: «Деточка, я с вокзала. В Новгород — и обратно, даю слово…»
Тамара оформила на работе отпуск и взяла билеты в Крым. Достоевский будет целыми днями лежать в шезлонге и дышать морским воздухом. Он соглашался: да, да, конечно. А в самолете показал ей письмо из Крымской «Сельхозтехники»: «Нам нужны десятки высокопроизводительных передвижных машин для измельчения сердечников кукурузных початков…»
С аэродрома он поехал прямо в «Сельхозтехнику»…
Я запомнил письменный стол Андрея Федоровича в его однокомнатной квартире на Васильевском острове — огромный, во всю комнату, не меньше бильярдного.
Над столом висит рафаэлевская мадонна, такая же висела над столом его деда. Вся комната в фотографиях деда, по-музейному окантованных и приспущенных на шнурке.
На столе — кипа автомобильных журналов, наших и заграничных. На щегольской мелованной бумаге смазанные сигарообразные силуэты машин, красотки в шортах, спортивные таблицы, тщательно проштудированные, разукрашенные красным и синим карандашом.
Ворох книг по литературоведению — русских, английских, французских. Книги, пахнущие бумажной прелью и кислым запахом нового дерматина. Дарственные надписи — почтительные, остроумные, фамильярные… В конвертах с сиреневыми марками — книги, полученные из Лондона, Берлина, Парижа, от Арагона и Триоле. Книги — все сплошь принятые или отвергнутые, и о том, почему они отвергнуты, Андрей Федорович спешит сообщить каждому, с кем заходит речь о литературоведении.
Охотничий бюллетень, картонка с образцами ружейных гильз, наставления по собаководству, даже три издания этого самого наставления, все три исчирканные карандашом. И бухгалтерия достижений собственного пожилого спаниеля Женевы, в быту — Женьки, четыреста штук птицы на три ружья, одних тетеревов — девяносто шесть штук.
Магнитофон с неоконченной музыкально-литературной композицией, не столько развлечение, сколько звуковой спор с теткой о прабабке Марии Федоровне, матери деда. Тетка, Любовь Федоровна, упомянула о Марии Федоровне как о женщине заурядной. А он попросил свою бывшую ученицу Розу Цалпанову, чей голос почему-то представляется ему похожим на нежный голос прабабки, прочесть перед микрофоном письма Марии Федоровны к мужу. «Вы послушайте, какая долгая и прекрасная русская фраза, какая музыка: „Кабы знал ты, ненаглядный, мою кручину…“ Не ее ли дар к слову у Федора Михайловича?»
После публикации очерка наши отношения не оборвались. Время от времени мы продолжали перезваниваться. Приезжая в Москву, он бывал у меня. Рассказывал, что ему предстоит выполнить еще одно, может быть, самое важное дело, и пока его не выполнит, не имеет права умереть: он должен найти в Крыму могилу бабушки Анны Григорьевны и прах ее перевезти в Лавру к деду. Анна Григорьевна попала в Крым во время Гражданской войны, там скончалась, и могила ее где-то затерялась.
Могилу он действительно нашел, и прах вдовы Федора Михайловича доставили в Ленинград и захоронили в Лавре.
А потом я узнал, что Андрей Федорович умер. Позвонила мне Тамара, сообщила, что она в Москве и очень хочет меня видеть. Закончила она разговор как-то странно: «Может быть, вы мне объясните то, что я никогда не смогу понять».
Я подумал, что речь идет о каком-то очередном изобретательском порыве Андрея Федоровича, стоившем ему здоровья и ускорившем его кончину. Однако рассказала мне Тамара совсем о другом.
В последний раз он пролежал в больнице недолго, но чуть ли не накануне смерти там же в палате неожиданно зарегистрировал брак с медицинской сестрой, с которой прежде не был знаком. Тамару это потрясло. За много лет они так и не собрались оформить свои отношения, она никогда этому не придавала значения, могла ли она думать, что ее ждет?
Я не знал, что ей ответить. Может быть, ей не все известно, может быть, у него и раньше были какие-то отношения с этой женщиной? Нет никаких. Она бы знала. Объяснение она находила только одно: или он уже не осознавал свои поступки, или его чем-то опоили, воспользовались его беспомощным состоянием. Разве можно это так оставить?
Я прекрасно понимал ее, очень ей сочувствовал, но не представлял, что мы в силах сейчас сделать. Вряд ли у нас есть право вести какое-то расследование, что-то выяснять, кого-то расспрашивать, выставлять напоказ последние дни его жизни, трепать имя Андрея Федоровича и давать пищу сплетникам. Да и что это даст, когда его уже ни о чем не спросишь, он в могиле?
Больше Тамара мне не звонила.
Еще один человек, перед которым я чувствовал себя виноватым.
Первая жена Бухарина
Весной 1988 года я работал в писательском доме творчества в Малеевке. Как-то меня позвали к телефону. Звонили из редакции. «Вас разыскивает председатель Верховного Суда СССР Теребилов. Он сейчас в санатории в Барвихе, вот его телефон».
Я позвонил, и Владимир Иванович сказал, что готов выступить в газете. Есть разговор, который он бы не стал откладывать. Спросил: «Вам не хочется посмотреть, как живет начальство? Может, навестите меня в Барвихе?» Шутя, я поинтересовался: «А как живут писатели, вам не интересно? Не хотите приехать в Малеевку?» Неожиданно он согласился. Назавтра его лимузин, с трудом помещаясь на малеевских дорожках, подъехал к моему корпусу.
Проблема, которая его волновала, касалась судебной реформы. Разговоров о ней идет много, а практически мало что делается. Следствие по-прежнему играет доминирующую роль, диктует судам свою волю. «Надо перевернуть „пирамиду“, поставить ее в естественное положение», — сказал он.
Мы договорились, что я подготовлю для газеты беседу с ним.
Уже прощаясь, Владимир Иванович сказал, что в Верховном Суде находится одно реабилитационное дело, оно должно меня заинтересовать. Однако материалы эти секретные, открыто их дать мне он не может. «Приезжайте в Москву, что-нибудь придумаем».
Оказалось, речь шла о первой жене Бухарина Надежде Михайловне Лукиной-Бухариной. Она была его двоюродной сестрой.
Знакомство с этим делом происходило так. Меня заперли в одной из комнат Верховного Суда, если мне что-нибудь понадобится, я могу позвонить по телефону помощнику Теребилова. Бутерброды и чай мне принесут. Два тома я должен успеть прочесть и наговорить на диктофон до шести часов вечера. Ровно в шесть дело у меня заберут.
Причину такой секретности во времена, когда страшный произвол тридцатых годов ни для кого уже не оставался тайной, объяснить можно было только одним: дела эти хранили имена палачей и их пособников, назвать которые многим работникам спецорганов все еще было не с руки.
Дело Лукиной-Бухариной очень страшное.
Когда началось наступление на Бухарина, Надежда Михайловна написала Сталину три письма: в то, что Бухарин принадлежит к террористической организации, она не верит, это ложь. Когда Бухарина арестовали, она пишет в партийную организацию Государственного издательства Советская Энциклопедия, где состояла на партийном учете: «Я не могу скрыть от партийной организации, что мне исключительно трудно убедить себя в том, что Николай Иванович Бухарин принадлежал к раскрытой преступной бандитской террористической организации правых или знал о ее существовании…»
В ночь на 1 мая 1938 года ее арестовали.
Во время допроса у больной, полупарализованной женщины разбили гипсовый медицинский корсет, без которого она не могла передвигаться. Двое конвоиров втащили ее в камеру и бросили на пол. Она объявила голодовку. Ее стали кормить насильно. Приходили два раза в день, скручивали руки, вставляли в ноздри шланги и кормили.
Написанное в письмах Сталину она продолжала утверждать на всех последующих допросах. Свою вину и вину своих близких она не признала до самого конца.
Расстреляли Надежду Михайловну 9 марта 1940 года. Я не знаю, как ее, тяжелобольную, выводили на расстрел. Волокли, выносили на руках? Молчала она или успела что-то сказать? Было это ранним утром или глубокой ночью? Где было? Кто распоряжался? В деле есть справка: «Приговор о расстреле Лукиной-Бухариной Н. М. приведен в исполнение в городе Москве 9 марта 1940 года. Акт о приведении приговора в исполнение хранится в архиве Первого спецотдела НКВД СССР, том 19, лист 315…»
Но в отличие от тысяч и тысяч сфальсифицированных в ту пору дел в этом имелась еще одна иезуитская, дьявольская деталь.
Когда следствие по делу Надежды Михайловны было закончено, и дело уже передали в Военную Коллегию Верховного Суда, произошла неожиданная осечка. Суд вдруг возвратил материалы в НКВД «для перепредъявления обвинения».
Что же произошло?
Надежда Михайловна подлежала суду по закону от 1 декабря 1934 года «О расследовании и рассмотрении дел о террористических организациях и террористических актах против работников Советской власти». Дела эти слушались без участия сторон, кассационное обжалование и ходатайство о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. Навешанная на Н. М. Лукину-Бухарину статья 58–11 УК РСФСР (участие в контрреволюционной организации) формально позволяла расправиться с обвиняемой упрощенными методами. Однако существовало еще специальное разъяснение, по которому статья 58–11 УК применяться должна была не самостоятельно, «а только в связи с тем преступлением, осуществление которого входило в преступный замысел контрреволюционной организации». Скажем, если замышлялся какой-нибудь террористический акт (ст. 58–8 УК).
Но не слишком поднаторевший следователь из виду это упустил, статью 58–8 УК в обвинении не указал. Вышла промашка. Следователь, разумеется, ее тут же исправил, статью 58–8, как положено, в обвинительное заключение послушно вписал.
Ничто не мешало тогда убить невиновного, убить миллионы невиновных. Но юридический ритуал при этом требовалось соблюсти. Абсурд состоял не только в том, что людям приписывались фантастические, немыслимые преступления, которых они не совершали, но и в том, что их, невиновных, мучили, убивали, уничтожали строго по закону. По тогдашнему закону.
Поэт Борис Слуцкий писал:
Удивительней всего законы были. Уголовный кодекс брали в руки осторожно, потому что при нажиме брызгал кровью.…Как и было условлено, ровно в шесть вечера, наговорив на магнитофон все материалы, я сдал обе папки с документами помощнику Теребилова. Однако долго потом колебался прежде, чем сесть за статью.
Останавливало меня одно обстоятельство. Среди документов в деле были и протоколы допросов младшего брата Надежды Михайловны, любимого ее брата, Михаила Михайловича Лукина. Следователь выбил из него показания против сестры, заставив сказать, что о готовящемся Бухариным покушении на Ленина Лукин узнал от Надежды Михайловны. С ней он вел разговор об этом покушении, а впоследствии ей же сообщил, что, будучи военным врачом, он, М. М. Лукин, «ведет подрывную работу по санитарной службе РККА, направленную по срыву ее готовности на военное время». Указания об этой «подрывной, изменнической работе» он якобы неоднократно получал от самого Бухарина.
В ночь с 14 на 15 сентября 1939 года следователь устроил им очную ставку. Наверное, это была одна из самых страшных ночей в жизни Надежды Михайловны.
Привели М. М. Лукина. Его спросили: «Вы подтверждаете свои показания?»
Он ответил: «Да, подтверждаю».
Следователь: «Изложите, что вам рассказывала сестра Надежда?»
М. М. Лукин: «Мне сестра Надежда сообщила, что Бухарин заявил ей: „Лучше 10 раз Зиновьев, чем 1 раз Сталин“. Эту фразу, которую ей сказал Бухарин, моя сестра Надежда, опасалась высказать вслух, боясь, что нас могут подслушать, и написала мне на клочке бумаги… В семейном кругу моя сестра Надежда непозволительно высказывалась в отношении Молотова, называя его прозвищем, которое выдумал Бухарин».
Следователь обратился к Лукиной: «Вы подтверждаете показания своего брата Лукина Михаила Михайловича?»
«Нет, не подтверждаю», — ответила она.
«Какие вопросы вы имеете к своему брату Михаилу?» — спросил он.
«У меня к Лукину Михаилу вопросов нет», — ответила она.
Очная ставка закончилась в 3 часа 30 минут. Больше они никогда уже не виделись.
В. Г. Славутская, сидевшая в одной камере с Н. М. Лукиной, впоследствии мне рассказывала: «Как брат мог давать показания на сестру? Я вам скажу. В камере со мной сидела немка, раньше я работала с ней в Коминтерне. Почти каждую ночь ее вызывали на допрос. Как-то утром возвратилась она в камеру, подсела ко мне, назвала фамилию одного нашего коминтерновского работника и говорит: „Знаешь, я бы задушила его собственными руками. Мне прочли его показания, ты не представляешь, что он наговорил!“ Но проходит еще некоторое время, приводят ее снова после ночного допроса, и я вижу, на ней лица нет. „Как я могла! — говорит она. — Как я могла! Сегодня у меня была с ним очная ставка, и я увидела не человека, а живое сырое мясо…“ Я вам скажу, — сказала В. Г. Славутская, — тогда любой брат мог дать на свою любимую сестру самые чудовищные показания…»
И все-таки о деле Н. М. Лукиной-Бухариной я решил написать.
Начиналась статья так: «Приступая к рассказу о Надежде Михайловне Лукиной-Бухариной, я должен был прежде всего решить очень трудный, самый мучительный для меня вопрос: могу ли я сегодня, через полвека, обнародовать показания людей, которые давали они на следствии против Надежды Михайловны? Зная, через какие неимоверные страдания проходили эти люди, прежде чем следователь НКВД добивался нужных ему показаний, вправе ли я сегодня повторять их вслух, называя имена тех людей, рискуя причинить боль их родным и близким, дожившим до наших дней? Или пусть уж вынужденные те признания останутся навсегда похороненными в аккуратных желтого картона папках с грифом „совершенно секретно“ и „хранить вечно“? Мы, не прошедшие через тот ад, не испытавшие того, что испытали они, им не судьи. Не можем быть им судьями. Но если мы не раскроем и не прочтем те жуткие секретные папки, если не услышим те фантасмагорические признания, от которых и сегодня бросает в дрожь, то разве поймем мы до конца, как работала тогда та машина, называвшаяся нашей юстицией, целью которой было уничтожить человека в человеке и уничтожить самого человека?
Долгие годы, целые десятилетия нас принуждали к неведению. Так вправе ли мы сегодня обрекать на него себя сами, боясь, что узнанное отзовется в наших сердцах слишком острой, непосильной для нас болью? Средств обезболивания, облегчающих изучение нашей отечественной истории, не существует и существовать не может.
Я спрашиваю себя: остановиться? отложить перо? закрыть папку с делом? Принести цветы к подножию мемориала жертвам сталинских репрессий, знать, что они жертвы, и ничего больше о них не знать? Мертвые сраму не имут. Замученные — не имут тем паче. Вечная им память!
Нет, знать надо все. Всю степень их унижения. Все попытки их сохранить свое человеческое лицо. И все крушения этих попыток. Вечная им память — это вечный наш ужас перед тем, что с ними, живыми, сделали, и вечная наша тревога, чтобы такое никогда не повторилось».
Статья о Н. М. Лукиной-Бухариной была напечатана в «Литературной газете», а через месяц Эйдельман привез мне из Германии письмо от жены правозащитника Льва Копелева Раи Орловой. Отвечая на мои мучительные сомнения, она писала, что рассказывать надо все, все без утайки, без ретуши, без купюр, что молчание слишком дорого нам стоило в прошлые времена и, не дай Бог, еще дорого может стоить.
«Высылаю за вами самолет…»
Отношение самых разных людей к «Литературной газете», ее влиятельность, да и вообще господствующие тогда в стране порядки, характеризует, мне кажется, такой эпизод.
Вместе с группой писателей, отдыхавших в доме творчества в Пицунде, мы с женой возвращались в Москву. В аэропорту в Адлере уже сдали багаж, должна была начаться посадка в самолет, как вдруг по радио объявили, что отправляется не наш рейс, а следующий. А как же наш? «Самолетов из Москвы сегодня больше не будет, так что вам придется провести ночь в аэропорту».
Это было не только крайне неприятно, это еще и грубо нарушало все существующие правила. По правилам, если рейсы по каким-то причинам задерживаются, то при возобновлении полетов отправляться они должны в строгом соответствии с расписанием. То есть сперва вылетает самолет, не вылетевший, скажем, в десять утра, потом самолет, чей вылет планировался на час дня, и так далее. А тут получалось, что часовой рейс ушел раньше десятичасового. Почему?
Ответа на этот вопрос никто не давал. В справочном бюро явно уходили от разговора, начальник аэропорта, к которому мы обратились, тоже темнил. Проговорилась под большим секретом одна милая девушка, сотрудница аэропорта. Оказалось, что следующим за нашим рейсом летит группа польских туристов. А как же можно задерживать иностранцев, хоть и поляков? Преклонение перед иностранцами у нас в крови.
У меня с собой был номер прямого телефона заместителя министра гражданской авиации, несколько раз я общался с ним, готовя материалы для газеты.
В аэропорту имелся междугородний телефон-автомат. Оставалось разменять рубль на пятнадцатикопеечные монеты. Походив по киоскам и добыв с трудом несколько «пятнашек», я набрал московский номер заместителя министра. Он, к счастью, оказался на месте, и я ему рассказал, что происходит в Адлере. «Не вешайте трубку», — велел он. «Но у меня мало монет, — объяснил я, — а разменять тут сложно». Я услышал, как он кого-то вызывает по селектору, что-то ему говорит, и потом мне: «Ждите. Через сорок минут за вами вылетит самолет из Москвы». Я не успел ни о чем его спросить, не успел даже поблагодарить — монеты кончились.
На площади у аэровокзала сидели на скамейке мои спутники. Вид у них был весьма удрученный, перспектива провести здесь ночь никого не радовала. «Не знаю, — сказал я, — но, может быть, мы еще и улетим». И пересказал им мой разговор с замминистра.
Прореагировали они вяло: да сказки это, глупости, самолет за нами пришлет, как же, держи карман!
Но минут через пятнадцать из громкоговорителя на всю площадь разнеслось: «Пассажиры такого-то рейса, за вами вылетает из Москвы самолет. По прилете его будет объявлена посадка».
Конечно, если вдуматься, это тоже не вписывалось ни в какие правила. По звонку корреспондента летит из Москвы в Адлер порожний самолет, тратятся огромные средства, расходуется топливо. Но какое же магическое действие оказывало имя «Литературной газеты», если звонок ее корреспондента мог заставить замминистра вне всякого распорядка и вне всякого расписания срочно выслать в Адлер резервный самолет.
Однако, при всем том, прочно мы себя совершенно не чувствовали, в любой момент могли ожидать кирпича на свою голову — особенно наше редакционное начальство.
День рождения Громыко
О том, почему Виталия Александровича Сырокомского сняли с работы, ходило тогда много легенд, слухов, разговоров, подчас весьма фантастических. Говорили, что Сырокомский спекулировал иконами, издал в ФРГ свою книгу, а гонорар за нее положил в Немецкий банк, протащил в Союз писателей своего родственника диссидента… Впрочем, существовала еще и такая версия: в «Литгазете» однажды была напечатана небольшая корреспонденция о том, как в кооперативном доме МИДа несколько бравых молодцев незаконно отобрали квартиру у беззащитной старушки. К Сырокомскому приехал один из заместителей министра иностранных дел и категорически потребовал, чтобы газета, не вникая в ситуацию, немедленно поместила опровержение: позорить столь уважаемое ведомство никому не позволено. Однако Сырокомский не согласился. Он послал публикацию в прокуратуру с просьбой проверить факты. Прокуратура проверила и ответила, что газета совершенно права. Этот ответ и был опубликован в газете. И — должно же такое случиться — именно в день рождения министра иностранных дел Громыко. Ему принесли газету и показали: «Смотрите, Сырокомский над вами издевается». Разразилась гроза, и Сырокомского убрали.
Но вот что недавно рассказал о тех давних событиях сам Сырокомский в своей статье «Воспоминания старого газетчика».
По его словам, председатель Союза журналистов Москвы, узнав об увольнении Виталия, тут же явился к заведующему сектором газет отдела пропаганды ЦК Ивану Зубкову и попросил объяснить, что же случилось с Сырокомским, за что его сняли? Зубков поклялся, что ничего не знает.
Всю правду мог знать один человек — секретарь ЦК КПСС Зимянин. Он всегда хорошо относился к Сырокомскому, его секретари обычно немедленно соединяли с ним Виталия. Но на этот раз секретарь, переговорив с начальством, ответил: «Михаил Васильевич говорить с вами не будет, он сказал, что вас ждет председатель Госкомиздата СССР Борис Иванович Стукалин».
Вот от него-то Сырокомский и узнал, что его назначают заместителем главного редактора издательства «Прогресс», заведующим редакцией литературы по международным отношениям. Формально ему не на что было жаловаться. «Прогресс» — крупнейшее в мире издательство переводной литературы, в нем работали две тысячи человек, в том числе 150 иностранцев… Был замом главного редактора газеты и стал замом главного редактора, заработок значительно выше, чем в «Литгазете». На что, мол, жалуетесь, товарищ!..
Но что-то за таким перемещением ведь стояло, какие-то грехи ему ведь безусловно припомнили. Какие?
В той своей статье Сырокомский пишет: «Не один год я звонил Зимянину — меня не соединяли, писал ему письма — мне не отвечали. И только после того как я издал на английском языке книгу его сына о Неру, а спустя ряд лет упросил Володю Зимянина дать мне домашний телефон отца, я поговорил с М. В. Зимяниным, уже ушедшим на пенсию. Это было в 1996 году. „Михаил Васильевич, — сказал я, — прошло шестнадцать лет с того дня, как меня сняли с работы в „Литгазете“. Объясните мне, пожалуйста, что со мной произошло, почему меня отстранили от любимой работы?“ „Товарищ Сырокомский, — ответил Зимянин, — об этом вы можете спросить у тех, кто лежит сейчас у Кремлевской стены. Я был и остаюсь верным солдатом партии. Вышестоящий партийный руководитель поручил мне перевести вас на другую, менее видную работу, и я исполнил. Я всегда относился к вам с уважением. Скажите еще спасибо, что это дело было поручено мне. Займись им кто-нибудь другой, вам было бы хуже“».
И только в конце августа 2002 года, Сырокомский узнал, кажется, всю правду. «Весьма и весьма информированные товарищи, — пишет он, — рассказали мне, что были записаны на „железку“ мои высказывания о судьбе бывшего первого секретаря Московского горкома КПСС Николая Григорьевича Егорычева, о несправедливой расправе с ним в 1967 году. Эту запись передали Ю. В. Андропову. Тот позвонил Зимянину и сказал: „Переведите Сырокомского на другую работу. Чтобы я больше не слышал его фамилии…“»
Может, так оно и было, только история с днем рождения Громыко мне лично нравится куда больше, уж очень она впечатляющая.
Мы ожидали, что за Виталия обязательно вступится Чаковский. Не раз ему приходилось отстаивать проштрафившегося сотрудника. А тут Сырокомский — его правая рука, месяцами заменявший его в редакции, когда Чак уходил в творческий отпуск писать свои романы, незаменимый, необходимейший ему человек… Нам казалось, в лепешку разобьется, чтобы его отстоять.
Но Чаковский ему сказал: «Вы провинились перед партией, сами и расхлебывайте». Александр Борисович очень хорошо знал отпущенные ему пределы.
Я убежден, что именно с уходом Сырокомского и началось медленное, постепенное умирание лучшей, может быть единственной в своем роде, газеты.
Короткая память
Середина апреля. В Москве тепло, весна. А мы с Ильей Эммануиловичем Каплуном, опытным, въедливым юристом, чья помощь так необходима нам, журналистам, пишущим на правовую тему, сидим в шубах в Шереметьево и ждем, когда же наконец в Воркуте утихнет пурга. Сидим уже несколько часов, а посадку все не объявляют.
Рядом на скамейке расположилась тетка с многочисленными баулами, она тоже летит в Воркуту. Тетка очень словоохотлива. Рассказывает нам, что ездила в Москву на похороны матери, баулы эти забиты материнскими вещами, не бросать же их, а оставить некому. А то мы еще подумаем, будто она везет в Воркуту купленные в московских магазинах шмотки или продукты. Зачем? В воркутинских магазинах вы найдете сейчас то, чего и в Москве не сыскать, с этим у них все ничего, грех жаловаться. Да и вообще жизнь, слава Богу, постепенно наладилась, а вот несколько лет назад, вы не поверите, весь город собирались эвакуировать, вывезти всех людей, всех до единого, и млад и стар, никого не оставить. Она сокрушенно качает головой. А знаете почему? Угроза была, что Воркута, заполярный город, зимой останется без воды и тепла. Это в лютые-то морозы, когда и так в квартирах не согреешься. Ужас какой, никто бы не выжил.
Объявляют посадку. Тетка, торопясь к выходу на поле, волнуется: не закрыли бы опять аэропорт, пока мы долетим. Погода в городе меняется каждые полчаса, то яркое солнце, то валом валит снег. И продолжает рассказывать: но все-таки, слава Богу, спасли город, сумели, нашлись умные люди, дали тепло и воду. Мы за них в церквах свечки ставим. А вы в Москве, наверное, даже не слышали ничего, да?
Отчего же, слышали, знаем. Против этих умных людей, за которых воркутяне в церквах ставят свечки, ведется сейчас уголовное дело, они обвиняются в крупных преступлениях. Мы с И. Э. Каплуном как раз и летим в Воркуту, чтобы разобраться в этом деле, выяснить обстоятельства, увидеть все собственными глазами и побывать на месте событий. На месте преступления, так сказать…
Готовя к публикации в этой книге свои старые газетные очерки, я долго думал, оставлять ли в них те имена, которые сегодня, по прошествии многих лет, скорее всего, ничего никому уже не скажут, приводить ли документы, давно уже ставшие архивной пылью. Но в конце концов решил: пускай остается все как было. Уберу забытое имя, истлевший документ, и что же тогда останется? Голый, выхолощенный пересказ? Без вкуса, запаха и осязания того времени? Документалистика не терпит никакого переписывания задним числом, никакого отступления от строгих фактов. И уж тем более, не может быть никакой приблизительности, когда речь идет об этом воркутинском деле. Всякого я повидал, занимаясь журналистикой, но такой оголтелой, такой откровенной и воинственной человеческой подлости, пожалуй, еще не встречал.
Существовало две версии этой истории.
Версия первая изложена в объемистом, 348 машинописных страниц, обвинительном заключении. Московский инженер Станислав Порфирьевич Матюнин, сколотив из своих знакомых и сослуживцев бригаду шабашников (так назывались временные рабочие) из 16 человек, отправился с ней в Воркуту на заработки. Здесь Матюнин познакомился с руководителями строительного управления номер четыре комбината «Печоршахтострой» Эвиром Дмитриевичем Фирсовым и Олегом Ивановичем Томковичем. На следующее лето Станислав Порфирьевич привез в Воркуту уже 120 человек. «Рассчитывая использовать расположение Фирсова и Томковича в своих корыстных целях, — сказано в обвинительном заключении, — Матюнин стал искать пути сближения с ними». Это ему вполне удалось. В результате, общими усилиями, руководители СУ-4 и шабашники путем приписок и других злоупотреблений похитили у государства 59 619 рублей 68 копеек (по тем временам огромные деньги).
Версия вторая дана в приобщенном к уголовному делу письме заместителя председателя горисполкома Воркуты В. Е. Дудко. «Принятие экстренных мер, — говорится в письме, — мобилизация людских и материально-технических ресурсов, в том числе привлечение временных рабочих, позволило предотвратить возможный ущерб городу и всему населению… В случае непринятия этих экстренных мер материальный ущерб государству составил бы около 8–10 миллионов рублей» (деньги тогда вообще фантастические).
Как же так?
Обвинение утверждает, будто злоумышленники похитили у государства без малого 60 тысяч. А горисполком свидетельствует: люди эти спасли, наоборот, государству 8–10 миллионов.
Из письма заместителя председателя исполкома видно, что в городе создались в ту пору какие-то особые, чрезвычайные обстоятельства, потребовавшие принять самые срочные, экстренные меры, мобилизовать людские и материальные ресурсы, иначе — беда. А в обвинительном заключении о том — ни слова, ни полслова. Жили, дескать, тихо, мирно, спокойно, никаких ЧП.
Чему же все-таки верить?
И кто они, эти люди, обвиняемые по делу: действительно жулики, воры или же, наоборот, молодцы и спасители? Преступники или герои?
Это уголовное дело тянется уже шесть лет. Шесть лет обвиняемые Матюнин, Фирсов, Томкович находятся под следствием. Их допрашивают, вызывают на очные ставки, берут с них объяснения, опять допрашивают, месяцами держат в тюрьме… Дело разбухло до невиданных размеров, в нем 124 тома. Целая библиотека протоколов, актов, заключений, ходатайств. Все это аккуратно подшито, листы пронумерованы: трудились — не гуляли. А конца делу так и не видно. Так и не известно, когда же все-таки будет поставлена последняя точка, и людям скажут: ваше место на скамье подсудимых или же, наоборот, от имени города Воркуты объявят им великое спасибо.
Когда? Сколько лет еще ждать? Год, два, десять? Сроки следствия постоянно продлеваются. То прокуратура Коми АССР их продлит, то прокуратура РСФСР. Пожалуйста, товарищи следователи, над вами не каплет.
Над следователями действительно не каплет, важным государственным делом занимаются. Однако подследственным — каково? На их имущество наложен арест, с них взята подписка о невыезде: без разрешения следователя — никуда. Ни в отпуск, ни в командировку. Из партии их уже исключили: ворюги же, ясное дело! А может, все-таки нет, не ворюги, может, действительно спасли государству 8–10 миллионов? Кто и когда даст ответ?
Дорога лежит среди тундры. Летом, говорят, здесь очень красиво: трава, кустарник. А сейчас, в апреле, кругом необъятная снежная гладь. Где-то вдалеке синеют горы. Это — Полярный Урал.
Бодрый «уазик» везет нас за двадцать километров от города на реку Усу. Из нее воркутинцы берут воду для своих многочисленных нужд.
Уса — река чистейшая, прозрачнейшая, но капризная, как многие северные реки.
Весной и ранним летом она проносится мощным потоком, с дикой скоростью, все и вся круша на своем пути. Мчатся льдины метровой толщины, несут на себе громадные, с двухэтажный дом, снежные сугробы.
Зимой же, когда питающие реку ручьи на Полярном Урале промерзают и течение Усы почти прекращается, еле-еле сочится, в городе наступают тревожные дни.
Разрываются телефоны в служебных кабинетах, созываются экстренные совещания, каждый час гидрологи меряют столб воды: прибавляется она или нет, течет река или совсем уже замерзла, уснула?
Если вода остановилась на отметке 108 метров над уровнем моря, выше не подымается, то это означает: городу хватит ее недели на две. Ну — на три. При самом жестком режиме экономии.
А что потом?
Как жить дальше?
Высохнут водопроводные краны, остановятся котельные в рабочих поселках. Их придется заморозить, а людей эвакуировать.
Вода в заполярном городе — это не только питье и мытье. Это еще и тепло. Сама жизнь — вода.
А потому, когда течение зимней Усы останавливается, приближается к нулю и уровень воды упорно держится, не сходит с критической отметки 108 метров, на Полярный Урал спешно вылетают вертолеты. Специальные экспедиции пилят лед на реке, прокладывают канавы, гонят по ним воду…
Для того чтобы проблему решить кардинально, раз и навсегда, не зависеть больше от капризов северной природы, здесь, на реке Усе, создавался крупный гидроузел. Плотина перекроет реку, и искусственное водохранилище емкостью в восемнадцать миллионов кубометров создаст запас воды городу на всю долгую зиму. С ноября по май. На все случаи жизни.
Тогда город вздохнет с облегчением, заживет спокойной, нормальной жизнью.
Гидроузел был объявлен здесь объектом первостепенной важности.
Принимались все меры для скорейшего его строительства.
Воркутинцы с нетерпением ждали начала его эксплуатации. Следили за тем, как идет строительство.
Был, однако, момент, когда казалось: строительство гидроузла повисло на волоске. Срывались, не спасти уже, все графики, парализованы были все планы. Мечта города о бесперебойном снабжении водой, казалось, надолго останется только мечтой. Прекрасной, но, увы, пока несбыточной.
Камнем преткновения, средоточением всех бед и зол явился тогда строящийся глубоко под землей машинный зал насосной станции, сооружение, откуда мощные насосы должны качать в город драгоценную усинскую воду.
Пожар вспыхнул 9 марта, после праздника. Кто-то разлил солярку, кто-то чиркнул спичкой…
Произошло это здесь, в машинном зале будущей насосной станции, на глубине 24-х метров под землей.
Чтобы представить себе, что это такое, вообразите: восьмиэтажный дом по крышу врыт в землю, а на первом его этаже бушует пламя.
Во тьме, в дыму люди искали лестницу, пытались выбраться наружу.
Пять человек не выбрались, погибли.
Пожар погасили. Но подземелье, строящаяся насосная, представляло собой тяжелую картину: гарь, копоть, дышать нечем, на стенах сажа толщиной в ладонь.
Серьезнее было, однако, другое: пожар, как это часто случается, лишь обнажил, высветил то, что прежде старались не замечать, о чем предпочитали помалкивать.
Из технической документации:
«На поверхности стен и по швам видны многочисленные каверны… Бетон уплотнен недостаточно, и возможны течи… Стены машинного зала имеют отклонения… Контроль за качеством гидротехнических работ не ведется, генподрядчик СУ-4 комбината „Печоршахтострой“ подписывает акты работ, не ведя за ними никакого контроля… Подобное положение создает брак…»
До пожара от этих тревожных сигналов отмахивались как могли. Теперь, после пожара, отмахнуться уже не было никакой возможности. Вопрос встал ребром: будет продолжено строительство гидроузла на реке Усе или замрет, остановится? Обеспечит себя Воркута водой или по-прежнему придется считать зимой сантиметры в реке и слать на Полярный Урал экспедиции пилить лед?
Требовались люди, которые смогут, в силах, спасти положение.
И тогда в комбинате «Печоршахтострой» вспомнили об Эвире Дмитриевиче Фирсове.
Основному обвиняемому по делу Эвиру Дмитриевичу Фирсову было в ту пору 39 лет. Работал главным инженером в одном из СУ комбината. Относились к нему люди по-разному. Некоторые его недолюбливали, считали, что не в меру тщеславен, самоуверен. За глаза его иной раз называли «артистом»: слишком падок на внешний, громкий эффект. Бывал и грубоват, мог надерзить людям.
В одном, однако, все сходились: не человек — таран. Энергии хоть отбавляй. Таких пробивных людей свет не видел. Надо — значит свернет горы, перевернет вверх дном землю.
Начальник комбината «Печоршахтострой» Борис Иванович Андрюшечкин вызвал к себе Фирсова и сказал:
— Спасай, Эвир Дмитриевич! Прежнее руководство СУ-4, как видишь, не годится, обязательно завалит дело. А рисковать тут, сам понимаешь, мы не можем: городу необходимы вода и тепло. Из всех проблем проблема. Так что принимай, Эвир Дмитриевич, хозяйство в свои руки. Тебе оно по плечу. Отказа не будешь знать ни в чем. Полный карт-бланш. Я это тебе твердо, ответственно обещаю. Спасай, Фирсов! Потомки, как говорится, не забудут.
Так или примерно так говорил Фирсову Борис Иванович Андрюшечкин.
Сегодня Борис Иванович работает в Москве заместителем начальника объединения «Союзшахтострой». Пост высокий, всесоюзного значения. После Воркуты Андрюшечкин быстро пошел на повышение.
Мы созвонились и встретились.
Моего интереса к этой истории Борис Иванович явно не одобрил.
— Не понимаю, — сказал он, осторожно заглядывая мне в глаза, — зачем вам ворошить то, что давным-давно уже быльем поросло? Объекты в Воркуте построены, отлично работают…
Из всех значений слова «ворошить» чаще всего употребляется следующее: знать что-то такое, чего знать вам совсем не надо. Совершенно необязательно.
Но почему, по мнению Бориса Ивановича Андрюшечкина, мне совершенно не следовало знать об этой быльем поросшей истории?
У Бориса Ивановича были на то свои причины?
Ждем в проходной, пока нам оформят пропуска. Предприятие, которое мы должны сейчас посетить, называется центральная водогрейная котельная (ЦВК).
Насосная станция на реке Усе качает воду, по трубам она поступает сюда, на ЦВК, разогревается в пяти мощных котлах и отсюда уже расходится по домам воркутинцев, питает батареи центрального отопления.
ЦВК — это мощное современное предприятие, вырабатывающее тепло. Производство тепла поставлено здесь на широкую индустриальную ногу. До того как ЦВК вступила в строй, в городе постоянно ощущался острый дефицит тепла. Температура в домах поддерживалась на предельно низком уровне. Остановлено было жилищное и промышленное строительство. Прежде чем строить, надо было знать, быть уверенным, что новостройку удастся обеспечить теплом. А если заранее известно, что тепла нет, его не хватит, то и строить незачем. Бесполезно.
ЦВК решила все эти проблемы. Тепло в городе появилось. Голодный паек был снят, отменен.
Строило центральную водогрейную котельную, как и насосную станцию на реке Уса, СУ-4 комбината «Печоршахтострой».
Когда Фирсов по просьбе Андрюшечкина возглавил это управление, ЦВК практически была уже готова. Воздвигнуты корпуса, смонтировано оборудование. У центрального входа висел транспарант: «До пуска котельной осталось столько-то дней».
Руководил пусковыми работами Олег Иванович Томкович, новый заместитель главного инженера СУ-4 и начальник штаба по строительству ЦВК.
Олег Иванович, по общему признанию, человек мозговитый, увлекающийся и очень дотошный. Если что не так, ни себе, ни другим не даст житья. Привел его сюда Фирсов. Поставил условие: «Возьму управление, если дадите Томковича». Они и раньше вместе работали. Дружили семьями. Олега Ивановича называли здесь «Вторая голова Фирсова».
На строительстве ЦВК Томкович дневал и ночевал. Буквально переселился сюда. Забыл про дом и семью.
— От страха, — объясняет он мне.
Я не понял:
— Что значит от страха?
— А то и значит… В газетах, по радио считали дни до открытия котельной. А котельной-то ведь не было! Ну не было, понимаете? Карточный домик! Дунь — развалится… Я тогда думал, — говорит он, — что от ужаса поседею…
Из технической документации:
«В декабре на ЦВК замечена деформация полов, в январе — деформация колонн…»; «установлено: фундаменты под колоннами здания имеют осадки, осадки фундаментов продолжаются»; «деформация фундаментов может привести к авариям, связанным с человеческими жертвами».
Не сегодня-завтра собирались отпраздновать пуск «главной печки» города, победный туш готовились сыграть. А с пусковым объектом творилось что-то неладное. То колонны вдруг стали заваливаться набок, то покосилось уже установленное оборудование, то начал проваливаться под ногами пол.
В чем дело?
Вскрыли полы, раскопали фундаменты, и глазам своим не поверили. Сказать, что здание ЦВК было построено на песке, означало бы сильно польстить строителям. В некоторых своих точках здание это вообще как бы… висело в воздухе, опиралось… на пустоту. Воздушный замок воздвигли в городе Воркуте, а не центральную водогрейную котельную.
По проекту фундамент здания должен был держаться на прочных сваях, которые, пройдя слой вечной мерзлоты, опираются на твердую скальную породу. Так обычно строят здесь, на Крайнем Севере.
На строительстве ЦВК сваи до скалы, однако, не добили. Метра на полтора. Концы их застряли где-то в слое вечной мерзлоты.
Видимо, били, били, а свая уперлась, дальше не идет. Надо было тут же вызвать специалистов, проверить: может, расчет был неправильный, а может, конец сваи держит какой-нибудь мерзлый валун.
Никого вызывать, однако, не стали. Отрубили сверху лишний кусок сваи, а в журнале работ записали: все нормально, сваю забили на должную глубину. Соврали, стало быть.
А когда котельная была уже построена, когда оставались считанные дни до ее пуска, когда растопили котлы и в здание ЦВК пришло тепло, мерзлый тот валун стал постепенно оттаивать.
И ни на чем больше не держащаяся свая неудержимо поползла, заскользила вниз.
А с ней — и фундамент здания.
А с фундаментом — и сама центральная водогрейная котельная, мечта и надежда города Воркуты.
Маленькая ложь, зарытый под землю обман, оставленный без внимания брак оборачивались страшной бомбой замедленного действия.
Взрыв мог произойти каждую минуту: лопнет фундамент, перекосится труба, а в котлах перегретая вода, и давление в трубах 24 атмосферы…
Рассказывают: когда Томкович залез в яму и собственными глазами увидел пустоту, зияющую под недобитой сваей, он от ярости себя не помнил. С кулаками готов был броситься на прежних строителей ЦВК, сооружавших фундамент здания. Еле его остановили.
Вот такие два объекта: затапливаемую водой насосную станцию на реке Уса и парящую над землей центральную водогрейную котельную — и должны были исправить, привести в порядок, довести до ума и в кратчайшие сроки передать городу в эксплуатацию новые руководители СУ-4 Эвир Дмитриевич Фирсов и Олег Иванович Томкович.
Анонимка
В прокуратуру Коми АССР…
Своим рабочим Фирсов платил по 5–7 рублей, а за счет своих рабочих платил шабашникам. Это пахнет махинациями…
Летом Воркута заметно пустеет. Люди разъезжаются в отпуска. Едут семьями, с детьми, едут в Крым, на Кавказ, на Волгу. После холодной зимы, после долгой полярной ночи людям нужны свет и тепло. Едут, оставляя все домашние дела, все служебные заботы. Если летом человек как следует не отдохнет, не наберется сил и здоровья, какой он будет работник на следующий год? Как перенесет новую суровую зиму?
В то время, когда Фирсова и Томковича призвали спасать положение, выручать город, ликвидировать брак на двух важнейших первоочередных объектах, в СУ-4 значилось всего по списку 230 рабочих. Квалифицированных из них было 180. 75 — женщины. Значит, полноценных рабочих рук, годных для тяжелых и сложных работ, — 105 пар.
Но — опять же летние отпуска. Реально, стало быть, оставалось человек 70–80.
И это в лучшую пору для работы, когда светло почти круглые сутки, когда зимняя одежда не стесняет движения, когда производительность труда самая высокая, когда задачи перед строительным управлением стоят сложнейшие, чрезвычайные! 70–80 человек при потребности — 300, а то и больше. Всего ничего.
Выручали обычно Воркуту в этот период временные рабочие. Или, проще сказать, шабашники.
Когда жителей Воркуты поезда и самолеты везли на юг отдыхать, жители Москвы, Ленинграда, других городов средней полосы ехали им навстречу в Воркуту. Для того чтобы в дни своего отпуска как следует здесь поработать. И, понятное дело, заработать. Ибо известно: нигде столько не заработаешь, как здесь, на Крайнем Севере.
Конечно, приезжали сюда разные люди. Попадались и ловкачи, и прохиндеи, и те, кто готов был зашибить деньгу, не слишком себя утруждая. Наезжали откровенные мошенники, готовые вступить в сговор с воркутинскими работодателями: «Ты мне отвали как следует, а я уж тоже тебя не обижу». Всякие наведывались. В семье не без урода.
Однако больше всего бывало здесь людей серьезных. Не пылких, легкомысленных романтиков, начитавшихся о заполярной экзотике; не перекати-поле, которым все равно куда податься, лишь бы по стране поколесить; не туристов, не экскурсантов, не гостей, не нахлебников, а — работников. То есть тех, кто умел и готов был выложиться до конца, по-настоящему, но и получить за это хотел настоящим, полновесным рублем.
Иначе говоря: я тебе — по моим силам и способности, а ты уж мне — по моему труду. Принцип известный и справедливый.
Как удавалось отличить охотников легкой наживы от честных, добросовестных работников? А никак, кроме как глядя на их труд. Тут не решала ни анкета, ни послужной список, ни производственная характеристика, подписанная треугольником, ни рекомендательный звонок по телефону. Только — проверка человека в деле. Проверка на прочность, на выносливость и на честность.
Когда инженер одного из московских НИИ Станислав Порфирьевич Матюнин, организовав группу шабашников, отправился в Воркуту на заработки, о Фирсове и о Томковиче он еще ничего не знал. О проблемах, стоявших перед СУ-4, о том, что надо срочно ликвидировать опасный брак, спасать город Воркуту, тоже.
Уже здесь, в Воркуте, кто-то сказал Матюнину: «В СУ-4 срочно требуются люди». Он взял такси и поехал по названному адресу. Начальник СУ Фирсов подтвердил: да, люди ему действительно нужны. «А вы откуда?» — «Москвичи. В основном инженеры. Есть и рабочие». — «Учтите, — сказал Фирсов, — работа очень тяжелая. Выкладываться придется до конца». — «Что ж, если будем заинтересованы, станем выкладываться», — ответил Матюнин. — «Хорошо, попробуем».
Матюнин и его бригада, 16 человек, проработали в Воркуте 42 дня. Весь отпуск и накопившиеся отгулы. Работой их Фирсов остался доволен. Оплата тоже устроила временных рабочих.
А к следующему лету, когда усилия по ликвидации брака развернулись вовсю, когда внимание всего города приковано было к насосной станции на реке Усе и к центральной водогрейной котельной, Фирсов сам отыскал в Москве Матюнина и сказал ему: «Приезжай. И людей организуй. Как можно больше. Очень нужны».
И Матюнин организовал. В Воркуту выехал самый настоящий строительный отряд, 120 человек.
Если бы я писал сейчас не уголовную хронику, а героический репортаж, я сказал бы: «На выручку городу Воркуте брошен был большой трудовой десант». У нас очень любят такие крылатые выражения.
Но какой тут, к черту, десант, когда речь идет о будущих обвиняемых, о будущих преступниках?
Мы стоим в машинном зале насосной станции на реке Усе, слушаем ровный гул насосов, качающих воду для города Воркуты, любуемся чистотой, красотой, изяществом сооружения и пытаемся представить, каким было это подземелье тогда, когда работали здесь шабашники Матюнина.
Задача стояла: заделать оставленные в бетоне швы, через которые речная вода просачивалась в машинный зал станции, создать между рекой и машинным залом единый, прочный монолит.
Сперва киркой и отбойным молотком снимали уже положенную штукатурку, из швов глубиной в полметра выбивали рыхлый, бракованный бетон. Затем подводили к стене шланг пневмовибратора (тяжелый, еле удерживали четыре человека) и в швы с силой вбивали несколько слоев нового бетона. Что прольется, необходимо было тут же, пока не застынет, подобрать и в бадье отправить наверх, на землю.
Грохот стоял такой, что разрывало уши. От пыли ничего не видно. Вентиляция практически отсутствовала. Пот тек ручьями.
Работали так круглосуточно, в две смены. Первую привозили из города к семи часам утра. В восемь вечера ее сменяла вторая смена.
Однажды вторая смена задержалась: что-то случилось с автобусом. Люди работу не бросили, оставались в грохочущем подземелье все двадцать два часа, до приезда сменщиков. В распоряжении шабашников — считанные дни, отпуск вот-вот закончится, а работу требовалось выполнить. Такова была договоренность с администрацией СУ-4.
Работать на совесть означало здесь работать по договоренности.
Другие бригады, привезенные Матюниным, исправляли брак, допущенный на строительстве ЦВК.
Тут были свои проблемы, свои трудности.
Откапывая не добитую до скалы сваю, приходилось лезть в яму глубиной до шести метров. Земля — рыхлая, непрочная, много грунтовых вод. Не поставишь надежную опалубку — тебя завалит… Другая опасность: висящая над пустотой свая. Не закрепишь, не соорудишь надежную железную опору — свая придавит тебя.
Кадровые рабочие СУ-4 от этих работ отказывались: «Жизнь нам пока не надоела». В уголовном деле есть их показания. Шабашников тоже предупреждали: «Учтите, работа в Воркуте стоит дорого, однако похороны — еще дороже».
Но шабашники работали. Сооружали опалубку, закрепляли шатающуюся сваю. Один из них сказал мне: «Мы ведь инженеры как-никак, своя мысль и свое же исполнение».
О. И. Томкович:
— Я молился на временных рабочих.
…Откопав сваю, пространство между недобитым ее концом и скалой заливали бетоном. Вручную. Стоя в яме. Создавали прочную бетонную подушку. Новый фундамент. При смонтированном уже оборудовании…
Мучились, мыкались, собой рисковали из-за тех, кто когда-то схалтурил, а в журнале работ наврал, что все в порядке.
Брак — это, оказывается, не только бомба замедленного действия. Это еще и тяжелый труд, бесстыдно переложенный на чужие плечи.
Чужой пот, чужие мозоли, грохот в чужих ушах и пыль, забивающая чужие глотки, — вот что такое брак. Радость проехаться на чужом горбу.
Несколько лет назад я писал об аварии, случившейся в одном городе. Ее вполне можно было бы предотвратить, но там этого никто не сделал. Все силы бросили уже тогда, когда беда свершилась. Рабочий, принимавший участие в спасательных работах, сказал мне в те дни: «Мы все умеем. Решительно все. Но, к сожалению, не до, а после». В Воркуте трагедию предотвратили до того, как она произошла. Не дали ей произойти. Это сделали руководители строительного управления номер четыре Фирсов и Томкович и 120 московских шабашников.
Получив анонимку, Борис Иванович Андрюшечкин срочно выслал в СУ-4 ревизию. Она пришла к выводу, что временным рабочим платили действительно многовато. Андрюшечкин издал приказ: «Допущены серьезные нарушения в порядке приема и увольнения временных рабочих… принять к сведению, что материалы переданы в следственные органы».
Из обвинительного заключения:
«Зная из предыдущего опыта, что единственная цель шабашников получить побольше денег и что ради денег шабашники согласны работать на любых объектах, без выходных дней, днем и ночью, не требуя соблюдения трудового законодательства, руководители СУ-4 Фирсов и Томкович легко нашли с шабашниками общий язык».
Передо мной — пожелтевший от времени номер воркутинской газеты «Заполярье». Передовая: «В эти дни одна из важнейших пусковых строек этого года — центральная водогрейная котельная. Все воркутинцы с нетерпением ждут ее…»
На второй полосе той же газеты напечатана статья начальника штаба по строительству ЦВК Олега Ивановича Томковича. Он писал: «Брак делу враг. Это выражение точно определяет положение, которое сложилось в настоящее время на строительстве ЦВК… Кто же виноват в этом? Участники строительства называют ныне здравствующих заместителя главного инженера комбината „Печоршахтострой“ В. М. Редькина…» — дальше шел перечень еще нескольких фамилий.
В ту пору, когда начиналось строительство центральной водогрейной котельной, Вячеслав Матвеевич Редькин работал начальником СУ-4, это его сменил Фирсов. При Редькине, как раз под его началом, сваи не добили до скалы и котельную оставили висеть в воздухе.
А потом, как и начальник комбината «Печоршахтострой» Андрюшечкин, Редькин пошел на повышение. Борис Иванович отправился работать в Москву, а Вячеслав Матвеевич стал заместителем главного инженера комбината.
Из показаний В. М. Редькина:
«По настоянию Фирсова и Томковича для выяснения вопроса о браке в СУ-4 направлялась комиссия народного контроля комбината „Печоршахтострой“. Однако установила она не брак, а только недоделки. Это разные вещи».
Из показаний бывшего инженера производственного отдела СУ-4 А. В. Соколовой:
«Комиссия пробыла у нас несколько дней, но вдруг исчезла и больше уже не появлялась. По какой причине она свернула работу, я не знаю. Руководил комиссией Л. Е. Косоногов».
Из показаний А. Е. Косоногова:
«Сумму обнаруженного брака мы все время уменьшали, данные переправляли три раза. Настаивал на этом В. М. Редькин».
Из показаний А. В. Соколовой:
«Начались бесконечные звонки из комбината. От меня требовали, чтобы я уменьшила сумму брака. Однажды меня вызвал Косоногов и сказал: „Уменьшите, а то вас обвинят в предвзятости“. Я отказалась, ответила: „Шантажировать меня бесполезно. Иначе следующий разговор будет в горкоме партии“».
Из показаний начальника строительной лаборатории В. И. Танеева:
«По настоянию Редькина сумма брака была значительно уменьшена».
Из показаний О. И. Томковича:
«Сперва в акте народного контроля стояла сумма брака 461 тыс. рублей. Однако потом кто-то поставил запятую, и сумма получилась 46,1 тыс. рублей. В десять раз меньше».
Из показаний А. Е. Косоногова:
«Но даже и эту сумму, 50 тысяч рублей, Редькин не признавал, оспаривал».
Из показаний А. В. Соколовой:
«Как-то мне предложили совершить подлог. Не было подписи заказчика о том, что он принял работу. Мне посоветовали: „А ты подделай“. Я не поняла: „То есть как?“ Мне объяснили: „Через стекло“».
Из показаний В. И. Танеева:
«Центральная лаборатория факты брака на учет не ставила, не было указаний комбината».
Из показаний А. В. Соколовой:
«Начальник лаборатории сказал мне, что он не может выступать против Редькина. И вообще из этого дела о браке все равно, дескать, ничего не выйдет. Пустая затея».
Из показаний В. М. Редькина:
«Выводы комиссии народного контроля не получили какого бы то ни было дальнейшего хода и ни на что не повлияли. Да они и не могли ни на что повлиять. Брак был придуман из конъюнктурных соображений Фирсовым и Томковичем. Он им был нужен как щит, чтобы прикрыть свои махинации…»
Вечереет. На комбинате затихает жизнь. Реже звонят телефоны, опустели кабинеты и коридоры.
Вячеслав Матвеевич Редькин сидит, низко пригнувшись к столу, и что-то быстро рисует на листе бумаги.
— Все разговоры о браке не имеют под собой никакой материальной почвы, — говорит он. — Никакого сверхъестественного брака не было. Все это сочинено, чтобы придать делу никому не нужную эмоциональную окраску…
— Как же так, — недоумеваю я. — А бетон в насосной?..
— Ерунда! Если из двадцати пяти тысяч кубов бетона плотно не лег хоть один процент, дыра будет — паровоз пролезет. Ну и что? Нормально. Заделайте дыру, и все. Шум зачем подымать, искать виноватых?
— А не добитые до скалы сваи?
— Слово «вина» здесь совершенно неприемлемо. Виноваты не люди, а коварная северная природа. Вечная мерзлота. Мне лично понадобилось двенадцать лет, чтобы понять, что мы о ней еще ничего не знаем. Идет обычный процесс познания. Брак — это только чья-то бессовестная вредная выдумка.
— …Борис Иванович, — спросил я в Москве заместителя начальника «Союзшахтостроя» Андрюшечкина, — почему материалы о браке вы, руководитель комбината, тогда же не передали следственным органам?
Все дольше паузы в нашем разговоре, все осторожнее ответы моего собеседника.
— Потому что брак этот не имел серьезного, тем паче катастрофического значения, — испытующе глядя на меня, говорит Борис Иванович. — Никакой аварийной ситуации не существовало, никакие ремонтно-восстановительные работы не проводились. Потребовались некоторые, — говорит он, и я понимаю, что произносит он сейчас давно заготовленную, тщательно продуманную и хорошо обкатанную фразу, — некоторые всего-навсего дополнительные работы…
В портфеле у меня лежит, однако, официальный документ. Я получил его накануне нашей встречи с Борисом Ивановичем. В документе этом черным по белому написано, что ущерб от брака составил не 50 тысяч рублей и даже не 461 тысячу, как было сказано в акте комиссии народного контроля, пока кто-то не переправил цифру, уменьшив сумму ровно в десять раз. Ущерб от брака, говорится в документе, причинен был государству на 700 тысяч рублей….
— Я вам объясню, в чем дело, — говорит мне Борис Иванович и испытующе наблюдает за моей реакцией. — Уж слишком крупно, слишком непонятно платил Фирсов шабашникам. Возникли толки, подозрения… А не прилипло ли кое-что к рукам самого Фирсова? Не было ли взяток, поборов? Не делились ли с ним шабашники?.. Большие деньги, ну вы сами понимаете, — говорит Борис Иванович и горько вздыхает, — ну вы сами понимаете, очень опасные деньги…
— …Мне надоели наветы некоторых нечистоплотных людей, — негромко произносит Редькин, и перо его еще быстрее что-то чертит на листе бумаги. — Сняли, понимаешь, жирные пенки, хорошо, понимаешь, попользовались, а теперь, чтобы обелить себя, на каждом шагу кричат о браке… Ну что ж, — говорит он, — пусть… Это их дело. Каждый спасает себя как может… Пусть, пусть!..
И в тихом голосе Вячеслава Матвеевича я уже слышу не раздражение, не злость и досаду, а явную, неприкрытую угрозу.
— …Подвиг, понимаешь, совершили, — говорит Редькин, — брак, понимаешь, ликвидировали, героев, понимаешь, из себя корчат. А если подсчитать, сколько прилипло к их рукам? Я вас спрашиваю: сколько прилипло к их рукам?
Чтобы замять дело о браке, можно, конечно, давить и нажимать на своих подчиненных, выкручивать им руки, переправлять сумму причиненного ущерба в акте комиссии и пускаться в долгие теоретические дебаты о коварстве северной природы, об опасной вечной мерзлоте. Все можно.
Но уж если особенно вам повезет, если судьба по-настоящему вам улыбнется, то те, кто ваш брак исправлял, потом и кровью его ликвидировал, окажутся вдруг ворами, расхитителями и, исчезнув на долгие годы за тюремной решеткой, перестанут мозолить вам глаза.
Вот тогда вы в порядке. Тогда вы в большом порядке.
Старший следователь Воркутинского ГОВД, майор милиции Эдуард Иванович Горшков встретился с руководителем шабашников Станиславом Порфирьевичем Матюниным в Москве, на Петровке, 38.
Специально прилетел для этого в столицу.
— Матюнин, — сказал Горшков, — а ну-ка выкладывайте начистоту: за что администрация СУ-4 платила вам, шабашникам, такие большие деньги?
— За тяжелую работу, — сказал Матюнин.
— А еще за что?
— Я вас не понимаю.
— Ничего, поймете, — сказал Горшков и на трое суток отправил Матюнина в камеру предварительного заключения.
По закону разрешается задержать человека, если его застигли на месте преступления, или очевидцы утверждают, что он преступник, или на его одежде, в его жилище обнаружены следы преступления.
Матюнина на месте преступления никто не застигал, одежда и жилище его были в порядке. Задержал его следователь Горшков исключительно для острастки. Чтобы впредь Матюнин был покладистее.
Станислав Порфирьевич запомнил странную фразу, которую сказал ему в тот день следователь:
— Будете упрямиться — пойдете у меня паровозом.
Матюнин не знал, что это такое, и Горшков с удовольствием ему объяснил:
— Главарем я вас сделаю, ясно? Состаритесь у меня на теплых нарах, понятно?
Обыск на квартире у Матюнина ничего не дал. В протоколе отмечено, что имущества, подлежащего описи, у шабашника не обнаружено.
Через трое суток Станислава Порфирьевича освободили, и Горшков предложил ему вылететь вместе с ним в Воркуту. Всего на несколько дней. Даст необходимые пояснения и тут же вернется обратно. Номер в гостинице ему уже забронирован.
Жене Матюнина Горшков так и сказал:
— И соскучиться по мужу не успеете, я вам обещаю.
В самолете Горшков держался дружески, очень много разговаривал и все время объяснял Станиславу Порфирьевичу, что желает ему исключительно добра.
А прилетев в Воркуту, в тот же день Горшков предъявил Матюнину ордер на арест.
— Тюрьма вас научит уму-разуму.
Полгода Станислав Порфирьевич провел в следственном изоляторе.
Каждый допрос Эдуард Иванович начинал одной и той же фразой:
— Расскажите, как вы делились незаконными деньгами с Фирсовым и Томковичем?
Через шесть месяцев Матюнина пришлось освободить. Для продления срока содержания под стражей требовалось разрешение Прокуратуры СССР. А какие доводы были у Горшкова, чтобы идти за таким разрешением?
Однако прежде чем выдать Матюнину необходимые документы, Горшков велел ему подождать внизу на лавочке.
Позже выяснилось, что это был очень тонкий, далеко рассчитанный следственный ход.
Сидя на лавочке, Матюнин видел, как милиционеры провели мимо него Эвира Дмитриевича Фирсова.
— Матюнина, вы могли убедиться, я сейчас отпустил, — сказал Фирсову следователь Горшков. — А почему? Потому что он во всем сознался. Теперь ваша судьба в ваших руках.
В тот самый день, когда освободили Матюнина, Горшков арестовал Фирсова.
Через полгода, однако, пришлось отпустить и его.
Оснований просить разрешения на продление срока содержания под стражей у Горшкова опять не было.
Мера пресечения всем обвиняемым оставалась — подписка о невыезде.
Факт сговора на совместное хищение государственных средств в особо крупных размерах Эдуард Иванович Горшков обосновал в обвинительном заключении следующими аргументами: «Матюнин старался чаще встречаться с Фирсовым и Томковичем… Матюнин обзавелся с ними общими знакомыми… Матюнин угощал их кофе… Между администрацией СУ-4 и шабашниками сложились особые отношения… Томкович, находясь в Москве, встречался с Матюниным… Фирсов, возвращаясь через Москву из отпуска, созвонился с Матюниным…»
Вывод: все вместе они — шайка воров и расхитителей.
Впрочем, сделан был следователем Горшковым и другой еще вывод. Несколько неожиданный.
«Из материалов дела видно, — констатирует обвинительное заключение, — что никакой опасности, угрожающей интересам Советского государства, состояние дел на строительстве центральной водогрейной котельной… не представляло. Имели место… различного рода недоделки, что не является исключительным для строительства».
Я прочел это и задумался.
Когда Вячеслав Матвеевич Редькин говорит такое, мне понятно: защищается. Когда Борис Иванович Андрюшечкин ему вторит, мне тоже совершенно ясно: высоко взлетел, есть что терять.
Но зачем следователю Эдуарду Ивановичу Горшкову, писавшему обвинительное заключение, и прокурору Коми АССР В. В. Морозову, его утвердившему, зачем им доказывать, что развались сегодня центральная водогрейная котельная, погибни люди, останься город Воркута без тепла, эвакуируй все его население — интересы Советского государства от этого нисколько не пострадают?
Им-то какой резон?
Смысл какой?
Какой они видят в том прок?
Загадка, которую необходимо было разгадать.
Из письма Э. Д. Фирсова, О. И. Томковича и других обвиняемых министру угольной промышленности СССР
«…Прямые виновники брака во главе с бывшим начальником СУ-4 Редькиным, находясь на ответственных постах в комбинате „Печоршахтострой“, приняли все меры для уменьшения суммы выявленного брака… И вот мы пытаемся доказать свою невиновность, но безрезультатно… Никто не хочет вникнуть в суть дела, хотя все понимают, сочувствуют и знают, что мы никакие не расхитители… Нами собраны неопровержимые материалы, и стоит только с ними ознакомиться, как любой человек убедится в нашей невиновности. Но куда бы мы ни обращались, никто в суть дела не вникает. А пользуется лишь информацией тех людей, которые являлись виновниками крупномасштабного брака… А отписки от них, что мы подследственные и обвиняемся в хищении государственных средств, производят магическое действие. Просим вмешаться и восстановить истину и справедливость…»
Свой редакционный день я начинаю обычно с читательских писем.
Их бывает много, даже очень много. Письма разные: робкие, сердитые, вежливые, ругательные, настойчивые, деликатные…
Но вот что я заметил: самая первая, самая главная просьба, которая звучит почти в каждом письме, — это даже не просьба о помощи. Часто люди понимают, что редакция сама, своими силами, решить их дело не в состоянии, что вопрос выходит за рамки компетенции газеты и журналиста.
У редакции, у журналиста просят они одного: услышьте!
Ну пожалуйста, ну сделайте милость, ну будьте людьми: услышьте!
Не можете сразу помочь, не от вас зависит — ладно, мы еще обождем, потерпим, помыкаемся, поборемся, повоюем. Но хотя бы — нас услышьте. Всего-навсего.
Потому что куда бы мы ни обращались, к кому бы мы ни толкались — услышать нас не хотят.
Не говорим — помочь. Хотя бы только — услышать.
Даже по всей форме и в установленные сроки отвечая нам — все равно нас не слышат.
Будто уши им заложило, будто глухими они родились на белый свет и так живут.
Услышьте!
Был момент, когда казалось, что Фирсова и Томковича все-таки услышали.
Начальник «Союзшахтостроя» Николай Ионович Алехин, ознакомившись с ситуацией, сложившейся в городе Воркуте, написал в Верховный Суд Коми АССР, что «Союзшахтострой» отзывает акт ревизии комбината, на основании которого против Фирсова и Томковича было возбуждено уголовное дело. Все судебно-следственные расходы Н. И. Алехин готов был даже принять на счет «Печоршахтостроя». «На основании неоднократных обследований, — объяснял Н. И. Алехин, — были установлены факты несоответствия выполненных… работ фактическим инженерно-геологическим условиям». Короче говоря, допущен крупномасштабный брак. Для его исправления потребовались дорогие и сложные ремонтно-восстановительные работы.
Возмутился, однако, прокурор города Воркуты А. В. Моисеев.
Какой брак, какие работы, если известно, что следствие занимается не браком, а только ворами и расхитителями?
Послание прокурора Моисеева министру угольной промышленности СССР отличалось детской непосредственностью и солдатской прямотой. «Тов. Алехин письмом на одном листе бумаги, — жаловался прокурор, — перечеркивает труд группы следователей, работавшей почти три года, изобличая расхитителей государственного имущества».
Обидно очень: следователи зря трудились.
Мотивы прокурора Моисеева показались вполне убедительными первому заместителю министра Владимиру Васильевичу Белому.
Или эта строгая прокурорская бумага и его тоже приятно освобождала от необходимости вникать в суть дела?
В. В. Белый ответил прокурору: «Рассмотрев ваше письмо, министерство приняло решение об аннулировании письма всесоюзного объединения „Союзшахтострой“… Должностные лица… привлечены к дисциплинарной ответственности».
Н. И. Алехину был объявлен выговор: не вылезай, не высовывайся, не прислушивайся к тому, о чем шумят люди, когда у них болит душа.
Пошумят и умолкнут. Не страшно.
И читая в редакционной почте: «Ну почему, почему меня не слышат?» — я думаю: ишь чего захотел, дружок! Как будто так просто, так легко, так безопасно тебя услышать?!.
Итак, позади первые три года следствия.
До нашей с И. Э. Каплуном поездки в Воркуту остается тоже три года.
Но мы пока об этом еще ничего не знаем.
Дело по обвинению Фирсова, Томковича, Матюнина и других только что принял к слушанию Верховный Суд Коми АССР.
На скамье подсудимых четырнадцать человек: руководители СУ-4, мастера участков и шабашники — те, кто по шестнадцать часов в сутки глотал пыль в подземелье на реке Усе и, рискуя жизнью, укреплял не забитые до скалы сваи на строительстве центральной водогрейной котельной. Теперь им грозило — осуждение, тюрьма, позор.
Через три года, когда мы приедем в Воркуту и люди станут приходить к нам в гостиницу и без конца рассказывать о том, как они прятали глаза от своих детей, от соседей и сослуживцев, а по городу поползли слухи о недавно раскрытой крупной шайке воров и расхитителей, и люди эти не могли поверить, взять в толк, что они и есть эти самые воры и расхитители, и как готовы были они криком кричать, однако знали, что кричать им некому, да и бесполезно, я видел тогда, каким страшным, каким непосильным даже для самого сильного и выносливого человека может быть тяжелое, уничтожающее чувство незаслуженной человеческой обиды.
От адвокатов все четырнадцать отказались: будут защищать себя сами.
Четыре дня читали обвинительное заключение: как-никак 348 страниц.
Потом начался допрос Эвира Дмитриевича Фирсова.
Он продолжался десять дней подряд. С утра до обеда и потом до самого вечера.
Фирсов говорил о том, что обвинение, выдвинутое против них, нечестно и бесчеловечно.
— Спросите у жителя города Воркуты, в доме которого сегодня тепло и есть вода, позволил бы он нас обвинять?
Фирсов просил взять в руки бумагу, карандаш и произвести несложный расчет.
— Пущен слух, — говорил он, — будто за месяц шабашник получал полторы тысячи рублей. Это ложь, неправда. Временный рабочий работал на объекте сорок два дня без единого выходного и по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Если взять нормальный трудовой день и обычную трудовую неделю, количество рабочих дней в месяц, вычесть районный северный коэффициент, то получится, что шабашник получал из расчета — двести-двести пятьдесят рублей в месяц. Так ли уж это много за тяжелый, опасный и качественный труд?
— Я прошу подсчитать, — говорил Фирсов, — сколько мы все потеряли бы, если б отказались заплатить шабашникам эти деньги. Что было нам выгоднее: заплатить им или не заплатить?
…Чем дальше шел суд, чем больше допрашивал он свидетелей, чем детальнее вникал во все обстоятельства дела, тем яснее и отчетливее обозначалась происходящая здесь, в судебном зале, своеобразная дуэль, острый спор, прямой поединок.
Не между обвинением и защитой — это понятно и естественно.
Не между судом и подсудимыми — это тоже случается, когда подсудимые упорствуют, скрывают факты и суд, выясняя истину, вынужден наступать, разоблачать подсудимых, ломать их оборону.
Спор, поединок происходили здесь между следствием и судом.
И даже не по существу главного вопроса: виноваты или нет подсудимые. Это еще предстояло узнать, решить.
Спор, дуэль возникали по поводу того, как глубоко и далеко может и должно заходить правосудие.
Следствие как бы предостерегало: стоп, дальше ни на шаг, зачем нам знать так много?
А позиция суда была: чтобы правильно решить это дело, мы должны знать все. Все как было. Без утайки. Без тенденциозности. Без страха перед неразрешимыми, казалось бы, противоречиями. Без боязни нагрузить себя таким жизненным грузом, с которым мы потом не справимся.
Обязаны справиться. Это наш долг. А иначе для чего мы тут, чего стоим и чем занимаемся?
Следствие как бы предлагало: вот вам рамки, вот черта. Дальше ни на шаг. Табу!
Судебная же коллегия под председательством судьи И. С. Кирдеева все дальше и дальше уходила за эту черту.
Следствие как бы выстраивало свой абстрактный логический шаблон: раз приписки — значит, сговор, значит, хищение, значит, воровство… Так оно обычно и бывает.
Суд же ломал всякие шаблоны. Ему важно было знать не то, как бывает обычно, а что произошло именно здесь, в данном конкретном случае? Приписки, утверждаете? Но можно ли говорить о них здесь, если не подсчитан весь, полный объем работ, выполненных временными рабочими? Они не убирали территорию, как сказано в акте, однако сколько ими сделано других необходимых дел, количество и трудоемкость которых не поддаются учету? И был ли у обвиняемых умысел на безвозмездное присвоение хоть одного государственного рубля, или же все деньги выплачены шабашникам только за тяжелый производительный и качественный труд?
Словом, следствие избегало всяких сложностей, они ему только мешали.
Суд же прекрасно понимал, что, не справившись со сложностями, не разобравшись в них, придется долго и слепо блуждать в потемках.
Следствию необходим был результат, обвинение, доказательство того, что оно не зря трудилось, не зря подняло шум на весь город. Как всполошился воркутинский прокурор Моисеев: а вдруг письмо начальника «Союзшахтостроя» перечеркнет всю работу следствия?
Суду же необходима была правда. А уж какой она окажется, кто в итоге выиграет, выяснится, что следствие право или же все доводы его будут опровергнуты и разбиты, — это определят только закон и обстоятельства дела. Они и только они.
В отличие от частых, увы, случаев, когда суд берет на веру все выводы следствия и лишь узаконивает их своим решением, здесь суд судил — в истинном, подлинном, настоящем смысле этого слова.
Еще до нашей поездки в Воркуту мы с И. Э. Каплуном узнали, что в Москву приехали заместитель прокурора Коми АССР Владимир Ильич Лукин и следователь Эдуард Иванович Горшков. Сейчас они находятся в Прокуратуре РСФСР.
Мчимся в прокуратуру.
Встретиться с ними нам крайне необходимо.
Судебный процесс в городе Воркуте, продолжавшийся полгода, только что завершен.
Приговор, однако, не вынесен. Дело направлено на доследование. «А точнее, — сказано в определении суда, — на новое расследование, так как все обвинение зиждется, по существу, на убеждении самого следователя и его предположениях… Следствие зашло в тупик… Поверив показаниям Редькина и других работников комбината „Печоршахтострой“, которые явно заинтересованы в сокрытии брака, — пишет суд, — органы предварительного следствия самоустранились от выяснения главного вопроса: был ли брак?»
Почему же они самоустранились?
Чем объясняется такое трогательное единство, такое удивительное совпадение интересов тех, кто допустил крупный опасный брак, и органов предварительного следствия?
Не получив ясных исчерпывающих ответов на все вопросы, суд никак не может в этом деле поставить точку. Нельзя. Рано.
«В зависимости от добытых доказательств, — указывает суд, — должен быть решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за обман государства и очковтирательство».
Заместитель прокурора Коми АССР Владимир Ильич Лукин — сама любезность. Сожалеет, что познакомиться довелось нам при таких неприятных обстоятельствах. Да, конечно, работникам следствия суд преподал хороший урок. Что делать! Приглашает приехать в Воркуту, обещает показать эти интереснейшие места. Шутит: лучше, конечно, если корреспонденты «Литературной газеты» приедут просто так, в гости, а не в связи с этим хлопотным и досадным делом.
Следователь Горшков, наоборот, мрачен и хмур. Говорит он неохотно и раздраженно. Отношением суда он явно задет, даже оскорблен.
Эдуард Иванович подчеркивает, что следователь он опытный. За последние пять лет завершил три хозяйственных дела, и все они прошли нормально, вполне благополучно, обвиняемые осуждены. Он и сейчас не предвидел никаких сюрпризов, осложнений. Позиция суда для него оказалась совершенно неожиданной.
— Суд интересуется, почему следствие не занялось строительным браком, — говорю я. — А действительно, почему?
Горшков молчит. Взгляд его неподвижен, устремлен в одну точку.
— Потому что не мое это дело, — отвечает он. — Не милицейское.
— Что именно?
— Вопросы брака… И так было полно работы… Я не лодырничал…
Сейчас, оказавшись в Воркуте, я начинаю, кажется, догадываться, что мог иметь в виду Эдуард Иванович Горшков, сказав: «Не мое это дело». Какая святая правда содержалась в тех его словах.
И причины той острой прямой дуэли, разыгравшейся в судебном зале, тоже становятся мне теперь гораздо яснее.
…Только что благополучно завершились три хозяйственных дела. Горшков в чести, в большом фаворе. Он повышен в чине, стал майором милиции. Набил руку на таких делах. Уже начиная их, он заранее знает, что борется с ворами, с расхитителями. Его долг — выловить их и разоблачить. («Паровозом у меня пойдете! На теплых нарах у меня состаритесь!»)
Но тут в руки Горшкова попадает дело, которое не похоже на все предыдущие его дела. Где все не так, все противоречит следователю, все не укладывается в готовую схему, все ей мешает.
Шабашники, по схеме, должны делиться с администрацией, а они вроде не делились. И наоборот, вылезают обстоятельства, которые следователю совсем уж не нужны, только портят, затуманивают всю картину: крупный брак, например, аварийная ситуация.
Уличить, пригвоздить преступника — это да, пожалуйста, это Эдуард Иванович умеет. А вот исследовать нестандартную ситуацию, взвесить все «за» и «против», уйти от схемы, увидеть жизнь такой, как она есть, сориентироваться в сложных обстоятельствах, принять решение, им соответствующее, — нет, к этому Горшков не приучен. Опыта не набрался. Да и, честно говоря, не горит особым желанием.
«Не мое это дело», — объясняет Эдуард Иванович. И ведь правду объясняет, не лукавит. Действительно — не его.
Может, иная квалификация здесь уже требовалась, иной уровень следствия. Может, не его, не Горшкова, гражданская смелость. Одно дело — за руку схватить дюжину обыкновенных воров, другое — поднять вопрос о катастрофическом браке, допущенном ответственными товарищами на важнейших стройках Воркуты.
И тогда, постепенно, Эдуард Иванович Горшков не свое, чужое дело начал упорно подгонять под свое. Под то, которое ему по силам.
Начал отметать, отрезать, отрубать все, что так или иначе ему мешало. Смотреть и не видеть. Слушать и не слышать. «Брак? Какой брак? Никакого брака не было».
«Зачем ворошить?» — тревожился Борис Иванович Андрюшечкин.
Правильно, Горшков и не ворошил. Совсем даже не ворошил. Очень старался не ворошить.
И получалось в конце концов, что интересы Андрюшечкина, Редькина, с одной стороны, и Эдуарда Ивановича Горшкова — с другой, стали тесно, полностью совпадать. Переплетаться.
Тем было удобно не входить в подробности, и Горшкова это вполне устраивало. Чем проще, тем лучше.
Те, отвлекая от себя внимание, громко требовали: «Держи вора!» И Горшков только этим и занимался. Ничем больше.
И потому логикой общих целей, логикой общих интересов Борис Иванович Андрюшечкин, Вячеслав Матвеевич Редькин и старший следователь Воркутинского ГОВД, майор милиции Эдуард Иванович Горшков становились постепенно единомышленниками в этом общем для них деле.
Я бы даже сказал: единомышленниками и соучастниками.
— На ошибках учатся, — говорил нам тогда, в Москве, заместитель прокурора Коми АССР Владимир Ильич Лукин. — Теперь уж мы учтем все требования суда, наведем порядок, организуем дело как надо, можете не сомневаться.
Позже я узнал, что это означает: организовать дело как надо.
Операция была задумана и выполнена по всем канонам детективного жанра.
Самолет из Воркуты прибыл на московский аэродром Шереметьево в час ночи.
У трапа пассажиры сели в автобус, который доставит их к зданию аэровокзала.
На полпути автобус неожиданно остановился.
— Проверка документов, — объявила дежурная. Ее сопровождал мужчина в штатском.
Паспорт одного из пассажиров мужчину сильно заинтересовал. Возвращая его владельцу, он подал условный знак другому, тоже одетому в штатское.
Пассажир, однако, ничего этого не заметил. С женой он следовал в город Грозный к теще. Собирались провести у нее отпуск. Самолет в Грозный вылетал в восемь часов утра из аэропорта Внуково.
На стоянке такси к супругам подошел тот, кому был сделан условный знак.
— В город не подвезете? — вежливо осведомился он. — Очень спешу.
— Пожалуйста, — пригласила жена пассажира. — Места хватит всем.
В машине она обратилась к мужу.
— Послушай, — сказала, — до нашего самолета еще шесть часов. Давай заедем к друзьям. Перекусим и чуть-чуть отдохнем.
— Ну что ж, — согласился муж, — давай заедем.
— Стоп, — приказал шоферу тот, кто сел с ними в машину, и предъявил удостоверение. — Следуйте на Петровку, тридцать восемь.
— Да кто вы такой? — изумилась жена пассажира.
— Из группы захвата. Вы задержаны.
На Петровке супругов поджидал воркутинский следователь С. В. Шарый. Теперь, после суда, уже не Э. И. Горшков, а он руководил следствием по делу Фирсова, Томковича и шабашников.
— Эх, Фирсов, Фирсов, — сказал пассажиру, задержанному группой захвата, следователь С. В. Шарый. — Эх, Эвир Дмитриевич! Я же вам разрешил отлучиться из Воркуты без права остановки в Москве. А вы как себя ведете? Будем оформлять протокол.
— А меня за что задержали? — спросила жена Фирсова. — Какое право имели?
— Этого требовали интересы операции, — объяснил жене Фирсова следователь С. В. Шарый.
Время от времени я звонил в Прокуратуру РСФСР начальнику отдела по надзору за следствием в органах МВД Виктору Николаевичу Макарову и спрашивал его, что с воркутинским делом. Как оно продвигается.
— Продвигается, — бодро отвечал мне Виктор Николаевич. — Дело перспективное.
Только теперь я узнал в полной мере, как продвигалось это дело. Какие оно приняло размеры и какие масштабы. Операция в аэропорту Шереметьево — пустяк, мелочь, один из второстепенных эпизодов.
Приказом МВД Коми АССР создана следственно-оперативная группа из трех человек. Руководитель — С. В. Шарый. Планы расследования систематически обсуждаются на совещании у самого прокурора Коми АССР В. В. Морозова и у его заместителя В. И. Лукина.
Скоро, однако, приходят к выводу, что трех человек мало. Старший следователь Главного следственного управления МВД СССР А. Д. Мартынов на очередном совещании предлагает группу значительно расширить. Предложение его принимается. Теперь дело ведут уже 6 следователей и 4 сотрудника ОБХСС.
Работа кипит. Работа разворачивается. Работа не знает ни конца, ни края.
Истекает один установленный срок следствия — Прокуратура Коми АССР, а затем и Прокуратура РСФСР его продлевают: трудитесь, товарищи, трудитесь, не покладая рук.
И 6 следователей, 4 сотрудника ОБХСС трудятся, не покладая рук. В поте лица своего. Не зная ни отдыха, ни передышки.
Уже отобраны для опроса 1000 человек. Уже проведено 100 очных ставок. Уже 200 раз выходили на строительные объекты. В различных городах Коми АССР, а также в Москве, Калуге, Донецке уже допрошено 400 свидетелей. Воркутинские следователи, за государственный счет, без устали колесят по стране. В различные города направлено уже более 100 отдельных поручений о производстве следственно-оперативных мероприятий. Проведено 20 строительно-технических, 3 судебно-бухгалтерских, 3 судебно-технических, 6 почерковедческих экспертиз.
Старайтесь, братцы, старайтесь.
Может быть, все-таки уличите Фирсова, Томковича и шабашников. Ну хоть в чем-нибудь. Ну хоть как-нибудь.
Уличить, однако, ни в чем не удается. Шесть лет прошло с начала следствия. Два с лишним года истекло после того, как суд вернул дело на новое расследование. А обвинение не продвинулось ни на шаг.
В Воркуту с инспекционной проверкой приезжает заместитель начальника Главного следственного управления МВД СССР Р. И. Попов. В официальном документе он с горечью констатирует, что до сих пор «не выявлены преступные связи… убедительных доказательств о предварительном сговоре на хищение не имеется, факты присвоения денег должностными лицами СУ-4 не установлены…».
Ну так остановитесь же наконец. Признайте, что неумелый и ограниченный следователь Горшков когда-то заварил кашу, втянул вас в дурацкую историю.
Нет! Как можно!
Объявить сейчас, через шесть лет, что дело-то, оказывается, не стоит и ломаного гроша, целиком высосано из пальца — означало бы расписаться в собственной несостоятельности. Сколько сил отдано, сколько высоких совещаний проведено, какая смелая операция организована была в Шереметьевском аэропорту по захвату двух опасных преступников…
И заместитель начальника Главного следственного управления Р. И. Попов дает следствию подробные указания и разъяснения, как продолжать это дело дальше.
Опять — продолжать. Все равно — продолжать. Еще дальше.
Фирсова и Томковича обвинили когда-то в растрате почти 60 тысяч рублей. Ну а сколько государственных средств растратили организаторы и исполнители этого следствия? И не для того, чтобы спасти город Воркуту, а для того только, чтобы спасти самих себя, свою собственную служебную репутацию.
Сколько?
Зарплата всем следователям, их бесконечные командировки, стоимость экспертиз, полугодовая работа суда… Тут уже не на десятки, тут на хорошие сотни тысяч рублей, наверное, потянет. Крупномасштабный брак на строительных объектах города Воркуты обошелся государству в 700 тысяч рублей. Ну а во что обошелся государству крупномасштабный брак в работе следственных органов? Меньше? Больше?
Из письма Верховного Суда Коми АССР министру угольной промышленности
«Люди, по вине которых допущен брак, в настоящее время работают на руководящих должностях… и будучи лично заинтересованными в сокрытии ранее допущенного брака, принимали все меры, чтобы брак не был вскрыт… Верховный Суд предлагает вам произвести служебное расследование… и о принятых мерах информировать Верховный Суд Коми АССР в месячный срок…»
Из ответа первого заместителя министра В. В. Белого Верховному Суду Коми АССР
«Установлено… в период возведения объектов ЦБК имели место уточнения инженерно-геологических условий… Нет основания привлекать… в настоящее время работников, участвовавших в строительстве, к материальной и дисциплинарной ответственности…»
Письмо это подписано первым заместителем министра, однако в каждом его слове, в каждой фразе звучит сердитая интонация Вячеслава Матвеевича Редькина, уверенный тон Бориса Ивановича Андрюшечкина.
Еду в министерство угольной промышленности СССР. Спрашиваю:
— Можно узнать, кто готовил это письмо? У вас есть данные?
— У нас все есть, — объясняют мне в министерстве и достают нужную папку.
И на копии письма, подписанного первым заместителем министра, я читаю: «Исполнитель: Андрюшечкин Б. И.»
Ах, как интересно!
Обожаю читать служебные бумаги. Медленно, не торопясь. Вчитываясь в каждое слово. Говорят, в личных письмах звучит иногда бурная драма человеческих страстей. А в служебной переписке разве не звучит? Еще как иной раз звучит. Добела, бывает, раскалена она, служебная бумага, страстями. Обжечься можно.
…Отвечая Верховному Суду, первый заместитель министра — а на самом деле он, Борис Иванович Андрюшечкин, — спешит сообщить, что «за злоупотребление служебным положением, в результате чего государству нанесен материальный ущерб», Эвир Дмитриевич Фирсов снят с работы и исключен из партии.
Верховный Суд ничего не спрашивает о Фирсове. Верховному Суду известно, что Фирсов снят с работы и исключен из партии. Верховный Суд полгода занимался делом Фирсова, направил его на новое расследование…
А Борис Иванович никак не может обойтись без того, чтобы опять не помянуть Фирсова. Не бросить в него лишний камень. Не пнуть его побольнее.
Зачем?
Да, конечно, делом Фирсова Борис Иванович заслонялся и продолжает заслоняться. Нет бракоделов — есть только расхитители.
Но ведь понимать должен: сейчас эта ссылка уже не уместна, никак не сработает, не ляжет в строку.
Однако Борис Иванович снова и снова возвращается к делу Фирсова.
Почему? Что его заставляет?
Когда-то, в самом начале, когда на Фирсова только поступила анонимка, у Бориса Ивановича выбор был: либо постараться отстоять Эвира Дмитриевича, сказать вслух всю правду, признать реальное положение вещей на строительстве (как потом попытался это сделать начальник «Союзшахтостроя» Н. И. Алехин), либо же смолчать, отступиться от Фирсова, отдать его на расправу.
Выбор был: либо вспомнить, как когда-то, в трудный час, он, Андрюшечкин, призывал Фирсова, просил его выручить, спасти пусковые объекты, обещал ему полную свою поддержку, уговаривал: «Потомки, Эвир Дмитриевич, тебя не забудут», либо же, наоборот, начисто это забыть, не хотеть помнить.
Выгоднее оказалось: забыть, от Фирсова отступиться.
Это не только позволяло Борису Ивановичу отрицать брак, крупные упущения в вверенном ему хозяйстве. Это вообще раскрепощало его. Во многих отношениях раскрепощало. И, прежде всего, освобождало Андрюшечкина от чувства благодарности к Фирсову, от сознания, что он, Борис Иванович, многим ему обязан.
Ведь если Фирсов — растратчик, преступник, то, значит, нет у него и никаких заслуг — ни перед городом Воркутой, ни перед Борисом Ивановичем Андрюшечкиным лично. И Борис Иванович может тогда забыть, не думать, не тяготиться мыслью о том, что Фирсов, своими усилиями, своей работой, спас не только город Воркуту, но и его, Бориса Ивановича, тогдашнего начальника комбината, тоже избавил от очень крупной, серьезной ответственности: за разрушение котельной, за возможные человеческие жертвы, за новую долгую зиму в городе без тепла, за эвакуацию города.
Вот и получалось, что Борису Ивановичу по всем статьям была нужна, выгодна короткая память.
Чем короче, тем лучше.
Какая все-таки это удобная штука, наша короткая память! От каких только лишних чувств и забот она не освобождает нас. От стыда перед теми, кого мы предали, например. От сострадания к тем, кто из-за нас мучается. От элементарной порядочности, наконец.
«Фирсов снят с работы, исключен из партии», — торопится сообщить Верховному Суду Борис Иванович Андрюшечкин.
Ах, Борис Иванович, Борис Иванович, даже спасая себя, даже защищая свои интересы, надо хоть немножечко позаботиться о том, чтобы слишком уж не подставляться. «Все хорошо, — объясняете вы Верховному Суду, — вместо меня уже наказан Фирсов. Что еще надо?»
Однако вы ведь вполне смело написали такие слова. Совершенно сознательно. Не думая вовсе о том, как они могут прозвучать и чем против вас обернуться.
Почему?
Я вам скажу.
Потому что вы привыкли, Борис Иванович, что в бюрократической переписке бумагу обычно закрывает любая бумага. Все равно о чем. Не имеет значения. Был запрос — пришел ответ. Дело закончено. Привыкли, что слова, написанные в сотнях, тысячах, десятках тысяч бумаг, не имеют иной раз никакого отношения к тому, что происходит на самом деле. Если бы все обстояло не так, иначе, если бы каждое слово в каждой официальной бумаге всегда соответствовало факту, истине, разве затянулось бы на долгие шесть лет это беспрецедентное воркутинское дело?
А коли от всего всегда можно заслониться любой бумагой, коли бумага всегда все стерпит, то и вывод отсюда: все можно, все позволено, все что угодно.
Нет, Борис Иванович, не все. Вы ошиблись. Рассказ мой — тому подтверждение.
Еще до поездки в Воркуту мы, корреспонденты «Литературной газеты», получили приглашение участвовать в пресс-конференции, которую проводил Генеральный прокурор СССР Александр Михайлович Рекунков.
Присутствующие задавали ему вопросы, делились впечатлениями, высказывали свои соображения.
Я тоже взял слово и рассказал об этом воркутинском деле.
О том, что тянется оно уже шесть лет, а конца ему все не видно. О напрасных попытках редакции «Литературной газеты» узнать, когда же все-таки следствие намерено завершить свою работу. О многолетних мытарствах людей, которые не знают за собой никакой вины. От имени редакции «Литературной газеты» я просил помощи у Генерального прокурора.
И тогда в Воркуту вылетел прокурор Главного управления по надзору за следствием в органах МВД Сергей Дмитриевич Замошкин.
Две недели, с утра до вечера, тщательно, скрупулезно изучал он это многотомное дело. Принял решение: затребовать дело в Прокуратуру СССР.
И вот получен ответ.
В редакцию «Литературной газеты»
По просьбе редакции, высказанной в Прокуратуре Союза ССР на встрече с журналистами, проверено с выездом на место уголовное дело в отношении должностных лиц и временных рабочих строительного управления № 4 треста «Печоршахтострой», которое более шести лет не находило своего разрешения в органах внутренних дел Коми АССР.
Установлено, что следствие надлежаще организовано не было, допущены грубая волокита, необъективность, необоснованное привлечение большого числа лиц к уголовной ответственности. Начальник СУ-4 Фирсов и Матюнин были незаконно задержаны, а затем арестованы и длительное время содержались под стражей.
Следствием игнорировалось то обстоятельство, что действия работников СУ-4 были обусловлены создавшейся в семидесятых годах в г. Воркуте критической ситуацией. Причины некачественного строительства в процессе следствия практически не выяснялись, ответственные за него лица не определялись, важные для решения этих вопросов документы своевременно не изъяты. Таким образом, ответственные за некачественное строительство лица остались безнаказанными, а те, кто принимал меры к устранению брака, были необоснованно признаны следователем органов внутренних дел виновными в причинении ущерба… Уголовное дело прекращено в Прокуратуре Союза ССР за отсутствием состава преступления.
Министру внутренних дел СССР внесено представление, в котором поставлены вопросы о наказании конкретных виновных лиц. Работники прокуратур города Воркуты, Коми АССР и РСФСР, не обеспечившие надлежащий прокурорский надзор за следствием и не пресекшие своевременно нарушения закона, строго наказаны в дисциплинарном порядке.
А. М. Рекунков, Генеральный прокурор СССРПолучен был также ответ из министерства внутренних дел СССР. Следователь Э. И. Горшков освобожден от должности и уволен из органов внутренних дел.
Вот и наступил конец этой истории. Справедливость, кажется, все-таки восторжествовала. После шести лет незаслуженных страданий люди начинают приходить в себя. Дай им Бог сил, как говорится.
Но меня преследовала, не давала покоя одна горькая мысль.
А не случись пресс-конференции в Прокуратуре СССР, не довелись рассказать Генеральному прокурору СССР об этом затянувшемся деле, сколько бы еще мы названивали из редакции «Литературной газеты» вполне ответственным товарищам и слышали бы от них вполне спокойный ответ: «Не тревожьтесь, пожалуйста. Дело перспективное, следствие продолжается»?
А через некоторое время в редакцию пришел еще один документ, на этот раз повестка в суд. Те, кто чуть было не погубили город Воркуту и людей, его спасших, обвиняли «Литературную газету» и меня, автора статьи, в клевете. Ни доводов, ни аргументов, ни фактов, опровергающих выступление газеты, в исковом заявлении, конечно, не приводилось, откуда им было взяться, только клокотала злоба.
Слушалось дело в Москве, в Басманном суде, название это тогда еще не стало нарицательным. Истцов представлял один Редькин, главный воркутинский бракодел, а свидетелями на стороне газеты выступали строители, специально прилетевшие из Воркуты, и московские шабашники. Долго суд не продолжался, судьям все очень скоро стало ясно, и истцам отказали. Редькин собрал в портфель бумаги и быстро ушел.
Но мне почему-то казалось, что на том дело не закончится, эта теплая компания не угомонится. Так оно и получилось. Только счеты они свели уже не с автором статьи, а с воркутинским судьей И. С. Кирдеевым, который когда-то отказался пойти на поводу у следствия и осудить невиновных людей.
У Кирдеева умер близкий друг. После похорон, как положено, все отправились к вдове на поминки. Выпили, конечно. И Кирдеев тоже выпил. А тут еще сказалось, наверное, нервное напряжение, волнение, смерть друга он сильно переживал. Короче, почувствовал он себя неважно. Вдова покойного домой его не отпустила, постелила ему в кухне на раскладушке, тем более следующий день был выходным. А через несколько дней в райком партии пришла анонимка: в стране, мол, идет антиалкогольная компания (было тогда такое сумасшествие), а наш судья напивается, не зная меры, демонстрирует тем самым непартийное поведение. «Сигнал», видимо, ждали и потому немедленно дали ему ход. Назначили громкое персональное дело. Кирдеева из партии исключили, а следом, понятно, убрали и из судей.
Узнал я об этом не сразу, а к тому времени, как узнал, Кирдеев из Воркуты уже уехал, найти его я не сумел. И долго еще у меня оставалось ощущение, что, не рассказав в газете, как расправились с судьей, я так и не поставил в этой позорной истории последнюю точку.
Преступление против правосудия
Как-то в моем редакционном скворечнике, гордо называвшемся кабинетом, раздался телефонный звонок. Звонивший представился следователем республиканской прокуратуры. Со многими прокурорскими работниками я был знаком, встречался, изучая те или иные дела, но фамилия того, кто был сейчас на проводе, мне ничего не говорила. Тоном, не терпящим возражения, он предложил мне завтра в десять утра быть у него: «Пропуск вам заказан». «А в чем дело?» — спросил я. «Придете — узнаете». Ну что ж, в десять, так в десять, даже любопытно.
«Скажите, — спросил он, когда я пришел к нему, — что побудило вас написать об адвокате Хачатурове?» Я удивился: «Не понимаю». «Ну, сигнал был какой-нибудь, читательское письмо?» — «Да, совершенно верно, было читательское письмо». — «Чье?» — «Его же, адвоката Хачатурова». — «Мы бы хотели с письмом ознакомиться». Это уже принимало совсем неожиданный оборот. «А зачем? — спросил я, — не объясните?» — «Когда ознакомимся, тогда и объясним». — «Нет, — сказал я, — письмо я вам не дам. Если у вас есть законные основания, тогда можете произвести в редакции выемку документа». — «Хорошо, — сказал он, — воля ваша».
Назавтра этот следователь явился к нам в редакцию. «Вот», — он протянул бумагу. В ней было сказано, что мне надлежит передать в распоряжение республиканской прокуратуры читательское письмо, послужившее поводом для написания А. Бориным статьи в защиту адвоката Хачатурова. «Ну что вы, — сказал я, — так не пойдет. А где официальное постановление о выемке документа, где приглашенные понятые? Без этого я не могу». Он с интересом посмотрел на меня. «А вы знаете, что постановление о выемке может быть вынесено только после возбуждения уголовного дела? Или вы хотите, чтобы по факту вашей статьи мы возбудили дело?» — «Да, — подтвердил я, — именно этого я и хочу». — «Хорошо», — сказал он.
В статье, о которой шла речь, рассказывалось о том, как 4 февраля 1985 года старший следователь Сочинской прокуратуры Хасан Ахмедович Нунаев, сопровождаемый двумя работниками милиции, на улице, возле юридической консультации, задержал адвоката Рафаэля Ивановича Хачатурова. Ему было объявлено, что он подозревается в получении 2500 рублей от некоего гражданина Ш. Т. Дукояна. Часть названной суммы адвокат, дескать, взял себе, а другую передал судье Э. И. Чуприне. За это судья Чуприна, председательствуя в процессе над Дукояном, обвиненным в сопротивлении работнику милиции, приговорил подсудимого всего лишь к одному году исправительно-трудовых работ. Хачатуров все категорически отрицал. Никаких денег у Дукояна он не брал и никому их не передавал.
7 февраля арестованный Хачатуров запишет в своей тетрадке (обычная школьная тетрадка в клеточку, своеобразный тюремный дневник, который Хачатуров вел день за днем):
«7 февраля. Я потребовал очной ставки с Дукояном. Нунаев объяснил мне, что сейчас очная ставка нецелесообразна, так как Дукоян пока еще ни в чем не сознался. Но у них есть свои методы, показания из Дукояна они все равно выбьют, и будет лучше, если я сам все расскажу. „Тебе все равно сидеть“».
Из заявления Ш. Т. Дукояна
«В феврале 1985 года меня несколько раз допрашивал следователь Нунаев в отношении адвоката Хачатурова, говорил, чтобы я подписал, что дал ему деньги для передачи судье Чуприне, который якобы за эти деньги дал мне всего один год исправработ. Я отказался дать такие показания, потому что никаких денег Хачатурову я не давал… Тогда на одном из допросов присутствовавший, как он назвал себя, работник МВД несколько раз меня ударил. При этом Нунаев сказал ему: „Не бейте Дукояна, у него цирроз печени…“ В изоляторе временного содержания меня держали 36 суток».
(Справка: в отличие от следственного изолятора изолятор временного содержания (ИВС) лишен целого ряда необходимых бытовых условий. Здесь нет прогулок, ограничен рацион питания, не выдается постельное белье. Даже лишние сутки находиться здесь — тяжкое испытание для заключенного. Поэтому закон устанавливает, что держать заключенного в ИВС разрешено не более трех суток. В исключительных же случаях, когда дело происходит в отдаленной местности, где нет путей сообщения, срок этот может быть продлен, но не более чем до 30 суток. Город Сочи расположен, как известно, не на краю земли, и пути сообщения здесь есть. Однако Нунаев объяснит потом — цитирую: «Дукоян сам просил меня держать его в таком изоляторе, он говорил, что здесь ему лучше».)
…Меня держали, — продолжает Дукоян, — без пищи и прогулок, зная, что я болен… Я написал заявление о том, что отказываюсь от следователя Нунаева, но он тут же, при мне, порвал это заявление… 21 марта Нунаев сказал мне: «Если ты напишешь явку с повинной, я завтра же отпущу тебя домой». И я под диктовку Нунаева написал «чистосердечное признание» на имя прокурора Климова, где оговорил адвоката Хачатурова и судью Чуприну. Нунаев велел, однако, поставить дату не 21 марта, а более раннюю: 30 января.
Нунаев объяснит потом: «Признание Дукояна было для меня совершенно неожиданным. Кто такой Хачатуров, я вообще не знал… Однако при составлении „чистосердечного признания“ Дукоян спрашивал меня, как ему написать то или иное слово либо сформулировать то или иное предложение, и я ему в этом действительно помогал».
«Чистосердечное признание» Дукояна нуждалось, разумеется, в подкреплении, и в деле имеется «протокол проверки показаний Дукояна на месте». В нем подробно записано, как в присутствии понятых А. В. Шитова и Б. К. Маркеловой Дукоян показал на месте, где и каким образом передавал он взятку адвокату Хачатурову. Однако вахтер общества «Аврора» Шитов и пенсионерка Маркелова объяснят потом, что никуда они не выезжали и ничего не видели. Следователь Нунаев пригласил их к себе в кабинет и сказал, что нужно подписать какой-то протокол. Они подписали.
Рассказывая эту историю, я стараюсь не делать преждевременных выводов и не поддаваться поспешным эмоциям. Есть факт, есть документ, есть дело — вот и давайте из них исходить. Если к работе журналистов применимо это слово, то цель моя — попытаться провести расследование одного уголовного расследования.
Из тюремного дневника Р. И. Хачатурова
14 февраля
Этапом отправили из Сочи. Наручники, конвой, сторожевые собаки. На вокзале полно знакомых. Старался не смотреть им в глаза.
4 марта
Этапом — обратно в Сочи.
27 марта
Вызывали на допрос. Я опять потребовал очной ставки с Дукояном. Нунаев сказал, что пока он его выпустил, но позже обязательно проведет очную ставку. Сказал, что обвинение мне будет предъявлено 3 апреля.
28, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4 апреля
На допросы не вызывали, обвинение не предъявлено.
5 апреля
Написал заявление начальнику изолятора временного содержания о том, что незаконно нахожусь здесь более трех суток. Объявил голодовку. Требую сообщить об этом прокурору Климову.
6 апреля
На допрос не вызывали.
7 апреля
Снова этап. Опять наручники, конвой, собаки. Голодовку прекратил, так как надо беречь силы.
26 апреля
Сегодня закончился установленный законом срок содержания меня под стражей. Потребовал предъявить решение Прокуратуры РСФСР о продлении этого срока — иначе опять объявлю голодовку.
27 апреля
Вызывали к врачу. Тот уговаривал не объявлять голодовку, так как это считается нарушением режима и меня могут посадить в карцер. Я уступил.
3 мая
Предъявили подписанную Нунаевым бумагу о том, что срок содержания меня под стражей продлен Прокуратурой РСФСР до 26 июня. Я потребовал показать мне подлинный документ.
14 мая
Сегодня опять доставлен этапом в Сочи. Вызывали на допрос. Я отказался давать показания, пока не предъявят мне подлинное постановление.
В деле есть протокол этого допроса от 14 мая.
Следователь Нунаев:
«Вам официально разъясняется, что срок содержания вас под стражей прокурором РСФСР продлен до 26 июня 1985 года. Будете давать показания?»
Обвиняемый Хачатуров:
«Нет, не буду, пока не предъявите это постановление. Кроме того, еще раз требую очной ставки с Дукояном».
Следователь Нунаев:
«Следствие разъясняет вам, что следственные действия, в том числе очные ставки, будут проведены исходя из следственной тактики».
«Официальное разъяснение» следователя Нунаева о том, что прокурор республики продлил срок содержания Хачатурова под стражей до 26 июня 1985 г., — откровенная и беззастенчивая ложь. Нет и никогда не было такого продления. Когда Нунаева спросят потом, зачем в официальном протоколе он написал явную липу да еще скрепил ее своей подписью, Нунаев ответит: «А я не сомневался, что такое продление будет». Не сомневался в этом, очевидно, и прокурор города Сочи Климов. Зная, что срок содержания Хачатурова под стражей истек и по закону нельзя больше держать его в тюрьме ни одного часа, Климов так отвечал на многочисленные жалобы жены Хачатурова в самые высокие инстанции: «Указанные вами факты являются надуманными. Расследование дела ведется в пределах закона»; «Вина Хачатурова… доказана полностью. Расследование по делу ведется в соответствии с законом»; «Уголовное дело по обвинению Хачатурова расследуется в пределах закона. Оснований к изменению меры пресечения Хачатурову в настоящее время не имеется».
Получается, значит, лгал не только следователь Нунаев, лгал вместе с ним и прокурор Сочи Климов. И ложь эту тоже невозмутимо скреплял своей подписью.
Нарушая закон, люди чаще всего таятся и прячутся. Я не слышал, чтобы кто-нибудь прилюдно давал взятку или воровал при большом скоплении народа. Следователь Нунаев и прокурор Климов, нарушая закон, действовали, однако, совершенно открыто. Не таясь. У всех на виду. Почему? Не потому ли, что считали свои действия вполне обычными и нормальными и рассчитывали, что и начальство тоже расценит эти действия как норму? И ведь не ошиблись, оказались правы! Заместитель прокурора Краснодарского края, старший советник юстиции Е. М. Басацкий — жене Хачатурова: «Сообщаем, что Хачатуров к уголовной ответственности привлекается обоснованно». Прокурор Краснодарского края, государственный советник юстиции 3-го класса Б. И. Рыбников (письмо это написано уже после того, как прокуратура республики отказалась продлить срок содержания Хачатурова под стражей): «Вина Хачатурова в организации взятки гр-ном Дукояном Ш. Т. доказана. Мера пресечения — содержание под стражей избрана с учетом характера совершенного преступления».
Законным и обоснованным прокуроры объявляли не то, что действительно разрешено законом, а любые поступки и действия, совершаемые следствием.
Освобожденный ценой «чистосердечного признания», Дукоян на воле пробыл совсем недолго, что-то около месяца. С санкции прокурора Климова следователь Нунаев опять берет его под стражу.
Дукоян в это время находится в больнице: перелом ноги. В тюрьму его доставляют на костылях.
На первом же допросе Дукоян сделал заявление: следователь Нунаев обманул его, а потому он, Дукоян, отказывается от своего «чистосердечного признания», никакой взятки адвокату Хачатурову он не давал. Это заявление — сокрушительный удар по следствию: кроме «чистосердечного признания» Дукояна, у следствия нет против Хачатурова никаких улик.
Поступок Дукояна Нунаев объясняет исключительно пагубным влиянием на него адвоката. К тому же на Дукояна могли повлиять и родственники Хачатурова. Назначается очная ставка между Дукояном и отцом Хачатурова. Вот как описывает тот ее подробности: «Дукоян отказался давать какие-либо показания, сидел и молчал… Когда очная ставка была закончена и Дукоян на костылях пошел к двери, Нунаев сильно ударил его кулаком по шее. Дукоян не удержался на костылях и упал… Нунаев несколько раз ударил его ногой…»
Через пять дней на Дукояна в камере ИВС натравливают служебную собаку. По этому поводу в деле собрана подробнейшая документация. Рапорт милиционера Костенко: «Арестованный Дукоян неоднократно нарушал режим содержания… Я взял служебную собаку… и встал у двери». Дежурный ИВС Горбунов: «…У собаки сработал рефлекс, и она с лаем заскочила в камеру, втащив за собой милиционеров…» Нунаев: «Никаких указаний о применении собаки я не давал… Я видел у Дукояна порванные брюки и швы на теле, однако медицинского освидетельствования не назначал, так как это было бы превышением моих полномочий». Медицинское освидетельствование Дукояна проведено было только через десять месяцев. Эксперт отметил: «Два рубца в области левого коленного сустава, явившиеся следствием рвано-ушибленных ран… Могли быть причинены… зубами собаки…» (Справка: В МВД СССР редакции «ЛГ» разъяснят, что использование служебной собаки в камере изолятора категорически запрещено…)
Однако даже сейчас, когда события развернулись так круто, когда в ход пошла служебная собака, дело это все еще считается рядовым и вполне обычным. Таково отношение к нему не только следователя Нунаева и прокурора города Сочи Климова. Прокурор Краснодарского края, государственный советник юстиции 3-го класса Б. И. Рыбников тоже, судя по всему, не видит большой крамолы, если собака в тюремной камере разорвет ногу заключенному. В официальном документе прокурор края объяснит потом, что собака в отношении Дукояна применена была «с целью пресечения неповиновения».
Полное единство следствия и надзирающих за ним прокуроров по-прежнему остается главной, основополагающей чертой изучаемого нами дела.
Незаконно отсидев в тюрьме 53 дня, освобожденный только по настоянию прокуратуры республики, Хачатуров на свободе пробыл совсем недолго, всего восемь дней. На девятый день его опять арестовали. Произошло это так. Хачатуров написал заявление на имя прокурора города и прокурора края. Подробно, пункт за пунктом, адвокат проанализировал все нарушения закона, сделанные следствием.
Секретарю прокурора города заявление это было вручено в 14 часов 05 минут (есть соответствующая отметка). Через несколько часов дом Хачатурова окружила милиция: «Рафаэль Иванович? Вызываетесь для беседы».
Стоял жаркий летний вечер. На Хачатурове — легкая белая рубашка и белые брюки. Он спросил: «Это опять арест? Мне переодеться?» — «Что вы! — сказал милиционер. — Через час будете дома».
В тот вечер Хачатуров домой не вернулся. Не пришел он и на следующий день.
Была суббота. Прокуратура не работала. Жена Хачатурова бросилась в милицию: «Умоляю, мой муж у вас?» Ей ответили: «Имеем распоряжение не давать вам никакой информации». В понедельник жена Хачатурова записалась на прием к прокурору Климову. Когда ожидала в очереди, к ней подошла женщина, шепотом спросила: «Вы жена адвоката? Час назад я видела вашего мужа в хирургическом отделении больницы, весь в крови».
Из тюремного дневника Хачатурова
23 июля
После моего повторного ареста события развивались следующим образом. Я понял, что жалобы писать бесполезно. Необходимо привлечь внимание к делу каким-то другим способом. Переломил оловянную ложку и острым концом пропорол себе живот. Рана неглубокая. Но крови было много. Возили на операцию. После этого в камере держали в наручниках. Не снимали их даже во время подачи пищи. Сегодня этапом отправили из Сочи.
Из постановления прокурора г. Сочи В. С. Климова
«Хачатуров полностью изобличен в совершении тяжкого преступления… Меру пресечения в виде подписки о невыезде… изменить на заключение под стражу»…
Одновременно прокурор города утвердил и обвинительное заключение. О том, что адвокат Хачатуров брал деньги для передачи судье Э. И. Чуприне, речь теперь уже не шла. Пришлось ограничиться версией попроще: «Получив от Дукояна взятку якобы для передачи судье, Хачатуров фактически присвоил эту сумму».
Назавтра прокурор города дело Дукояна и Хачатурова отправил в суд. Этим, собственно, и объясняется та легкость и свобода, с которой прокурор Климов мог игнорировать позицию прокуратуры республики, посчитавшей, что Хачатурова нельзя дальше держать в тюрьме. Нельзя — пока числится он за прокуратурой, пока он «ее арестант». Но с того самого часа, с той минуты, когда передан он суду, все ограничения и сроки больше не действуют. За судом арестант числиться может сколько угодно, неограниченно. Очень удобный прием, позволяющий человека, не признанного еще по закону преступником, месяцами держать в тюрьме.
Исследуемая нами история очень поучительна. Не каждый раз случается, чтобы вот так, все вместе, были собраны и сфокусированы воедино самые разные приемы и методы фальсификации уголовного дела. Чаще приходится сталкиваться лишь с отдельными, гораздо более скромными ее элементами. Но оттого именно, что здесь, в этом сочинском деле, представлена почти вся палитра неправомерных действий следователя, и видны они очень ясно, выпукло, как на ладони, дело это, мне кажется, вполне достойно не только газетной полосы, но и по праву могло бы занять свое место на страницах какого-нибудь вузовского учебника: в назидание, так сказать, будущим юристам.
Исходных условий для фабрикации уголовного дела требуется, мы видим, совсем немного. Во-первых, нужен источник ложной, но полезной следователю-фальсификатору информации. Лучше всего роль эту выполнит человек, уже уличенный в совершении какого-то преступления, а потому сознающий свою зависимость от следователя. Во-вторых, необходима достаточная свобода рук, свобода действий, когда задержание, арест, освобождение из-под ареста, в нужный момент и на определенных условиях, следователь использует для оказания давления на своего подследственного (метод кнута и пряника). И, наконец, такой следователь должен знать, быть уверен, что любое его действие будет поддержано, оправдано и узаконено прокурором. А иначе за фальсификацию уголовного дела лучше и не браться, ничего не выйдет.
Судебный процесс над Дукояном и Хачатуровым состоялся в городе Туапсе: сочинским судьям Хачатуров дал отвод. В своем определении суд отметил, что следствием допущены «существенные нарушения уголовно-процессуального закона». Хачатуров незаконно находился под стражей. «Дукояну были причинены телесные повреждения, имеющие следы укусов собаки». Вина обвиняемых объективными данными не подтверждена. В общем, это определение — прямой обвинительный акт в адрес следствия.
Но вот какое обстоятельство. Удаляясь в совещательную комнату для вынесения определения, судьи имели заявление Хачатурова. Он писал в нем, что никакого преступления не совершал, что в тюрьме находится незаконно, что его отец здесь, в туапсинской больнице, лежит с инфарктом — не выдержал старик свалившегося на него горя. Об оправдательном приговоре в заявлении речь не идет. Хачатуров, конечно, знает сложившуюся судебную практику. «Прошу вас, отправляя дело на доследование, — пишет он, — с учетом состояния моего здоровья и здоровья моего отца избрать мне мерой пресечения подписку о невыезде. Если мне будет в этом отказано, вынужден буду покончить жизнь самоубийством, не дожидаясь справедливости и законности в этом сфабрикованном деле».
На доследование суд дело направил. Меру пресечения, однако, не изменил, Хачатурова оставил под стражей.
Почему?
Судья Галина Георгиевна Назарова, председательствовавшая на том процессе, рассказывает, как тяжело шел процесс, как один за другим рушились все доводы обвинения, как негодовал следователь Нунаев, которого суд счел нужным допросить в качестве свидетеля, как был вызван в качестве свидетеля и сам прокурор города Сочи Климов. А потом? Какие только усилия не предпринимала прокуратура, чтобы отменить определение суда! Его оставила в силе судебная коллегия Краснодарского краевого суда, но прокурор края Б. И. Рыбников принес протест в порядке надзора. Он писал в нем, что, установив незаконные действия следствия, суд мог вынести в его адрес частное определение, но не возвращать дело на доследование. (Фабрикуя уголовное дело, очень важно поскорее сбыть его с рук, переложить всю ответственность на плечи суда. Следствию известно: свои возможности оно уже полностью исчерпало, никаких новых фактов добыто больше не будет, потому что их не было и нет. Доследование — напрасная трата времени.) Президиум краевого суда отклонил, однако, и протест краевого прокурора.
— Галина Георгиевна, — спрашиваю я, — почему все-таки не изменили Хачатурову меру пресечения, оставили его в тюрьме?
Долгая пауза.
— Разрешите мне не отвечать на ваш вопрос, — говорит Г. Г. Назарова.
Из письма в редакцию «ЛГ» члена Краснодарского краевого суда В. М. Калачева
За 18 лет работы судьей я позволил себе вынести немало оправдательных приговоров. Вот чем это кончилось. Однажды в 7 часов утра ко мне домой явились работники прокуратуры, милиции, понятые и предъявили постановление на обыск, подписанное прокурором города. В нем указывалось, что они ищут… порнографические журналы и фильмы, видео- и радиоаппаратуру… Через два часа такой же точно обыск был учинен в помещении краевого суда, в моем служебном кабинете… Разумеется, ничего предосудительного они не нашли, но цель их состояла в другом: показать свою власть и силу непокорному, непослушному судье.
Последний этап изучаемого нами дела интересен, мне кажется, тем, что он показывает, какие изощренные приемы и методы находит следствие в ситуации, из которой выхода, казалось бы, уже нет: надо отступить, поднять руки, признать свое поражение.
Пять месяцев после суда Хачатуров еще находится в тюрьме (дело его кочует по разным юридическим инстанциям). Наконец дело принимает к своему производству старший следователь Сочинской прокуратуры С. В. Перепелицын. Задача у следователя одна: всеми правдами и неправдами затянуть дело. Любой ценой. Настолько, насколько это возможно. Перепелицын меняет Хачатурову меру пресечения и дело против него приостанавливает. Почему? Хачатуров, мол, болен, и «ему требуется клиническое лечение». Ни о каком «клиническом лечении» врачи речи не ведут, но раз следствию нужно, чтобы Хачатуров лечился, значит, пусть лечится.
Выделяется в отдельное производство дело о применении к Дукояну служебной собаки. Не для того, понятно, чтобы делу этому дать ход, а для того, наоборот, чтобы хода ему не давать. Бумага подписана, пронумерована и подшита в папку. Все, с концами. Здесь она и погибнет. (Метод «концы в воду».)
Изучив все материалы, прокурор следственного управления Прокуратуры РСФСР Г. В. Андреевский дело против Р. И. Хачатурова прекратил. Установлено: Р. И. Хачатуров не виноват.
В прокуратуре Краснодарского края состоялось заседание коллегии. Прокурор края Б. И. Рыбников подписал приказ:
«Старший следователь Нунаев Х. А. …допустил грубейшие нарушения закона, фальсифицировал документы… Нунаеву Х.А. объявить строгий выговор».
Однако республиканская прокуратура отнеслась к сочинским стражам закона строже: и следователь Х. А. Нунаев, и прокурор В. С. Климов из органов прокуратуры были уволены.
Завершая эту статью, я писал: когда рассказываешь о загубленных человеческих судьбах, с болью приходится каждый раз повторять, что судьба человека, привлеченного к уголовной ответственности, не может, не должна зависеть от личных качеств следователя, ведущего его дело; хорош или плох тот следователь, но соблюдение закона должно быть гарантировано всегда; способ для этого есть, в сущности, только один: создать четкий правовой механизм, который бы надежно исключал все и всякие лазейки перед нарушителями закона. О том, каким быть такому правовому механизму, не умолкают сегодня споры. И это вполне естественно: решать с кондачка тут нельзя никак, необходимо все тщательно взвесить, обдумать, обсудить, семь раз отмерить… Однако пока мы все это обсуждаем и отмериваем, не томится ли где-нибудь в тюремной камере другой такой же адвокат Хачатуров, дело которого ведет другой, тоже поднаторевший в своем высоком искусстве следователь Нунаев? И здесь когда-нибудь восторжествует полная справедливость? Замечательно! Только утешаться этим особенно легко нам, находящимся не по ту, а по эту сторону тюремного забора.
После публикации этой статьи сыр-бор еще не разгорелся, все произойдет позже: и грозный звонок из прокуратуры раздастся, и вызовут меня к следователю, и назавтра сам он явится в редакцию, чтобы произвести выемку письма Хачатурова. А тогда, после публикации статьи, мы даже получили из Прокуратуры СССР благожелательный официальный ответ. В нем говорилось, что «следователь прокуратуры г. Сочи Нунаев Х.А. на основании непроверенных сведений, злоупотребляя служебным положением, задержал адвоката Хачатурова Р.И.… Получив ряд косвенных доказательств и проявив необъективность, арестовал Хачатурова… Следствие по делу проводилось односторонне, доводы обвиняемого в свою защиту глубоко не исследовались, ходатайства необоснованно отклонялись. Кроме этого, Нунаев исправил дату в заявлении Дукояна о передаче денег Хачатурову, внес искаженные данные в протокол проверки показаний Дукояна при выходе на место… Подтвердились сведения о толчке Нунаевым в спину Дукояна, но не о его избиении, не нашло также подтверждение заявление Дукояна о том, что Нунаев дал указание применить к нему собаку…» Дальше в письме было сказано, что Нунаев и прокурор г. Сочи Климов уволены, однако решено к уголовной ответственности Нунаева не привлекать — «вследствие изменения обстановки».
Такой уклончивый ответ редакцию, конечно, не мог удовлетворить. Разговор необходимо было продолжить.
Читаю подробный ответ, полученный редакцией, писал я в новой статье, и пытаюсь понять: ну так как же, права все-таки была газета, поднимая разговор не об отдельных промахах и ошибках следователя, даже не об обвинительном уклоне в его действиях, а о сознательной и преднамеренной фабрикации им уголовного дела, одеяниях, именуемых в законе преступлениями против правосудия?
Получается, вроде бы права. Ответ Прокуратуры СССР, кажется, это подтверждает. Но отчего же в ответе Прокуратуры СССР о незаконном аресте адвоката сказано, а вот о том, какой квалификации заслуживают такие действия следователя, нет ни слова? Что это? Недомолвка? Или особая, непонятная мне сдержанность? Тогда чем она вызвана, продиктована?
От нас, журналистов, работники прокуратуры требуют — и вполне, разумеется, справедливо! — чтобы ничего на веру, ни одного голословного, расплывчатого утверждения, каждое слово должно быть выверено и подтверждено документами. Уголовное дело Р. И. Хачатурова мы с юристом «ЛГ» И. Э. Каплуном изучили от корки до корки. Неделю безвыходно над ним сидели. Вот оно, надиктованное на магнитофонные кассеты и перепечатанное редакционными стенографистками. Подробное и объемистое служебное досье. Но если от нас, журналистов, прокуроры требуют дотошности, скрупулезности, точных и ясных формулировок, то и мы, наверное, тем паче вправе того же требовать от них. Пунктуальность и ответственность, полагаю, наша общая профессиональная черта.
Читаю в ответе Прокуратуры СССР: «В ходе следствия подтвердились сведения о толчке Нунаевым в спину Дукояна, но не о его избиении…» Открываю редакционное досье, нахожу соответствующий эпизод. У Дукояна — перелом ноги. В тюрьму доставляют его на костылях. Свидетель, с которым устраивают ему очную ставку, описывает, как Дукоян на костылях шел к двери, а Нунаев в этот момент сильно ударил его кулаком по шее. Дукоян не удержался и упал…
Теперь в ответе Прокуратуры СССР сказано об этом очень осторожно: «толчок в спину». Человека на костылях следователь не избивал, а всего-навсего сбил с ног. Не больше.
В законе говорится: принуждение к даче показаний, соединенное «с применением насилия или с издевательством над личностью допрашиваемого», наказывается лишением свободы. «Толчок в спину», в результате которого допрашиваемый оказался на полу, — это как, насилие или нет, издевательство над личностью или просто милая шутка следователя?
Из ответа Прокуратуры СССР узнаю, что предположение, будто именно Нунаев велел науськать на арестованного собаку, «подтверждения не нашли». Может быть. Но ведь в очерке я уже приводил слова Нунаева: «Никаких указаний о применении собаки я не давал». Однако кто-то их все-таки давал, если служебная собака оказалась вдруг в тюремной камере? Кому-то зачем-то это вдруг понадобилось? Кому? И зачем? Журналист ограничен тем, что называет факты, публикует документы и высказывает собственные предположения. А расследование, проводимое самой Прокуратурой СССР, может гораздо больше. Все может! И новые факты установить, и действия людей квалифицировать, и виновных привлечь к ответу. Почему же тогда такая робость, скромность, я бы сказал, стеснительность звучит в ответе, полученном редакцией «Литгазеты» из Прокуратуры СССР?
Вспоминаю старинную игру: «да» и «нет» не говорить, белое и черное не называть… Ответ, полученный редакцией, выдержан, мне кажется, в строгих правилах этой увлекательной детской игры.
В конце октября 1987 года уже уволенный из прокуратуры Нунаев явился в финансовый отдел Центрального района города Сочи и принес… чемодан денег. Лежало в том чемодане ни много ни мало — 11 168 рублей. Помощник заведующего райфо Наталья Алексеевна Шаталина очень удивилась: «Что это?» «Деньги конфискованные у преступников», — объяснил Нунаев. «Какие деньги? — не поняла она. — Когда конфискованы? Почему хранилась они у вас, а не были, как положено, сданы в банк? Нет, то, что вы пытаетесь сделать, незаконно».
О странном визите бывшего следователя с чемоданом денег заведующий райфо сообщил в городскую прокуратуру. И получил ответ. Вот он — цитирую: «Сообщаю, что 18 февраля 1985 года Центральным райнарсудом г. Сочи были осуждены граждане П., А. и О. за совершение изнасилования гражданки Р. К делу в качестве вещественного доказательства было приобщено 11 168 рублей, которые преступники, пытаясь уйти от ответственности, передали потерпевшей. Бывший следователь Нунаев пояснил, что деньги до вступления приговора в законную силу хранились у него в сейфе. Потом он пытался их сдать в госбанк, центросберкассу, финотдел их никто не хотел принимать… Зам. прокурора г. Сочи И. Ф. Семенчук».
А теперь представьте себе жуткую картину, нарисованную заместителем прокурора города Сочи товарищем И. Ф. Семенчуком. Два с половиной года назад, в феврале 1985 года, суд обращает в доход государства преступные одиннадцать тысяч, и все эти два с половиной года бедный следователь Нунаев бьется как рыба об лед, слезно просит-молит принять у него злосчастные, принадлежащие не ему, а государству деньги, объясняет, что они жгут ему руки, однако и Госбанк, и сберкасса, и финотдел, и суд, точно сговорившись, отказываются брать в казну эти нехорошие одиннадцать тысяч.
Вы верите? Я лично — нет. Потому что опять же, в отличие от заместителя прокурора города Сочи товарища И. Ф. Семенчука, вынужден быть въедливым и дотошным. Не надо было следователю Х. А. Нунаеву никого просить-молить принять у него эти одиннадцать тысяч. Не надо, потому что на этот случай существует вполне определенная Инструкция Министерства финансов СССР, согласованная с Прокуратурой СССР: изъяв денежные суммы, следователь обязан немедленно сдать их на хранение в отделение Госбанка на депозитный счет. Немедленно, а не через два с половиной года, когда и в прокуратуре-то он уже пятый месяц не работает, и сейф, где «хранятся» эти одиннадцать тысяч, надо думать, давно передан другому сотруднику. А главное, когда в городе силами Прокуратуры СССР проводится расследование его, Нунаева, незаконных действий. Вот тут я, пожалуй, готов поверить: не сданные в свое время казенные тысячи действительно могли начать жечь руки бывшему следователю. Что правда, то правда.
Впрочем, в конце концов Нунаев таки сделал то, что полагалось ему сделать давным-давно: отдал чужие деньги. 19 октября 1987 года в сберкассе № 1806 они были положены на счет № 011 093 744, раздел 12, параграф 11 союзного бюджета. В редакционном досье хранится и такая справка.
Однако вернемся к ответу, полученному редакцией из Прокуратуры СССР. «С учетом этих и других обстоятельств, — говорится в нем, — уголовное дело в отношении Нунаева прекращено вследствие изменения обстановки…» То есть хоть и виноват, но наказанию не подлежит.
Открываю Уголовно-процессуальный кодекс, читаю: «Суд, прокурор, а также следователь и орган дознания, с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело, если будет признано, что… вследствие изменения обстановки, совершенное лицом деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным».
Вспоминаю правонарушения следователя Нунаева, перечисленные в ответе Прокуратуры СССР, и теряюсь в догадках: какие же из них утратили сегодня характер «общественно опасного… вследствие изменения обстановки»? Злоупотребление следователя своим служебным положением? Фальсификация им важных процессуальных документов? Незаконный арест невиновного? Еще вчера, до изменения обстановки, поступившего так юриста полагалось немедленно отдать под суд, а сегодня, с изменением обстановки, достаточно погрозить ему пальцем и прогнать со службы? Захочет теперь заточить кого-нибудь в тюрьму — ан нет, уже не сможет. Да и о каком, собственно, «изменении обстановки» идет речь?
Но если бывшему следователю Нунаеву опасаться уже больше нечего, то сказать это же о недавней его жертве, адвокате Хачатурове, я, к сожалению, не могу.
«Прокуратурой РСФСР, — читаю в ответе, — обоснованно прекращено дело в отношении Хачатурова по факту передачи взятки. Однако решение о прекращении: дела по дорожно-транспортному происшествию, совершенному Хачатуровым, принято по неисследованным обстоятельствам. По данному делу поручено провести дополнительное расследование».
А дело было так. Освобожденный из тюрьмы Хачатуров, сидя за рулем автомашины, попал в аварию, наехал на бетонную плиту. Никто в машине не пострадал, но против Хачатурова возбуждается новое уголовное дело. Местный РОВД прекращает его за отсутствием состава преступления. Краснодарская краевая прокуратура с этим, однако, не согласна, постановление РОВД отменяется и дело направляется на новое расследование. Прокуратура РСФСР, изучив материалы дела, прекращает его вновь. Устанавливает: Хачатуров не виноват. Однако вмешивается Прокуратура СССР. Постановление республиканской прокуратуры опять отменено, дело направляется на дополнительное расследование.
Хачатуров телеграфирует в редакцию «Литгазеты»: «После публикации вашей статьи подвергаюсь гонению со стороны прокурора Краснодарского края Рыбникова… Принимаются меры, чтобы меня опорочить, свидетелей запугивают, фабрикуют мою вину». Редакция газеты обращается в Прокуратуру СССР: опасаемся опять за судьбу Хачатурова. Прокуратура СССР отвечает редакции: «Дальнейшее расследование поручено прокуратуре Ростовской области».
Значит, так. Бывший следователь Нунаев пойман за руку, уличен в серьезнейших злоупотреблениях. Но это ничего, не страшно, обществу он уже не опасен. Адвоката Хачатурова, наехавшего на дороге на бетонную плиту, уличить в совершении дорожно-транспортного преступления пока что не удалось. Два раза вели расследование, и оба раза приходилось признать: нет, не виновен. Теперь проводится третье расследование. Уже силами Ростовской прокуратуры. Может, хоть на сей раз удача улыбнется следователям. Они загружены по горло другими делами? Чуть ли не в каждом публичном выступлении жалуются (и вполне, разумеется, справедливо), какой неподъемный везут воз? Ничего, поднатужатся, поднапрягутся, постараются… Надо!
Нет, я совсем не призываю к беспринципности. Человек, совершивший даже не очень крупное неумышленное преступление, тоже должен отвечать по закону. И жалеть сил и времени в поисках истины нельзя, наверное, никогда: расследуется ли опасное, кровавое преступление или даже мелкое, заурядное правонарушение. Тут все едино. И отговариваться тем, что человек этот по вине следственных органов уже ни за что ни про что отсидел в тюремной камере четырнадцать месяцев, тоже, конечно, не резон: за прошлое, как говорится, покорно просим прощения, а уж теперь не обессудьте, взыщем по всей строгости. Я только думаю, что карающий меч нашего правосудия не должен выбирать, на кого и с какой силой ему опускаться, кого ласково, тыльной стороной погладить по макушке, а кого рубануть наотмашь да изо всех сил.
Потому что такой послушный, легко управляемый меч служит уже не правосудию, а наоборот, интересам, крайне далеким от правосудия.
Через месяц после выступления «ЛГ», 9 сентября 1987 года, газета «Советская Кубань» напечатала беседу с прокурором Краснодарского края Б. И. Рыбниковым.
«За последнее время пресса стала все чаще писать о деятельности правоохранительных органов, — сказал прокурор края корреспонденту газеты. — Сам по себе этот процесс позитивен. Настораживает другое — односторонняя направленность и необъективный характер некоторых публикуемых материалов». И тут же, чтобы уж всем было понятно, о чем идет речь, добавил: «Относительно статьи А. Борина могу сказать, что Прокуратурой СССР проводится расследование по изложенным в ней фактам. Оно выявит действительную картину по этому делу».
Полагаю, однако, что действительная картина прокурору края уже была тогда достаточно известна. За несколько месяцев до беседы его с корреспондентом «Советской Кубани» дело Хачатурова стало предметом специального обсуждения на коллегии краевой прокуратуры, и Борис Иванович Рыбников лично подписал приказ: «Старший следователь Нунаев Х. А. … допустил грубейшие нарушения закона, фальсифицировал документы».
Однако в опубликованной беседе об этом нет ни слова. Не упоминается в ней и о том, что незаконно брошенный в тюрьму Хачатуров и жена Хачатурова неоднократно обращались к прокурору края, просили его: вмешайтесь, проверьте, творится беззаконие, следователь Нунаев фальсифицирует дело. Но Б. И. Рыбников каждый раз твердо им отвечал: все в порядке, вина Хачатурова доказана, под стражей он находится правильно.
Но если в оценке своих собственных действий и действий подведомственных ему органов Б. И. Рыбников предельно скуп, то об адвокате Хачатурове говорит он достаточно пространно и уж во всяком случае не скрывает своего раздраженного к нему отношения.
Поводом для этого служит следующее обстоятельство.
Тринадцать лет назад, будучи еще студентом, Хачатуров принял участие в драке и вместе с другими ее участниками был осужден условно с обязательным привлечением к труду. К счастью, случай этот не перевернул всю его дальнейшую судьбу. Пользуясь предоставленным ему законом правом, Хачатуров продолжал учебу в университете, закончил его, стал юристом, нормально работает и по закону давным-давно считается несудимым. На вопрос: «Привлекались ли к суду?» — вправе ответить: «Нет, не привлекался».
Так что, рассказывая о сфальсифицированном против Хачатурова уголовном деле, у меня не было ни повода, ни законных оснований вспоминать ту далекую, не имеющую ровно никакого отношения к сегодняшним событиям историю.
Да и о чем, собственно, говорить сейчас? Можно ли, скажем, ставить Хачатурову в вину, зачем он не покатился дальше по наклонной плоскости, не пропал, не опустился, завершил учёбу, получил профессию, встал на ноги? Можно ли упрекать коллегию адвокатов, зачем работает в ней, и, судя по всему, работает достойно, квалифицированно, человек, оступившийся много лет тому назад? И можно ли обвинять «Литературную газету», зачем не отвернулась она от человека, в биографии которого есть пятно, а взяла его под защиту и выступила против грубо сфабрикованного против него уголовного дела?
По железной логике прокурора Краснодарского края — да, можно. Необходимо даже. В беседе с корреспондентом «Советской Кубани» он так прямо и говорит: в адвокатуре, мол, часто «находят приют» совершенно недостойные люди, тот же адвокат Хачатуров например; этот адвокат Хачатуров «в свое время успешно сочетал отбытие наказания по приговору суда за злостное хулиганство с учебой на юрфаке Кубанского госуниверситета», и такого вот человека, представьте себе, «фактически взяла под защиту» «Литературная газета».
Пытаюсь понять: отчего же нескрываемое раздражение, откровенную злобу вызывают у некоторых юристов люди, перед которыми они, юристы, должны чувствовать себя, наоборот, бесконечно виноватыми? Всего-навсего уязвленное самолюбие? Да нет, пожалуй. Полагаю, труднее всего простить тому же Хачатурову, что именно из-за него, Хачатурова, тайное опять сделалось явным, стало достоянием широкой общественности и ко многим резко критическим выступлениям печати, звучащим в адрес Краснодарской прокуратуры, прибавилось еще и выступление «Литературной газеты».
Знаете, о чем я со страхом гадаю каждый раз, берясь за перо? А не падет ли потом весь удар на того, кого собираюсь я сейчас защищать? Нам, журналистам, что! Если мы верны фактам, готовы ответить за каждое свое слово, нам тревожиться нечего. За нами авторитет нашей газеты, сила общественного мнения, сама атмосфера гласности в стране. Но вот простят ли такую гласность людям, чьи права и чье достоинство взялись мы публично отстаивать? Не постараются ли свести с ними счеты? Не станут ли просеивать сквозь густое сито всю их предыдущую жизнь? Не обрушится ли на них гнев тех, кого нелицеприятно назвала газета?.. Нет, не нам, журналистам, сегодня, в эпоху гласности, требуется особое мужество. Скорее, оно требуется тем, о ком мы с болью и состраданием пишем.
Вот тут-то, после публикации этой второй статьи, все и завертелось: раздался грозный звонок из прокуратуры с требованием явиться к ним, последовал визит следователя в редакцию… На том, однако, все и затихло. Как-то сразу, будто кто-то ножом отрезал. Никаких больше звонков, никто нас больше не посещал. Сами они образумились или получили на то высокую команду, я не знал, а гадать не хотел. Отстали — и прекрасно. Одного только я не мог понять: зачем все-таки им понадобилось письмо адвоката Хачатурова в «Литературную газету»? Что оно могло им дать? Объяснил мне наш многоопытный юрист Илья Эммануилович Каплун: «Так ясно же. Хотели покопаться, порыться, посмотреть, что это за письмо, о чем оно, когда получено, да и было ли оно вообще. Может, Хачатуров совсем не чужой, не посторонний вам человек, а наоборот, сват-брат или родственник кого-нибудь из редакционных сотрудников, и вы не Закон защищали, а просто решили порадеть своему человечку. Уголовное дело против вас, конечно, в любом случае нельзя было возбудить, следователь только брал на понт, на испуг, однако обвинить вас в пристрастности, в необъективности — отчего же, за милую душу. У них же какая психология — если поскрести, подраить, ножовочкой да напильничком, так на любого грех найдется. Старательные ребятки».
Обе статьи об адвокате Хачатурове опубликованы были в 1988 году, в прошлом веке. За это время борьба с преступлениями против правосудия, совершенными работниками правоохранительных органов, казалось бы, не только не утихала, а наоборот, крепла и ожесточалась. В действовавшем тогда Уголовном кодексе глава эта насчитывала всего 16 статей, теперь, в новом Уголовном кодексе, их уже — 22. Учтены разные ситуации, предусмотрены случаи, которых раньше уголовный закон не касался. Кара за некоторые из этих преступлений тоже установлена сегодня много круче. Если бы Нунаева, пожурив, тогда не отпустили, то заведомо незаконный арест адвоката Хачатурова обошелся бы следователю от силы в один год колонии. Теперь же привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности карается уже заключением до пяти лет, а если еще заведомо невиновный обвиняется в тяжком или особо тяжком преступлении, то прокурор или следователь могут загреметь в тюрьму на срок от трех до десяти лет. Четкий правовой механизм, о котором тогда шли горячие споры, также наконец отработан. Хороший механизм, соответствующий всем правовым стандартам. Задержать подозреваемого сам прокурор уже не может, на то требуется санкция суда. И адвокат немедленно допускается к задержанному.
Ну и что? А ничего. Закон и все замечательные правовые стандарты существуют отдельно, а жизнь — отдельно. По сравнению с тем, что творится сегодня на наших глазах, художества следователя Нунаева, сочинского прокурора Климова, прокурора Краснодарского края Рыбникова кажутся, пожалуй, лишь мелким дилетантством, детской забавой. Разве знали они о таком замечательном изобретении как «маски-шоу»? К вам в офис вваливается отряд людей в масках, вооруженных до зубов, вас выстраивают вдоль стенки, взламывают ваши сейфы, забирают и увозят ваши компьютеры. Сегодня нельзя вас задержать без санкции суда? Пустое. Звонок из прокуратуры или из ФСБ, и судья, склонившись в три погибели, уже услужливо ждет задержанного, чтобы проштамповать нужную следователю санкцию. Мы жаловались: существует «телефонное право». Но и оно бледнеет по сравнению с «басманным правосудием», поразившем как злокачественная опухоль всю нашу судебную систему. Да и что толку в расширенной, детально прописанной главе «преступления против правосудия» в нынешнем Уголовном кодексе, если закон этот практически не работает? Много вы знаете преступников в мундирах и в судейских мантиях, привлеченных к ответственности по этому закону? Показушная, пиаровская акция против нескольких так называемых «оборотней в погонах» для того только и была затеяна, чтобы скрыть реальную картину, повесить нам лапшу на уши.
«Старательные ребятки», — сказал когда-то о зарвавшихся прокурорских работниках юрист Илья Эммануилович Каплун. Сегодня их так уже не назовешь. Какие они, к черту, «ребятки», если теперь они могучие «силовики», такое им дано официальное имя. Я не помню, чтобы сотрудников милиции и прокуратуры когда-нибудь так называли. Ну а раз — «силовики», чего удивляться? Люди, на чьей стороне сила, все могут, на все способны. Это только иллюзия у нас такая, будто строгий и справедливый закон обеспечит нам покой и порядок. Дудки! Когда-то, помню, один деятель сказал мне: «Долго топтаться на законе — его растопчешь». Правильно, сегодняшние нунаевы на нем и не топчутся, ногой отшвыривают с дороги — чтобы не мешал.
Глава пятая УЗБЕКСКОЕ ДЕЛО
Прямой эфир
Правовая тематика, судебный очерк, пожалуй, всегда, во все времена, были самыми читаемыми публикациями в «Литгазете». Соперничать с ними могла лишь шестнадцатая полоса, «Клуб 12 стульев». Прикрываясь требованием соблюдать Закон, редакции, как и в случае, о котором я сейчас рассказал, нередко удавалось печатать откровенно разоблачительные, очень острые материалы. Когда такая статья ложилась на стол Сырокомского, он обычно велел нам отыскать цитату из Брежнева о необходимости бороться за законность (найти ее было не трудно, люди, готовившие генсеку речи, охотно вписывали ему подобные фразы), и цитатой этой предварить труднопроходимый материал. Она служила ему своеобразным щитом. И если в цензуре вдруг делали стойку, всегда можно было сказать: «А что вас не устраивает? Мы выполняем волю партии и показываем, к каким плачевным последствиям приводит даже малейшее отступление от Закона». Бывало, проходило.
Но апелляция к Закону, пропаганда его непогрешимости, призывы ни на йоту от него не отступать до поры, до времени встречали и безусловную поддержку читателя. Однако — до поры, до времени. Впервые это, казалось бы, неоспоримое и справедливое требование вызвало бурный, прямо-таки массовый протест в июне 1988 года.
Журнал «Огонек», бывший тогда трибуной всей нашей демократической общественности, каждый номер которого встречался с радостью и энтузиазмом, напечатал статью двух следователей Т. Гдляна и Н. Иванова «Противостояние».
Статья эта вызвала восторг, ликование. Авторы сетовали на то, что власти мешают следствию привлечь к уголовной ответственности высокопоставленных коррупционеров из номенклатурной верхушки. «Мы могли бы и не говорить об этом, — объясняли они, — не высовываться, словчить, но партийная совесть не позволяет нам молчать».
Но у меня — как ни тяжело было тогда в том признаваться — статья эта породила, наоборот, протест и глубокую тревогу.
Разумеется, авторы были правы: высшие эшелоны власти упорно не желали отдавать правосудию крупных взяточников из своей среды, всячески старались их защитить. И публично сказать об этом было, конечно, необходимо.
Не мог я согласиться с другим. Выступая вроде бы в защиту закона, справедливо требуя его строгого соблюдения, авторы статьи между тем пытались оправдать и узаконить свои собственные грубейшие нарушения. Даже подводили под них теоретическую базу.
Известно, скажем, что по действовавшему тогда закону нельзя было во время следствия, до суда, держать обвиняемого под стражей дольше девяти месяцев. В условиях, когда обвиняемый был фактически бесправен, беззащитен, когда адвокат к следственным действиям не допускался, эти девять месяцев имели огромное значение. Они хоть как-то сдерживали неограниченную, по сути, власть следователя.
Авторы статьи «Противостояние» выступали, однако, против этих девяти месяцев. «Некоторые государственные мужи, — писали они, — заявляют, что нахождение больше девяти месяцев под стражей — грубейшее нарушение соцзаконности. Но разве можно за девять (выделено авторами статьи) месяцев в конвейерном порядке лихо решать судьбы тысяч людей, не разобрав степень вины каждого?»
В этих словах была уже явная передержка. Закон совершенно не требовал, чтобы за девять месяцев «лихо решались судьбы тысяч людей». Дольше нельзя было до суда держать человека под стражей. А вести следствие, устанавливать «степень вины каждого», можно было практически неограниченное время.
Впрочем, авторы огоньковской статьи речь вели даже не об увеличении этого слишком короткого, по их мнению, срока. Они настаивали на том, чтобы отменить всякий ограничивающий их действия срок, чтобы у следователя вообще полностью были развязаны руки, чтобы человека, которого суд не признал еще преступником, можно было держать в тюрьме столько, сколько следователю угодно, чтобы любой человек — и тот, кого суд впоследствии осудит, и тот, кого суд, наоборот, оправдает, — попадал бы в полную и бессрочную зависимость от следователя, в беспредельную его власть.
«Что значит закончить дело к такому-то сроку? — спрашивали Гдлян и Иванов. — Не оборотная ли это сторона 37-х годов? Тогда ведь тоже брали обязательство: посадить столько-то „врагов“, закончить дело к такой-то дате. Истина не может устанавливаться к такому-то сроку…»
Но при чем здесь истина? — думал я, читая ту «огоньковскую» статью. Кому нужна была «в 37-х годах» истина? И разве ужасы тех лет заключались в том, что следствие велось тогда слишком скоропалительно? Никакого следствия вообще не существовало, ни скоропалительного, ни слишком долгого. Был только ничем не ограниченный, полнейший произвол, прячущийся под маской «законности». Однако требование «ради истины» снять, отменить всякие ограничивающие следствие рамки как раз и ведет опять к возвращению — в новых формах и новых обличиях — того самого чудовищного произвола.
Прошло некоторое время после выхода журнала, и меня пригласили принять участие в очень популярной тогда телевизионной программе «Взгляд». Передача строилась обычно следующим образом: заранее были отсняты некоторые сюжеты, и мы, гости «Взгляда», должны были прокомментировать их в прямом эфире.
Один из таких сюжетов воспроизводил беседу тележурналиста со следователями Гдляном и Ивановым. Он задавал им вопросы, они на них отвечали. Беседа, разумеется, шла вокруг известной огоньковской статьи.
Честно говоря, сидя в студии — прямой эфир! — я почувствовал себя неуютно. Вот закончится сейчас сюжет, и мне придется что-то говорить.
А что я могу сказать? Ведь не только с двумя следователями должен буду вступить в спор. Возражать вынужден буду и самому журналу. Предваряя статью двух следователей, редакция писала: «…короткая, резкая, как выстрел, фамилия руководителя следственной группы Прокуратуры СССР Гдлян стала символом честности и бескомпромиссности». А я сейчас скажу, что этот прекрасный «символ» откровенно призывает нас к беззакониям, к произволу, подтасовывает аргументы, толкает нас к варварским методам следствия? А редакция журнала, не замечая, видимо, к чему сводятся опасные декларации авторов статьи, полностью с ними солидаризируется? Расскажу сейчас, какую неразборчивость, какую слепоту и безответственность проявил журнал, напечатав — из лучших, конечно, побуждений! — манифест, призывающий к расправе вместо правосудия?
Но это же «Огонек», журнал, чью общественную позицию я глубоко уважаю, разделяю полностью. Это мой журнал, отражающий мои взгляды. Я знаю, сколько мужества требуется его главному редактору, чтобы, несмотря ни на что, держаться своей линии. Знаю, какое постоянное давление оказывается на журнал, чего стоит редакции выпуск каждого читаемого до дыр номера. (Напомню, идет еще только 1988 год.)
Беседа тележурналиста с двумя следователями между тем закончилась. На экране монитора я снова вижу себя и ведущего телепрограммы «Взгляд» Володю Мукусева. Он просит меня прокомментировать только что показанный сюжет.
Я говорю, что «Огонек» глубоко ценю, очень люблю. Но позицию авторов статьи считаю вредной и опасной. Да, они правы, выступая против руководства, которое, нарушая закон, не отдает следствию «своих». Однако в данном случае, при поддержке журнала, они требуют, чтобы и им тоже в свою очередь разрешили бы нарушать закон, пропагандируют таким образом беззаконие и вседозволенность.
Мукусев вежливо меня благодарит, а я с тоской думаю, что завтра на меня обрушится град упреков: выступил против «Огонька» и отважных следователей!
Но в тот раз слова мои остались как бы и незамеченными. Теоретический разговор о законности мало кого волновал. Град — и не упреков — а обвинений, возмущения, даже проклятий обрушился на меня несколько позже.
«Чурбановский процесс»
Летом 1988 года начался знаменитый «чурбановский процесс». Одним из главных обвиняемых был зять Брежнева — Юрий Чурбанов.
Процесс длился четыре месяца. Чем дальше он шел, тем яснее становилось, что многие эпизоды обвинения, предъявленные группе лиц Гдляном и Ивановым, разваливаются как карточный домик.
В конце декабря судьям предстояло уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. За несколько дней до этого, 18 декабря 1988 года, в газете «Московская правда» появилась беседа со следователем Н. Ивановым. В сущности, то было недвусмысленное и грозное предупреждение судьям. «…Представьте, какое „воздействие“ может быть оказано на судей, — говорил Иванов, — какие огромные деньги циркулируют где-то рядом, в какой опасной зоне приходится выбирать тот или иной путь. Словно по минному полю, когда сосед то и гляди „подорвется на миллионе“».
А дальше — уже совсем прозрачно: «И если дело попадет в руки судье, подверженному влиянию или нечистоплотному, то нет гарантий против необъективного судебного разбирательства и вынесения несправедливого решения».
Иначе говоря, предупреждаем: вынесете не тот приговор, значит, вы — взяточник или подвержены преступным влияниям.
30 декабря 1988 года, как раз под Новый год, приговор был оглашен. Почти все подсудимые были приговорены к различным срокам наказания, Чурбанов получил 12 лет. Однако одного из них, заместителя министра внутренних дел Узбекистана Кахраманова, содержавшегося под стражей три года и девять месяцев, суд оправдал: ни одно из предъявленных ему обвинений следствие так и не сумело доказать. В отношении другого, Хайдара Яхъяева, дело было передано на доследование, но так как все законные сроки содержания под стражей давно истекли, суд также вынужден был его освободить.
4 января 1989 года я писал в «Литературной газете»: «О так называемом „чурбановском процессе“ пресса уже рассказывала и, наверное, расскажет еще: процесс вызвал большой общественный резонанс. Я же хочу коснуться только одного, на мой взгляд, весьма существенного его аспекта».
Читателю предлагалось обратить внимание на некоторую «арифметику процесса». В первое время, находясь в тюрьме, Чурбанов признал, что получил взяток на общую сумму полтора миллиона рублей. Однако в обвинительном заключении следствие оставило только 656 тысяч рублей. Выяснилось, что «чистосердечно раскаиваясь», Чурбанов называл и такие эпизоды, которых просто не могло быть. Упоминал имена людей, которых никогда не существовало. В показаниях его фигурировали города, где он, Чурбанов, никогда не был. Следователи требовали от него: еще, еще, и он послушно накручивал. Возможно, надеялся таким образом вообще поломать обвинение. В какой-то мере ему это удалось: в судебном процессе прокурор снизил сумму подношений до 356 тысяч рублей. Суд же признал доказанными лишь три эпизода, по которым Чурбанов получил взяток в общей сложности на 90 964 рубля.
Я рассказывал в статье, что один мой знакомый, человек честный, порядочный, после вынесения приговора раздраженно сказал мне: «Такая коррупция расцветала, готовился миллионный процесс. А что в итоге? Пшик! Не иначе спустили на тормозах». Волнение этого человека вполне естественно. Слово «чурбановщина» превратилось у нас в нарицательное. Но ведь он, мой знакомый, яростный противник всяческого произвола, с негодованием осуждающий процессы тридцатых годов, страстный поборник правового государства, требовал, по сути, нового политического процесса. А как же иначе? Если результат процесса желанен уже заранее, если заранее известно, что такой-то приговор мы встретим с удовлетворением, а любой другой отвергнем с порога, то процесс этот из юридического неизбежно превратится в политический.
Но ценность закончившегося процесса, утверждал я, в том-то и состоит, что это был прежде всего процесс юридический. Людей судили не за их нравы, не за их образ жизни, вызывающий наше справедливое негодование, а за их конкретные действия и поступки, совершенные в нарушение законов. И за те только действия и поступки, в совершении которых у суда не оставалось никаких сомнений.
«Итак, процесс завершен, — писал я, — пора теперь извлекать уроки. На процессе обнаружилось, к какому нравственному падению приводит вседозволенность и безнаказанность в высших эшелонах власти. Но выявился на процессе и низкий профессиональный уровень некоторых наших следственных органов, призванных бороться с коррупцией. Сказывается, ох как сказывается привычка следователей работать в щадящих условиях, когда суды брали обычно на веру предъявленные подсудимым обвинения. Сегодня суды все чаще требуют доказательств. И здесь уж настроение публики, праведный наш гнев против взяткодателей и взяткополучателей на стол не положишь. Обвинил? Докажи!»
Вот тут-то и обрушился на меня град обвинений и проклятий. И не только со стороны. Назавтра после опубликования этой статьи на стене в редакции я прочел вывешенное кем-то «дацзибао»:
«НЕ ЗДОРОВАЕМСЯ С БОРИНЫМ, НЕ ПОДАЕМ ЕМУ РУКИ»
Валом пошла гневная читательская почта. «Мы вас всегда уважали, — говорилось в одном из таких писем, — всегда верили вашим публикациям. Что же теперь с вами произошло? Кто велел вам написать поклеп на замечательных следователей Т. Х. Гдляна и Н. В. Иванова? За сколько вы продались покровителям высокопоставленной мафии? Стыдно, товарищ Борин!»
8 февраля 1989 года в Центральном доме литераторов состоялась встреча писателей с судьями, заседавшими на процессе. Вести встречу правление Дома поручило мне. Несколько первых рядов в зале заняли работники прокуратуры. С первых же минут стало ясно: они явились сюда, чтобы дать бой судьям, сорвать встречу. На сцену поднялась прокурор следственной части Прокуратуры СССР Надежда Константиновна Попова, осуществлявшая надзор за следствием по этому делу. Обращаясь к судьям, воскликнула: «Да, пускай приговор ваш законный, но он несправедливый. Как могли судьи освободить в зале суда такого махрового преступника, как бывший министр внутренних дел Узбекистана Хайдар Яхъяев?» И присутствующие встретили ее слова бурными аплодисментами.
Но я-то знал, как и почему оказался на свободе действительно страшный человек Хайдар Яхъяев. И кто в этом повинен.
Пахан в кресле министра
Арестовали Яхъяева 21 августа 1985 года. Обвинили его в том, что, будучи министром внутренних дел, взяток получил на сумму 143 603 рубля, дал же их руководителям союзного МВД еще больше: 144 183 рубля.
Яхъяев во всем признался. Более покладистого обвиняемого, чем Яхъяев, трудно было и вообразить. Он не только во всем признавался, он не уставал подчеркивать свою преданность ведущим его дело следователям Т. Х. Гдляну и Н. В. Иванову. 23 января 1986 года он пишет заявление Генеральному прокурору СССР: «Вчера мне было объявлено, что уголовное дело в отношении меня передается из Прокуратуры СССР в КГБ… Я категорически возражаю… Более того, я заявляю, что в случае передачи моего дела откажусь от всех своих показаний и не намерен давать показания кому бы то ни было». Только этой следственной группе и никому больше! Из кабинета следователя Иванова Яхъяев звонит домой и категорически запрещает членам семьи куда бы то ни было жаловаться: «Меня арестовали правильно». 22 апреля 1988 года, когда следствие уже практически завершено и дело готовится к передаче в суд, он снова пишет заявление Генеральному прокурору. Не заявление — панегирик. Признаться, я никогда еще не видел, чтобы подследственные так пылко объяснялись в любви своим следователям.
«Изучив дело, — пишет Яхъяев, — я пришел к выводу, что руководители следственной группы Гдлян Т. Х. и Иванов Н. В. проделали громадный объем почти непосильного труда, расследуя столь сложное дело, и несмотря на это, на трудности и преграды на своем пути, проявляя профессиональное мужество, изобретательность и находчивость, его завершили… Дело расследовано, на мой взгляд, всесторонне, с соблюдением процессуальных требований, государственных интересов и справедливостью… Руководители следствия и следователи с должным пониманием и человечностью подходили ко мне и к другим подследственным, за что благодарен этим товарищам, руководителям Прокуратуры СССР, возглавляемой Вами, и лично Вам, тов. Генеральный прокурор…»
Но чем же была вызвана такая преданность Яхъяева своим следователям, такой порыв любви и нежности к ним? Надеялся, что в ответ на лояльность ему простят, спишут с него часть взяток? Однако Яхъяев с самого начала следствия безропотно, беспрекословно берет на себя все взятки. Мало? Еще берет.
Чтобы понять, какую на самом деле он преследовал цель, какой имел расчет, надо было перенестись на восемь лет назад, из года 1988-го в год 1980-й.
В июле 1980 года в Ташкент прибыла бригада Прокуратуры СССР, возглавляемая старшим помощником Генерального прокурора СССР А. В. Бутурлиным.
Материалы, имевшиеся в распоряжении бригады, трудно даже назвать просто заявлениями и жалобами людей, пострадавших от Яхъяева. Из этих документов складывалась масштабная картина преступной деятельности министерства внутренних дел Узбекистана, мощного карательного ведомства, во главе которого он стоял. Подчиненные ему структуры министр виртуозно использовал для расправы над своими личными недругами, среди которых нередко оказывались его бывшие любовницы.
Одна из таких жертв — член Верховного Суда Узбекистана X.
Осенью 1977 года по приказу Яхъяева было создано особое подразделение. Именовалось оно отделом спецтехники и связи и насчитывало в своем составе 19 человек. Главной задачей отделения стало прослушивание и ведение магнитофонной записи телефонных разговоров X.
Тогда же к Яхъяеву была доставлена соседка X. Ей поручалось следить за тем, кто к X. приходит, чем она занимается, рыться в ее мусорном ведре и обрывки бумаг аккуратно доставлять в МВД. За это женщине назначалось регулярное денежное содержание — 100 рублей в месяц. «Поначалу я стала отказываться, — вспоминает она, — но Яхъяев пригрозил, что могут исчезнуть мои дети. Я ему поверила…»
Кроме соседки по дому для работы с X. завербованы были также домработница X.; пенсионер МВД с денежным содержанием 120 рублей в месяц; близкая подруга X., а также гражданка, которая не регистрировалась, но выполняла отдельные поручения. Задание ей дали весьма своеобразное: она обязана была звонить по ночам X. и на узбекском языке обзывать ее нецензурными словами. Яхъяев у себя в кабинете прослушивал эти разговоры, и если агент ругалась слабо, министр, как свидетельствуют его подчиненные, выходил из себя. Надо думать, агент ругалась на совесть. «За это, — подсчитывает она, — мне дважды давали на праздник продукты: копченую колбасу, твердый сыр, бараньи кишки, два килограмма, красную икру, бутылку коньяка, бутылку водки, две коробки конфет…»
Однажды Яхъяев вызвал к себе начальника оперативно-технического отдела министерства и дал ему задание: создать группу «медвежатников», тайно, воровски проникнуть в здание Верховного Суда Республики, пробраться в кабинет члена Верховного Суда X., вскрыть ее служебный сейф, найти и изъять письма и фотографии, свидетельствующие о ее былой связи с Яхъяевым. Взломщиков подобрали что надо: два полковника, один генерал. Результаты операции, однако, себя не оправдали. То ли генерал и полковники действовали не слишком расторопно, то ли X. нежные письма на работе не хранила. Ничего не нашли.
Министра не покидала мысль и о физическом уничтожении X. Как-то поздно ночью, часа в три, в кабинете Яхъяева сотрудники слушали очередную магнитофонную запись, обсуждали результаты работы, и Яхъяев высказал идею: надо бы найти штук десять ядовитых змей и запустить их в квартиру X. Идею, естественно одобрили. Вскоре, однако, исполнитель сообщил, что змеи в эту пору года, к великому сожалению, не ловятся.
Заранее также тщательно продумывалась и шаг за шагом осуществлялась фальсификация уголовных дел против других неугодных Яхъяеву лиц. Кто-то ему донес, что некая парикмахерша Н. распространяет о нем «нескромные сплетни». Министр вызвал к себе начальника паспортного отдела и дал ему задание немедленно посадить парикмахершу. Вариант был выбран: «спекуляция».
«Общественная помощница органов» (так именуется она в документах), девушка по имени Мухаббат Ахметова, знакомится с парикмахершей, входит к ней в доверие и просит оказать небольшую услугу: у себя в парикмахерской продать по повышенной цене принадлежащие ей, Ахметовой, десять отрезов ткани хан-атлас. На самом деле эти отрезы специально для готовящейся операции приобретены работником МВД за казенный счет. «Покупательницы» — тоже люди МВД. Ничего не подозревая, парикмахерша соглашается. В нужный момент в парикмахерскую врываются милиционеры и с поличным задерживают «спекулянтку» Н.
Впрочем, спекуляции организаторам мероприятия показалось мало. «Общественная помощница органов» подбрасывает в квартиру Н. еще и наркотик, анашу. После обыска у нее в квартире, Н. привозят в МВД и требуют, чтобы она во всем созналась. Н. плачет, уверяет, что отрезы не ее и никакой анаши у нее никогда не было. Ее уводят в подвал. Назавтра все началось сначала. И так постоянно, каждый день. Несколько месяцев ее держат в одиночке, бросают в карцер. Яхъяев лично вызывает ее и угрожает расправой. Ее обещают сгноить в женской колонии. Она пишет заявления, однако все они тут же, при ней уничтожаются. Дома у нее остались престарелая мать и маленький ребенок…
Но, пожалуй, всего сильнее впечатляет история Веры П. Появилась она у Яхъяева осенью 1974 года. Он устроил ее на работу в МВД, дал квартиру, дарил книги своих стихов с нежными надписями. А потом остыл. Из МВД ее уволили. Вера же продолжала искать встречи с Яхъяевым, хотела с ним объясниться. Ее приятель, работник телефонной связи МВД (слаб человек), дал ей домашний телефон министра.
На следующий день, ближе к ночи, телефониста доставили к Яхъяеву. Министр допрашивал его до утра. Бил по лицу, грозил уничтожить.
Утром телефонист получил ответственное задание: созвониться с Верой, назначить ей свидание и вступить в половую связь.
Детали этой захватывающей операции надо знать. В комнате телефониста работники оперативно-технического отдела установили микрофон. И в тот час, когда он договорился встретиться с Верой, бригада выехала на спецмашине с соответствующими средствами. Вместе с ней прибыл и фотограф с аппаратурой, снабженной рацией, по которой он должен был получить сигнал. В соответствующий момент фотограф ворвался в комнату и произвел съемку.
Эти непотребные фотографии тоже были приобщены к делу о злоупотреблениях Яхъяева, которое вел прокурор А. В. Бутурлин.
Собранные здесь документы подробно описывают, как люди Яхъяева отправили Веру П. в психиатрическую больницу. Объявить ее сумасшедшей удалось не сразу, сперва врачи признали П. совершенно здоровой. Яхъяев занервничал. Продиктовал своему заместителю характеристику на бывшую сотрудницу министерства. «Гражданка П., — говорилось в бумаге, — угрожала, что обратится к представителю ООН или в посольство одной из западных держав, добьется, чтобы было напечатано в иностранной прессе…» Врачи сдались. После двухмесячного пребывания в психушке в истории болезни П. появилась запись: «Больная начала прибавлять в весе, стала заторможенной, пассивной, вялой… Перестала интересоваться окружающим, не смотрит телепередачи, не общается с больными…» Из больницы ее выписали с диагнозом: «Шизофрения непрерывная, параноидальный синдром. В связи с тем, что больная представляет социальную опасность, взять на учет…» Теперь эта женщина Яхъяеву была уже не опасна.
Бригада Бутурлина работала в Ташкенте несколько месяцев. Страшная открывалась картина. Людей среди ночи доставляли к министру на допрос. Без суда и следствия неделями держали в тюремной камере. Провокации следовали одна за другой.
Однако довести расследование до конца Бутурлин не смог. Первый секретарь ЦК Узбекистана Рашидов обратился в Москву, и бригаду Бутурлина отозвали. Ему приказали дело о злодеяниях Яхъяева сдать в архив.
Но о существовании этого дела Яхъяев прекрасно знал. И больше всего опасался, что следователи Гдлян и Иванов сейчас, через восемь лет, достанут гибельные для него документы с архивной полки. «Следователь Иванов, — расскажет он впоследствии, — заявил, что у них есть еще несколько томов, и в случае неправильного моего поведения на следствии, отказа давать показания, напустит на меня разных лиц… Материалами в отношении моих любовниц они шантажировали меня вплоть до суда…» Как огня боялся Яхъяев, что похороненные в архиве доказательства его злодеяний получат теперь широкую огласку, лягут на судейский стол. «Молот над моей головой, — назовет эти материалы Яхъяев, — дамоклов меч». И как мог старался, чтобы тяжелый тот меч не опустился на его голову. Немедленно сознавался во всех эпизодах, которые предъявляли ему Гдлян и Иванов. Был шелковым, объяснялся им в любви, стелился перед ними.
Но притворяясь послушным и покладистым, подтверждая все, что они от него требуют, не переставая бить своим следователям поклоны и не уставая их благодарить, Яхъяев тем временем отлично сознавал, что его признания во взяточничестве, не подкрепленные объективными доказательствами, в суде должны будут лопнуть как мыльный пузырь. «Следователей, — станет он позже откровенничать, — нисколько не беспокоили ни реальные обстоятельства, ни точное время этих нелепых сочинений, навязанных мне. Они как одержимые хватались за любые признания, чванливо подчеркивая, что методы их следствия не похожи на другие, что победителей не судят…»
Расчет Яхъяева, к сожалению, подтвердился. Достаточных доказательств предъявленных ему обвинений у следователей не оказалось. На основании же тех поверхностных, противоречивых данных, которые они представили в суд, он не имел возможности осудить Яхъяева. И оставлять его дальше под стражей тоже не мог: обвиняемый пробыл в заключении три с половиной года, а по действовавшему тогда закону человека до суда допускалось держать в изоляции не больше девяти месяцев. Не мог также суд вменить в вину Яхъяеву те его действия, о которых шла речь в материалах, собранных бригадой Бутурлина: выйти за рамки представленного прокуратурой обвинительного заключения суд не вправе.
И вот теперь, когда обвинительное заключение подписано и дело ушло в суд, когда следователи Гдлян и Иванов ему больше не страшны, Яхъяев берет реванш и всласть начинает над ними издеваться. Он обращается к руководителям партии и правительства. «Наконец наступило то долгожданное время, — пишет Яхъяев, — когда я могу в полном объеме и с глубоким осмыслением оценить и описать те хитросплетения и коварные методы и способы, при которых отдельные высокопоставленные лица Прокуратуры СССР искусственно создают обвинения». Его следователи, Гдлян и Иванов, утверждает он, лживые и бессердечные люди. Яхъяева они убеждали в том, что «их следственная группа на сегодняшний день достигла такой недосягаемой вершины, что она в состоянии мгновенно придавить любого, кто чем-то посягнет на их авторитет». Называет этих людей «кучкой карьеристов из Прокуратуры СССР».
Вот и получалось, что Яхъяев своих следователей перехитрил, переиграл как несмышленых младенцев. Обвел вокруг пальца.
А значит, на вопрос прокурора Надежды Константиновны Поповой, прозвучавший в ЦДЛ на вечере, посвященном «чурбановскому» процессу, — как могло случиться, что такой человек, как Яхъяев, избежал справедливой кары? — был только один ответ: произошло это в результате тех игр, что затеяло следствие с Яхъяевым и которые не пресекла в свое время надзирающий за следствием прокурор Надежда Константиновна Попова.
Угрозы
Между тем по Ленинградскому телевидению с соответствующими комментариями показали фрагмент того ЦДЛовского вечера. Съемку в зале произвел кто-то из прокурорских работников. Выступила против меня и газета «Труд».
Гнев людей, не слишком искушенных в тонкостях юриспруденции, был понятен. Не приходилось удивляться и возмущению прокуроров: они защищали свое право по-прежнему бесконтрольно диктовать судам. Но на меня ополчились и те, кто, как я полагал, должны были меня понять, поддержать. Люди одних со мной взглядов, с одной, как мы тогда говорили, «грядки».
С Егором Яковлевым, редактором «Московских новостей», мы встретились на каком-то вечере «Мемориала». Наши добрые отношения возникли еще в пору редактирования им журнала «Журналист». Было это в самом конце шестидесятых, уже начался явный отход от идей XX съезда, оттепель шла на убыль, однако «Журналист» упорно продолжал печатать вызывающие по тем временам вольнолюбивые статьи. Долго это продолжаться, конечно, не могло, и наступил день, когда Егора вызвали на секретариат ЦК. Мы, несколько сотрудников и друзей журнала — Леня Лиходеев, Володя Шевелев, Ира Дементьева, еще два-три человека, — остались ждать его в редакции. Он приехал очень спокойный, позвонил жене: «Все нормально, меня сняли», поставил на стол бутылку и стал рассказывать, как орал на него Суслов. Инкриминировались Егору, насколько помню, три кошмарные провинности: публикация статьи Анатолия Аграновского «Публицистика должна быть вопросительной» (на обложке был перечеркнут красным крестом знак восклицательный и крупно изображен знак вопросительный, в этом усматривался подкоп под жизнеутверждающие идеи партии и порождение ненужных сомнений), хвалебная статья о плеяде молодых писателей: Ахмадулина, Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, и еще какая-то третья публикация. «Ничего, ребята, — сказал нам Егор, — а ведь кое-что мы все-таки успели».
Так вот, в тот день, на вечере в «Мемориале», я был без машины, и Егор предложил завезти меня домой. И по дороге у нас вспыхнул жаркий спор. «Пусть эти два следователя не правы, — доказывал он, — но поддержать их сейчас надо хотя бы из политических соображений. Их наступление на Лигачева и других только на руку демократам». Я возражал, он настаивал. Мы повысили голос. Я раскипятился. Крикнул: «Останови машину, я выйду». Полемику прекратила его жена Ира. «Хватит, — сказала, — а ну-ка успокойтесь».
Придя домой, я тут же написал короткую заметку: мой товарищ, глубоко порядочный человек, готов поддержать следователей-фальсификаторов «из политических соображений». Как часто слышали мы такую дежурную мотивировку, оправдывающую любой произвол в самые страшные годы.
Заметку я отнес не в свою «Литературку», а к Егору, в «Московские новости».
Назавтра он мне позвонил. Сказал сердито: «Приходи, прочти полосу. Материал я поставил в номер».
Сегодня, когда улеглись тогдашние страсти и давно уже никто не ждет от былых кумиров героических подвигов, я отчетливее, кажется, вижу то, что в пылу спора, стремясь пробить стену непонимания, еще не готов был осознать: нет, не могли, не в состоянии были люди, все общество, иначе воспринять обличительные речи двух следователей, их обещание рассказать нам всю правду. Слишком натерпелись мы от вседозволенности власть имущих, от творимого ими беспредела, от их безнаказанности. А если борцы с ними и перегнут где-то палку, добавят лишку, то — не беда. По сравнению с тем, что творили и творят хозяева жизни, — это такая малость! Да и мои отчаянные потуги ссылаться на законность теперь, когда общество пришло в движение, начало раскрепощаться, уже казались в лучшем случае смешными, но чаще вызывали, да и не могли не вызывать, протест, возмущение. Люди на собственном опыте знали, что законности в точном смысле этого слова у нас фактически никогда не существовало, она превращена была в блеф, в голую абстракцию. За газетные призывы к ней долгие годы хватались лишь как за последнюю соломинку, от полной безнадежности. Но теперь, после того как многие вещи наконец стали называть своим именем, любые разговоры о ней уже зазвучали дразнилкой, фальшью и притворством.
После тягостного вечера в ЦДЛ я уехал работать в подмосковное Переделкино, в писательский Дом творчества. Туда позвонил мой знакомый, тоже работник прокуратуры. Сказал, что хотел бы с женой запросто меня навестить.
Когда после ужина мы прогуливались в парке, знакомый отвел меня в сторону и доверительно сказал: «Я должен вас предупредить. Кое-кого вы очень раздражили. Зачем вам лезть на рожон? Вы, наверное, недооцениваете всей опасности, которая вам грозит. Будьте осторожны».
В это же примерно время мой друг народный писатель Узбекистана Камил Икрамов рассказал мне, что к нему неожиданно приехали Гдлян и Иванов. Объяснили, что при расследовании «узбекского дела» им очень важна поддержка узбекской интеллигенции. В разговоре, между прочим, спросили: «А вы знаете журналиста Борина?» «Да, — ответил Икрамов, — это мой товарищ». «А ведь мы располагаем материалами, что он брал крупные взятки», — сообщил Гдлян.
«Этот разговор я записал на диктофон, — сказал мне Камил. — Считай, что у тебя есть вещественное доказательство».
Что мне оставалось делать?
Я еще раз выступил в «Литгазете», ответил моим сердитым читателям — оппонентам. В другой статье рассказал о Хайдаре Яхъяеве, о том, как переиграл он двух знаменитых следователей и, в результате, избежал заслуженного наказания. Напечатал историю талантливого эстонского изобретателя И. Хинта, в свое время арестованного Гдляном «за антисоветскую деятельность». Хинт в тюрьме умер, а через несколько лет был посмертно реабилитирован Верховным Судом.
Но тут руководители Прокуратуры СССР, да и вообще руководство страны, прежде, уж не знаю по какой причине, явно заигрывавшие с Гдляном и Ивановым, фактически их поддерживавшие, вдруг на них ополчились. Делом двух следователей занялась Комиссия партийного контроля. Потом — комиссия Президиума Верховного Совета СССР. Мне позвонили с телевидения и попросили выступить против Гдляна и Иванова в программе «Время». Я отказался. В создавшейся ситуации я не мог сказать даже то, что действительно думаю. Получалось бы, что я смыкаюсь с теми политическими силами, к которым ничего, кроме глубокого неуважения, никогда не испытывал.
События какое-то время еще продолжались. На сессии Верховного Совета выводы «гдляновской» комиссии доложил один из ее сопредседателей Р. Медведев. Постановление отрабатывалось долго, мучительно, в жарких спорах. Наконец утвердили: «Принять к сведению. Считать функции указанной комиссии исчерпанными». И все.
Но история эта уже стала терять для меня всякий интерес.
Камил Икрамов
Камил Икрамов умер в Германии. Он и раньше там лечился, а последнее время лежал в Москве в Онкологическом центре. Однако стремился опять в Германию, очень верил немецким докторам.
Мне позвонила его жена Оля, объяснила, что в Онкологическом центре отказываются вызвать санитарную машину для перевозки его в Шереметьево, считают, что он не выдержит перелета. Не отвезу ли я его в аэропорт на своих «Жигулях»? Разумеется, я согласился, но позвонил Крелину: что скажет врач? «Ты учти только, — предупредил он, — Камил в таком состоянии, что может умереть у тебя в машине». Сам Крелин приехать не смог: ему предстояло срочно оперировать больного. Выбора не оставалось, я поехал, не очень представляя себе, что стану делать с умирающим. Но, подъехав к Центру, с облегчением увидел санитарный автомобиль и стоявшую рядом с ним Олю. Оказывается, онкологи все-таки смилостивились и транспорт вызвали.
Через несколько минут санитары вывели Камила. Я его не узнал. За короткое время он превратился в глубокого старика. Он шел ни на кого не глядя, вид у него был совершенно отрешенный.
Они с Олей поехали в санитарной машине, а я с их дочкой Аней отправился следом.
В аэропорту мы сразу же прошли в медицинскую комнату. Камил, мне показалось, не очень осознавал происходящее, только все время, не отпуская, держал Анину руку.
Зашел работник таможни, молодой парень, сказал, что серебряную цепочку, которая была на Камиле, надо сдать, вывозить за границу ее нельзя. Оля разволновалась, объяснила, что это никакая не драгоценность, грош ей цена, только она — семейный амулет, и муж в него верит. «Пожалуйста, разрешите…» «Нельзя, — повторил таможенник, — оставьте провожающим». И тут я не выдержал, заорал на этого парня: он, что, слепой, не видит, что здесь происходит? Человек он или бездушный чурбан?
«Перестань, — вдруг очень четко и ясно сказал мне Камил, — не знаешь, в какой стране живем?»
Камил, увы, знал это слишком хорошо. В 1938 году расстреляли его отца, секретаря ЦК компартии Узбекистана, арестовали мать. Сам Камил еще мальчишкой попал за решетку, провел там немало лет. А потом, став прекрасным журналистом и писателем, много сил тратил, вызволяя из застенков несчастных. Он был превосходным рассказчиком, уйму знал, уйму помнил, обладал каким-то редчайшим, удивительным артистизмом.
Прилетев в Германию, через три дня Камил умер.
Глава шестая МИЛОСЕРДИЕ ВЫШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Хочу оставаться самим собой
Состояние, в котором мы находились в самом начале перестройки, лучше всего, наверное, передать тремя словами: «Не может быть». На Красной площади 7 ноября перестанут вывешивать портреты членов политбюро? Не может быть. На выборах мы будем голосовать за одного из нескольких кандидатов? Не может быть. Журнал напечатает «Собачье сердце» Булгакова? Не может быть.
Но вот приближались первые реальные на моей памяти выборы, и вместе с небывалым ощущением новизны, свободы возникало и чувство растерянности, недоумения.
В одном из округов соперничали два кандидата. Один из них — партийный функционер, другой — журналист, мой коллега. Писал он очень лихо, выступал против всевозможных мерзостей нашей жизни, которые и у меня вызывали активный протест. Однако в разоблачениях своих — и в тех, что выглядели вполне достоверными, и в тех, что, скорее всего, были далеки от правды, — он никогда не утруждал себя поисками аргументов, фактов и доказательств. Целью его было не доказать, а пригвоздить, уничтожить. По принципу — раззудись рука! Если он так же начнет действовать, став депутатом, — беда. Но странное дело, это мало кого заботило. Наоборот, людям даже нравилось, что он не останавливается на полпути. Если уж бьет, то бьет наотмашь. Когда же я поделился своими соображениями с друзьями, они мне ответили, что да, все так, но другой альтернативной кандидатуры, которая имела бы столько шансов на успех, к сожалению, сегодня нет; что если в органах власти возобладает опять партократия, то на перестройке можно будет поставить большой жирный крест; что из двух зол приходится выбирать меньшее, это и есть политика.
Примерно это же самое говорил мне Егор Яковлев в том нашем споре.
Обо всех этих своих сомнениях и тревогах мне очень хотелось поделиться с читателями. Но как? Выступить против двух авантюристов-следователей я еще мог, на это меня хватало. Но публично сказать о том, что и в новые, благословенные времена, о которых мы вчера и мечтать не могли, многое меня не устраивает, вызывает протест, недоумение, — нет, тут я пасовал.
После долгих раздумий я поступил по рецепту Сергея Образцова. Когда-то он назвал одну из причин, побудивших его заняться куклами. Ему казалось, что певец, выходя на сцену петь лирические романсы и произнося на весь зал слова любви, изображая ревность, страдания, душевное смятение, должен всякий раз испытывать некоторую неловкость. Другое дело, если обо всем этом вместо него расскажет кукла, если певец спрячется за нее. Вот и я тоже выдумал некую «куклу». В статье я написал, что ко мне в редакцию пришел некий человек и, попросив не называть его имени, поделился со мной своими горькими сомнениями.
Вымышленный мой собеседник (за которым, разумеется, скрывался я сам) говорил о том, что прежде в его жизни всегда существовали «они» — власть, начальство, хозяева жизни, и существовали «мы» — его верные друзья-единомышленники, вместе с которыми он всегда старался «им» не поддаться — устоять, выдержать, сохранить свое лицо. Но кто же, спрашивал мой редакционный гость (а на самом деле это я задавал мучающие меня вопросы), кто же сегодня «мы»? Тот краснобай-журналист, чьи действия вызывают неприятие и протест? Или «мы» — это друзья-единомышленники моего собеседника (мои друзья), готовые на нравственный компромисс, на нравственную неразборчивость потому только, что в политике, как известно, из двух зол выбирают меньшее, и цель, несмотря ни на что, все-таки оправдывает средства? А кто — «они»?
Недавно мой собеседник прочел в газетах о событиях на грузинской станции Самтредиа. Пикетчики, требуя выполнить их политические условия, на несколько дней остановили все поезда.
Сами политические требования этих людей прекрасны. Мой собеседник тоже горячий сторонник демократических выборов на многопартийной основе. Более того, он отлично сознает, что многие замечательные политические призывы разбиваются сегодня как о каменную стену, а если видишь, что слова бессильны, то появляется жгучее желание действовать. Но он панически опасается и такого желаниями таких действий.
В газете была напечатана фотография (помню, увидев ее, я долго не мог успокоиться): на рельсах сидит молодой пикетчик и спокойно читает книгу. В двух шагах от него плачут дети, снятые с поезда, волнуются их матери, у людей рушатся все планы, коверкается нормальная жизнь. Но пикетчик ко всем этим переживаниям слеп и глух. Кто он? Бездушный, черствый злодей? Да ничего подобного. Наверное, чуткий, наверное, добрый, наверное, мухи не обидит. Но он — убежденный политик.
С детства мы слышали: «убежденный ленинец», «убежденный сталинец»… И невдомек нам было, что убежденный означает: на все готовый. «Будь готов! Всегда готов!»
Неужели теперь придется опасаться и «убежденных демократов»?
Заканчивая, мой мнимый собеседник говорил, что четкий политический водораздел, разумеется, необходим. Он не призывает к всеобщей консолидации. Такие призывы ему кажутся лицемерными и опасными. С кем консолидироваться? С теми, кто на съезде российской компартии требовал возвратить нас в состояние нового социалистического рабства? Или с погромщиками из общества «Память»? Но, решительно размежевываясь с ними по политическим соображениям, не принимая все их понятия о добре и зле, он не готов также закрывать глаза и на действия своих (моих, моих!) единомышленников, если вдруг с огорчением видит, что в погоне за политическим барышом они сквозь пальцы смотрят на любые мерзости или пожимают руку тем, от кого порядочный человек должен отвернуться.
Он хочет, чтобы его свободу ограничивали только закон и совесть, закон и его совесть, но не узкие политические интересы, а иначе, неровен час, мы опять когда-нибудь услышим, будто нравственно все, что политически выгодно, а если враг не сдается, его необходимо тут же, немедленно уничтожать.
Статья моя называлась «Хочу оставаться самим собой». Опубликована она была летом 1990 года.
Наверное, предвидь я все, что потом случится — путч 1991 года, попытку реванша в 1993 году, штурм Останкина, бандитские демарши Макашова, Хасбулатова, Руцкова, политическое противостояние, которое чуть было не переросло в гражданскую войну, — я бы, наверное, писал не так или не совсем так. Очевидная наивность, поверхностное прекраснодушие, звучащие в словах моего мнимого собеседника, а на самом деле отражающие мои собственные тогдашние мысли и чувства, были, конечно, слишком далеки от суровой круговерти реальной жизни, не могли, не способны были служить в ней надежной опорой. Одними чистыми руками тут мало что осилишь, требуется еще и как следует мозгами шевелить. Ирония, скрытая в известном изречении: «совесть есть — ума не надо», что делать, достаточно справедлива. Живем мы не в дистиллированном мире, на черное и белое он не делится. Приходится, случается, и смиряться, и на компромиссы идти, и в союзниках иметь далеко не ангелов, и разрабатывать наиболее оптимальную тактику действий, и выбирать из двух зол меньшее. Не стал бы играться я и со словом «убежденность», вообще такие бездумные словесные игры часто совсем небезобидны.
И все-таки от основного пафоса той статьи мне не хотелось бы отказываться и сегодня. И сегодня, даже в самых нелегких, запутанных ситуациях, очень подмывает снова и снова сказать себе то же самое, по-детски беззащитное: «Хочу оставаться самим собой!» Пусть не всегда это получается, но иначе, без такой внутренней доминанты, очень просто споткнуться и сломаться. Когда-то, в очень трудные, мрачные времена Изольд Зверев любил повторять: «Жизнь — дерьмо. Но если ты сам дерьмо — не сваливай на жизнь».
Но чего бы уж точно не стал я сегодня делать, так это, обращаясь к читателям, не прятался бы за «куклу», за мнимого моего собеседника. То была моя безусловная ошибка. Если уж собрался что-то сказать, то надо было найти в себе смелость и сказать прямо, от своего имени. Может быть, нечестность, которую я позволил себе в обращении к читателю, в немалой степени и привела к тому, что статья эта тогда совершенно не прозвучала. Не вызвала ни одобрения, ни протестов. Ее просто не заметили. Я замахнулся на исповедь, а напечатал бледную, никого не тронувшую литературщину.
Подобных ошибок я никогда уже больше старался не допускать.
Ширма
С Анатолием Приставкиным я познакомился, если не ошибаюсь, где-то в конце шестидесятых. Известно было: пишет он о рабочем классе, о сибирских стройках. Ничем особенным его работы не отличались, да, впрочем, и все мы, разрабатывавшие тогда те же дежурные темы, писали, что называется, под одну гребенку. Знали: Толя не в меру обидчив, любая, даже вполне нейтральная шутка в его адрес вызывала в нем злобный отпор. При этом он очень старался самоутвердиться, любым способом. Всех убеждал, что обладает свойствами экстрасенса, может вылечить любую боль и взглядом погасить лампочку на потолке. Ни подтвердить, ни опровергнуть этого я не могу, мне лично наблюдать результаты его чудотворных действий как-то ни разу не довелось.
Оттого что ничего выдающегося от него никто не ждал, всех так поразила его замечательная повесть «Ночевала тучка золотая». Мы прочли ее в рукописи и тут же стали безоговорочными ее сторонниками, на обсуждении в Союзе писателей грудью защищали ее от нападок секретаря Союза писателей Феликса Кузнецова.
Повесть эта была автобиографической, описывая, как голодные обитатели детского дома боролись за свое существование, за ломоть хлеба, автор рассказывал и о своем собственном голодном детстве. О том, как с малых лет ему приходилось постоянно быть в обороне, не доверять людям, в любой момент ждать подвоха и жадно хватать каждый кусок. Видимо, эти суровые привычки, заложенные в самом детстве, постоянная подозрительность к окружающим сохранились в нем потом на всю жизнь.
Где-то в конце 1991 года я встретил его во дворе нашего дома, тогда мы были соседями. Он рассказал, что по инициативе известного правозащитника Сергея Адамовича Ковалева при президенте создается Комиссия по вопросам помилования, Приставкину предложено ее возглавить, не соглашусь ли я стать его заместителем? Предложение было неожиданным. Журналистская работа меня вполне устраивала, и в мыслях не было переходить в коридоры власти. Но он сказал, что бросать «Литературную газету» мне совсем не обязательно, эти два дела можно вполне совместить, да и работа в комиссии есть, собственно, продолжение того, чем я занимаюсь в газете, спасая несправедливо осужденных. Я подумал: а ведь и верно, предложение Приставкина вполне логично, вытаскивать несчастных из тюрьмы я пытался своими статьями, теперь же в комиссии у меня будет для этого куда больше возможностей. Думать так очень хотелось, и, что говорить, условия, которые вдруг открывались, тоже выглядели весьма соблазнительно.
Жена к сделанному мне предложению отнеслась отрицательно. Войти в общественную комиссию как другие рядовые ее члены, то есть без штатной должности и солидной зарплаты, — да, пожалуйста. Но идти на государственную службу, стать заместителем председателя комиссии — не надо: «не твое это дело». Мне казалось, она не права. Что значит, не мое дело? Почему? Важно ведь, не кем я числюсь, а чем занимаюсь. Короче, жену я не послушал. К великому сожалению.
Комиссия начала работать в марте 1992 года.
Ее членами стали Булат Окуджава, Фазиль Искандер, Лев Разгон, видные юристы, врач, священник — люди известные, глубоко порядочные, с безупречной репутацией. Собирались мы еженедельно, по вторникам. Каждый раз после заседания готовился проект Указа президента об освобождении осужденных или о сокращении им срока наказания. Сознавать, что на нашу долю выпало редкое счастье спасать людей от тюрьмы, было чрезвычайно приятно. Начальник отдела помилования администрации президента, который готовил материалы для комиссии, всячески старался укрепить в нас такие настроения. Нередко после заседания на столе появлялась бутылка, и мы поднимали бокалы за нашу прекрасную комиссию, за то, что на нашу долю выпала удивительная удача вызволять из беды людей. В стране, где десятилетиями царили страх и жестокость, нам, счастливцам, довелось наконец осуществлять милосердие. Страна слишком долго этого ждала. Очень скоро, однако, стало ясно, что мы невольно выполняем роль ширмы. Прикрываясь нашими именами, решения по сути принимал тот самый чиновник. Он отбирал, какие заявления мы будем рассматривать, остальные же, львиную долю, не советуясь с нами, отклонял своей собственной властью. Осужденный, обратившийся к президенту, получал бумагу: «Ваше ходатайство отклонено», хотя на самом деле прошение человека не доходило не только до президента, оно не попадало даже на стол нашей комиссии. Чиновник, по сути, действовал совершенно бесконтрольно. И ничего нельзя было изменить: заседая раз в неделю по три-четыре часа, общественная комиссия в состоянии была рассмотреть в год не больше семи-восьми тысяч дел, а их тогда поступало что-то около пятидесяти тысяч.
К чему подобная практика приводила, свидетельствует такой случай. На проходившей в то время международной конференции «Тюремная реформа» в качестве официального документа было распространено письмо заключенной Клавдии Ивановны Лапиной. Она писала: «Мы просим вас, вслушайтесь в нашу боль: все мы, конечно, виноваты, кто в большей степени, кто в меньшей. Почти все признали свою вину и искупаем ее уже 6-й, 7-й, 8-й, 9-й год… Все мы осуждены были в 1985–1987 годах, в годы действия Указа о нетрудовых доходах, в годы, когда судьи щедро раздавали — 10,12,15 лет… Лично я потеряла в жизни все: мне сейчас 53 года, с мужем развод, дочь младшая с 8 лет растет практически одна (старший сын — опекун). Ей сейчас 15 лет, ей сейчас трудно как никогда. Она говорит: „Я устала жить без тебя!“ Вдумайтесь в эти слова пятнадцатилетней девочки: „Устала жить…“ Это же страшно! Уже трижды из нашей колонии посылалось прошение о помиловании, но буквально через полтора месяца — отказ! Что вы! Разве можно такую преступницу помиловать или снизить срок! Вот если бы я убила кого-нибудь, то да! Убийцам и насильникам куда больше снисхождения…»
Документ этот был доведен до членов комиссии, и Лапину наконец помиловали. Ну а если бы этого не случилось? Если бы и последнее ее ходатайство опять было похоронено чиновником среди тысяч других отклоненных ходатайств? Сколько бы еще отказов, подготовленных работниками аппарата, она получила? Но может ли судьба человека зависеть от случая и лотереи?
Если говорить по существу, дела заключенных комиссия вообще не рассматривала. Правильнее было бы сказать, что в год мы рассматривали семь-восемь тысяч коротких справок, где о каждом из осужденных и о совершенном им преступлении сообщалось на одной-двух страницах и всего в нескольких абзацах.
«Михеева, — читал я в одной из таких справок, — 1964 года рождения, осуждена по ст. 103 УК РСФСР к пяти годам лишения свободы. Не замужем, не судима, училась на пятом курсе педагогического института, характеризовалась положительно. 18 июля 1989 года Михеева находилась дома, когда пришли родители. Отец был в нетрезвом состоянии. Между ним и матерью возникла ссора, перешедшая в драку. Затем отец пошел за сигаретами, а мать догнала его на улице, набросила на шею резиновый шланг и стала душить. Отец сопротивлялся. Михеева вышла на улицу, взялась за второй конец шланга, и вместе с матерью они задушили отца. Отбыла три года и семь месяцев…»
Жуть, кровь стынет. Но что говорит мне эта короткая справка о дочери-отцеубийце? Кто она, холодный, бесчувственный зверь или жертва какой-то страшной, неведомой мне семейной драмы? Ненависть к родному отцу родилась у нее неожиданно, мгновенно или же созревала, копилась годами? Дочь продолжает искать и находить себе и своей матери оправдание или же места себе не находит, до сих пор в ушах стоит предсмертный хрип отца? И каким человеком выйдет она на свободу, если президент сегодня ее помилует? Раскаявшимся? Не сломленным? Или же обозленным на всех и вся? В справке сказано: «В ИТК характеризуется исключительно положительно. К труду относится добросовестно. Принимает активное участие в общественной жизни. Администрация ИТК считает, что она встала на путь исправления…» Но что давала, что объясняла мне эта маловразумительная фраза?
Однажды, прочтя в справке, что осужденный «на путь исправления», наоборот, «не встал», я попросил показать мне всю характеристику. Узнаю: «Работает добросовестно, нарушений не допускает, вину свою признает частично, пишет жалобы на приговор суда в различные инстанции. В общении с администрацией ведет себя вежливо, легко входит в доверие к администрации, однако по складу характера скрытен, замкнут, на откровенный разговор с администрацией не идет…» Ну и что? Какие глубины в человеке открывает мне такой отзыв? Осужденный не считает себя целиком виноватым? Ну так многие заключенные до конца убеждены, что на них взвалили лишку. Не откровенничает с начальством? Так, может, начальство не сумело найти с ним общий язык, оказалось беспомощным перед сложным, неординарным характером, пасует перед ним и за это еще на него и злится?
Однако ни о каких иных, более полных источниках информации об осужденном при существовавшей в ту пору системе, когда все ходатайства о помиловании без какого бы то ни было серьезного их изучения, серьезной оценки на местах сплошным потоком шли в Москву, в администрацию президента, и говорить не приходилось. Приговор суда и официальная характеристика — вот и вся возможная информация о человеке.
Да и сама процедура рассмотрения просьб заключенных вряд ли способствовала принятию обоснованных решений. За неделю до очередного заседания комиссии нам раздавали 150–200 таких куцых, мало о чем говорящих справок, и за три-четыре часа необходимо было их все обсудить и по каждой принять решение. На осужденного выходило, стало быть, минуты по полторы. Вот в таком темпе, таким галопом и решались человеческие судьбы.
На этой почве между мной и тем чиновником возникли крайне напряженные отношения. Я не скрывал, что думаю о заведенном порядке, чиновник же, которому порядок этот давал огромную власть, искал повод со мной посчитаться. И нашел. Выступая в «Литературной газете» в защиту осужденных хозяйственников, тех самых, кто вынужден был совершать преступления, чтобы не останавливалась работа (давали взятку за необходимый заводу дефицитный насос или за бензин для машин «скорой помощи»), я познакомился с руководителями созданного в то время «Общества защиты осужденных хозяйственников». Теперь, когда я вошел в комиссию, они обратились ко мне с жалобой: ходатайства о помиловании хозяйственников долго лежат в отделе безо всякого движения, чиновник упорно не дает им хода, нельзя ли ускорить? По моему предложению дела эти стали поступать на комиссию, и, если мы видели, что человек оказался без вины виноватым, преступление его было вынужденным, комиссия рекомендовала президенту его освободить. И тут же пополз пущенный чиновником слух: «Борина хозяйственники подкупили». Метод расправы с противником при помощи «чемоданов компромата» тогда еще не получил широкого распространения, это произойдет несколько позже, но охотники навредить человеку, измазав его грязью, находились всегда, мы не раз с этим сталкивались в «Литгазете». Заступишься за кого-нибудь, и тут же твой противник, подвергнутый в газете критике, сигнализирует в инстанции: «обратите внимание, корреспондента подмазали». Так что действия чиновника из отдела помилования, как в свое время утверждения Тельмана Гдляна о полученных мною взятках, меня нисколько не удивили. Удивило другое: отношение к словам чиновника председателя комиссии. Не думаю, чтобы Приставкин ему поверил, но он довольно резко сказал мне, чтобы ходатайствами хозяйственников я больше не занимался.
Вообще с этого времени он все больше стал меня удивлять. Я прекрасно знал, каким он бывает подозрительным, как присуща ему болезненная мнительность, как настороженно относится к людям, чаще всего безо всякого основания, но не ожидал, что это коснется и меня: не первый день знакомы. Но тут, как-то сорвавшись, он вдруг крикнул мне: «Ты ведешь себя как начальник». Я ничего не мог понять. Естественно, никакого чинопочитания между нами не было и быть не могло, слишком давние нас связывали приятельские отношения, да и сам он всячески подчеркивал, что в комиссии собрались друзья, единомышленники и каждый может открыто говорить все, что думает. К тому же и спора-то у нас с ним обычно не возникало, мы оба были убежденными противниками смертной казни, оба на комиссии голосовали за освобождение осужденного или же, когда это было невозможно, за самое мягкое ему наказание. И вдруг — такой всплеск неприязни, откровенной злобы. Что это? Влияние того самого чиновника? Раскусив, как легко поддается Приставкин внушению, он вполне мог постараться на него воздействовать. Но к чиновнику отношение у него, мне казалось, тоже было достаточно осторожным, мы не раз с ним это обсуждали.
Дальше — больше. Звоню в бюро пропусков, заказываю пропуск человеку, с которым я договорился о встрече, а мне говорят: «Извините, но есть указание председателя комиссии вашу заявку не выполнять, только его и начальника отдела». Изучаю назначенное к рассмотрению на комиссии дело, материалы остались в кабинете Приставкина, дверь туда, однако, заперта, прошу у секретарши ключ, она отвечает: «Простите, Александр Борисович, но Анатолий Игнатьевич велел ключ вам не давать». Я разозлился. Вечером захожу к нему, говорю: «Давай объяснимся. Какие у тебя ко мне претензии?» Отводит глаза, мнется: «Вот ты проталкиваешь на комиссию дела хозяйственников…» «Хорошо, — говорю, — их ходатайствами будешь заниматься ты сам. Что еще?» — «Больше ничего». А назавтра крик: «Зачем ты втянул меня в разговор, в другой раз тебе не удастся». Что не удастся? Разговаривать нам друг с другом?
Разгадка такого поведения Приставкина обнаружилась много позже, спустя несколько лет, и оказалось, что не обошлось тут без Андрея Мальгина, того самого, кто написал когда-то в «Литгазете» невежественную статью об Эйдельмане, и кого, по словам Мальгина, «60 Эйдельманов» втоптали в грязь.
Работая теперь в комиссии, я заметил, что Мальгин зачастил вдруг к Приставкину, и, запершись, они о чем-то подолгу беседуют. Никакого значения этому я не придал: ну зачастил и зачастил. Ему удалось за это время сделать неплохую карьеру в журналистике, он стал редактором крупного столичного журнала, писатели были ему нужны, да и после той истории с его безобразной статьей прошло уже немало времени, самого Натана уже три года как не было в живых, что сейчас говорить? При встрече мы холодно кивали друг другу: «привет» — «привет». И все.
Но как выяснилось, Мальгина и Приставкина связывало в ту пору одно очень важное и секретное дело. Будучи близок к высоким московским кругам, Мальгин, взяв в союзники Приставкина, стал добиваться, чтобы вместо нового здания, где планировалось разместить Русский Пен-центр, с удобными кабинетами, с отелем для гостей (Центр до сих пор занимает убогое помещение), построили роскошные квартиры. Пробить это, конечно, было не просто, хорошее помещение Пен-центру требовалось позарез, но необходимый аргумент в пользу строительства элитного жилого дома у инициаторов затеи нашелся: многие известные писатели нуждаются в хорошем жилье. Такой довод при соответствующей поддержке влиятельных лиц, как видно, сыграл свою роль. При этом, понятно, требовалось, чтобы в списке будущих новоселов оказалось как можно больше громких писательских имен. Особого труда это не составило. Только Булат, я знаю, вселиться в новый дом отказался, сказал: «Зачем, у меня есть квартира». Сами же инициаторы, Приставкин и Мальгин, за бортом, разумеется, не остались.
Узнал я обо всем этом, спустя длительное время (историю несостоявшегося помещения для Русского Пен-центра рассказал мне его почетный председатель Анатолий Наумович Рыбаков), а узнав, с грустью подумал, какой же, видимо, страх, сам не ведая того, внушал я в ту пору этим двум людям. К их проекту у меня не было и не могло быть никакого интереса, квартиру имею великолепную, членом Пен-центра не состою, за хороших писателей, въезжающих в этот дом, только бы порадовался. Но Мальгин, помня позорную историю с его публикацией и редакционную летучку, на которой я под общий смех рассказал, как Эйдельман выправлял его безграмотную статью, выгребал из нее чушь и нелепицы, сумел, вероятно, внушить Приставкину, какой я опасный человек, как нужно меня остерегаться, как могу навредить их делу, и вообще лучше всего от меня отгородиться. Понятным мне стал и его нервный крик: «Не втягивай меня в разговор», и его постоянно взвинченное состояние.
«Мы работаем вслепую»
Я еще продолжал оставаться членом комиссии, но, видя, что ничего в ней не меняется, мы продолжаем быть удобной ширмой, опубликовал в «Литературной газете» статью «Милосердие выше справедливости». Привел в ней слова заместителя председателя Конституционного суда Тамары Георгиевны Морщаковой: «Человек, чье ходатайство о помиловании не дошло до президентской комиссии, а в рабочем порядке отклонено аппаратом, вправе обратиться в Конституционный суд… Установив, что существующая процедура… не исключает произвола, Конституционный суд может предложить законодателю заполнить правовую нишу и разработать закон, который обеспечивал бы единый правовой порядок при рассмотрении всех без исключения ходатайств о помиловании». В Государственно-правовом управлении президента было организовано обсуждение этой статьи. Выступили видные юристы, работники суда и прокуратуры, члены комиссии. Сохранилась магнитофонная пленка. Член комиссии Лев Разгон: «Мы работаем вслепую. Что мы знаем об осужденном? В справке, которую мы получаем, приводятся две строчки из характеристики, выданной ему администрацией колонии: человек исправился и достоин помилования, или же нет, наоборот, не исправился. Почему? Оказывается, одет был не по форме, усмехнулся, не так ответил начальнику. И этого уже достаточно, чтобы администрация рекомендовала отказать осужденному в помиловании». Директор общественного центра «Содействие» Валерий Абрамкин: «Ученые МВД делят заключенных на три группы — „отрицательные“, „нейтральные“ и „положительные“, то есть те, кто сотрудничает с администрацией зоны. Но это отнюдь не критерий исправления человека, это лишь критерий управляемости им. В тестах, которые проводят американские психологи, „хорошая приспособленность к жизни в тюрьме“ показатель, наоборот, отрицательный. Если человек хорошо приспособился к тюремной жизни, значит, ему очень трудно будет на воле… В таком деле никак нельзя доверяться только бумагам. Но пока вопрос о помиловании осужденных, рассеянных по всей России, решается здесь, в Москве, ничего другого не остается. В бумагу вы заглянете, а в глаза человеку — никогда». Выступающие говорили, что максимальная децентрализация этой системы, наверное, позволила бы как-то решить назревшие проблемы. Предлагалось также разработать специальный закон о помиловании. Разумеется, регламентировать, в каких случаях человека надо помиловать, а в каких — нет, нельзя, дело это чрезвычайно тонкое, сложное, советчиками тут каждый раз могут быть только профессиональный подход и отзывчивое сердце. Но установить единую процедуру рассмотрения всех ходатайств о помиловании — действительно необходимо. Как же иначе защитить человека, ищущего милосердия, от чиновничьего произвола?
Меня пригласил руководитель администрации президента Сергей Александрович Филатов. Скоро я получил проект распоряжения президента о создании специальной рабочей группы для изучения проблем, связанных с институтом помилования. А еще через некоторое время проект президентского распоряжения неожиданно был отозван. Уж не знаю, кто, но Филатову объяснили, что с помилованием у нас в стране все в порядке, менять ничего не следует.
Узнав, что Филатов отозвал проект президентского распоряжения, я понял, что оставаться в комиссии мне уже нет никакого смысла, и я из нее вышел. Вместе со мной оставил комиссию известный правозащитник, друг С. А. Ковалева — Михаил Михайлович Молоствов.
Так закончилась для меня эта история. Однако пути Господни неисповедимы. Тесная дружба Приставкина с чиновником, когда-то попортившим мне немало крови, тоже обернулась, в результате, их громкой ссорой. Что-то они не поделили, в чем-то крепко разошлись, Приставкин стал поносить его на всех углах и добился в конце концов, чтобы того убрали.
Впрочем, и с Мальгиным отношения у него сложились совсем не безоблачные. В той самой, опубликованной в «Дне литературы» переписке с Есиным («мы не антисемиты»), Мальгин сетует на то, что Есин проболтался о весьма нелестных отзывах Мальгина о Приставкине. «А семья Прис-киных, — прозрачно камуфлирует он фамилию, — очень опасная и коварная сила, которая в самый неожиданный момент может отыграться».
Скоро на книжных прилавках появилась и скандальная книжка Мальгина, герой которой назван, чтобы читатель уж никак не мог ошибиться, Игнатием Присядкиным. Отпустив все тормоза, автор не щадит здесь ни главного героя, ни жену его, ни даже пятнадцатилетнюю дочь, вываливает на них ушаты самой густой, черной грязи. И совершенно не тянет разбираться, есть ли в том пасквиле что-то списанное с натуры или здесь один сплошной вымысел, хочется поскорее отбросить дурно пахнущее произведение и почище вымыть руки.
Через девять лет
То, чего не произошло в 1993 году, случилось через девять лет, комиссию в конце концов ликвидировали. Однако перед тем вокруг нее разгорелась полемика — бурная, но не слишком предметная. Власти всех пугали изрядным количеством помилованных убийц, не беря в расчет, что убийство убийству рознь, что в России по статистике до 90 процентов убийств совершается импульсивно: друзьями сели за стол, рюмка за рюмкой, и в ход пошел нож. Да и вообще, закрыть дорогу к помилованию какой-либо одной категории осужденных — любой! — означает обессмыслить сам институт помилования. Сторонники же комиссии активно выступали в защиту прав человека, забывая, что и при существовании комиссии, даже в лучшие ее времена, грубо нарушались конституционные права десятков тысяч осужденных.
Все больше сказывалось и отсутствие закона о помиловании, который в свое время, несмотря на предложение специалистов, так и не был принят. На рассмотрение комиссии передавалось все меньше и меньше ходатайств осужденных, рекомендации комиссии до президента вообще не доводились, вокруг комиссии разгорался ажиотаж, распускались разные слухи.
Положение осложнялось еще и тем, что, строго говоря, президент, освобождавший по рекомендации комиссии тысячи осужденных в год, в сущности, не миловал преступников, а исправлял пороки и огрехи нашего правосудия. По закону, понятно, ему это не положено, но что же оставалось делать, когда наши тюрьмы переполнены, когда уголовный кодекс непомерно жесток, когда за украденную булку или ведро картошки человеку дают три года лагеря, когда, не умея найти преступника, милиция порой выбивает «чистосердечное признание» из невиновного, когда пройдены все дороги ада, исчерпаны все судебные инстанции, однако пробить головой стену бедняге так и не удалось, и остается ему одно-единственное — просить у президента прощения? Этим соображением и руководствовались многие мои товарищи, члены комиссии: соглашаясь, что работа комиссии весьма несовершенна, они полагали все-таки, что без нее заключенным стало бы еще хуже. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Проблема, однако, состояла в том, что и пороки правосудия нельзя было исправлять вслепую.
В конце концов поступили как советовали девять лет назад специалисты: процедуру помилования максимально децентрализовали. В каждом регионе была создана своя общественная комиссия, она и должна рекомендовать, чьи ходатайства о помиловании удовлетворить, а чьи — отклонить. Рекомендации комиссии публикуются в местной печати, после чего губернатор направляет их президенту страны. Процедура рассмотрения всех ходатайств одинаковая, а значит, прекратилось нарушение конституционных прав десятков тысяч осужденных.
Вместе с тем нововведенье это внушало и серьезные опасения. Произвол местных властей хорошо известен, не почувствуют ли его на себе тысячи заключенных? Где гарантия, что губернаторы не введут в такие комиссии своих послушных, хорошо управляемых клевретов? Где уверенность, что здесь, вдалеке от центра, не загуляют всякий раз большие деньги?
Впрочем, с самого начала выявилась еще и другая опасность. Началась драчка между чиновниками. Рекомендации региональных комиссий стали торпедироваться в Москве работниками Министерства юстиции. Отвергая предложения о помиловании, поступающие с мест, они клали на стол президента свой список заключенных, заслуживших, по их мнению, прощенья. В результате все меньше и меньше осужденных выходило на свободу, из-за чиновничьих свар страдали живые люди.
Получалось, что прежде было плохо, но и новый порядок не принес улучшения, скорее, наоборот.
Бывая за границей, я видел, как четко работают там институты помилования, как сведена до минимума власть чиновников, как решения о помиловании принимаются не наобум, а всякий раз тщательно выверяются.
В Италии, например, к принятию решения о помиловании привлекаются специалисты: психолог, социолог, воспитатель, священник, имеющие возможность оценить личность осужденного, его поведение, среду, в которую он возвращается. То же происходит и в Германии. В Испании, как только поступает ходатайство о помиловании, суд, осудивший человека, открывает специальное дело — дело о помиловании. Собираются заключения психолога, социолога, прокурора, испрашивается мнение потерпевшего. С осужденным встречаются, ведут беседы, выясняют его планы.
Пока десятки тысяч ходатайств гигантским потоком шли в Москву, в центральный аппарат, у нас такое было совершенно невозможно. Но отныне, когда регион стал иметь дело всего с сотнями ходатайств в год (с десятками в месяц), что, казалось бы, мешало нам не изобретать свой велосипед, а перенять ценный зарубежный опыт?
Нет, не получилось. Слишком силен наш российский чиновник. Укоротили одного, встали на его место десятки других. Свою власть, свой интерес, свое место под солнцем утратить они не готовы. Всеми способами доказывают, кто в доме хозяин.
После роспуска комиссии Приставкин, однако, без работы не остался. Его назначили на высокую должность советника президента. Многих удивило даже не столько само это назначение, сколько — с какой легкостью и при каких обстоятельствах он его принял. Еще накануне он со всех трибун, с газетных полос и с экрана телевизора доказывал, что ликвидация комиссии есть наступление на права человека, причинит делу и людям огромный вред, приглашенный в тот день на прием к президенту, сообщил своим товарищам, что едет ее отстаивать, а выйдя из президентского кабинета, рассказал перед объективами телекамер, какой у нас обаятельный президент — и все, ничего больше. О назначении Приставкина на высокий государственный пост, последовавшем сразу же за роспуском комиссии и всеми воспринятом как своеобразная ему компенсация, так сказать отступное, мы узнали из печати на другой день. Приставкин объяснил, что и сам он услышал об этом тоже только по радио, президент, целый час беседуя с ним, ничего ему не сказал. Кто-то в это поверил, кто-то — нет.
Смертная казнь
Большинство членов комиссии были принципиальными противниками смертной казни. Это нередко ставило нас в очень сложное положение. Совершено жуткое преступление. Изверг убивал детей, насиловал женщин, пролил реки крови, даже пятнадцать лет заключения, предел, предусмотренный при помиловании тогдашним законом, для него слишком мягкое наказание. Такого впору на всю жизнь упрятать в темницу, пусть страдает, проклинает собственную судьбу. Но пожизненного заключения в нашем уголовном праве тогда еще не было. Мы как могли пробивали такую меру наказания в Верхнем Совете, а пока, чтобы не переступать через собственные убеждения, не рекомендовать президенту казнить человека, принимали решение: «Дело отложить для дополнительного изучения». Конечно, мы хитрили, никакого дополнительного изучения обычно не требовалось, однако ничего иного нам не оставалось. Либо такая хитрость, либо человека казнят. А проголосовать за это у большинства из нас не подымалась рука.
Правда, однажды я был вынужден так поступить.
Среди других, с формулировкой «для дополнительного изучения», было отложено дело одного насильника и убийцы. Дело это очень страшное. Отсидев десять лет за убийство, вернувшись из колонии, на пятый уже день преступник изнасиловал и убил двух девочек: девяти и одиннадцати лет. Заманил их в лодку покататься по реке, отвез на безлюдный остров, там совершил свое гнусное преступление и там же закопал трупы.
Некоторые члены комиссии потребовали ходатайство изверга немедленно отклонить. Жить такой изверг не должен. Однако другие члены комиссии все-таки предложили отложить дело с той самой, изобретенной нами формулировкой: «Для дополнительного изучения». Нельзя быть «чуть-чуть», избирательно, противником смертной казни. Либо мы этот принцип исповедуем всегда, либо нет. Третьего не дано. Пусть бумаги пока полежат, а как только долгожданный закон о пожизненном заключении появится, мы к ним вернемся и порекомендуем президенту навсегда лишить негодяя свободы. Большинство членов комиссии так и проголосовало.
Председатель комиссии уехал в отпуск, я остался за него.
Во вторник, как обычно, началось очередное заседание комиссии. И тут наш чиновник сказал, что должен ознакомить присутствующих с одной газетной публикацией.
Речь в ней шла как раз о том самом насильнике и убийце. Автор статьи писал, что, как стало ему известно, президентская комиссия отложила это дело для дополнительного изучения материалов. «Что еще не ясно уважаемым членам комиссии? — спрашивал газетчик. — Что детей нельзя насиловать и убивать? Что за подобные злодеяния расплатой может быть смерть и только смерть? А если бы так поступили с дочерью кого-нибудь из членов комиссии? Он бы тоже спасал убийцу, предлагал его дело отложить в долгий ящик?» Автор корреспонденции советовал членам комиссии посмотреть в глаза матерям замученных девочек. Только посмотреть. Одна из женщин сошла с ума, другая сказала корреспонденту, что если преступнику сохранят жизнь, она поедет в Москву и на Красной площади устроит демонстрацию протеста.
Чиновник кончил читать. Наступила мертвая тишина. Я спросил: «Кто дал информацию в газету, что комиссия отложила дело?» «Я, — ответил чиновник. — Мне позвонил их местный депутат. Что я должен был ему говорить? Врать?»
Ситуация складывалась тяжелейшая.
«Какие будут предложения?» — спросил я у членов комиссии.
«Рекомендовать президенту отклонить ходатайство о помиловании», — сказал один.
Другой, однако, возразил: «Дело кошмарное, прочитав его, я до утра не мог уснуть. Но в любом случае за смертную казнь я не проголосую, не смогу. Здесь нельзя руководствоваться эмоциями, слишком далеко они нас заведут. Каждый должен поступить так, как ему диктуют его убеждения».
На комиссии в тот день присутствовало девять человек. Четверо потребовали смерти преступнику. Четверо, однако, проголосовали против.
Все должен был решить мой голос.
Я хорошо понимал, какая поднимется волна, какой шум, какие посыплются гневные публикации, как используют этот случай определенные политические силы, если насильнику и убийце детей по рекомендации нашей комиссии президент сохранит жизнь.
«Хорошо, — сказал я. — Я голосую за отклонение ходатайства».
Чиновник наш прямо-таки засветился от радости: голосование большинства членов комиссии против смертной казни всякий раз вызывало у него лютое раздражение. Не поручусь, что вся история с утечкой информации и газетной статьей не была им умело подстроена. Хотел проверить: выдержу я такой натиск или нет. Я, увы, не выдержал.
Это был первый случай, когда комиссия порекомендовала президенту расстрелять человека. И хотя такое ее решение не осталось единственным, потом, после моего ухода из комиссии, опять возникали ситуации, когда иначе поступить она не могла (например, дело Чикатило), и люди, публично заявлявшие прежде, что им физически, до слез, невыносима сама мысль о санкционировании убийства, теперь послушно голосовали за расстрел, — меня это слабо утешало.
И то, что мои друзья-правозащитники, Сергей Адамович Ковалев говорили мне, что в той ситуации вряд ли был у меня иной выход — тоже не снимало камня с моей души.
Многое рано или поздно забывается, многое с годами уходит в песок, выясняется, что события, которых, казалось, нет важнее, не стоят и ломаного гроша. Но то, что я сам, своими руками, послал человека на смерть, останется со мной навсегда. Не человека — изверга и убийцу? Да, конечно. Но это факт его биографии. А факт моей — подписал сметный приговор. Поступил во имя высокой справедливости и строго по закону, камня в меня за это никто не кинет? Да, все так. Но факт остается фактом: мог не убить, а я убил. И от этого уже никуда не денешься.
Работая журналистом, мне пришлось дважды встретиться с людьми, содержащимися в камере смертников. Но какие же то были разные истории и какие разные люди дожидались там своего смертного часа.
Безобидный Вакорин
Как-то позвонил работник Верховного Суда и рассказал, что у них в кассационной инстанции только что прошло любопытное дело: муж заказал убийство своей жены. «Да что же здесь любопытного? — удивился я. — Разве в первый раз?» «Нет, конечно, — согласился мой собеседник, — такие дела бывают. Но чаще всего преступлению предшествует вражда супругов, дикие ссоры, кипят страсти, убийство — последняя, так сказать, капля. А тут, по показаниям свидетелей, счастливая была семья, у супругов были самые добрые отношения, да и муж-убийца, все говорят, милейший, безобиднейший человек, худого слова о нем никто не сказал». — «А где это произошло?» — «В Новосибирской области. И заказчик, и исполнитель содержатся сейчас в новосибирской тюрьме, ждут расстрела. Если хотите, можете туда слетать, мы дадим разрешение на свидание. Только торопитесь, дело уже прошло все инстанции, скоро приговор может быть приведен в исполнение».
Когда-то, до революции, этот город назывался Каинском. 4321 житель, пять кабаков, десять публичных домов. И библиотека — триста книг на сорок читателей.
В ту пору, о которой идет речь, бывший Каинск, переименованный при советской власти в город Куйбышев, стал крупным, быстро растущим промышленным центром. Население — сорок пять тысяч человек. Политехнический техникум, педагогическое и медицинское училища, одиннадцать клубов, Дворец культуры. Постоянно гастролировали театры из Москвы, Ленинграда, Новосибирска. Сибирский народный хор показал свою новую программу перед поездкой во Францию. Только что открылась первая городская выставка цветов. Георгины, астры, редкие черные гладиолусы. Из сорока пяти тысяч жителей выставку посетили 30 тысяч. В книге отзывов писали: «Не верится, что все это может вырасти в Сибири, там, где прежде росли одни ели с медведями между ними».
В городе 650 личных автомобилей, 5500 мотоциклов (мотоцикл — на каждые восемь душ населения, считая грудных младенцев).
Здесь, в городе Куйбышеве, убили учительницу географии 4-й средней школы Надежду Ивановну Варлакову. В одиннадцатом часу вечера, в двух шагах от дома, выстрелом из обреза. Совершено было дикое, страшное, неожиданное преступление. И непонятное. Необъяснимое. Необъяснимость этого преступления потрясла жителей города не меньше, чем само случившееся.
В этот день Варлакова задержалась на собрании. Муж пошел к школе ее встречать. Вместе они возвращались домой. У спуска к калитке он сказал: «Осторожно, Надя, здесь скользко. Я пойду первым». Стал спускаться. И тут кто-то отделился от забора и выстрелил Надежде Ивановне в затылок.
Муж закричал, бросился стучать к соседке, звонить в «скорую помощь». Приехал врач. Но было уже поздно. Не приходя в сознание, Надежда Ивановна скончалась.
Утром о случившемся знал весь город.
А к вечеру того же дня мужа покойной, Василия Ивановича Вакорина, арестовали.
Это вызвало в городе не изумление — гнев. К прокурору явились возмущенные учителя 4-й школы, сослуживцы Надежды Ивановны: «Что вы делаете? Хватаете невиновного, чтобы настоящего убийцу не искать? Позор! Да если б вы знали, какая это была идеальная, примерная семья!» Явились сотрудники городского торга, где Вакорин работал мастером по строительству: «Человек в безумном горе, а вы его добиваете чудовищным подозрением. Стыдно!» Вся улица собралась коллективно писать в прокуратуру: «Немедленно отпустите Василия Ивановича на похороны его любимой жены».
По городу, правда, скоро прошел слух. Оказывается, у Вакорина была женщина, маляр Галина Далевич, работала у него в подчинении. Связь эта длилась уже несколько лет.
Многие слуху просто не поверили. Теперь, после всего случившегося, не то еще пойдут чесать языки. Другие допускали: ну хорошо, женщина. В жизни всякое бывает. Но что это объясняет? Если б Вакорин захотел расстаться с Надеждой Ивановной, развелся бы — и только. Убивать-то для этого зачем?
Зачем убивать?
Из показаний Г. Г. Матвеева, племянника В. И. Вакорина
«В апреле дядя Вася достал мне болотные сапоги. Я за ними приехал к нему на работу. Мы выпили, закусили. Дядя Вася стал жаловаться на свою жизнь с Надеждой Ивановной. Мол, ставит об этом в известность меня, первого из родственников. Я предложил: „Разведитесь“. Он сказал, что развестись не может, надо от нее избавиться. Я спросил: „Как?“ Он ответил: „Ножом или стрельнуть“. И поинтересовался, не возьмусь ли я за это дело. Я отказался и посоветовал поговорить с моим приятелем Володькой Монастырских…»
Из показаний В. А. Монастырских
«Гена Матвеев сказал, что нас приглашает его дядя, Василий Иванович Вакорин. Мы приехали. В кабинете у Вакорина стояла водка, закуска. Мы выпили, Василий Иванович стал плакать и говорить, как плохо он живет со своей женой. Жену его я почти не знал. Видел, может быть, раз или два. Вакорин спросил, не совершу ли я ее убийство. Сказал, что это можно сделать просто: подкараулить или прямо на дому, выстрелить через окно. Он обещал заплатить, сколько я попрошу, а главное — купить мне мотоцикл. Так постепенно за выпивкой мы втроем и договорились об убийстве его жены. Уходя, я попросил у Вакорина десять рублей на водку. В магазине взял две бутылки, и в сквере, за углом, мы с Матвеевым их распили…»
Из показаний В. И. Вакорина
«Я уговорил Монастырских убить мою жену…»
О Вакорине пойдет главный разговор. А кто эти двое?
Матвееву тридцать два года. Штукатур Барабинской ГРЭС. Окончил восемь классов. В школьной характеристике записано: «Любимых предметов не имел». В производственной сказано: «Особых замечаний по работе не было». Люди, близко знавшие, отмечают: груб, угрюм, деспот. Отпетый пьяница. Монастырских тридцать четыре года. Окончил десять классов. Когда трезв — молчалив, вежлив, рассудителен и спокоен. Замкнут. Со вкусом одевается, электрослесарь Барабинской ГРЭС. «Имеет способности к слесарному делу, внес три рационализаторских предложения» (из характеристики). Несколько лет назад продал мотоцикл — надо было покрыть недостачу, допущенную его женой, заведующей винным магазином «Ручеек». Продажу мотоцикла сильно переживал. В семье начались разлады, пьянки. В ту же пору был осужден на два года лишения свободы за злостное хулиганство в пьяном виде. По возвращении из заключения пьянки продолжались. По нескольку дней не приходил домой, ночевал у Матвеева. Общее собрание цеха вынесло решение: «Так как Монастырских заверил, что изменит свое поведение, ограничиться предупреждением».
Нет, видно, не ошиблось следствие, арестовав Вакорина и его сообщников. Заступникам Вакорина прокрутили магнитофонную пленку с показаниями, заступники замолчали и развели руками.
Но мучительное недоумение не рассеивалось. Вопрос оставался: а зачем? Зачем понадобилось Вакорину убивать жену? Может, с ума сошел?
Из акта судебно-медицинской экспертизы
Сознание ясное. Бредовых идей не высказывает. Мышление логичное. Эмоционально-волевая сфера не изменена. Находясь в отделении, читает, играет в настольные игры. Ест и спит хорошо. Заметно беспокоится о собственной судьбе. Вменяем.
Вменяем. Предстояло, значит, искать другие причины.
Раз такое произошло, раз такое могло произойти, предстояло понять, почему произошло. Понять Вакорина.
Жуткая работа. Но неизбежная.
Вакорину пятьдесят четыре года. Маленький, седой, очень подвижный. Часа спокойно не посидит. На языке без конца шутки, прибаутки, побасенки. Не разберешь, когда балагурит, а когда говорит всерьез. С женщинами игривый и обходительный. Улыбнется, погладит ручку.
Злой? Злым его никто не видел. Ни разу за всю жизнь ни одного бранного слова. Пьяным тоже почти не встречали. Если в кои веки выпьет, весь скрючится, сожмется, идет тише воды ниже травы.
О Вакорине все твердо знали: безвредный. Безобиднее, безвреднее человека в городе не было. Мухи не обидит.
Подчиненные не упомянут случая, чтобы Вакорин повысил голос. Только добром, только лаской, только по-хорошему: «Миша, Ваня, Гриша, ребяточки, сделайте». «На собраниях и совещаниях с критическими замечаниями не выступал, нарушителей дисциплины покрывал» (из производственной характеристики).
Мнения своего Вакорин никогда не высказывал. Ни при каких обстоятельствах.
Но был навязчивый. Это отмечает каждый, кто знал Вакорина. Навязчивый, приставучий. Все разузнает, все выспросит, влезет в душу.
Впрочем, чаще не с просьбой, а наоборот, с предложением услуги. Ему прямо-таки не терпелось людям услужить, угодить. Угодливость была его первой чертой, на лице у него было написано: «Я угодливый».
Вакорин не окончил и восьми классов, ушел из седьмого. Работником считался неважным, малоквалифицированным. (Директор торга И. Г. Шахурин: «Я ему постоянно устраивал выволочки. За одно, за другое. Он буквально плакал у меня в кабинете».) Но, будучи безвредным и услужливым, должности Вакорин обычно занимал выигрышные, полезные. В горкомхозе нарезал участки для индивидуального строительства. Семь лет был прорабом горпищекомбината. В торге имел контакт с любым магазином города. Где нужен капитальный ремонт — он, Вакорин. Разбитое стекло вставить — тоже он, Вакорин.
После убийства Варлаковой у него на работе сделали обыск. В сейфе нашли разные суммы денег. Выяснилось — не его, просителей. Тридцать рублей дала кассир с мебельной фабрики, просила достать ей гобеленовый коврик. Шестьдесят дал на сапоги человек, который шапки шьет. Семьдесят пять дала кладовщица Катя…
Правда, сегодня вспоминают: обещал Вакорин охотнее, чем делал. Мог тянуть месяцами.
Но это кому как. К иным он просто набивался с одолжением. Следователь Альберт Александрович Сулейменов, которому достанется потом вести дело об убийстве Варлаковой, приехал в Куйбышев три года назад.
Первое время не имел квартиры, жил в прокуратуре. Однажды вечером вышел взять топор у соседа, нарубить дров. У ворот стоит совершенно незнакомый человек. «Вы Альберт Александрович Сулейменов? Здравствуйте, я Вакорин из торга…» И тут же пригласил Сулейменова в ресторан. Тот удивился, отказался, естественно. Вакорин не обиделся. Сказал: «Вот мой телефон. Если чего понадобится достать…» И сам побежал к соседу, сам принес топор.
Уже тогда, три года назад, задумал Вакорин совершить преступление? Предполагал: а вдруг придется иметь дело с Сулейменовым?
Ничего подобного.
Просто Сулейменов был в его глазах видным, влиятельным человеком. Человеком с весом. Это, заметьте, существенно.
После убийства Надежды Ивановны возникла версия: а не замешан ли Вакорин в каком-либо корыстном преступлении, в воровстве или во взяточничестве? Надежда Ивановна могла о том знать, и поэтому он ее убрал.
Все тщательнейшим образом изучили, проверили. Нет, ни воровства, ни взяток.
Вакорин любил, конечно, достаток, был хозяином, «жил с коньячком». Скопил на «Москвич» и на кирпичный гараж (составлял частные сметы на строительство, да и теща с тестем помогли: она вяжет оренбургские платки на продажу). Но не каменные палаты и не тысячи на сберкнижке были для Вакорина самым главным в жизни.
Важней было котироваться, иметь в городе знакомства, связи. Знать, что ты вхож. Что тебя все знают. (Прокурор Куйбышева Н. С. Михин: «Спросите в городе, как зовут прокурора, — наверное, не скажут. А Василия Ивановича знали все, все до единого».)
Ради того чтобы котироваться, говорят сегодня, Вакорин умел от быка достать молока. Пробивней его не было!
Но разве все эти сведения о Вакорине могли хоть на йоту помочь следствию понять его преступление? С каждым днем выяснялись все более кошмарные, почти неправдоподобные подробности убийства (о них речь впереди). Но подробности эти никак не совпадали с тем человеческим типом, который предстал перед следствием. Никак не соответствовали ему.
Получалось, будто не с одним, а с двумя Вакориными имело дело следствие. Один — мелкий, заурядный, скользкий, жалкий. Скорее, безобидный. Совсем не страшный. Другой — очень страшный. Другой — без капли жалости и сострадания в сердце. Другой — дикий зверь. Убийца.
Как же первый Вакорин мог оказаться вторым Вакориным? Что понадобилось для этого? Какие силы заставили?
Но сперва о покойной Надежде Ивановне Варлаковой.
Ей было сорок четыре года. Хорошее лицо. Выразительные голубые глаза. Волосы до колен. Чуть-чуть сутулилась.
Что ее отличало прежде всего? Доверчивость. Откровенность. Охотно рассказывала о себе подругам. Людей тоже вызывала на откровенность. Была прямодушной, бесхитростной, со всеми одинаковой. Рангов для нее не существовало.
Крайне впечатлительная. Малейшие нелады в классе, неуспехи учеников принимала чересчур близко к сердцу. Иногда нервничала без особого повода. Могла вспылить. Но ученики ее любили. Была справедливой и прекрасно знала свой предмет. Географию преподавала уже двадцать два года. Первая среди учителей школы получила звание «Отличник народного просвещения».
(Один из городских руководителей — Н. А. Апарин: «Варлакова — честный, исполнительный, добросовестный труженик». Жена Н. А. Апарина Лидия Гавриловна, много лет проработавшая вместе с Варлаковой: «Надежда Ивановна — человек редкой доброты, исключительной порядочности. Вакорин, признаться, был мне несимпатичен. Раздражала его угодливость. Но она о муже всегда прекрасно отзывалась. Только и слышали от нее: „Мой Вася, мой Вася, что бы я без него делала!“»)
Это сегодня твердят все, все решительно. Растерянные, потрясенные случившимся, люди в один голос вспоминают: она ему пела дифирамбы. Не могла им нахвалиться. «Живу, говорила, как за каменной стеной, никаких забот. Случись что с Васей, не представляю, как без него останусь».
Пела дифирамбы потому, что простодушная? А может, и вправду он был внимательным, заботливым, «каменной стеной»? Золотой человек для других — тем паче был золотым человеком для своих, для родной семьи.
Вакорин и Надежда Ивановна поженились двадцать три года назад. Она тогда училась в Новосибирске, в педагогическом институте. Вакорин регулярно к ней приезжал, ходил по пятам, чуть ли не целовал ноги.
Подруга тех лет спросила недавно у Надежды Ивановны: «Все-таки как ты, Надя, пошла за него? Он такой неказистый, а ты умница, красавица и на десять лет моложе». Надежда Ивановна ответила: «Он меня завоевал добротой и вниманием. Может, пошла и не по горячей любви, а смотри, какую хорошую жизнь прожила».
Из показаний свидетельницы В. И. Дак
Надежда Ивановна вернулась из отпуска и в магазине встретила знакомую. Та ей говорит: «У вашего мужа есть на работе женщина. Маляр». Надежда Ивановна не поверила: «Это неправда». А та: «Пойдите, проверьте». Мне Надя сама рассказывала. Я говорю ей: «Действительно, пойди, проверь». Но она отказалась: «Нет, я унижаться не буду…»
Из показаний свидетельницы С. А. Огородниковой
Как-то понадобилась мне корица, и я поступала к Вакориным в окно. Открыла Надя. Говорит: «Не хочу жить». Я спросила: «Муж плох, детей не таких вырастила?» С отсутствующим взглядом она мне ответила: «Я что-нибудь с собой сделаю…»
Из показаний свидетеля Ф. А. Видятина, директора школы
В последнее время Надежда Ивановна стала неузнаваемой. Однажды она сказала мне, что не хочет жить…
Нет, двух Вакориных не было. Был один-единственный. Жену убил тот самый безобидный и нестрашный Вакорин, который до последнего часа бесконечно о ней заботился, ноги целовал.
Вот как это получилось.
Вакорин сошелся с Галиной Далевич несколько лет назад. Встречались у него в кабинете утром, до работы, или в обеденный перерыв. Далевич спрашивала: «И долго еще так таиться будем?» (Люди говорят: «У Далевич железный характер. Ей бы дивизией командовать. И взгляд… Посмотрит — мороз по коже…») Вакорин отмалчивался, отшучивался. Однажды сказал: «Я разведусь с Надей». Далевич засмеялась: «А где будем жить?» Он не ответил. Понимал: дом, заботами его созданный, придется оставить жене и детям. Далевич тоже должна будет отдать квартиру мужу с сыном. (Матери своей Вакорин однажды признается: «От дома, думаешь, легко-то уйти? Наш дом — труды наши».)
Да и как это уйти? Куда уйти? Уйти и по-прежнему остаться здесь, в городе? Среди людей, с которыми прожил жизнь? Вакорин прекрасно понимал: они примут не его, а Надежды Ивановны сторону. Бывшие ее ученики — сегодня влиятельные люди. Нынешние ее сотрудницы — жены влиятельных людей. Его, Вакорина, взрослые сыновья… Никто ему не простит разрушения примерной, идеальной семьи. Все осудят. Отвернутся.
Другого бы это, наверное, не остановило. Если так сильна страсть. Вакорина останавливало. Он почувствовал, что людей, перед которыми всю жизнь заискивал, кому набивался с услугами, в чьих глазах утверждал себя единственно доступными ему средствами, для кого так старался быть хорошим, он боится. Боится учеников Нади. Боится ее сотрудников. Боится ее родственников. Сыновей своих боится.
Вакорин сказал Далевич: «Уедем с тобой в Новосибирск». Она спросила: «А дальше что?» — «Пойду на строительство, дадут квартиру». — «Разбежались! И кем будешь в Новосибирске?»
Он знал: никем.
В пятьдесят четыре года без образования, без настоящей квалификации, без налаженных связей и отношений он обязательно будет никем.
Здесь, в Куйбышеве, он известный человек, Василий Иванович Вакорин! А там кто? Новичок? Проситель? Пешка?
Он понял: репутацию, нажитое положение бросать ему не легче, чем нажитое имущество. Может, даже еще трудней.
Вот такая создалась для него критическая ситуация. Как ни подступись к ней, с какого боку ни начни решать — все равно себе в ущерб. Останешься с Далевич в Куйбышеве — в ущерб. Уедешь в Новосибирск — тоже в ущерб.
А терять Вакорин ничего не хотел. И не умел. Для того он и прожил свою жизнь безвредным золотым человеком, чтобы никогда ни в чем не терять.
О встречах с Далевич узнала Надя. Вакорин ей клялся, божился, кричал: «Это ложь, ложь! Ты никому не верь!». А сам холодел от мысли: что же теперь будет?
Нади он тоже боялся.
Днем, на работе, Далевич ему говорила: «Я ненавижу твою жену». Он страдал, плакал. И думал: «Вот если бы Нади не было. Просто бы ее не было. Все бы оставалось как есть, а ее бы не было».
Это была для него единственная возможность благополучно разрешить создавшуюся ситуацию: все получить, ничего не теряя.
Я не знаю, что испытал Вакорин, когда впервые сказал себе: «Надю надо убить». Возможно, испугался, онемел от ужаса. Возможно, постарался забыть, никогда не вспоминать. Возможно, пожалел себя и, как обычно, заплакал.
Но постепенно он привык к мысли, что это есть самый простой выход из положения. Самый удобный. Единственный без потерь. Ничем не придется поступаться, расплачиваться. Все сохранится при нем. Дом, гараж, машина. Репутация тоже сохранится. Даже с сыновьями не надо будет расставаться. Достаточно убить Надю, чтобы ничего не менять и не ломать.
Убить другого, он понял, легче, чем ломать себя. Прежде Вакорин не знал этого.
Разумеется, он решил сделать дело «по-умному». Осторожно. Чужими руками. Считал: если все предусмотреть да предугадать, никогда не дознаются. Подумают на любого, на кого угодно, но не на него, не на Вакорина. Репутация золотого человека, которая всегда ему помогала жить, теперь поможет и выжить.
И тогда Вакорин достал своему племяннику Геннадию Матвееву болотные сапоги, а тот к нему привел Владимира Монастырских.
Убивал Вакорин так же, как и жил: без злости, без ненависти. Заботливо, обходительно убивал.
Сперва он рассчитывал все организовать по-тихому. В начале мая на реке Омь начался паводок. Варлакова с населением ночью дежурила на берегу. Монастырских сзади подойдет к ней, ударит чем-нибудь железным, труп сбросит в воду. Но по-тихому не получилось. Вакорин сам вышел на берег проверить, увидел много людей, милицию, с сожалением сказал Монастырских: «Так не забить козу».
Пришлось потратиться. За пятьдесят рублей Вакорин купил у Матвеева малокалиберную винтовку «тозовку».
16 мая — не ноября еще, только мая, до убийства останется полгода — Вакорин съездил в обеденный перерыв к Монастырских. Сговорились. После работы Вакорин его встретил у остановки автобуса, на «Москвиче» вывез за город, к деревне Помельцево. Здесь выпили, закусили. Вакорин был очень разговорчивым. Жаловался на жену, твердил о себе, обещал отблагодарить как следует (Монастырских скажет потом: «Задабривал»).
Монастырских пристрелял по березам винтовку, Вакорин тоже выстрелил два раза. Может, из любопытства. А скорее так, из вежливости.
В город вернулись засветло. Монастырских сошел у шестого квартала, Вакорин отправился домой.
Как условились, под досками возле гаража он положил винтовку и пол-литра перцовой. Без водки Монастырских стрелять категорически отказывался.
Часов до десяти Вакорин с Надеждой Ивановной и сыном Сергеем копали огород. Вакорин опять болтал без умолку. Рассказывал про огуречную рассаду. Сергея расспрашивал про техникум, Надежду Ивановну — про ее школьные дела (и их задабривал).
В одиннадцатом часу Сергей отправился к знакомой девушке. Надежда Ивановна пошла в кухню жарить котлеты.
Из показаний Вакорина: «Я спросил Надю: „Ты собачек кормила?“ Она ответила, что кормила. Я сказал: „Пойду проведаю кроликов“».
Из показаний Монастырских: «Я выпил водку и пристроился с винтовкой за грядкой. Вижу, идет Вакорин. „Ты, — говорит, — здесь уже? Хорошо. Смотри, не торопись, Володя, не промажь“».
Монастырских выстрелил в кухонное окно и понял, что не убил Надежду Ивановну. Бросился бежать.
До четырех утра Вакорин просидел в больничном коридоре. Очень переживал. Его успокаивали: «Ничего страшного. Ранена в щеку, и выбито семь зубов».
Назавтра, 17 мая, Вакорин съездил в милицию, заявил о случившемся. (По дороге, у площади, посадил в машину Галину Далевич, довез до работы. Пожаловался ей: «Не получилось с Надей».) В милиции его спросили, кого он подозревает, Вакорин объяснил: «Это школьники, ее ученики, сволочи. Она строгая, вот и мстят».
18 мая с рыбалки вернулся Матвеев. Монастырских сообщил ему: «Позавчера стрелял в тетю Надю, сделал подранка». Весь вечер Монастырских помогал Матвееву пластовать рыбу. Запоздно к ним наведался Вакорин. Сказал: «Ну, видишь? Все шито-крыто. На меня нет и не может быть никаких подозрений. А значит, и ты чист».
Люди, правда, заметили: после 16 мая Вакорин сильно изменился. Спал с лица, стал забывчивым, рассеянным. Его спрашивали, он говорил: «Так ведь какое переживание! Что эти бандиты-изверги с Надей сделали!»
У Надежды Ивановны тоже настойчиво допытывались: кто бы это мог быть? Кого она подозревает? Варлакова мучилась, думала, прикидывала так и эдак, но рассеянно отвечала: «Нет, никого».
Она уже знала о существовании Галины Далевич, страдала: рушится семья. Но если бы кто-то ей осмелился тогда сказать: «Дело рук вашего мужа», — она бы возмутилась и с гневом отвергла: «Какая дикость!»
После неудачного покушения Вакорин своих планов не оставил.
Более того, постепенно, со временем, организация убийства стала для него занятием. Делом, буднями. А в занятиях своих был Вакорин не ленив, себя не щадил и имел идеи.
После 16 мая Монастырских попытался было расстаться с Вакориным. Обходил его стороной. Но Вакорин сам не давал ему проходу. Звонил. Заезжал в обеденный перерыв. Вечерами караулил возле ГРЭС. Всякий раз с ним была водка. На целую бутылку не раскошеливался, чаще приносил опивки. Однако говорил: «Сделай мне дело, ни в чем не будешь нуждаться».
В начале июля Матвеев сказал Монастырских: «Дядя тебе предлагает деньги. Поехали». Вакорин ждал их за городом, у птицесовхоза. Отсчитал двести рублей пятерками, протянул, улыбаясь: «Это тебе плата за страх, Володечка». Пятьдесят рублей Монастырских тут же отдал Матвееву. На подвеску для мотоцикла.
Из показаний Вакорина
На убийство своей жены я затратил двести рублей денег, еще пятьдесят — за винтовку и около десяти бутылок водки…
В августе Вакорин познакомил Монастырских с Галиной Далевич. Встретились опять в торге, у него в кабинете. Далевич больше молчала, а Вакорин плакал, гладил ей руку и повторял: «Галочка, у нас нет другого выхода». Он сказал Монастырских: пока не заделывается дело с женой, надо будет перейти на Галиного мужа. Слесаря из управления механизации. Убить его.
В этом как раз и состояла новая идея Вакорина.
На что он рассчитывал? Останутся с Галей вдовцом и вдовой, пострадавшими от руки бандитов? Люди их окружат сочувствием, состраданием? Он введет ее в свой дом, сыну выхлопочет новую квартиру?
Вакорин передал Монастырских длинный столовый нож с деревянной рукояткой и — чтобы не испачкаться в крови — спецодежду, халат маляра.
Чтобы Монастырских не обознался, Вакорин показал ему портрет Далевича на доске «Лучшие люди города».
Галина обещала сигнализировать, куда вечером пойдет ее муж. Если она вывесит тряпку с правой стороны балкона, муж ушел к родственникам на улицу Красильникова. Если с левой — на Сарайную.
Монастырских ходил за Далевичем все лето (раза два его сопровождал сам Вакорин). А осенью сказал: «Ничего не получается, Василий Иванович. Люди кругом, неподходящая обстановка».
И тогда Вакорин занервничал.
Он стал подозревать Монастырских. Не может убить Галиного мужа или не хочет, подлец?
Галю Вакорин тоже стал подозревать. Вывешивает она свои тряпочки или притворяется, делает вид?
А может, они оба спелись, снюхались у него за спиной? Обманывают?
Теперь больше всех других Вакорин боялся Монастырских и Галину Далевич. Прямо-таки обмирал от страха. Тосковал. И знал одно: их надо завязать.
Жил Вакорин как всегда, как обычно. Улыбался, суетился. Особенно перед женой. Его сослуживец Н. Е. Анисименко рассказывает: «В это время я захотел было пригласить Вакориных к нам в гости. Но, увидав, как Василий Иванович лебезит перед Надеждой Ивановной, раздумал. Побоялся, жена моя скажет: „Вот как надо ухаживать за супругой“».
Приближался день рождения Надежды Ивановны. Вакорин приготовил ей подарки: гобеленовый коврик, портфель, накидушки на кровать (нашли у него в кабинете). Если не убьет — подарит.
15 ноября родителей вызвал к междугородному телефону старший сын Владимир. Кончился срок его службы в армии, днями выезжает домой. Отец ответил ему странным голосом: «Счастливого пути». (Владимир объяснит потом: «Я заволновался, решил: у папы неприятности по службе».)
Возвращаясь с переговорной, Надежда Ивановна чуть не плясала от радости: любимый сын приезжает.
А Вакорин не мог унять дрожь. Сын не раз писал из армии: «Вернусь, можете не сомневаться, дознаюсь, кто стрелял в маму. Так не оставлю».
16 ноября в обеденный перерыв Вакорин приехал к Монастырских на работу. Сказал: «Сегодня же надо кончать дело. Немедленно. А то смотри, как бы не раскаиваться тебе». Монастырских ответил, что сегодня ему некогда: мастер переходит на другую работу, позвал весь коллектив в гости. «Ничего, — сказал Вакорин, — сделаешь дело и успеешь погулять. А то, повторяю, пеняй на себя. Про должок свой забыл?»
Вечером они встретились у магазина. Вакорин принес водку и колбасу в бумаге. Все время тревожился: «Эх, не опоздать бы!» Отослал Монастырских караулить их с женой возле дома, сам пошел в школу. Техничка ему сказала: «Надежда Ивановна вас ждала. Недавно вышла». Он догнал ее на улице: «Что же не дождалась?» Она ответила, что заглянула в магазин — купила Сереже конфет, «ласточек». К дому они шли под руку. У калитки Вакорин предупредил: «Осторожно, Надя, здесь скользко. Я пойду первым». Стал спускаться. В эту минуту Монастырских отбежал от забора и выстрелил в затылок.
Из протокола осмотра дома Вакориных
В кухне, у раковины, найден обрывок газеты, почерком Вакорина написано: «Сережа, я пошел встречать маму».
На следствии Вакорин сперва показал:
— Стреляли двое неизвестных. С противоположной стороны улицы.
Ему возразили:
— Неправда. Выстрел был сделан в упор.
Назавтра он заявил:
— Стрелял я сам. Из ревности. Хотел попугать жену. Чистосердечное раскаянье мне ведь зачтется?
Его спросили:
— А где оружие?
— Выбросил.
— Куда?
Он не смог ответить.
Два дня лепетал что-то невнятное, на третий заявил:
— Стрелял Монастырских.
— Причина?
— Не знаю, — сказал Вакорин. — Наверное, он крутил с моей женой.
Допросили Монастырских. Тот рассказал все, как было.
На судебном процессе — он шел в клубе молкомбината, негде было яблоку упасть — Вакорин держался робко, жалко, говорил тихо, еле слышно, выглядел дурачок дурачком. «Мы переговорили с Монастырских об убийстве моей жены, но ему все некогда, некогда… Ну, раз некогда, так и ладно. Мне-то что?.. Про убийство Галиного мужа Монастырских разговаривал с ней в моем присутствии. Но я не вмешивался, я работал…» Потом Вакорин вдруг переменился, стал истерически кричать: «Это Далевич во всем виновата! Она инициатор моей вины! Она меня заставила убить жену! Она! Она!» Он плакал и багровел от злости.
Далевич твердила одно: «На убийство мужа я согласилась против своей воли. Серьезно к убийству я никогда не относилась». Она сказал: «Вакорин был со мной очень ласковый, обходительный. Я сошлась с ним за его обходительность».
Матвеев тупо смотрел на судей, путался, запирался, повторял: «Я ничего не знаю, я ни при чем… Я хотел сразу же донести на Володьку, но пришел двоюродный брат, и мы уехали на охоту».
Монастырских признал свою вину полностью. Его спросили, что заставило его убить человека. Он ответил: «Водка».
Суд приговорил Вакорина и Монастырских к расстрелу. Галина Далевич и Матвеев осуждены на семь лет лишения свободы каждый.
Ночью в гостинице, в машине по дороге в тюрьму я все думал о том, как увижусь с человеком, приговоренным к смертной казни, что спрошу у него, что скажу и есть ли вообще у меня такое человеческое право — искать этой встречи.
Мне было уже все известно о Вакорине — его поступки, действия, мотивы… Следствие, судебный процесс велись тщательно и досконально. Но настолько безумными были эти поступки, настолько неправдоподобными мотивы, что я должен был сам убедиться, проверить, знать: больше не осталось ни одного не высказанного Вакориным слова, ни одного не услышанного его объяснения.
Без этого писать о Вакорине я не мог.
Его привели.
Я назвался: корреспондент газеты, он волен разговаривать со мной или нет.
Вакорин ответил:
— Я скажу, скажу…
И сейчас еще звучит у меня в ушах его обиженный голос. Нет, обиженный крик:
— Я всю дорогу имел одни грамоты, одни благодарности. Ни единого прогула за всю жизнь. И сразу расстрел, да? Это справедливо? Должно же быть какое-то предупреждение!
За убийство не поставили ему сперва на вид… Ничего нового, чего бы я не знал из следствия и суда, от Вакорина я не услышал. Я спросил его:
— Вам жалко Надежду Ивановну?
Он заплакал.
— Жалко… Старший сын приезжал, Володя. Говорит: «Папа, как же мы теперь будем жить, если тебя не помилуют?»
Потом я узнал, какой был у него разговор с сыном.
Вакорин сказал: «Подпиши, чтобы меня помиловали».
Сын ответил: «Верни мать — подпишу».
Они навсегда расстались. Вакорин потребовал перо, бумагу, написал: «Пока я жив, пусть сын не пользуется моим домом и моей машиной».
Посчитался с сыном.
Разговаривал я и с Монастырских. Он пожал плечами:
— Пропил я свою жизнь, чего тут рассуждать.
Во время свидания Монастырских сказал жене и матери: «Привыкайте жить без меня. Забывайте меня».
О процессе Вакорина разговоры в городе постепенно утихают.
Полно других дел, забот, планов.
И все-таки когда нет-нет да зайдет снова речь о Вакорине, кто-нибудь непременно пожмет плечами, скажет: «Как хотите, но что-то здесь не то… Ни тайн, ни загадок… Убил просто так? Без злобы? Просто оттого, что подлец?.. Сомнительно».
Людям к этому трудно привыкнуть. К тому, что убивает обыкновенная подлость. Таится, прячется, угодничает, а потом стреляет из-за угла.
Защитники смертной казни утверждают, будто она способна сдержать преступность. На деле, однако, так не получается. Разве не знал Вакорин, что убийц казнят? Отлично знал, много раз читал об этом, может, и сам, бывало, требовал покарать бандитов. Но лишь потом, после суда и приговора, во время нашей встречи с ним (происходила она в офицерском Красном уголке новосибирской тюрьмы, на стенах плакаты «Семилетку — в пять лет») он дрожал, кричал, что «ни одного выговора», цеплялся за жизнь, лебезил перед сыном. А тогда, когда дважды готовил убийство жены, он всех боялся, всех подозревал, но конкретный, осознанный страх смертной казни его не останавливал. Уверен был: на другого могут подумать, но на него — никогда. На такого услужливого и безобидного?
Недавно я прочел работу одного японского тюремного психиатра, задавшегося целью изучить, при каких обстоятельствах совершили преступление 145 убийц, приговоренных к смертной казни в период с 1955 по 1957 год. Оказалось, что ни один из осужденных (ни один!) перед тем, как убить, просто не задумывался о том, что он может быть приговорен к смертной казни. Конечно, им было хорошо известно, что смертная казнь в стране применяется. Но, делает вывод японский психиатр, мысль о смертной казни не могла сдержать этих людей «в силу их импульсивности и неспособности ощущать себя в любом другом отрезке времени, кроме настоящего». То есть так были поглощены сегодняшними целями и страстями, что ни о чем другом не могли думать.
К такому же выводу пришел и британский врач, проработавший в тюремной медицинской службе 35 лет. Он пишет: «Сдерживающее влияние смертной казни отнюдь не такое простое явление, как полагают некоторые. Очень многие убийцы в момент совершения преступления настолько напряжены, что не способны осознать последствия своих действий для себя; другие же сумели убедить себя в том, что им удастся остаться безнаказанными».
Наблюдение это, конечно, не охватывает всех жизненных ситуаций. Другой человек, как и Вакорин, приговоренный к смертной казни, с которым мне тоже пришлось встретиться, вполне, наоборот, осознавал последствия своих действий, знал, что его ждет, но не только не надеялся, скорее даже не хотел остаться безнаказанным.
Заступился мужчина за женщину
Разбирая читательскую почту, я нашел такое письмо: «Умоляю вмешаться. Крюков Сергей Васильевич приговорен к расстрелу за два убийства. Последнее он совершил в колонии, где отбывал наказание за первый случай. Суд установил факты, но проигнорировал обстоятельства дела и саму личность подсудимого. В результате может произойти непоправимое, расстреляют человека, не заслуживающего смерти. Готова все рассказать. Сизова Галина Николаевна».
Прочел этот текст дважды, но мало что понял.
Не известная мне Галина Николаевна писала, что суд факты установил, то есть именно так, видимо, все и происходило, некто Крюков действительно совершил два убийства, причем последнее, уже находясь в заключении. Следовательно, о судебной ошибке, о том, что казнить могут невиновного, речи здесь не шло. Главный аргумент автора письма: человек не заслуживает смерти. Но любой убежденный противник смертной казни скажет вам, что никакой преступник, независимо от обстоятельств дела и личности человека, не должен быть убит государством, а стало быть, в этом смысле смерти не заслуживает никто.
Чем же тогда отличается дело дважды убийцы Крюкова, почему редакция газеты из всех приговоренных к высшей мере должна кинуться спасать именно его?
В письме был указан телефон Галины Николаевны, я позвонил ей, и мы встретились.
Вот эта история.
Несколько лет назад Галина Николаевна, по профессии инженер-электрик, поступила в недавно созданную фирму, занимающуюся продажей бытовой электротехники. В обязанности Сизовой входило выезжать на местные заводы и отбирать конкурентоспособные изделия, осваиваемые в порядке конверсии бедствующей оборонкой.
Хорошо, если дома, в Петербурге, ей удавалось побыть неделю-другую, все остальное время — поезда, самолеты, убогие гостиницы, скверная еда и просиживание часами в ожидании междугородного телефонного разговора с Петербургом. С мужем Галина Николаевна разошлась еще год назад, уезжая, своего трехлетнего сына она оставляла на попечение бабушки.
В декабре должен был выпасть спокойный месяц. Она уже строила планы, как проведет его вместе с сыном, подумывала, не снять ли ей дачку в Репино, на берегу Залива, но тут ее вызвали в дирекцию и предложили срочно оформлять командировку. Какой-то завод на Рязанщине, говорят, стал выпускать сказочные чудо-плиты: с таймером, грилем и другими заманчивыми игрушками.
Городок этот оказался дыра-дырой. Гостиница — хуже некуда. Удобства, как говорится, в коридоре. В номере — полчища тараканов. Телефонная связь с Питером отвратительная. Даже при нынешнем изобилии продуктов в магазинах гостиничный буфет умудрился сохранить все прелести советского времени: постояльцам предлагали жиденький кефир и колбасу подозрительно травянистого цвета. Так что Галина Николаевна питалась, по сути, раз в день, ходила ужинать в городской ресторан с зычным названием «Илья Муромец».
Заведение это в свое время строилось на широкую ногу: мраморные колонны, богатая лепнина на потолке, мозаика на стенах изображала разнообразные подвиги былинного богатыря. Оглушительно гремел оркестр, и на тесной площадке в центре зала лениво топтались несколько танцующих пар.
Но ради тарелки горячего супа и нормального куска мяса раз в день Галина Николаевна готова была все это терпеть. Тем паче, и оставалось-то всего ничего. Чудо-плиты на поверку оказались скучной стандартной продукцией, овчинка не стоила выделки.
В последний перед отъездом вечер Сизова как обычно ужинала в «Муромце», соображала, придет ли утром обещанная ей на заводе машина или все-таки вернее договориться заранее с частником, и тут увидала, что к ее столику направляется огромный амбал, глаза наглые, явно навеселе.
— Не возражаешь? — спросил амбал, по-хозяйски усаживаясь за ее столик.
— Возражаю, — сухо ответила она.
Он засмеялся. Спросил:
— Ты актриса? Я тебя узнал.
— Что вам надо? — произнесла она.
— Познакомиться, — сказал амбал. — Парень девушку та-та, хочет познакомиться, — и заржал.
Ей стало противно и очень страшно.
— Немедленно убирайтесь, — потребовала она. — Или я подыму шум.
Это его, кажется, позабавило.
— Милицию вызовешь? — осведомился он.
— Понадобится — вызову, — пригрозила она.
— Милиция отдыхает, — объяснил амбал. — У ней рабочий день закончился.
Она лихорадочно оглянулась. Никто не обращал на них внимания. Крикнуть? Позвать официанта? А что дальше? Сейчас этот хам отойдет, но будет подстерегать ее на улице.
И тут Галина Николаевна увидела, что сцену эту внимательно наблюдает мужчина за соседним столиком. Кажется, трезв. И лицо нормальное, человеческое.
— Простите, — обратилась она к нему. — Вы не могли бы мне помочь?
Мужчина медленно поднялся, подошел к их столику. Амбал с веселым интересом смотрел на него.
— Слушай, друг, — сказал мужчина. — Не пошел бы ты погулять?
— Не, — ответил парень. — Я тут прописан, — и опять загоготал.
— Ошибаешься, — сказал мужчина, — прописка твоя кончилась. Придется тебя выселять.
— Да ну? — удивился парень. — Это ты меня будешь выселять?
— Давай, давай, — сказал мужчина. — Спокойненько, по-хорошему, — он коснулся его плеча.
— Ах, ты, сопля, — возмутился тот и встал со стула.
Галина Николаевна с тревогой заметила, что мерзавец этот на целую голову выше ее спасителя.
— Послушайте, — крикнула она. — Ну хоть кто-нибудь вмешайтесь, урезоньте хулигана.
На них уже смотрели, но не двигались. Только какой-то официант издали крикнул парню: «Паша, ну что ты? Иди, я тебе накрыл». Но парень и ухом не повел.
— Ну давай, выселяй, — сказал он мужчине. — Да ты прежде у меня блевотиной подавишься, кавалер сраный. Пусть баба твоя полюбуется.
Мужчина неожиданно улыбнулся. Галину Николаевну поразила эта почти спокойная, почти веселая, очень странная издевательская улыбка.
— Ах, ты, недочеловек, — тихо сказал мужчина. — Падаль несчастная. Знаешь, что с такими, как ты, надо делать? Травить, как гнусных насекомых. Как вшей и клопов. Всех сплошь, до единого.
В тихих его словах кипела такая ненависть, что Галине Николаевне стало не по себе. Парень, кажется, чуть-чуть растерялся.
— Но-но, — крикнул он. — Да я тебя!
— Что ты — меня? — спросил мужчина. — Убьешь? Да на что ты годен? Ты же горлопан бессильный, вонь одна, только и можешь, что к женщинам приставать.
— Да я! — парень наклонился, схватил за ножку стул и угрожающе поднял его над головой мужчины.
— Осторожно! — крикнула Галина Николаевна.
— Не волнуйтесь, — сказал мужчина. — Его же никто не боится, вот он и бесится. Знаешь, что делают с бешеными собаками? — спросил он.
Парень стоял не двигаясь. Стул продолжал держать в поднятой руке.
— Да ладно, — сказал мужчина. — Надоел ты мне. Катись-ка ко всем чертям, — и несильно толкнул парня в грудь. Тот от неожиданности попятился, стул выронил, оступился о него и упал, грохнувшись виском о мраморный пол. К нему бросились. Попытались поднять. Но парень не шевелился. Вызвали «скорую помощь». Врач констатировал смерть.
— Назавтра, конечно, из города я не уехала, — рассказывала мне Галина Николаевна. — Началось следствие, и я должна была давать свидетельские показания.
Она знала, что умерший сам во всем виноват, и все-таки ощущать, что она причастна к гибели человека, было ей очень тяжело. Но особенно мучила ее мысль, что теперь из-за нее пострадает хороший человек, пришедший ей на помощь.
Звали его — Сергей Васильевич Крюков.
К тому же дело оборачивалось далеко не лучшим для него образом. Люди, присутствовавшие в тот вечер в ресторане и даже не попытавшиеся защитить ее от хулигана, теперь дружно подтвердили, что Крюков, они сами слышали, угрожал «истребить» потерпевшего Науменко «как насекомое», обзывал его «клопом» и «бешеной собакой». Правда, Науменко держал в руках стул, но никто не заметил, чтобы он пытался ударить им Крюкова. Так что говорить о необходимой обороне вряд ли приходится.
Галина Николаевна узнала также, что Науменко был в городе человек заметный. Раньше он служил в милиции участковым, и жильцы его околотка отзывались о нем как о человеке добром и душевном. Правда, пил. Но умеренно. Еще работая в милиции, он начал играть в местной баскетбольной команде. На республиканском первенстве команда даже заняла как-то второе место. Науменко собирался перейти на тренерскую работу, но помешала та же водка. Из баскетбола пришлось уйти, пристроили его физруком в одну из школ. Пьяным на уроках он не появлялся, во время запоя обычно брал больничный.
Жена Науменко Татьяна Евгеньевна работала воспитательницей в детском саду, жили они хорошо, дружно. Растили сына десяти лет и пятилетнюю дочь Клаву.
Как-то, выходя от следователя, Галина Николаевна столкнулась в коридоре с этой женщиной.
— Поверьте, — сказала Сизова, — это был несчастный случай, никто не виноват.
Жена Науменко посмотрела на нее сквозь слезы.
— Конечно, — ответила она, — никто!.. Только дети мои остались сиротами.
— Я понимаю, — вздохнула Галина Николаевна, — мне очень жаль.
— Теперь жаль, — сказала Науменко. — А шум-то зачем надо было поднимать? Не знаете разве, что любой нормальный мужик не пройдет мимо юбки? Позубоскалил бы и отошел. Испугались-то чего? Громилу этого позвали.
Громилу? Вот уж на кого не был похож худощавый, далеко не крепкого сложения Сергей Васильевич Крюков.
Известно было, что в городе он появился сравнительно недавно. До этого жил в Воронеже, работал главным механиком крупного предприятия. Здесь устроился начальником инструментального цеха на небольшую ткацкую фабрику. Его жена с дочкой все еще оставались в Воронеже, ожидали, пока фабрика предоставит ему сносное жилье.
Вот и дождались. Вместо квартиры теперь уготована Крюкову тюремная камера.
На допросе Галина Николаевна упорно объясняла следователю, что Крюков совершенно не виноват. Он, можно сказать, и не толкал Науменко. Так, чуть-чуть дотронулся, тот сам попятился, выронил стул, спьяну оступился о него и упал.
— Я же вам говорю, несчастный случай, — повторяла она.
Следователь кивал, записывал ее показания, потом спрашивал:
— Ну а все-таки, «клопом» и «бешеной собакой» Крюков обозвал его?
— Ну и что? — волновалась Галина Николаевна, — не отрицаю. Так ведь перепалка у них началась, понимаете? Крюков требовал, чтобы Науменко оставил меня в покое, а тот в ответ только издевательски гоготал. В перепалке чего не скажешь? Разве можно обращать на это внимание?
— Перепалка перепалкой, — говорил следователь, — а в результате, человек погиб.
— Да, конечно, — соглашалась Галина Николаевна, — это ужасно. Но я же вам объясняю: несчастный случай.
— Скажите, Галина Николаевна, — спросил следователь, — из материалов дела видно, что потерпевший Науменко — гигант, спортсмен, а Крюков — скорее даже щуплый. Науменко, пусть и пьян был, ничего бы не стоило с ним справиться. Однако создается впечатление, что наступательно держался как раз Крюков, а Науменко, наоборот, даже стушевался. Это верно?
— Не знаю, — сказала она. — Крюков, видимо, чувствовал свою правоту. А это, надо полагать, придает человеку силы.
— Вы так считаете?
— Не знаю, — повторила она. — Во всяком случае, так должно быть.
— Должно — не спорю, — согласился следователь.
Но она тоже об этом все время думала. Галина Николаевна хорошо помнила, как ее поразило тогда, с какой отвагой наступает тщедушный Крюков на силача Науменко, а тот вроде бы даже теряется перед его натиском.
Галина Николаевна спросила следователя, нельзя ли ей получить свидание с обвиняемым, но тот сказал, что как свидетельнице по делу он не может сейчас разрешить. Вот после суда судья, наверное, удовлетворит ее просьбу.
Суд состоялся в феврале.
До того, как ее вызвали давать показания, Галина Николаевна долго ждала в коридоре своей очереди.
Потом услышала: «Сизова». Вошла в зал и увидела конвоиров и сидящего за барьером Крюкова. Она не знала, можно ли с ним поздороваться, но все-таки поздоровалась. Он ей кивнул.
Судья попросила рассказать, что она знает по этому делу. И Галина Николаевна очень подробно все объяснила, настаивая, что произошел нелепый несчастный случай.
«Свидетельница, — прервала ее судья. — Оценку действиям подсудимого даст суд. От вас требуются только факты».
«Я и говорю только факты», — сказала она.
Вопросов ей не задавали.
После допроса ей можно было остаться в зале. Начались прения сторон. Прокурор считал, что произошло умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, и потребовал для Крюкова восемь лет лишения свободы. Адвокат убеждал, что имело место в чистом виде убийство по неосторожности и просил не лишать подсудимого свободы.
В последнем слове Крюков сказал, что смерти Науменко он не хотел, сожалеет о случившемся, выражает его семье соболезнование, однако Сергей Васильевич и сейчас убежден, что всякое хулиганство надо решительно пресекать. Если бы Науменко твердо знал, что его наглые действия по отношению к женщине в общественном месте получат должный отпор, то вел бы себя иначе и трагедии, конечно, не произошло бы.
В зале негодующе зашумели. Судьи ушли на совещание, и конвоиры увели Крюкова.
Приговор огласили через два часа. Суд признал, что Крюков совершил убийство по неосторожности, но приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы. Максимальный срок по этой статье.
Крюкова опять увели.
Галина Николаевна зашла к судье просить о свидании.
— Не сейчас, когда приговор вступит в законную силу, — сказала судья.
— А когда это?
— Если Крюков не подаст кассационную жалобу, то через семь суток.
— А если подаст?
— В зависимости от определения кассационной инстанции, — сказала судья.
— Но я же не могу ждать, — объяснила Галина Николаевна. — Я живу в другом городе.
— Ничего, — ответила судья, — ходят поезда, летают самолеты.
Галина Николаевна поняла, что спорить бесполезно.
— Но хоть передачу я могу ему передать? — спросила она.
— Передачу можете, — разрешила судья.
Галина Николаевна накупила множество разных вкусностей, на всякий случай дорогих сигарет, хотя не знала, курит ли Крюков, и написала записку: свидания ей, к сожалению, не дали, но они еще обязательно увидятся, она ему до глубины души благодарна за то, что он, единственный, защитил ее, и всегда, по гроб жизни, будет ему благодарна. «Настоящих мужчин ведь так мало, — писала она, — вы из их числа, и спасибо вам за это».
В тот день, уезжая из города, она совершенно случайно узнала, что в суде никого из родственников Крюкова не было, а жена его после ареста Сергея Васильевича вообще тут же подала на развод.
— Значит, вы так больше с ним и не виделись? — спросил я Галину Николаевну.
— Отчего же не виделись? — возразила она. — Еще как виделись.
Я не понял.
— Что значит: еще как?
— А то и значит, — сказала она. — Не знаю, надо ли мне все вам рассказывать.
— Как хотите, — сказал я. — Но если не все, то какой толк?
— Да, — подумав, согласилась она. — Я же сама к вам обратилась… Решила, буду кричать на весь белый свет, чтобы только остановить расстрел… Я на все готова…
Вернувшись после суда в Питер, Галина Николаевна не переставала думать о Крюкове. Созвонившись с его адвокатом, она выяснила, что кассационную жалобу Сергей Васильевич подавать отказался. Следовательно, приговор вступает в законную силу, и Крюкова со дня на день должны отправить в места лишения свободы.
— Я прошу вас узнать куда, — сказала Галина Николаевна.
Адвокат обещал, и действительно через некоторое время она получила телеграмму: номер колонии и город, где она расположена. Это было не так уж и далеко.
Сперва Галина Николаевна сказала себе, что адрес ей нужен, чтобы посылать Крюкову передачи. Но постепенно она поняла, что этого ей мало. Она чувствовала свой огромный, неоплатный долг перед Крюковым. Каким образом его вернуть, да и вообще, возможно ли это — она не представляла. Но жить с такой тяжестью на душе было невмоготу.
Со временем ею стала овладевать нелепая, шальная мысль. Она знала, что практикуются трехсуточные свидания заключенных с близкими родственниками. Им предоставляют отдельное помещение, где они одни, без свидетелей, проводят это время.
Она не была Крюкову не только близкой родственницей, они, можно сказать, почти даже и не знакомы: те трагические десять минут в ресторане и кивок издали в зале суда — вот и все. Но ведь близких родственников, наверное, у него нет, раз никто из них не присутствовал в зале суда, а жена с ним разошлась. Кто же поедет к нему в колонию?
И Галина Николаевна решила: поедет она.
Это было не только дико, безумно, но и по всем правилам совершенно неосуществимо. Более того, она не знала, как сам Крюков отнесется к ее приезду. А если вдруг откажется от свидания? Но она решила: поедет. Будь что будет. И добьется. Всеми правдами и неправдами.
— Добились? — говорю.
— Да. Только не спрашивайте как.
— Всеми правдами и неправдами.
— В основном неправдами, — ответила она.
Ее проводили в отдельную комнату, обставленную нехитрой казенной мебелью. Показали небольшой закуток с газовой плитой, где можно готовить еду из привезенных ею продуктов. Объяснили, что если ей что-нибудь понадобится, она должна обратиться к охране, вот кнопка звонка в караульное помещение. И велели ждать.
Минут через двадцать в комнату вошел Крюков. Дверь за ним захлопнулась, снаружи прогремел засов.
Увидев ее, он остановился.
— Вы? — недоуменно спросил он.
— Я, — подтвердила она. — Не ждали?
— Не ждал, — произнес он. С места он так и не сдвинулся.
— Я знала, что вы очень удивитесь, — улыбнулась она. — Но я вам сейчас все объясню.
Он ее прервал.
— Зачем вы приехали?
— Поговорить, — неуверенно сказала она.
— О чем?
Она пожала плечами.
— Не знаю. В двух словах не скажешь…
— Расплатиться со мной? — спросил он. — Вот таким образом?
— Это неправда! — горячо возразила она. — Ничего подобного!
Но она-то знала, что это и есть настоящая правда. Он повернулся к двери.
— Как вызвать конвой? — спросил он. — Вам объяснили?
— Я вас умоляю, — сказала она. — Ну просто умоляю… Не надо… Я привезла еду. Мы с вами сейчас пообедаем. Спокойно, нормально… А потом я уеду. Хорошо?
Он молчал.
— Ветчина, — сообщила она. — Отбивные… Разные овощи… Хлеб «бородинский»… Я не знаю, вы любите «бородинский»?
— Галина Николаевна, — сказал он, и она отметила, что имя-отчество ее он все-таки запомнил, — Галина Николаевна, неужели вы не понимаете, как все это нелепо?
Она почувствовала вдруг, что сейчас заплачет.
— Пожалуйста, — произнесла она тихо. — Я вас прошу… Не обижайте меня… Не оскорбляйте, — добавила она еле слышно.
Он внимательно посмотрел на нее.
— Хорошо, — согласился, — давайте пообедаем.
Вечером она не уехала.
Они сидели и разговаривали. Она сказала:
— Вы бы поспали все-таки. Здесь, наверное, это не часто удается.
— Нет, — сказал он. — Я не хочу спать. Я хочу разговаривать.
Под утро он ее обнял.
Они лежали на жесткой казенной кровати. Он уснул быстро, что-то тревожно бормотал во сне, а она глядела в потолок и думала, что впервые в жизни оказалась в постели с человеком, к которому не испытывает ни малейшего влечения, ни малейшей тяги, даже обычного женского любопытства не испытывает — только огромную, острую, не утихающую жалость.
После того, что он рассказал о себе, многое в поведении Сергея Васильевича стало ей гораздо яснее и понятнее.
В студенческие годы Крюков активно занимался шабашничеством. Бригада его официально называлась студенческим стройотрядом. Летом, на каникулах, они ездили по всей области, строили в селах жилые дома, бани и коровники. Чаще всего, однако, выполняли заказы в совхозе «Южный». Его директором работал Григорий Степанович Никитин, отец их студентки Ольги Никитиной, в которую Крюков был страстно влюблен. Уже обговорено было, что на пятом курсе они поженятся.
Однако в конце лета, за три недели до начала занятий, случилась беда. Ревизия, проверявшая совхоз «Южный», обнаружила серьезные растраты. Немалую их долю составляли как раз суммы, незаконно выплаченные шабашникам. Оно и понятно: если бы Никитин платил студентам по существующим расценкам, выходили бы сущие гроши. Кто за них станет работать? Чтобы заплатить как следует, приходилось идти на различные приписки, начислять ребятам деньги за работы, которые они не выполняли.
Дело передали в прокуратуру, и Крюкова начали таскать на допросы. Следователь, грубиян-мордоворот, орал на него и требовал, чтобы Сергей признался в том, что из полученных денег шабашники систематически делились с директором совхоза Никитиным. Крюков отрицал.
Ни о какой свадьбе сейчас не могло быть и речи. Ольга жутко переживала. Плакала. Говорила, что отец очень болен, у него язва, если его посадят, он не выдержит.
Дома у Крюкова сделали обыск. Искали, видимо, крупные суммы денег. Ничего не нашли, а вот книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в ящике тумбочки обнаружили.
— Откуда она у тебя? — с интересом спросил следователь.
— Нашел, — сказал Крюков.
— В трамвае, конечно? — ухмыльнулся следователь.
— Нет, валялась на ступеньке лестницы, — объяснил Крюков.
— Ну, понятно, — кивнул следователь. — Тебя ждала. Я так и думал.
— Давайте, выброшу, — предложил Крюков.
— Зачем же выбрасывать такое добро? — возразил следователь. — Мы ее с собой заберем. У нас она будет в сохранности.
На самом деле книгу Крюкову дал преподаватель их института Леонид Игоревич Хромов. Крюков был его любимцем, готовился под его руководством писать диплом. Сергей не знал, говорить ли Хромову про книгу, но все-таки решил сказать. Леонид Игоревич рано или поздно попросит ее отдать, а где она? Хромов весь побелел, заволновался, сказал, что это ужасно, просто трагедия.
— Не волнуйтесь, — попросил Крюков. — Они ведь ничего про вас не узнают.
— Ох, Сережа, а если нажмут?
— Я им не скажу, обещаю.
Следствие шло своим чередом. О книге его не спрашивали. Следователь продолжал орать на него, дотошно выпытывал, какую работу делал стройотряд в июне и какую в августе.
Олин отец все еще находился на свободе, под подпиской о невыезде. Но на Олю страшно было смотреть: вся черная, глаза ввалились.
Однажды, придя на очередной допрос, Крюков увидел, что рядом со следователем сидит незнакомый молодой человек. Он с интересом разглядывал Крюкова и доброжелательно ему улыбался.
Задав несколько вопросов, следователь неожиданно вышел из комнаты, и Крюков с молодым человеком остались вдвоем.
— Переплатили, понимаешь, шабашникам, — сказал он. — А кто бы за гроши согласился работать? Да и вообще, не нарушив инструкцию, разве можно что-нибудь сделать? Верно?
— Не знаю, — осторожно сказал Крюков.
Он пытался понять, кто этот молодой человек и зачем он здесь. Прокурор? Какое-нибудь милицейской начальство? Не похоже.
— Сергей Васильевич, — произнес тот неизвестный. — Я бы хотел с вами начистоту. Согласны?
— Не понимаю, — ответил Крюков.
— Я бы на вашем месте не настаивал, что книгу Солженицына вы случайно нашли на лестнице, — объяснил тот.
Ах, вот он откуда, понял Крюков.
— Нашел, — чувствуя всю безнадежность своего положения, подтвердил Крюков. Кагебешник не возразил. После некоторой паузы он сказал:
— У меня к вам деловое предложение. Думаю, вполне для вас выгодное. Вы рассказываете, откуда к вам попала эта книга, а мы постараемся, чтобы дело Никитина было прекращено. Надеюсь, понимаете, что это в наших силах.
Он продолжал внимательно разглядывать Крюкова. Сергей молчал.
— Сомневаетесь, выполню ли я наш договор? — спросил кагебешник. — Не сомневайтесь. Мы организация солидная.
— Я нашел книгу, — чувствуя себя совершенно загнанным в западню, тихо повторил Крюков.
— Ну что же, — сказал кагебешник. — Я вас не тороплю. Подумайте. Ольге Григорьевне можете рассказать о моем предложении. Не возражаю.
Той ночью Олиного отца арестовали.
— Надо что-то делать, — говорила она Крюкову. — Надо что-то делать.
Она казалась совершенно невменяемой.
О своем разговоре с кагебешником он ей все-таки не стал рассказывать.
Прошло несколько дней.
На допросы к следователю Крюкова больше не вызывали.
А в конце недели ему позвонил кагебешник и предложил встретиться в одном из номеров известной гостиницы. «Там нам никто не помешает», — добавил он.
В назначенное время Крюков пришел. Кагебешник был чем-то сильно озабочен. Объяснил, что дело Никитина, оказывается, гораздо серьезнее, чем он думал. Шабашники — это мелочь. У Никитина обнаружились куда более тяжкие грехи, так что речь может идти о хищении социалистической собственности в особо крупных размерах.
— А вы знаете, чем это чревато? — спросил он.
Крюков знал.
На секунду он, было, подумал, что кагебешник, значит, отказывается от своего предложения помочь Никитину, и на мгновение даже испытал что-то вроде облегчения. Но тут же понял: нет, это — ультиматум. Если Сергей не согласится с ними сотрудничать, Олиного отца они сотрут в порошок. Да и Сергея не оставят в покое.
Крюков понимал, что поддаваться им нельзя, что это ловушка, да и ничем они не помогут Григорию Степановичу. Ну а вдруг? А если в отместку они действительно его погубят? Они ведь все могут.
— Так что решайте, Сергей Васильевич, — сказал кагебешник. — Будем спасать Олиного отца или нет. Слово за вами.
— Предположим, кто-то дал мне почитать книгу Солженицына, — сказал Крюков. — Но ведь совсем не обязательно, что он разделяет его взгляды. Не все, что читаем, мы одобряем. Бывает и наоборот.
— Конечно, — согласился кагебешник. — У каждого своя голова. Это правильно.
— А у вас получается: раз читает Солженицына, значит, враг.
— Кто говорит, что враг? — удивился кагебешник. — Ничего подобного. Чтобы выяснить, представляет ли человек опасность для общества, надо с ним встретиться, побеседовать. Скорее всего, этим, думаю, и ограничится… Пригласим хозяина книги, предостережем… Вот и все… Это когда-то органы плодили «врагов народа». Сейчас, Сергей Васильевич, другие времена.
Короче, Крюков Леонида Игоревича назвал.
Кагебешник не обманул. Дело против Олиного отца скоро было прекращено за недоказанностью. А Леонида Игоревича арестовали.
День, когда Крюкову устроили с ним очную ставку, Сергей Васильевич не забудет никогда. До конца жизни будет его преследовать взгляд старика. Не ненависть, даже не осуждение были в том взгляде. Казалось, глядя на Крюкова, Леонид Игоревич силится что-то понять, но никак не может.
Так и увели его, растерянного, ничего не понявшего.
А Крюков потом несколько дней думал о самоубийстве.
Теперь он рассказал Ольге, какой ценой был спасен ее отец.
— Этого ты мне не простишь никогда, — сказала она.
— Или — ты мне, — ответил он.
В своем городе оставаться они уже не могли, боялись огласки. Поженившись, переехали в Воронеж. Здесь Крюков и закончил Политехнический институт.
У них родилась дочь. Но семейная жизнь не складывалась. Прошлое непреодолимо стояло между ними. Так и жили рядом, как чужие люди.
А Крюков с тех пор сильно переменился. Прежде уравновешенный, даже флегматичный, он все больше и больше превращался в сплошной комок нервов. Не пропускал ни одной ссоры, ни одного конфликта, ввязывался в любую распрю, постоянно лез на рожон.
Его побаивались и сторонились. Но это еще больше его распаляло. Он знал: что-то должно произойти. И произошло. В ресторане «Илья Муромец», заступившись за Галину Николаевну, Крюков убил человека.
Вернувшись в Питер, Галина Николаевна очень скоро получила от Крюкова письмо. Он писал, что несказанно благодарен ей за те три прекрасных дня, может быть, это лучшие дни в его жизни. В то же время он не знает, сожалеть ли ему, что пустил ее, в сущности малознакомого человека, в свою исковерканную жизнь и тем самым как бы взвалил на нее все свои несчастья. Но пусть ее это ни к чему не обязывает, она вольна выбросить все из головы (дальше было написано «и из сердца», но Крюков зачеркнул эти слова). Если же им все-таки еще суждены встречи в этой жизни, то, значит, Бог не совсем от него отвернулся. Сергей Васильевич не имеет права на это надеяться, но он все-таки надеется.
Галина Николаевна не знала, что ему ответить. Она не жалела о проведенных с Крюковым трех днях, очень ему сочувствовала. Но надежды Сергея Васильевича, почти влюбленный его тон ее пугали. Не то чтобы она прямо себе говорила: свой долг я ему отдала, что еще надо? Такое торгашество ей бы претило. Но жить с ощущением вечной обязанности? Принести себя в жертву из-за одного лишь чувства благодарности она не могла и не хотела. Да и он бы никогда не согласился, чтобы ради него она поломала собственную жизнь. Он — гордый человек, даже с болезненно уязвленным самолюбием — никакой жертвы от нее просто бы не принял.
Галина Николаевна ответила ему подробным письмом. Она писала, что тоже очень ценит проведенные с ним дни, и пусть он не корит себя за то, что был с ней совершенно открыт, откровенен. Это ничуть ее от него не отвратило, она прекрасно его понимает, и на ее понимание он может рассчитывать всегда. Конечно, они обязательно увидятся. Она друзей своих очень ценит, не расстается с ними, а в том, что они останутся добрыми друзьями, у нее нет никаких сомнений.
Ответа на это письмо она не получила.
Сперва подумала: ну что ж, все естественно. Что было, то было, а искусственно продолжать отношения — ни к чему. Однако мысль о том, что, расставив все точки над «i», предложив ему вежливую дружбу, она его оскорбила, преследовала ее. Она понимала, что имеет дело с очень ранимым человеком. Опять ему написала, просила черкнуть несколько строк, потому что его молчание ее сильно тревожит.
Но и это письмо тоже осталось без ответа.
Тогда она обратилась в администрацию колонии и вскоре получила официальное сообщение:
Против Крюкова С. В. возбуждено уголовное дело по статье 102 Уголовного кодекса: убийство с отягчающими обстоятельствами. Ведется следствие.
А внизу была чья-то приписка от руки:
Ваш Крюков пронес в сапоге нож и ночью зарезал в бараке человека.
Она не поверила своим глазам. Нож в сапоге? Зарезал? Какая-то дикая, чудовищная ошибка.
Но все, к сожалению, оказалось чистой правдой.
Информацию о том, что же на самом деле случилось в бараке, я собирал по крупицам. Изучал материалы следствия и судебного процесса. В колонии беседовал с начальством и самими заключенными, свидетелями происшедшего.
Постепенно складывалась такая картина.
В одном бараке с Крюковым находился некто Гаврилюк, бывший милицейский следователь, севший за крупную взятку. Вообще-то для бывших сотрудников органов создана специальная колония в Нижнем Тагиле, но тут что-то, видно, не сработало, произошла накладка, и Гаврилюк оказался в обыкновенном лагере.
С Крюковым у него с самого начала не сложились отношения. Гаврилюк, надо думать, на воле привык командовать и здесь тоже стал требовать от людей полного себе подчинения. А Крюков сразу же дал понять, что и сам не станет плясать под его дудку, и другим не позволит.
Стычки между ними происходили постоянно, по любому поводу. Заключенные в бараке чаще всего были на стороне Крюкова: мент, он и есть мент, хотя и бывший. Но Гаврилюка откровенно боялись. Боялись его пудовых кулаков, его зычного, хозяйского голоса, а особенно — кучки лебезящих перед ним, готовых ради него на все, послушных ему холуев.
Чем он их держал, большого секрета не представляло. Через кого-то из конвоя Гаврилюк наладил связь с волей и таким образом систематически добывал спиртное. А у кого в руках бутылка, тот и хозяин-барин.
Каким образом Гаврилюк получал водку, никто толком не знал, да и знать не хотел. Его дело. Но однажды так случилось, что, выходя вечером из барака, Крюков натолкнулся на солдата, передающего Гаврилюку что-то, завернутое в газету.
А утром за нарушение режима Гаврилюка на десять суток отправили в БУР, барак усиленного режима.
Вернулся он оттуда злой как дьявол и, увидев Крюкова, сказал:
— Донес, сука? Я сразу понял, что ты стукач. На роже написано.
— Врешь, — ответил Крюков, — поищи кого другого, кто на тебя доносил. Я этим делом не занимаюсь.
— Мозги-то мне не вкручивай, — сказал Гаврилюк. — Ты видел, ты и донес. Я вашего брата за версту чую. Знаешь, сколько таких, вроде тебя, говнючков было у меня на побегушках? Кто стучал за полсотни в месяц, а кто просто так, из любви к искусству. Славные ребятки, маму с папой продавали.
Крюков побледнел. Медленно и очень внятно произнес:
— Или возьми свои слова назад. Или… я тебя убью.
Гаврилюк захохотал.
Заржали и его холуи.
Из показаний свидетеля Маликова Д. К.
Угрозы в бараке слышались каждый день. Люди ведь живут здесь на нервах. Но слова Крюкова прозвучали как-то по-особенному. Никто, конечно, не поверил, что он всерьез. И все-таки…
Из показаний свидетеля Девятинина О. З.
Холуи Гаврилюка пригрозили Крюкову, что они его опустят. «Крепче ночью штаны держи…»
Из показаний свидетеля Белькова С. П.
Теперь дня не проходило, чтобы Гаврилюк не задирался с Крюковым. Но тот больше уже не отвечал, молчал…
Из показаний свидетеля Гончарова У. Ф.
Я обратил внимание, что ночью Крюков лежит с закрытыми глазами, но не спит. Я его спросил: «Все думаешь?» Он мне ответил: «Хватит, уже отдумался…»
Из показаний свидетеля Безбородова Д. Д.
Как-то Крюков мне сказал, что вообще он верит в судьбу. Одним суждено жить, а другим терпеть. Только всему должен быть предел…
Из показаний свидетеля Новогорова Т. П.
В тот вечер Гаврилюк рассказывал, как он спал с женой одного подследственного. Баба рассчитывала, что за это ее мужа отпустят, но суд влепил ему десятку. Мы хохотали. Кто-то сказал: «Жаль, у нашего Крюка нет жены. А то бы она нашу наседочку выкупила…»
Ночью в бараке проснулись от странного шума.
Над спящим на нарах Гаврилюком стоял Крюков. В руке у него тускло отсвечивал самодельный нож.
— Просыпайся, гад, — расталкивая Гаврилюка, с ненавистью сказал Крюков. — В последний раз спрашиваю, берешь свои слова назад?
Все остолбенели.
— Да он чумной! — крикнул Гаврилюк. — Да я тебя! — и попытался было вскочить с нар.
Но не успел.
Крюков с силой вонзил нож ему в живот.
Наступила мертвая тишина.
— Зовите охрану, — сказал Крюков.
Прочтя выданное мне в суде разрешение на свидание с приговоренным к высшей мере Крюковым С. В., начальник тюрьмы усомнился: «Не знаю, захочет ли он с вами разговаривать. Очень сложный человек».
Это я понимал и без него.
Крюкова привели. Я назвался, сказал, что о его деле в редакцию написала Галина Николаевна Сизова.
— Зачем? — спросил он.
Я объяснил: судебные инстанции пройдены, но остается еще помилование. Выступление газеты мало что решает, и все-таки если привлечь внимание общественности к сложной человеческой судьбе…
Он перебил меня:
— Я отказался подавать ходатайство о помиловании.
— Сроков тут нет, — сказал я. — Еще не поздно.
Он ничего не ответил.
Я вспомнил, как суетился, лебезил и при этом сильно негодовал приговоренный к смерти Вакорин. Там было все ясно. Сейчас передо мной стоял совсем другой человек.
— Сергей Васильевич, — сказал я. — Мне бы все-таки хотелось поговорить с вами.
Он пожал плечами. Обернувшись к конвоиру, попросил:
— Уведите меня.
— Все? — спросил меня конвоир. Я кивнул.
Крюков ушел, не оглядываясь.
Позже я узнал, что смертный приговор ему заменили пожизненным лишением свободы. Даже без его ходатайства.
Я уже говорил, что в пору моей работы в Комиссии по вопросам помилования мы долго пробивали закон о замене смертной казни пожизненным лишением свободы.
Если преступление настолько страшно, что любой, даже самый длительный срок — слишком мягкое наказание для преступника, то единственно адекватная для него кара — пожизненное заключение. И без смертной казни обойдемся, и злодея не пощадим.
Закон этот проходил очень туго. Депутаты Верховного Совета недоумевали: общество, страну захлестнула небывалая волна преступности, убийцы и насильники вконец обнаглели, а вы проявляете гнилой либерализм?
И все-таки, как альтернатива смертной казни при помиловании, пожизненное заключение в законе появилось. Противники смертной казни могли вздохнуть с облегчением.
Однако скоро выяснилось: проблема не решена, она только усугубилась.
Прежде всего, встал вопрос: где и как содержать людей, осужденных на вечное пребывание за колючей проволокой? Наша тесная, вонючая, перенаселенная тюремная камера справедливо приравнена международными правозащитными организациями к бесчеловечной пытке. Невыносимо ее выдерживать несколько лет. А если всю жизнь?
Будучи в Италии и осматривая одну крупную тюрьму под Римом, мы попросили ее директора показать нам одиночную камеру, где содержится убийца, приговоренный к пожизненному наказанию.
Дверь из коридора в камеру оказалась открытой. Комнатушка небольшая, но в ней — телевизор, на столике — кофеварка, за перегородкой — умывальник и унитаз.
Удивительнее всего, что в камере находились двое, о чем-то весело болтали.
— Разве это одиночка? — спросил я через переводчика директора тюрьмы.
— Конечно, — ответил он.
— А кто же этот второй?
— Гость, — объяснил директор. — Из соседней камеры. Но на ночь камера закрывается. Заключенный остается в ней один.
Часа через два я увидел того самого заключенного на территории тюрьмы. Он шел в сопровождении охранника, под мышкой держал волейбольный мяч.
— Куда его ведут? — поинтересовался я.
— Сегодня положенную ему прогулку он решил использовать для игры в волейбол, — очень спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, объяснил мне директор тюрьмы.
Курорт? Да нет, ничего подобного.
Западный заключенный как жесточайшее наказание воспринимает уже само лишение свободы, саму невозможность распоряжаться своей судьбой. «У нас же, — объяснили мне работники нашего МВД, — до этого еще нужно дорасти. Пока еще свобода для нас слишком абстрактное понятие и занимает в шкале ценностей довольно скромное место. В расчете на такую психологию и вводятся в колониях дополнительные тяготы. Чтобы отсидка медом не казалась».
Объяснение лукавое. Когда мне говорят, что у страны нет сегодня средств, чтобы обзавестись нормальными цивилизованными тюрьмами, смириться с этим я не могу, но понимаю, как трудно оспорить такой довод. Но когда под мучения человека подводят еще и готовую теоретическую базу — понять это я решительно отказываюсь.
Первая специальная тюрьма для приговоренных к пожизненному лишению свободы создана у нас на острове Огненном Вологодской области, в тысяче километрах от Москвы. В XVI веке здесь был построен монастырь. В 1918 году кельи его заняли советские политические заключенные. Сегодня в бывших кельях размещены «вечные узники». Средний их возраст 28–35 лет.
В камерах сидят по двое. Общаться арестанту разрешено только со своим сокамерником. Если задаст вопрос конвоиру или надзирателю — тот ему не ответит, запрещено. В зоне нет ни радио, ни телевизоров, ни газет. Полное отсутствие информации — это, может быть, одно из самых тяжких наказаний. Не спасает и маленькая тюремная библиотека (фантастика, любовные романы). Книги все давным-давно читаны и перечитаны. Свидания с родными тоже категорически запрещены. Раз в десять дней прогулка. Если, конечно, можно ее так назвать. Человека, скованного наручниками, заводят в небольшой вольер. Та же камера, только вместо потолка — редкие железные прутья. Такой узаконенный садизм отсутствием у казны необходимых средств уже не объяснишь и не оправдаешь. Продиктован он, видимо, самой высокой целью. Только какой именно? Сделать из человека одичавшее полуживотное? Справедливое наказание превратить в медленную пожизненную пытку? Кара эта на языке осужденных называется — «смерть в рассрочку».
Не случайно многие, кому смертную казнь заменили пожизненным заключением, подают заявления с просьбой их расстрелять. Вот одно из таких писем: «Меня помиловали и расстрел заменили бессрочной тюрьмой… Значит, всю оставшуюся жизнь мне придется провести в ужасной камере, в закрытом помещении под замком. И все эти годы меня будут убивать морально и физически… Не лучше ли, если меня сейчас расстреляют и все эти вопросы решатся само собой?»
Ужасающее состояние наших тюрем, отчаянные письма заключенных, умоляющих их убить, чтобы только прекратились их мучения, защитники смертной казни очень часто используют как последний, неопровержимый аргумент.
— Вот когда доживем мы до прелестей итальянской комфортабельной тюрьмы с кофеваркой в камере и дневным волейболом, тогда и будем думать, готовы ли мы отменить смертную казнь и заменить ее пожизненным заключением, — говорят мне мои оппоненты. — А иначе все ваши богоугодные разговоры — одна лишь сплошная болтовня.
Ну прямо-таки безграничное человеколюбие звучит в этих спокойных, рассудительных речах! Человеколюбие тех, кто на острове Огненном создал изощренный, продуманный до мелочей ад.
А я все не могу забыть слова Крюкова, сказанные им в арестантском бараке: «Одним суждено жить, а другим терпеть…»
Решение Конституционного суда
Вступив в Совет Европы, мы взяли на себя обязательство смертную казнь отменить. Бурные дискуссии о том, нужна или не нужна смертная казнь, на наше решение повлиять уже вроде бы не должны, обязательство есть обязательство. Но каким образом его выполнить? Поставить на всенародное голосование, провести референдум? Гиблое дело. Наши телеканалы, любящие на эту тему проводить мониторинги, занимаются, убежден, прямой провокацией, ответ известен заранее. В других странах, где смертная казнь отменена, общественное мнение тоже почти всегда этому противилось. Однако там парламентарии умели противостоять популистским настроениям, действовали по собственному убеждению, руководствуясь научными, а порой и религиозными соображениями. Нам же до этого еще очень далеко.
Был объявлен президентский мораторий на исполнение смертной казни. Расстреливать на какое-то время перестали, но проблемы это, конечно, не решало. Суды по-прежнему продолжали выносить смертные приговоры, количество смертников постоянно множилось. Люди в камерах подвергались жуткой психологической пытке. Раз страшный приговор не отменен, остается в силе, значит, сохраняется и мучительная неизвестность. Некоторые осужденные ее не выдерживали, просили поскорее привести приговор в исполнение, писали: ужас каждый раз, когда открывается дверь камеры, невыносим, сводит с ума. Лучше убейте, но не мучайте.
Да и обязательство, данное нами при вступлении в Совет Европы, предусматривало не приостановку казней, а запрет на вынесение смертных приговоров, изъятие высшей меры наказания из уголовного кодекса.
В этой ситуации полемика между противниками и сторонниками смертной казни обострилась чрезвычайно. Противники ее приводили многочисленные случаи, когда и у нас, и за границей казнили людей, которые, как выяснялось позже, совершенно невиновны. Сторонники казни от этих страшных историй отмахивались, отвечая: значит, надо ликвидировать судебные ошибки. Как? Риск судебной ошибки останется всегда, всегда будет опасность убить невиновного, многовековая история это доказывает. Сторонники казни возражали: если усовершенствовать работу судов, ошибок не будет. Противники казни внесли в Думу законопроект о моратории на вынесение смертных приговоров. Депутаты с легкостью его провалили. Сократили лишь количество «расстрельных» статей в уголовном кодексе, но смертная казнь как была, так и осталась.
Ясно было: никакие словесные баталии, никакая борьба аргументов и доводов, никакие призывы к разуму и ссылки на международный опыт и международные обязательства делу не помогут.
Но однажды я оказался свидетелем того, как неподъемную, казалось бы, общественную проблему, не подвластную ни пламенным речам, ни призывам к гуманизму, ни умным соображениям, ни даже данному государством слову, удалось решить лишь грамотной и четкой юридической процедурой.
Произошло это так.
Разговор о смертной казни и Совете Европы как-то возник на заседании Постоянной палаты по правовой политике и вопросам федерального устройства. Собрались ученые-правоведы, судьи, работники Министерства юстиции и мы, журналисты. Председательствовал известный юрист, активный участник демократического движения в стране Борис Андреевич Золотухин.
Заместитель председателя Конституционного суда Тамара Георгиевна Морщакова сказала: «По действующей Конституции подсудимый, которому грозит смертная казнь, вправе просить, чтобы дело его слушалось в суде присяжных. Но суды присяжных созданы лишь в восьми регионах из 89. Стало быть, большинство подсудимых такого конституционного права сегодня лишены. Если кто-либо из них обратится с заявлением в Конституционный суд, то оно должно стать предметом нашего рассмотрения».
И тогда у нас, в «Литгазете», возник план.
Я позвонил адвокату Генриху Павловичу Падве и спросил, нет ли среди его клиентов человека, которому грозит смертная казнь, но в регионе, где должны его судить, отсутствует суд присяжных. Да, такой человек действительно оказался. Москвич Г. обвинялся в том, что он зарезал жену и маленького сына. (Предваряя события, скажу, что обвинение это впоследствии оказалось ложным. Даже не суд присяжных, а обычный Московский городской суд этого Г. оправдал. Слепо следуй суд, как это нередко бывает, обвинительному заключению, и к ряду непоправимых трагических ошибок, когда расстреливают невиновных, могла бы прибавиться еще одна.)
Но в то время, о котором идет речь, суд над Г. еще не состоялся, и ему реально угрожал смертный приговор. Я спросил Генриха Павловича, не напишет ли его клиент заявление в Конституционный суд о нарушении его конституционных прав (в городе Москве суда присяжных тогда не было), а «Литературная газета» это заявление опубликует и откомментирует.
Скоро такая публикация появилась.
Мы с нетерпением ждали, какое же постановление примут конституционные судьи. Можно было предположить, что и среди них есть как противники, так и сторонники смертной казни. К тому же в тексте Конституции имелась некоторая зацепка для того, чтобы все оставить по-прежнему. В главе о переходном периоде сказано, что впредь, до введения в действие федерального закона о судах с участием присяжных заседателей, сохраняется прежний порядок рассмотрения соответствующих дел. Но означает ли это, что пока могут нарушаться конституционные права граждан? Да и как долго должен продолжаться такой переходный период?
И вот постановление Конституционного суда оглашено. Особых мнений не заявлено, так что можно предположить, что принято оно единогласно.
Конституционный суд постановил, что в тех регионах, где судов присяжных нет, смертные приговоры выносить нельзя. Но нельзя их выносить и там, где суды присяжных есть. Это означало бы, что подсудимые здесь будут поставлены в положение худшее, чем те, другие. А по Конституции перед законом равны все.
Словом, смертная казнь не отменена, но сегодня ее в стране больше нет, не существует. Вот и получается: звучали горячие дискуссии, проводились многочисленные конференции, шли письма президенту, копья ломались, парламентарии чуть ли не в драку между собой бросались, а все оказалось достаточно просто: надо было лишь привести в действие точный юридический механизм.
Глава седьмая ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР В КРЕМЛЕ
Пересменка
С Александром Николаевичем Яковлевым меня познакомил Егор Яковлев. Я знал, что в свое время, работая в ЦК партии, Александр Николаевич опубликовал в «Литгазете» отважную статью против великодержавного шовинизма. Чаковский его предупреждал: «Смотри, рискуешь». Александр Николаевич настоял, статью напечатали, и на долгие годы Яковлев был отправлен послом в Канаду. Возвратился он уже при Горбачеве, стал членом политбюро. Но и тут продолжал проявлять непозволительную самостоятельность. За публикацию в «Московских новостях» некролога Виктору Некрасову, скончавшемуся в Париже, на политбюро, в отсутствие Горбачева, Яковлева прорабатывал Егор Лигачев.
Я приезжал к Александру Николаевичу в Кремль. Он рассказывал мне, как пришлось ему вмешаться, чтобы выпустили наконец за границу до тех пор невыездного Эйдельмана. Говорил о делах в Союзе писателей, о баталиях в писательской среде, о проявлениях антисемитизма, к которому Яковлев был совершенно нетерпим. Пожалуй, никогда прежде не доводилось мне встречаться с человеком такого ранга, который позволял бы себе подобную открытость и доверительность в общении с собеседником.
В декабре 1991-го я попросил Александра Николаевича дать новогоднее интервью для «Литературной газеты».
У всех на памяти это время. Короткая эйфория после августовской победы над путчистами, надежды, иллюзии, митинговые страсти сменились разочарованием и тяжелыми предчувствиями. СССР разваливался, вряд ли уже что-либо могло его спасти. Недавно прошла Беловежская встреча, она вызвала самые разные толки и оценки. Рассказывали о тяжелом разговоре Ельцина с Горбачевым, положение его сделалось крайне сложным, непонятным. Экономике страны грозил полный крах, она находилась на краю пропасти. Позже Егор Гайдар опубликует цифры: при самом скудном потреблении хлеба оставалось тогда на два месяца. С невероятной быстротой таяли и запасы золота, твердой валюты. За 1989–1990 годы из страны было вывезено более 1000 тонн золота. К концу октября 1991 года ликвидные валютные запасы также оказались полностью исчерпанными, Внешэкономбанк СССР вынужден был приостановить платежи за границу. Всех этих подробностей мы тогда еще не знали, но ощущение, что мы подошли к черте, стоим на пороге крупных событий, обостренное ожидание — то тревожное, то, наоборот, радостное — испытывали, наверное, все. Хотелось услышать человека, владеющего информацией, знающего ситуацию изнутри и, главное, свободного от сиюминутных, узких шор.
Я спросил Александра Николаевича, какие у него прогнозы, чего он ждет. «Размышлять о судьбах страны можно лишь на холодную голову, — ответил он. — А сегодня обстановка такая, что время для холодного разума еще не наступило». Вспомнил, что предшествовало этому времени. Главная иллюзия заключалась в том, что казалось, будто можно реформировать партию, да и всю систему власти. И лишь года через два начало приходить понимание, что сложившаяся система реформирования не принимает, отторгает его, что существующее общество нереформируемо. «Когда лично вам это стало ясно?» — спросил я. «Интуитивно, в общем-то, давно, — ответил он. — В конце 1985 года я направил специальную записку о необходимости разделения партии на две». — «Кому направили?» — «Ну, скажем так, наверх…»
Заговорили о Горбачеве. «Он слишком сложная фигура, чтобы кто-нибудь, в том числе и я, хорошо, полагаю, его знающий, мог бы сказать наверняка, что он в данный момент думает, — сказал Александр Николаевич. — Это человек, чья фантазия — в хорошем, разумеется, смысле — постоянно работает, постоянно в действии. Он — человек компромисса. В той ситуации такой компромисс был необходим — иначе и конфликты уже с самого начала стали бы куда более жесткими, и нетерпимость достигла бы взрывной силы. Однако всякий компромисс таит в себе возможность ошибок: кто-то сделал лишний шаг навстречу взаимному согласию, а кто-то остановился на полпути… Но я твердо убежден, — добавил он, — что Горбачев хотел добра обществу и людям. Это я знаю наверняка. И все разговоры о том, что он цепляется за власть — чепуха, спекуляция. Он обладал безусловной властью, но добровольно стал от нее отказываться. Только внутренние побуждения человека не всегда совпадают с объективной логикой. Намерения — одни, а результат — другой…»
Беседа наша проходила поздно вечером. Александр Николаевич попросил помощника ни с кем его не соединять. Но спокойно поговорить не удалось. Вошел помощник, сказал, что звонит Бурбулис. Александр Николаевич извинился, и я вышел в приемную.
Все здесь было как обычно: милые, доброжелательные люди. И обстановка была прежняя: спокойная, деловая. Заглянул кто-то, как видно, из соседней комнаты, сказал: «А буфет-то наш совсем опустел, сосиски и те через час кончились…»
Но только мы опять начали разговор, зазвонил внутренний телефон. «Михаил Сергеевич», — объяснил мне Яковлев, снимая трубку. Выслушав, сказал: «Вызывает». И, надев пиджак, пошел к двери.
Я снова вышел. «Вы у нас сегодня засидитесь», — посочувствовал мне его помощник.
Возвратившись, Александр Николаевич спросил устало: «Может быть, отложим? Сегодня, видите, что-то не очень получается». «Прошу вас, — сказал я, — давайте продолжим. Я готов ждать, сколько придется».
Беседа таким образом прерывалась еще несколько раз.
Сейчас я понимаю: шли трудные переговоры. До отставки Горбачева оставались считанные дни.
Разговор наш коснулся свободных выборов в стране. Когда-то казалось: станем когда-нибудь выбирать из нескольких кандидатов, и жизнь сразу же в корне преобразится, заживем в прекрасной стране. Теперь до этого вроде бы дожили. Но вместе с радостью пришло и разочарование. «Чем, бывает, отличается один кандидат от другого? — спросил Александр Николаевич. — Я скажу вам. Степенью демагогии, степенью популизма. Этот умеет демагогичнее выразить свою мысль — молодец, его и изберем. А другой говорит то же самое, но скучновато, вяловато — пускай подождет. Хотя человек он, может, и более серьезный, вполне дельный…»
Разве не то же самое заботило моего вымышленного собеседника, за которым я спрятался, не решаясь прямо сказать читателю, какие тревоги испытываю сегодня в новое, демократическое время?
Перечитывая сейчас газетную полосу с интервью Александра Николаевича, я думаю, насколько пророческими были слова, сказанные им в тот поздний вечер. «Наружу выплеснулись темные, самые низменные пласты психологии, — говорил он. — Если вы спросите меня: что, разве сегодня в обществе стало больше совести? Я не стану это утверждать. Или разве меньше стало ненависти? Нет, думаю, не меньше. Если прежде ее кто-то скрывал из каких-то карьеристских или, может, шкурных интересов, то сейчас ее уже никто не скрывает. Более того, даже как бы гарцует вокруг этой самой ненависти, показывает, какой он, значит, смелый, как он другого, значит, пригвоздил — да еще со словцом, обязательно с фамилией, нередко с ложью. Вот что творится…»
Сколько лет прошло, а слова эти звучат, будто сказаны они в наши дни.
«…A как расцвели взяточничество, коррупция!.. Раньше тоже брали, но хоть прятались, боялись. А сегодня это делается совершенно открыто, у всех на виду… И вот что очень интересно: демократия, торопясь, не производит, оказывается, нравственной селекции. Наоборот, происходит дискредитация этой самой демократии, компрометация именно тех идеалов, к которым она стремится…»
Если б знали мы тогда, в декабре 1991-го, какие размеры примет дискредитация тех прекрасных идеалов, с которых все и начиналось.
Заговорили об отношении к власти. «Меня очень волнует этот необольшевизм, — сказал Александр Николаевич. — Как бы старые структуры авторитаризма не всплыли в какой-то иной форме… Конечно, среди демократов появилось немало очень ярких, интересных фигур, способных вести дело. Но есть и такие, которые не имеют к демократии не малейшего отношения. Сегодня демократия для них удобна. Но если завтра наступит автократия, она будет не менее удобна, а может, даже еще удобнее…»
Будто не пожелтевшую газетную полосу смотрю, а читаю из сегодняшней колонки политического обозревателя.
— Так что же, значит, поражение? — спросил я.
— Нет, нет! О поражении и речи быть не может, — ответил Яковлев. — При всех недостатках и пороках общества оно уже не то, качественно переменилось.
Я вышел из кремлевского кабинета Александра Николаевича Яковлева в двенадцатом часу ночи. Стоял сырой, промозглый декабрьский вечер. Не зима, а поздняя осень. Тишину нарушал только громкий гомон ворон. Кремлевский двор был непривычно пуст. Ни машин, ни людей. Так, наверное, выглядит квартира, из которой старые жильцы уже вывезли свои вещи, а новые пока еще не въехали. Пересменка.
В разговоре с Яковлевым я сказал ему: «Мы ведь с вами — уходящее поколение». «Да, уходящее, — согласился он. — За нами идут те, кто родился после войны… Многое их не коснулось, не царапнуло, не прижало…»
— Почему я сказал ему, что мы с ним одного поколения? — думал я, идя по пустынному и сиротливому кремлевскому двору. Он воевал, а мои сверстники в годы войны оставались еще детьми. В отличие от его поколения мы не хлебнули всего, что хлебнули они. Бог миловал, проскочили. И все-таки, думал я, родившиеся до войны, мы — дети того же самого времени, его порождение. Оно лепило и нас. И нас по-своему прижимало и царапало. Однако, несмотря ни на что, то было наше, мое время. Страшное, ужасное, порой гибельное. Но — мое. Всю жизнь я учился примериваться к нему. В самых трудных обстоятельствах сохранять лицо. Учился говорить с кляпом во рту и при этом старался все-таки что-то сказать. Не надеялся, даже не мечтал, что время это уйдет, закончится еще при моей жизни, но как мог, вместе с другими, не имея смелости выйти на баррикады, пытался хоть по капле, хоть по вершку его расшатывать и подтачивать. За долгие годы, худо-бедно, кажется, этому научился. Но смогу ли, успею ли я вписаться в иное, новое время, когда искусство говорить с завязанным ртом, дай Бог, никому уже не потребуется. Я счастлив, что дожил до похорон своего страшного времени, но каково будет новое, чужое для меня время и каков буду в нем я? И буду ли?
С того вечера в Кремле прошло немало лет. Всякое бывало за это время. Иной раз даже казалось, что тогдашние мои опасения оказались напрасными, живу ведь.
И все-таки те горькие чувства не исчезли, не отпустили меня. А в последнее время они все круче и круче захлестывают меня снова.
Разве могу я сказать, что ушли те, многолетней давности, страхи и с каждым днем не прибавляется новых? Что я не вижу, как воскрешают то здесь, то там, прежние идолы и настроения? Что не возвращаемся мы семимильными шагами в похороненную, казалось бы, навсегда удушливую советскую атмосферу? Что российский чиновник не становится все агрессивнее и ненасытнее? Что власть в стране не захватили силовые ведомства? Что суды и прокуратура не стоят навытяжку пред сильными мира сего? Что в наших тюрьмах уже не томятся политические заключенные? Что в угоду верховной власти не лепятся, не фальсифицируются уголовные дела? Что милиция отвыкла бесчинствовать? Что о крепкой руке больше не мечтаем? Что, как не раз уже бывало в российской истории, все чаще и чаще бал правят жадные временщики? Что обманываться мы не рады? Что о таком рынке мечтал когда-то Леонид Лиходеев? Что готов я к бесславной кончине моей «Литературной газеты»?
Конец моей «Литературки»
Сегодня, когда я пишу эти строки, издание, именуемое «Литературная газета», все еще выходит, она появляется в газетных киосках, кто-то ее даже выписывает, но той «Литературки», к которой читатель привык, подписаться на которую, несмотря на ее немалый тираж, бывало адски трудно, больше уже не существует. Она умерла, исчезла. Хуже того, из-за своих нынешних публикаций она зачастую превращается в антипод той нашей «Литературке», имя которой долгие годы оставалось знаковым.
Отчего же это произошло?
Почему сохранились на плаву «Известия», не ушла с газетного рынка «Комсомольская правда», рванул, хоть и не слишком, по мне, аппетитный «Московский комсомолец», а вот моя газета пропала, не удержалась. В чем дело?
К концу перестройки, накануне начала рыночных реформ, тираж «Литературки» достиг рекордных шести миллионов. Но такой успех достался тогда не одной лишь «Литературной газете». Все, что вчера еще держалось под запретом, о чем говорили, озираясь, или вообще предпочитали помалкивать, вдруг вырвалось из-под спуда, попало на газетные полосы. Прежде, долгие годы, от нас, журналистов, требовалось не столько даже сообщать читателю что-то новое, сколько умудриться сказать вслух то, о чем и так все знали и тайно шептались на кухне. И это уже часто становилось сенсацией. Помню, в начале перестройки Григорий Горин, смеясь, рассказывал, как позвонил ему один человек и спросил: «Ты читал сегодня „Правду“?» — «А что?» — «Нет, это не телефонный разговор». Пугливо, осторожно шептались — и вдруг в газете! С раннего утра к газетным киоскам стали выстраиваться длиннющие очереди, вечерами люди не отходили от экрана телевизора, ловили каждое слово на съезде народных депутатов, на уличных митингах. То была звездная пора журналистики.
Но все переменилось в начале девяностых. Прошумел августовский путч 1991-го года, ушла короткая эйфория после победы над путчистами, наступили трудные времена начала рыночных реформ. Цены на печатные издания невероятно выросли, тем, кто раньше выписывал несколько газет, пришлось или вообще от них отказаться, или в лучшем случае довольствоваться какой-нибудь одной. Но особого ущерба люди от этого чаще всего не ощущали, печатную продукцию с лихвой заменило им телевидение. А уж если кто-то все-таки останавливал свой выбор на каком-то издании, то вкусы и потребности здесь очень дифференцировались.
Люди, уставшие от серьезных разговоров, потянулись к развлекухе, часто самой низкопробной, к бульварщине, к желтизне. Тот же, кого она не манила, кто ушел в дело, — хотел, наоборот, получать из газет только конкретную и разностороннюю деловую информацию. Ему уже не требовались общие рассуждения, они ему приелись. Даже широкая аналитика, вчера еще дававшая пищу для ума, сегодня ему надоела. Вы ему сообщите факты — побольше и поподробней — а уж проанализирует их он как-нибудь сам.
Соответственно читательским интересам стали выстраиваться и печатные органы. Легким чтением заполонил рынок «Московский комсомолец». Он не только не стеснялся бульварщины и желтизны, он их возвел в принцип. Рядом со скандальным разоблачением очередного олигарха на полстраницы печатались адреса и телефоны проституток. Тираж вырос до заоблачных размеров. К услугам серьезного читателя появилась другая газета — «Коммерсантъ». Ее читателя не интересовали уже ни клубничка, ни авторское отношение к описываемому событию. Он не нуждался в чужих оценках, но подоплеку случившегося, какие замешаны силы и не затевается ли очередная битва под ковром, знать хотел. Принципиальной особенностью «Коммерсанта» стали материалы обезличенные: подписи разные, а язык, стиль, подход один — общий. Создание газетного номера было поставлено на поток. Рассказывали, что журналисту заранее задавалось определенное количество строк, перебрал их — штраф, недобрал — тоже штраф.
«МК» и «Коммерсантъ» представляли собой как бы два полюса, другие издания, не отличаясь такой завершенностью, в той или иной степени тяготели к одному из них.
«Литературная газета» (и, прежде всего, особенно читаемая ее «вторая тетрадка») не вписывалась ни в один из таких стандартов. Изыски небрезгливого «МК» даже в дурном сне нельзя было представить себе в респектабельной «Литературке». И скроенный под одно лекало «Коммерсантъ» также ничего общего не имел с газетой, сила которой и состояла как раз в индивидуальной манере ее авторов, в неординарности и разнообразии их письма.
Может быть, на пустом месте, начиная с нуля, «Литературке» легче было бы завоевать на газетном рынке свою нишу. В эти годы, мы видели, успех чаще всего доставался как раз изданиям, либо ничем прежде не выделявшимся, не имевшим своего лица, либо совершенно новым. Тот же «Московский комсомолец» в советские времена терялся в ряду заурядных молодежных газет, «Огонек» слыл рупором серости и ретроградства, «Московские новости», выходившие на многих языках, мало кто читал, студенты использовали их, сдавая в институте экзамен по немецкому или английскому, а «Коммерсанта», как и «Аргументов и фактов», не существовало вовсе. Однако профессиональный уровень «Литературки» всегда был чрезвычайно высок, она всегда имела яркую индивидуальность, свое лицо. Только соответствовало ли оно нынешним требованиям?
Доверительный тон, душевный разговор с читателем, вызывавший когда-то его благодарный отклик, теперь воспринимался как старомодное слюнтяйство. Судебные очерки читались уже без прежнего интереса — на фоне головокружительных событий, происходящих у нас на глазах, их сюжеты казались пресными, попытки авторов оставаться в строгих правовых рамках воспринимались как робость и занудство, даже судьба несправедливо осужденных, всегда трогавшая читателя, сейчас уже особого сопереживания чаще всего у него не вызывала, люди стали, если не черствее, то разобщеннее. Источники информации, которыми пользовалась «Литгазета» и которые обеспечивали интерес к ее статьям, оказались явно недостаточными. Привычная ей роль всесоюзного «бюро жалоб», куда тысячи читателей обращались в надежде получить защиту, тоже отпала — газетную статью чиновник перестал бояться, к тому же инстанции, в которые редакция пересылала прежде читательские письма и на которые имя «Литературной газеты» обычно действовало, были упразднены. В результате читательская почта иссякла. А особое умение «ЛГ» протащить через цензурные рогатки не слишком обструганную крамолу, чем всегда славились наши публикации, никому уже не было нужно — ни рогаток не осталось, ни крамолы.
Все эти новые реалии мы хорошо ощущали, они обнаруживались по мере того, как «Литературка» с каждым днем все заметнее и заметнее уходила с газетного рынка. В редакции шли бурные дискуссии, выдвигались самые смелые планы и идеи, осуществив которые, нам казалось, газета не погибнет, сможет остаться на плаву и в новых условиях. Однако проверить, насколько хороши и плодотворны наши идеи, не обманываем ли мы самих себя, оказалось невозможно по одной очень простой и банальной причине: для осуществления их у редакции не было денег.
Когда-то на средства, поступавшие от продажи тиража «Литературной газеты», содержался весь гигантский аппарат Союза писателей СССР, и неплохо содержался. Теперь же почти не осталось даже массовых изданий, которые жили бы за счет подписчиков, почти за каждым из них, так или иначе, стоял чей-то заинтересованный капитал.
Могла ли представить в ту пору «Литературная газета» интерес для по-настоящему крупного финансового игрока? Думаю, да. Имя «Литературная газета» еще славилось во всем мире, и дальновидная компания, вложившая в нее деньги, могла бы рассчитывать на верный доход, и не обязательно только финансовый.
Однако сориентироваться на рынке спроса и предложения, найти наименьшее зло, выйти на спонсора, чьи интересы в наибольшей степени совпадут с интересами газеты, не продешевить, не попасть в кабалу, короче говоря, выгодно продаться — должен был главный редактор.
Каждое печатное издание, сумевшее в то время так или иначе вырваться вперед, имело лидера, обеспечившего такой прорыв. Можно было по-разному относиться к достигнутому результату и к способам, которыми он был достигнут, но газета или журнал, руководимые таким лидером, рынок завоевывали. «Московский комсомолец» вывел из небытия Павел Гусев, «Огонек» перелицевал Виталий Коротич, «Московские новости» имели Егора Яковлева, «Известия» держались благодаря Игорю Голембиовскому, «Коммерсантъ» создал Владимир Яковлев.
Бывало, что кто-то из них, дав делу толчок, уходил, на его место приходил новый лидер, но издание, став уже на ноги, продолжало конкурентную борьбу с не меньшим, а то и большим успехом.
А вот «Литературная газета» все это труднейшее время фактически оставалась без такого лидера. С главными редакторами нам катастрофически не везло.
Началось это сразу же после ухода Чаковского.
Видимым поводом для отставки Чаковского стала ликвидация в ЦК партии отдела культуры. Должность заведующего этим отделом занимал тогда бывший член редколлегии «Правды», поэт Юрий Воронов. Когда-то за то, что на партийном собрании он взял под защиту авторов слишком смелой статьи против цензуры репертуарных комитетов в театрах, вызвавшей недовольство Брежнева, Суслов сослал Юрия Петровича собкором в ГДР, где он провел много лет. В годы перестройки Воронова вернули и назначили в ЦК ведать культурой. А когда отдел ликвидировали и надо было срочно искать Юрию Петровичу другую работу, тут-то и вспомнили о «Литературке». Тем более, Чаковский уже стар, не очень здоров, наверное, и сам он готов уйти на заслуженный отдых. Чаковского пригласили в ЦК, и он, верный солдат партии, немедленно согласился.
Впрочем, время его действительно ушло. Приноровиться к новым порядкам было ему крайне сложно. Однажды, сидя в кабинете у своего зама, он произнес замечательную фразу. «Я старый, богатый и еврей, — сказал он. — А вас всех в ГПУ».
Воронов был человек симпатичный, тихий, очень вежливый, но, видимо, на всю жизнь сломленный тем разносом, что когда-то учинил ему Суслов. Всякий раз долго колебался, прежде чем решиться напечатать статью, которая ему казалась не в меру острой, обязательно «вентилировал» вопрос по правительственным телефонам. Проработал он недолго, ушел по состоянию здоровья.
Когда стало ясно, что Воронов не сегодня-завтра оставит свой пост, группа журналистов «Литературки» обратилась в инстанции, чтобы главным редактором назначили политического обозревателя газеты Федора Бурлацкого. Мне тоже предложили подписать это письмо, но я отказался. Бурлацкий мне не нравился. Мне казалось, если он станет руководить газетой, то разрушится самое ценное, что в ней есть, — ее внутриредакционная атмосфера. Так, к сожалению, и случилось, Бурлацкому важнее всего было воспарить, блеснуть, подать самого себя. Это принимало подчас карикатурные формы. В газете всегда существовала конкуренция материалов: интересные статьи, появлявшиеся даже в самый последний момент перед подписанием номера, обязательно вытесняли статьи менее интересные. Нам такой порядок казался совершенно естественным. Бурлацкий его сломал. Самые интересные материалы откладывались, копились и ставились в номера, которые время от времени вел сам Бурлацкий. Они должны были служить его личной витриной.
Во время августовского путча 1991 года он был в отъезде, на юге. С ним попытались связаться, вызвать в Москву, нужно было, чтобы он четко обозначил свою позицию, но он не появился, видимо, выжидал, чья возьмет. И те же самые люди, которые еще недавно просили назначить его главным редактором, потребовали убрать Бурлацкого.
Бурлацкого сменил Аркадий Петрович Удальцов, многие годы проработавший заместителем главного редактора. Публиковал в ту пору хорошие статьи, вместе с нами защищал несчастных хозяйственников, я воспринимал его как своего единомышленника. К тому времени главного редактора уже выбирал сам коллектив, и на редакционном собрании я горячо выступал за его избрание.
Жизнь, однако, показала, что это было далеко не лучшее решение. Удальцов для вывода «Литгазеты» из финансового кризиса оказался совершенно не пригоден.
Начались судорожные попытки спасти газету. Часто мелкие, лихорадочные. Прибегли, например, к помощи известных художников, подаривших редакции некоторые свои картины. Коллекцию потом купил для городского музея нижегородский губернатор Борис Немцов. Но деньги, вырученные за картины, очень быстро кончились, что дальше? Хватались за что угодно, брали любые подачки, затевали различные аукционы — газета пригласила читателей выставлять на них ценные книги, фарфор, редкие документы. Но все это приносило лишь жалкие копейки.
Намерение купить газету вроде бы высказал Владимир Гусинский. Но не договорились, Удальцова что-то не устроило. Зато спелись с людьми совершенно случайными. Сотрудникам редакции объявили, что газету покупает банк Менатеп: будут деньги, встанем на ноги. Помню, бурное собрание редакционного коллектива, на котором Удальцов изо всех сил продавливал нужное ему решение. Выступающие говорили, что все это очень подозрительно, редакции нельзя терять статус юридического лица, обещанные златые горы крайне сомнительны. Так и оказалось: полный блеф. Газету практически приобрел не банк, а некто Костин, прикрывающийся именем этого банка. Определенную роль, видимо, сыграло то обстоятельство, что в банке работала тогда его жена, Ольга Костина. Денег у нового хозяина то ли не было, то ли он их не стал вкладывать в газету, во всяком случае она продолжала выходить по инерции, без зарплаты сотрудникам, без гонорара ее авторам. Через некоторое время Ольга Костина со скандалом ушла из банка, перешла в московскую мэрию, и муж ее за хорошую сумму перепродал газету известной московской коммерческой организации «Система». Пройдет время, и Ольга Костина предстанет потерпевшей по очень сомнительному уголовному делу: якобы один из работников ЮКОСа Пичугин по наущению своего начальника Невзлина устроил взрыв возле ее квартиры. Дело это будет шито белыми нитками, доказательства станут разваливаться одно за другим, однако Пичугин получит 20 лет строгого режима, а Ольга Костина замелькает на экране телевизора и на страницах газет, взахлеб станет рассказывать, как покушались на ее жизнь злыдни из ЮКОСа.
Вся эта перемена собственников, понятное дело, нам опять никак не помогла. Нужные средства так и не появились, однако командовать «Литературкой» стали люди невежественные, бывшие комсомольские функционеры, наварившие в начале девяностых шальные богатства. Уж не знаю, чем они руководствовались, покупая газету, скорее всего распространившейся тогда среди олигархов модой иметь на всякий случай свой печатный орган. Только респектабельное издание, каким лишь и могла оставаться «Литературная газета», новым хозяевам было явно противопоказано, они не принимали его на дух.
Удальцова пристроили на какую-то безбедную должность, а в кресле главного редактора снова замелькали разные люди. Кто-то из них, может, и готов был заняться делом, но при теперешних хозяевах это было совершенно невозможно.
Старые журналисты из редакции ушли, кто — на пенсию, кто — в другие издания. Оставшиеся героически пытались продержаться без регулярной зарплаты. Время от времени они даже старались опубликовать что-нибудь интересное, но публикации эти мало кто замечал. Тираж газеты резко упал, своего читателя она растеряла. Все усилия авторов, и совсем неплохих авторов, чаще всего оказывались впустую. Приток талантливой молодежи в редакцию тоже, разумеется, прекратился, видя, в какое затхлое болото превратилась газета, люди обходили ее стороной.
О поисках своей собственной ниши уже не могло быть и речи. Если что-то и отличало сейчас газету, то отнюдь не свое собственное лицо, а наоборот, всеядность, суетливость, метания из стороны в сторону. Забытым оказалось первое правило литгазетчиков о том, что «простота хуже воровства», все разговоры о наших действительных бедах и пороках сводились теперь к тому, что Чубайс «разрушает в холодной и темной стране ее энергосистему»; что, погнавшись за многопартийностью, «получили Немцова»; что сближение с Белоруссией не клеится, оттого что российские власти «выполняют политический заказ Запада»; а национальному возрождению России мешает «щенячья покорность и преданность в отношениях с „цивилизованными странами“». Чем не избранные места из газеты «Завтра»? Даже стремление «Литературки» выступать в роли защитника преследуемых, которое до каких-то пор все еще сохранялось, с приходом главного редактора Полякова начало утрачиваться безвозвратно. Если когда-то заместитель Генерального прокурора СССР Маляров, тот самый, кто руководил высылкой Солженицына, однажды раздраженно мне сказал: «Все вы Короленки, адвокатская у вас газета», то нынешняя «Литературка» все отчетливее становилась, наоборот, прокурорской. В то время как другие издания, и даже не самые либеральные, писали о дутых, затеянных на пустом месте уголовных делах, «Литературка», случалось, помогала прокуратуре расправиться с таким обвиняемым, поносила его на чем свет стоит, взахлеб льстила Генеральному прокурору. Причем по всем эти поводам печатались огромные, громоздкие, неудобочитаемые статьи, полосы-простыни.
Случилось самое страшное, что может случиться с газетой: она стала неинтересной.
Удивительно ли, что в таком виде газета все меньше и меньше требовалась читателю. Даже в редких киосках, где она еще недавно продавалась, стопки ее теперь неделями лежали нераскупленными.
Сильно ужали и само помещение редакции, загнали ее в несколько комнат на верхнем этаже, а прекрасное здание в центре Москвы, в районе улицы Сретенки, отвоеванное в свое время Чаковским, заполонили самые разные организации. Недавно здесь открыли ресторан «Старый Харбин» — восточный стиль, восточная кухня. Говорят, отменный кабак.
Так «Литературная газета», некогда слава и гордость отечественной журналистики, за несколько лет превратилась в разменную монету, пошла по рукам, погибла. И, боюсь, безвозвратно.
Пессимистом быть пошло́
Завершая свой рассказ о прожитом, о людях, с которыми посчастливилось или, наоборот, не посчастливилось встретиться; о радостях или, наоборот, огорчениях, которые приносила мне моя работа; о редких минутах удовлетворения сделанным, или, наоборот, о печальном подведении неутешительных итогов, когда видишь, чего ты не сделал или что ты сделал не так, короче, оглядываясь назад, я снова и снова задумываюсь: а что же ждет меня, да и всех нас завтра? Куда мы идем и к чему придем? Чем еще огорошит нас прихотливая судьба?
И тут я опять вспоминаю Натана Эйдельмана.
В самых непростых ситуациях он любил повторять, что пессимистом быть пошло. А если кто-нибудь из нас доказывал, что даже сейчас, в благословенные перестроечные времена, жизнь полна ситуаций, которые удручают, порождают разочарования, он говорил: «А что вы хотите? Будут и откаты, и отступления, и возвращения назад. История развивается по спирали».
Сегодняшние беды и тревоги и есть те самые «откаты», о которых когда-то пророчествовал Эйдельман, так быстро они наступили? Пророчествовал-то он пророчествовал, но, защищенный своим мудрым историзмом, я знаю, он все равно никогда бы не смог безмятежно смотреть, как рушатся многие наши надежды.
Умер Натан в ноябре 1989-го, когда первые признаки будущих трагедий уже появлялись. Той осенью мы собрались вместе поехать в Абхазию, в Пицунду. Но перед самым нашим отъездом он сказал, что нет, не поедет, не может. Там уже взялись за оружие, вот-вот прольется большая кровь. Я возразил: «Какое это имеет к нам отношение? В Пицунде все тихо и спокойно». Он рассердился: «Ты ничего не понял. Разве дело в том, что там опасно? Я не могу расслабленно греться на пляже, когда где-то неподалеку гибнут люди».
Проживи он еще несколько лет, и сердце его не раз бы еще сжималось от боли. И причины для того были бы уж куда глобальнее.
Однако убеждению своему, что пессимистом быть пошло, я уверен, он не изменил бы никогда. Ни при каких обстоятельствах. Несмотря ни на что.
Как бы, живя сегодня в новом, чужом для меня времени, научиться всегда следовать этому мудрому эйдельмановскому правилу?





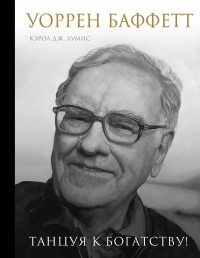



Комментарии к книге «Проскочившее поколение», Александр Борисович Борин
Всего 0 комментариев