Борис Робертович Виппер Итальянский ренессанс XIII–XVI века Том 2
XVIII
В ОБЗОРЕ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ живописи кватроченто нам предстоит теперь познакомиться с тем третьим поколением живописцев, искусство которых служит переходом к Высокому Возрождению. Главный расцвет художников этого третьего поколения падает на последнюю треть XV века, но многие из них захватывают своей деятельностью XVI век, являясь такими же запоздалыми кватрочентистами, как запоздалыми тречентистами были Лоренцо Монако и Сассетта. С 1470 года во Флоренции усиливается политическое влияние патрицианских слоев; вместе с тем крепнут светские течения, стремление общества к изяществу и роскоши. Для искусства тех лет характерны стилизация, архаизация, некоторый схематизм, утонченное эстетство; мелочный натурализм странным образом сочетается с тенденцией романтического ухода от жизни. Характеризуя флорентийских скульпторов того же периода, конца XV века, я назвал их стиль «второй готикой» или «готикой в Ренессансе». Еще в большей степени эти названия применимы к третьему поколению живописцев кватроченто. Важной стилистической предпосылкой ;этой «второй готики», как я уже указывал по поводу скульптуры, Является североевропейское влияние, в особенности более тесное соприкосновение с нидерландской живописью. Главные этапы этого нидерландского влияния таковы. В 1450 году нидерландский живописец Рогир ван дер Вейден посетил юбилейные торжества в Риме и за время своего пребывания в Италии, главным образом Северной, исполнил ряд алтарных икон. В 1468 году урбинский герцог вызывает к себе на постоянную службу нидерландского живописца Иоссе ван Вассенхове, более известного под именем Иоссе ван Гент. Этот Иоссе ван Гент расписывает кабинет урбинского герцога циклом аллегорий и портретов и посвящает своих итальянских коллег в тайны еще мало известной им живописи масляными красками. Наконец, около 1457 года флорентийский купец Томазо Портинари, представитель банка Медичи в Брюгге, заказывает знаменитому нидерландскому живописцу Гуго ван дер Гусу алтарный триптих для флорентийской церкви Санта Мария Нуова. Прибытие этого замечательного произведения нидерландской живописи во Флоренцию встречается в художественных кругах с чрезвычайным восторгом, и центральная часть триптиха-«Поклонение пастухов»-делается для флорентийских художников таким же источником кропотливого изучения, какими в первой половине века были фрески Мазаччо. Общая картина живописи в конце кватроченто гораздо сложнее, чем в начале и особенно в середине века. Рядом с Флоренцией, игравшей такую господствующую роль в начале кватроченто, начинают выдвигаться другие крупные художественные центры. В самой Флоренции скрещивается и борется целый ряд направлений, новых и старых «проблемистов» и «рассказчиков». Но преобладающую роль, дающую отпечаток всей эпохе, несомненно, играют живописцы, которых можно назвать или «стилизаторами», или «символистами». Но прежде чем перейти к их характеристике, осмотримся немного в других направлениях эпохи.
Среди «рассказчиков», продолжающих традиции Филиппо Липпи и Беноццо Гоццоли, на первое место должен быть поставлен Доменико Гирландайо, самый популярный флорентийский мастер фрески в конце XV века. Доменико Гирландайо (Доменико ди Томмазо Бигорди, прозванный Гирландайо) родился в 1449 году, прошел ювелирную школу и выработал свой стиль под воздействием сначала Алессо Бальдовинетти, а затем нидерландской живописи. Насколько сильно в искусстве Гирландайо отразилось влияние нидерландской живописи, особенно Гуго ван дер Гуса, можно видеть на картине «Поклонение пастухов», написанной после появления «Алтаря Портинари» во Флоренции. Для сравнения напомню центральную часть полиптиха Гуго ван дер Гуса. Следует отметить прежде всего существенное отличие от традиционной в итальянской живописи композиции «Поклонение». У итальянцев мадонна расположена сбоку картины, и процессия приближается к ней мимо зрителя, параллельно плоскости картины. У ван дер Гуса мадонна с младенцем занимает центр картины и вокруг них расположены другие фигуры. Отметим далее чисто нидерландский мотив — младенец лежит на земле, и, кроме того, характерные для ван дер Гуса натуралистические типы пастухов. А в картине Гирландайо сразу же бросается в глаза, невзирая на национальные особенности и различия темпераментов, сильная зависимость концепции от «Алтаря Портинари». Не только в угоду новой центрической композиции Гирландайо отступает от итальянских традиций, но он буквально повторяет ряд реалистических деталей своего первоисточника — крестьянские типы пастухов, их жесты, хомут и седло ослика, даже соломенную крышу хижины, подпираемую античными пилястрами (у ван дер Гуса — колонна). Гирландайо не хватает, однако, самых главных свойств нидерландского оригинала — сияющего блеска масляных красок (картина Гирландайо написана темперой), сочного синего тона во всех оттенках, силы света, интимности и глубокой искренности переживаний. Рассказывать он умеет блестяще, но глубины чувства его искусство лишено.
Пожалуй, еще большее влияние нидерландской живописи обнаруживает фреска Гирландайо в церкви Оньисанти, изображающая святого Иеронима. Сама концепция темы, чуждая итальянской живописи — Иероним, ученый монах в своей келье, — полностью восходит к нидерландским образцам. Но здесь Гирландайо стремится заимствовать у северных живописцев не только их внешние приемы, но самый дух — уютную тесноту помещения, задумчиво-интимную позу Иеронима. С совершенно непривычной для итальянца чуткостью к интерьеру и натюрморту подробно описывает Гирландайо обстановку кельи: очки и ножницы, пюпитры и фолианты, скляночки и баночки ученого прелата. Таким образом, природные качества рассказчика у Гирландайо находят себе новую пищу благодаря соприкосновению с северной живописью. Разумеется, искусство Гирландайо в целом можно рассматривать как продолжение повествовательных тенденций Филиппо Липпи и Беноццо Гоццоли. Но нидерландские влияния вносят в них новый оттенок. Для Беноццо Гоццоли всякий рассказ непременно связан с каким-нибудь действием, движением, его композиции всегда нуждаются во всякого рода живых существах. Гирландайо научается рассказывать о темах чисто статических, лишенных всякого движения, и главным элементом его рассказа могут быть мертвые предметы. Но, как настоящий итальянец, Доменико Гирландайо не может удовлетвориться скромными размерами и обособленностью алтарной иконы. Ему нужны большие стены, его повествовательный размах требует пространных фресковых циклов. При этом деятельность мастерской Гирландайо скоро принимает настолько широкий характер, что сам мастер успевает собственноручно закончить только немногие главные фрески, все остальное предоставляя исполнять по своим эскизам многочисленным ученикам.
Четыре больших фресковых цикла составляют главное наследие Гирландайо. Самый ранний из них — украшение капеллы Фины в соборе Сан Джиминьяно, который Гирландайо исполнил совместно со скульптором Бенедетто да Майано. Как на пример сошлюсь на фреску, где папа Григорий возвещает святой Фине ее близкую смерть. Здесь стиль Гирландайо отличается еще известным архаизмом: мастер избегает большого количества фигур, в конструкции которых чувствуется некоторая сухость, нимб святой Фины по тречентистской традиции написан без ракурса. Но уже заметны первые признаки нидерландских влияний: в немного наивном натюрморте, расставленном на скамье, и в ярко освещенном окне, через которое виден пейзаж.
Второй цикл фресок Гирландайо писал для флорентийской церкви Оньисанти. С одной из фресок этого цикла, изображающей святого Иеронима, мы уже знакомы. Другой образец — «Тайная вечеря». И в этой фреске архаизмы смешиваются с нидерландскими впечатлениями. К архаизмам можно отнести плоский нимб у Христа, мелкий рисунок листвы, обилие птиц. Весьма архаично также то, что Гирландайо заставляет Христа подвинуться от середины стола, так как центр картины занят реальной консолью свода. Нидерландские впечатления сказываются в уютном характере трапезы, с вышитой скатертью и тщательно накрытым столом. Нет сомнения, что воздействием нидерландской живописи следует объяснить и предпочтение Гирландайо к интерьеру. Итальянская живопись никогда не имела особого пристрастия к изображению внутреннего пространства. Это понятно, потому что ведь и в жизни итальянца, проходящей главным образом на улице, интерьер играл очень малую роль. Поэтому не удивительно, что в итальянской живописи XV века так цепко удерживались предрассудки треченто — изображение одновременно внутреннего и наружного облика здания. Между тем в Нидерландах уже давно выработалось более цельное восприятие интерьера, и Доменико Гирландайо был одним из первых итальянских живописцев, начавших применять нидерландские приемы для изображения замкнутого внутреннего пространства. Но во фреске «Тайная вечеря» уже больше чувствуется то новое, чем Гирландайо обогатил повествовательный стиль своих предшественников и что делает из него важного предшественника Высокого Ренессанса. Это, во-первых, просторность его пространства, и, во-вторых, более спокойный, уравновешенный ритм его композиции.
Оба эти качества еще более определенно выступают в двух самых знаменитых фресковых циклах Гирландайо — в церкви Санта Тринита и в церкви Санта Мария Новелла. Первый из этих циклов — в Тринита — был начат в 1483 году по заказу флорентийского банкира Франческо Сассетти и в шести фресках изображает легенду святого Франциска. Особенной известностью пользуется правая фреска этого цикла. Ее главная тема — утверждение францисканского ордена папой Гонорием III — изображена на среднем плане. Не совсем логично балдахин, под которым сидит папа, помещен прямо на улице, а между двумя барьерами разместилась коллегия кардиналов. Но не изображение главной темы сделало эту фреску такой знаменитой у современников, а то, что изображено на самом переднем и на заднем плане и что не имеет ничего общего с легендой о святом Франциске. Вы помните, что уже Беноццо Гоццоли наполнял свои фресковые композиции портретами знаменитых современников. Но он рядил эти портреты в костюмы той священной легенды, которая составляла главное содержание его фрески, и переносил эти портреты в соответствующие легенде ситуации. Гирландайо поступает гораздо смелее — он священное событие прямо переносит в обстановку современной Флоренции. На первом плане мы видим группу почтенных флорентийских граждан, принимающих процессию, которая поднимается к ним по подземной лестнице. В этой группе центральное место занимают Лоренцо Великолепный и рядом с ним сам заказчик фрескового цикла Франческо Сассетти. На противоположной стороне — три взрослых сына Сассетти. Во главе процессии идет знаменитый флорентийский поэт Полициано, окруженный сыновьями Лоренцо Великолепного (в том числе и будущий папа Лев X); шествие замыкает поэт Пульчи. И в полном соответствии с этой портретной сценой задний план фрески изображает площадь, похожую на площадь Синьории, с окружающими ее зданиями.
Еще значительно дальше в этой модернизации священного повествования Гирландайо идет в своем последнем и самом большом фресковом цикле — на трех стенах хора в церкви Санта Мария Новелла. Фрески, законченные в 1490 году, по заказу флорентийского богача и мецената Джованни Торнабуони, изображают эпизоды из жизни Иоанна Крестителя и богоматери. В этих фресках нечего искать той композиционной цельности, которую сумел создать на стенах капеллы в Ареццо Пьеро делла Франческа. Не найдем мы в них и драматической насыщенности действия. Они удовлетворяют другим, более житейским потребностям. Впечатление зрителя, вступающего в хоровое пространство Санта Мария Новелла, лучше всего можно было бы сравнить с впечатлениями любознательного обывателя, который уселся у окна и наблюдает различные сцены, сменяющиеся перед ним на людной улице города, или разглядывает, что происходит в квартирах, расположенного напротив дома. Вот перед нами великолепный портик не то церкви, не то палаццо. Разряженные флорентийские девушки остановились в изящных позах у пилястра, два почтенных старика погружены в какой-то деловой разговор, мальчики играют у подножия лестницы, полуобнаженный нищий сидит на ступеньках. И случайно, между прочим, взгляд зрителя падает на девочку, поднимающуюся по ступеням, замечает первосвященника, выходящего ей навстречу из храма, и узнает главную тему фрески — «Введение богоматери во храм».
Во фреске «Введение богоматери» можно наблюдать не только просторность пространства у Гирландайо, но и его несомненную тенденцию свести рассказ к одному пространству, к одному моменту, к одному полю зрения. О сукцессивных приемах рассказа — с повторением на одной фреске одного и того же действующего лица — у Гирландайо не может быть и речи. Но этого мало. В отличие от «рассказчиков» предшествующего поколения, Гирландайо стремится придать и событию и пространству завершенный характер, замкнуть пространство сзади и по возможности с боков. Естественно, что для достижения этой цели интерьер годится лучше, чем пейзаж. И действительно, наибольшей цельности стиль Гирландайо достигает в тех фресках, где изображен интерьер. Особенной славой у современников пользовались две сцены «Рождества» из цикла для церкви Санта Мария Новелла. Первая из них — «Рождество Иоанна Крестителя» — происходит в простой буржуазной спальне. Роженица сидит в постели, кормилица держит ребенка, другая женщина протягивает к нему руки, служанка придвигает столик с угощением к постели, в то время как на переднем плане торжественно двигается процессия кумушек, предводительствуемая молодой женщиной в нарядном платье, с веером, — эта последняя — несомненный портрет. Процессия заканчивается жанровым эпизодом, нарушающим торжественный ритм композиции, — служанкой, порывисто вбегающей в дверь, держа на голове корзину с фруктами. Другое — «Рождество богоматери». Здесь обстановка стала роскошнее и аристократичнее. Скромная буржуазная спальня обратилась в парадный салон с пестрыми пилястрами, драгоценной деревянной обшивкой и фризом путти. В позе полулежащей роженицы больше классического величия, и гости, во главе которых можно узнать дочь заказчика Лодовику Торнабуони, выступают с более чопорной важностью. Но мотив служанки, в быстром движении, словно на ходу, льющей воду из кувшина, по-прежнему вносит в композицию фрески столь характерную для конца кватроченто динамику.
В общем, Гирландайо — художник, не обладающий большой эстетической чуткостью. Менее всего его искусства коснулась та духовная экзальтация, которая свойственна эпохе, и в его фресках легче всего угадать приближение классического стиля, идеального стиля Высокого Возрождения.
Гораздо сильнее дух времени коснулся творчества живописцев, которых, по аналогии с Кастаньо и Уччелло, можно назвать «проблемистами». Со многими из них, например с Поллайоло и Верроккьо, мы уже встретились при обзоре скульптуры. Во главе этой группы следует поставить Алессо Бальдовинетти, художника почти легендарного, так как сохранилось больше литературных свидетельств о нем, чем конкретных произведений его живописи. У современников имя Алессо Бальдовинетти было в большом почете, и через мастерскую Бальдовинетти прошло большое количество выдающихся живописцев эпохи. Но немногочисленные собственноручные произведения Алессо Бальдовинетти дошли до нас в полуразрушенном виде. Алессо Бальдовинетти представляет собой крайнюю разновидность того типа художника-ученого, с которым мы часто сталкиваемся в эпоху кватроченто (родился около 1426-го, умер в 1499 году). Если бы по воле судьбы ему довелось родиться в XIX веке, то он несомненно был бы химиком, или ботаником, или геологом. Но он родился во Флоренции XV века и поэтому сделался живописцем. Художественные проблемы занимают Алессо Бальдовинетти лишь постольку, поскольку они имеют какую-либо научную подоплеку. Так, его занимает проблема колорита, но по большей части со стороны техники, химии. Он изобретает новые красочные составы, подмешивает к фресковым краскам яичный желток и горячий лак — в стремлении добиться яркости красок; но в результате его фрески почти целиком осыпались. Так же настойчиво Бальдовинетти ищет новых красочных сочетаний, задумывается над проблемой дополнительных тонов, разрабатывает основы тонального колорита.
Самая прославленная работа Алессо Бальдовинетти — «Рождество Христово», написанная в портике церкви Сервитов в 1462 году, почти совершенно разрушилась из-за химических экспериментов мастера. То, что от фрески сохранилось, показывает нам живопись Бальдовинетти как сложную смесь натурализма и стилизации. Так, например, остроумно и декоративно стилизованы светлые пятна ангелов и светлый силуэт цветущего дерева. Напротив, с натурализмом почти геологическим показаны напластования каменных пород на склоне холма и выветрившиеся, поросшие мохом кирпичи руины, с ботанической точностью имитирована древесная кора и структура спиленной ветви. В живописи Алессо Бальдовинетти художественные и научные цели начинают явно между собой сплетаться.
Более ясное представление о художественном облике Алессо Бальдовинетти мы получаем по лучше всего сохранившейся его «Мадонне» из Лувра. На первый взгляд эта картина кажется очень близкой к стилю Доменико Венециано и Пьеро делла Франческа (не удивительно, что долгое время она и числилась под именем Пьеро делла Франческа). Но при ближайшем рассмотрении, несмотря на сходство трактовки света и пейзажа, бросается в глаза существенное различие — преобладание линии, ее четкости, ее орнаментальной выразительности. Всюду, где только можно, Алессо Бальдовинетти стремится извлечь из линии каллиграфический нажим, гибкую энергию (в ленте, обвивающей младенца, в вырезе одежды богоматери, в кайме ее плаща). В этой реабилитации линии — решающее значение Бальдовинетти для флорентийской живописи второй половины кватроченто. То же различие мы видим и в пейзаже. Как и Пьеро делла Франческа, флорентийского мастера занимает завоевание пейзажной дали. Но в то время как Пьеро делла Франческа шел к своей цели живописными путями света и тона, Алессо Бальдовинетти завоевывает глубину строго выверенной линейной перспективой: уменьшая размеры облаков и прослеживая спиральные извивы речки среди темных берегов до самого горизонта.
Если о художественных намерениях Алессо Бальдовинетти мы можем лишь догадываться, то с совершенной ясностью они выступают в творчестве младшего современника Бальдовинетти, уже знакомого нам Антонио Поллайоло. Мы знаем Антонио Поллайоло как скульптора и знаем, что главной проблемой, волновавшей его пластическое воображение, была проблема движения человеческого тела. Ту же самую проблему, и, в сущности, только ее одну, ставит себе Антонио Поллайоло и в живописи. Но результаты, которых он достигает в скульптуре и в живописи, весьма различны. Говоря о деятельности Антонио Поллайоло как скульптора, я указывал на то значение, которое линия имела в его пластической концепции; ведь именно во имя этой реабилитации линии Поллайоло вновь вернулся к бронзе. Но в трехмерной скульптуре линия может играть все же только вспомогательную роль — поэтому в статуях и рельефах Поллайоло телесное перевешивает над духовным и линия не приобретает настоящей выразительности. Тем большей экспрессивности линия Поллайоло достигает в его живописи и графике. Как в скульптуре, так и в живописи и в графике Антонио Поллайоло исходит из изучения обнаженного мужского тела. Прекрасным введением в художественные замыслы Поллайоло может служить единственная его собственноручная гравюра на меди, изображающая сражение обнаженных бойцов. На фоне стилизованного леса обнаженные воины представлены по большей части в парных схватках, пускающими в ход кривые мечи, кинжалы и топоры. Не трудно видеть в концепции Поллайоло то же сочетание натурализма и стилизации, какое мы наблюдали у Алессо Бальдовинетти. Фигуры воинов распределены почти симметрично, развернуты широкими силуэтами параллельно плоскости гравюры, но мотивы и движения каждой отдельной фигуры мастер стремится показать с максимально натуралистической разработкой. Его не пугают гримасы злобы и боли, не останавливают вздувшиеся мускулы и искривленные конечности. Его цель — дать впечатление высшей активности человеческого тела, все тело пронизать крайним напряжением энергии, хотя бы и в ущерб гармонии и, может быть, даже правдоподобности движения, что проявляется и в его формальных приемах. При ближайшем рассмотрении его гравюры нам становится ясно, что динамическая энергия его обнаженных воинов относится, в сущности, только к силуэту, к линии, тогда как само-то тело, его пластическая масса остаются еще не развитыми, еще инертными. И с каждым следующим произведением Поллайоло его линии становятся все экспрессивней, все произвольней.
Эта реабилитация линии в творчестве Поллайоло служит сигналом к возникновению целого ряда новых прикладных техник во второй половине кватроченто. Прежде всего — гравюра на меди, которая получила первое распространение именно в мастерской Поллайоло. Это произошло не случайно. В Италии возникновение гравюры на меди тесно связано с традициями ювелирного дела и с техникой литья из бронзы. Переходом к чистой гравюре на меди послужило так называемое «ньелло» — особый вид ювелирной гравировки и чеканки. Техника «ньелло» состояла в том, что в линии гравированного на серебряной пластинке рисунка вплавляли смесь дочерна обожженной ртути, так что после полировки и шлифовки рисунок выступал блестящими черными линиями на светлом металлическом фоне. Первоначально гравированные способом «ньелло» серебряные пластинки имели самостоятельное художественное значение, но затем, около 1460 года, возникла идея (Вазари называет как инициатора флорентийского ювелира Мазо Финигуэрра) делать с «ньелло» отпечатки на бумаге. Естественным следствием техники «ньелло» и ее продолжением возникло во флорентийских ювелирных кругах изобретение гравюры на меди.
Другая прикладная техника, развитию которой способствовал линейный и силуэтный стиль Поллайоло, — это так называемая интарсия, то есть техника выкладной мозаики из различного цвета и различного травления деревянных пластинок. Эта техника, первоначально возникшая несомненно в кругах архитекторов и скульпторов, постепенно стала отходить к области прикладного искусства и завоевала себе во второй половине кватроченто чрезвычайную популярность. Чаще всего ее применяли для украшения свадебных ларей (кассони) и различных шкафов. От орнаментальных мотивов украшений мастера интарсий понемногу стали переходить к фигурным изображениям священного и аллегорического характера. С течением же времени интерес этих мастеров сосредоточился главным образом на создании перспективной иллюзии и их любимыми темами сделались архитектурный пейзаж и натюрморт. В создании натюрморта и пейзажа как самостоятельной области живописи итальянская интарсия сыграла чрезвычайно важную историческую роль.
Наконец, нужно отметить еще одну прикладную технику, которой дал толчок перелом стиля во второй половине кватроченто и которая в мастерской Поллайоло достигла особенного расцвета, — технику вышивок. Наибольшей славой пользовались вышивки в тридцати шести эпизодах, изображающие жизнь Иоанна Крестителя, исполненные по рисункам самого Поллайоло. Первоначально предназначенные для украшения епископских одеяний, эти вышивки теперь отделены от риз и хранятся во флорентийском соборном музее. Но, быть может, еще более сильную реакцию против пластической лепки Мазаччиева стиля и возвращение к стилизованному рисунку обнаруживает другая знаменитая вышивка Поллайоло; она хранится в церкви Сан Франческо в Ассизи и изображает папу Сикста IV перед Франциском на фоне стилизованных дубовых листьев.
Но обратимся теперь к живописным работам Антонио Поллайоло. Здесь в первую очередь заслуживают внимания найденные в конце прошлого века, к сожалению, в очень испорченном состоянии фрески, украшающие стены виллы делла Галлина в Арчетри близ Флоренции. Они изображают танец обнаженных мужчин. Разумеется, идея этой декорации навеяна античным искусством. Но в ней много того субъективного натурализма и той линейной экспрессии, которые свойственны стилю позднего флорентийского кватроченто. Во фресках из Арчетри линейный стиль Антонио Поллайоло получает свое дальнейшее развитие. Оставаясь по-прежнему плоским, декоративно-стилизованным, он приобретает еще большую экспрессивность, еще дальше идет в своевольном искажении анатомической структуры тела. Вместе с тем важна одна особенность стиля Поллайоло. Как в движении отдельных фигур, так и в композиции целого преобладают не статические массы, не прочный тектонический скелет вертикалей и горизонталей (вспомним Мазаччо и Пьеро делла Франческа), а непрерывная динамика диагоналей и зигзагов. Если композиции Мазаччо и Пьеро делла Франческа можно назвать центростремительными, то к композициям Поллайоло гораздо лучше применимо обозначение центробежных. Движение не концентрируется в главном стержне тела и композиции, а расходится, разбегается по углам и конечностям.
Особенно ярким примером такой центробежной композиции в живописи Поллайоло может служить очаровательная картинка лондонской Национальной галереи, изображающая «Аполлона и Дафну». Аполлон преследует Дафну, и в тот момент, когда он ее настиг и готов схватить ее, Дафна превращается в лавровое дерево. Конечно, и здесь Поллайоло прежде всего привлекает проблема резкого движения, динамика стремительного бега; но заметьте, как композиционно разработана эта проблема, как от тела Дафны линии расходятся по всем углам картины, бегут не к центру, а от центра в стороны.
На первый взгляд может показаться, что этому принципу центробежной композиции противоречит самая крупная станковая работа Поллайоло-живописца «Мучение святого Себастьяна», написанная в 1475 году и теперь находящаяся в лондонской Национальной галерее. Но это только первое впечатление. Вглядываясь в композицию, мы замечаем, что центр картины пустует, что все движение расходится по периферии картины и что высоко поднятое тело Себастьяна благодаря устремленным вверх движениям палачей как бы выносится за пределы верхней рамы картины. И здесь, конечно, Поллайоло увлечен своей излюбленной проблемой — движением тела, выражением наполняющей его активности и энергии. Но теперь Поллайоло уже несколько отходит от своего плоского, орнаментального стиля, нимало не теряя, однако, экспрессивности линии. Фигуры палачей образуют кольцо вокруг ствола, к которому привязан Себастьян, их тела показаны в резких ракурсах, их движения развертываются не только по плоскости, но и в глубину.
Характерными примерами динамического, экспрессивного стиля Поллайоло являются две маленькие картинки галереи Уффици. Одна — «Борьба Геракла с Антеем», другая — «Борьба Геракла с гидрой». Эта последняя картинка вместе с тем представляет собой крайнюю степень зигзагообразной, центробежной композиции. Она показывает также, как далеко Поллайоло ушел в смысле завоевания пластической трехмерности тела, в смысле придания движению пространственного характера. Но, ставши трехмерными, тела героев Поллайоло отнюдь не приобрели объема, массы. Напротив, они еще больше вытянулись, сделались еще тоньше, обратились в узел динамических сил. Если прежде это были действительно тела из плоти и крови, то теперь они больше похожи на фантомы, на спиритуализованное излучение энергии. Этот спиритуализм Поллайоло находит себе выход и в другом своеобразном приеме. Фигура и пейзажный фон, слившиеся было воедино в живописи Пьеро делла Франческа, опять отделились друг от друга. Заметьте, что Поллайоло сразу перескакивает от переднего плана к пейзажной дали, минуя средний план. Рядом с мелкими спиралями извивающейся в отдалении речки тело Геракла непомерно вырастает в своих размерах и приобретает сверхъестественную, демоническую силу.
Картинки «Подвиги Геракла» заслуживают нашего внимания и еще в одном отношении — совершенно новым приемом живописной техники. До сих пор итальянские живописцы применяли исключительно светлую, белую грунтовку картин мелом или гипсом. Поллайоло вводит в употребление темную, буро-красную грунтовку, совершенно меняя тем самым подход как к проблеме светотени, так и к подбору красочных оттенков. Чистота локальной краски, так ценимая живописцами треченто, теперь теряет свое значение и уступает место тональному колориту, постепенно вырабатывающему светлую форму из тени. Знаменитая своей мягкостью светотень Леонардо да Винчи, так называемое сфумато, возникла на предпосылках, созданных техническим изобретением Поллайоло.
Особенно ясное представление о роли темной грунтовки дает «Давид» берлинского музея, где фигура Давида светлыми пятнами постепенно возникает из глубокого темно-красного фона.
Резко натуралистический стиль ряда произведений Поллайоло уступает здесь место утонченно грациозной манере. Экспрессивная энергия линии так велика, что она уже больше не нуждается в мотивах стремительного движения. Давид стоит неподвижно, и все же его фигура полна беспокойства — в растопыренной позе преувеличенно тонких ног, в изогнутых пальцах, в подчеркнутой пестроте одежды. Борьба между натурализмом и стилизацией разрешается здесь полной победой стилизации. Гипноз линии оказывается сильнее живых впечатлений натуры. То же можно сказать и о картине «Товий и ангел» из Туринского музея[1]. Преувеличенно тонкие пропорции, жеманность жестов, острый излом линий, подчеркнутая пестрота деталей — все говорит об архаизирующих наклонностях Поллайоло, о близости ему утонченного, спиритуализированного идеала человека.
Только из предпосылок живописи Поллайоло может быть понят стиль крупнейшего мастера «второй готики» — Сандро Боттичелли.
XIX
В истории Флорентийской живописи мы подошли к моменту, который очень напоминает эпоху перелома от XIV к XV веку. Как там рядом с ренессансными, реалистическими тенденциями Брунеллески и Донателло, рядом с живописными реформами Мазаччо действовали вполне готические по своей концепции и приемам мастера вроде Лоренцо Монако, так на рубеже XV и XVI веков одновременно развиваются два направления — пластический стиль Высокого Ренессанса и линейный стиль «второй готики».
Ведущим мастером этой «второй готики» является Сандро Боттичелли. Искусство Сандро Боттичелли испытало в течение веков резкую смену оценок. Его высоко ценили при жизни представители флорентийской знати, однако имя Боттичелли было забыто скоро после его смерти и находилось в полном пренебрежении в продолжение всего барокко и классицизма. Вновь открыли Боттичелли так называемые прерафаэлиты в середине XIX века. В чем же заключается главная притягательная сила Боттичелли? Его рисунок страдает неправильностями, его краски редко бывают приятны. Боттичелли не обладает ни драматической силой ранних кватрочентистов, ни величавой бесстрастностью Пьеро делла Франческа, ни патетическим и монументальным размахом Мазаччо, ни жанровым чутьем Гирландайо, ни экспериментаторским пылом Поллайоло. В искусстве Боттичелли происходит своеобразный синтез средневекового мистицизма с античной традицией, идеалов готики и Возрождения. К нему привлекают именно его двойственность, сомнения, мятежный дух. Присмотревшись к любой картине Боттичелли, можно сказать больше — Боттичелли не занимает ни реальная натура, ни та непосредственная тема, которой посвящена данная картина. Его занимает вообще не то, что происходит в картине, а то, что происходит в нем самом. У Боттичелли содержание отделяется от темы так же, как средства оформления отделяются от самой формы. Картины Боттичелли, если можно так сказать, воздействуют не прямо, а косвенно. Помимо своей непосредственной выразительности они имеют еще скрытое, эмоциональное звучание. Именно в субъективном гипнозе этого косвенного эмоционального воздействия заключается сила и слабость и тайна искусства Боттичелли.
Алессандро Филипепи, прозванный Сандро Боттичелли, родился в 1445 году во Флоренции в семье кожевника. Сначала его отдали в школу. Был он нервным, впечатлительным, обладал неспокойным характером. Оттуда он перешел к золотых дел мастеру, а затем совершенствовался в живописи у Филиппо Липпи и, может быть, у Верроккьо. Своеобразный стиль Боттичелли сложился не сразу и подвергался сильным изменениям. Первое документальное упоминание самостоятельного произведения Боттичелли относится к 1470 году. Это «Аллегория силы», в свое время написанная, вместе с целой серией «аллегорий добродетелей», которую исполнил младший брат Антонио Поллайоло, Пьетро, для здания торгового суда во Флоренции (так называемой mercanzia), а теперь хранящаяся в галерее Уффици. Эта работа не дает почти никакого предчувствия настоящего Боттичелли. Сильное влияние пластического стиля Верроккьо проявляется в ювелирно-жесткой трактовке одежды, в резких бликах на металлическом вооружении, в орнаменте ниши. Широкая, приплюснутая голова женщины с некрасивыми чертами лица восходит явно к женским типам Филиппо Липпи.
Это перекрестное влияние Верроккьо и Филиппо Липпи сказывается и в целом ряде других ранних произведений Боттичелли. Его «Мадонны» и по чертам лица богоматери, и по ее головному убору, и по типам ангелов находятся полностью в русле стиля Филиппо Липпи. То же самое относится к «Поклонению волхвов» лондонской Национальной галереи, которое Боттичелли написал около 1470 года и где он выступает позднее в совершенно не свойственной роли «рассказчика», со множеством мелких фигур, с обилием лошадей, с неизбежным павлином и подробным описанием развалин. Однако в тондо «Поклонение» есть особенности, которые выходят за пределы концепции Филиппо Липпи. Я имею в виду центрическую композицию. В отличие от традиционного в итальянском кватроченто развертывания процессии волхвов мимо зрителя Боттичелли помещает мадонну в самом центре тондо на известной глубине и заставляет толпы поклоняющихся приближаться к ней со всех сторон. Еще самостоятельнее и в более монументальном, пластическом стиле Боттичелли разрабатывает ту же задачу в знаменитом «Поклонении волхвов» из Уффици, написанном около 1476 года. Этой картиной, исполненной по заказу богатого горожанина Джованни Лами для семейной капеллы в церкви Санта Мария Новелла, Боттичелли сразу завоевывает себе имя и находит доступ к кругу Медичи. Дело в том, что за исключением мадонны и Иосифа остальные фигуры композиции представляют собой портреты современников. В виде почтенного старца, склонившегося перед младенцем, изображен сам глава фамилии Медичи — Козимо, другой волхв наделен чертами его сына — Пьеро де Медичи, правой группе фигур предшествует внук Козимо — Джулиано Медичи, а слева, на самом переднем плане, изображен Лоренцо Великолепный, которого обнимает поэт Пульчи. Есть в этой картине и автопортрет самого мастера; и трудно сочетать представление об изощренном искусстве Боттичелли с обликом этого крепко скроенного, грубоватого малого, который надменно смотрит на зрителя. Но как характерен по-своему этот облик! Художник пришел вместе с толпой смотреть чудо и не смотрит, уединился. Портретный характер фигур на «Поклонении» и концепция замкнутого со всех сторон, просторного пространства указывают на то, что Боттичелли коснулось в эту эпоху влияние фресковых циклов Гирландайо. Если бы в этой картине, такой чуждой стилю Боттичелли, с ее крепкой пластической лепкой, с ее прерывистым ритмом — то неподвижных поз, то стремительных движений, если бы стали в ней искать признаки самобытного творчества Боттичелли, то нашли бы их, быть может, только в одном — в орнаментальной непрерывности композиционных линий, которые лучами расходятся во все стороны от главного центра картины.
Первые бесспорные предвестия самобытного стиля Боттичелли обнаруживаются, пожалуй, в «Святом Себастьяне» берлинской галереи. Нет никакого сомнения, что замысел «Себастьяна» был подсказан Боттичелли теми проблемами и приемами, которые разрабатывались в мастерской Поллайоло. Влияние Поллайоло сказывается не только в том, что Боттичелли впервые берется здесь за изображение мужского обнаженного тела, но и в том, как он пользуется уже знакомой нам схемой Поллайоло в разработке пейзажного фона; как, минуя средний план, он сразу переводит глаз зрителя к маленьким фигуркам далекого пейзажа с низким горизонтом, благодаря чему фигура Себастьяна чрезвычайно вырастает в размерах и монументальности. Но в самом понимании обнаженного тела, в самой его трактовке Боттичелли совершенно отступает от концепции Поллайоло. Во-первых, потому что Боттичелли гораздо архаичнее, чем Поллайоло. Его Себастьян поставлен почти фронтально (без смелых ракурсов Поллайоло), он показан темным силуэтом на светлом фоне, и он безволен, пассивен, абсолютно лишен той динамики и активности, которая присуща фигурам Поллайоло. Что архаизм Боттичелли не случайное, бессознательное проявление традиций, а намеренная стилизация, показывает изображение стрел; они параллельны плоскости картины и, что особенно важно, не бросают тени на тело Себастьяна. Это явное пренебрежение к реальной видимости подводит нас к другому различию между Боттичелли и Поллайоло: Боттичелли гораздо одухотвореннее, чем Поллайоло. Его образ Себастьяна излучает грустное, меланхолическое настроение. Но где скрыто это настроение, в чем оно проявляется? И здесь мы подходим к главному свойству искусства Боттичелли, о котором я говорил в самом начале. Выражение грусти проявляется не в лице Себастьяна, не в его мимике и жестах, а в особом ритме поворотов и линий, в своеобразном темном тоне его тела. Не Себастьян мучается, изнемогает от боли, а эмоциями душевной боли самого художника насыщена картина.
Благодаря «Поклонению волхвов» Боттичелли, как я уже говорил, завязывает сношения с Медичи и скоро делается приближенным мастером сначала Джулиано, а потом Лоренцо Медичи. В 1475 году Медичи устроили знаменитую «Giostra», пышное празднество наподобие средневекового рыцарского турнира. Победа в этом турнире была присуждена любимцу и баловню флорентийского общества — Джулиано Медичи, а роль королевы турнира исполняла дама сердца Джулиано — прекрасная Симонетта Веспуччи. Придворному поэту Медичи, Полициано, выпала задача написать оду в честь турнира, тогда как Боттичелли увековечил его героев в ряде портретов и мифологических картин. Но дальнейшая судьба героев блестящей «Giostra» оказалась трагической: Симонетта умерла от чахотки, а Джулиано был предательски убит во время заговора Пацци против Медичи.
Портреты, которые Боттичелли написал с Джулиано Медичи и Симонетты Веспуччи, открывают совершенно новую страницу в истории портретного искусства. Их можно было бы лучше всего назвать «воображаемыми портретами», если бы мы не знали, что Боттичелли писал их с живых моделей. Но задача, которую ставит себе в этих портретах Боттичелли, резко отличается от того детального, осторожного, объективного следования натуре, которое мы находим в современных ему скульптурных портретах. Боттичелли фантазирует на тему, данную ему моделью.
Он стилизует свою модель под тот образ, который уже готов в его фантазии. В портретах Симонетты Веспуччи внимание Боттичелли сосредоточено обычно на волосах модели, из которых он плетет косы, свивает длинные золотые жгуты и рассыпает каскадами светлых вьющихся линий. Фоны портретов Боттичелли обычно представляют собой некоторое архитектурное обрамление — но не в виде реальной глубины комнаты, как, например, на портретах нидерландских живописцев, а в виде чисто декоративного, фантастического сочетания архитектурных линий. Или это угол окна, как на портрете Симонетты Веспуччи, рама которого приходится почти на уровне глаз Симонетты, что придает ее взгляду мечтательный, завороженный характер. Или нарочито неясные, запутанные архитектурные кулисы с колоннами, раскрытыми дверями из невидимых комнат. Обращаю внимание при этом еще на один излюбленный прием Боттичелли, который состоит в том, что освещенная сторона лица вырисовывается на темном фоне, тогда как затененная — на светлом. Все эти приемы направлены к одной и той же цели — лишить портретный образ всякой пространственной опоры, ослабить его телесность и сосредоточить всю его выразительность на силуэте, на спиритуализованной линии. Нигде эта физическая хрупкость, нездешность, соединенная с почти иррациональной выразительностью линий, не проявляется с такой очевидностью, как в женском портрете из галереи Питти во Флоренции, относящемся к периоду наибольшего расцвета искусства Боттичелли — к концу восьмидесятых годов. Обратите внимание на смену темных и светлых фонов, на отделившуюся прядь волос, чертящую рядом темный и светлый узор, на резкий диссонанс темной вертикальной рамы, перерезающей кончик носа, — здесь то косвенное, эмоциональное воздействие живописи Боттичелли, о котором я говорил несколько раз, достигает максимальной силы. Человек сделался орнаментом на картинах Боттичелли. Не физический и духовный образ человека говорит с нами, а смятенная душа самого Боттичелли — через темп линий и ритм цветовых пятен.
Помимо портретов Боттичелли посвятил Симонетте Веспуччи и Джулиано Медичи три свои знаменитые мифологические картины. Как полуромантический эпилог к «Giostra» задумана картина лондонской Национальной галереи «Венера и Марс». Джулиано в образе обнаженного Марса погружен в глубокий сон после рыцарских подвигов, и во сне, как награда за победу, является ему Симонетта в образе сидящей у его ног Венеры. Что это только сон, выдают козлоногие проказники — паниски, завладевшие копьем, шлемом и боевым рогом бога войны. Лондонская картина — единственная в творчестве Боттичелли, в которой мы встречаемся со слабыми намеками на юмор. Но эта юмористическая нотка совершенно заглушена тем меланхолическим тоном, который так свойствен Боттичелли и который господствует на переднем плане — в беспокойно-напряженном взгляде Венеры и в острых изломах тела спящего Марса.
В «Венере и Марсе» ясно ощущается тот декоративно-изысканный и вместе с тем болезненный надлом, который станет столь сильным в поздних произведениях Боттичелли. Уже теперь пропорции его фигур все более вытягиваются, приобретают характерную для Боттичелли хрупкость и ломкость. В колорите, в ранних произведениях Боттичелли таком звучном и сочном, намечается перевес холодных, матовых, нежных тонов, с обилием белого в светах и с произвольными переливами. Если выбор тем как будто свидетельствует об усилении интереса к античной мифологии, то сама концепция этих мифологических образов у Боттичелли, со сложной игрой метафор и аллегорических намеков, говорит, скорее, о возрождении символизма, перекликающегося со схоластически-мистическим мировоззрением средневековья.
I. ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. СВ. ИЕРОНИМ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ ОНЬИСАНТИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1480.
2. ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ ОНЬИСАНТИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1480.
3. ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1485–1490.
4. АЛЕССО БАЛЬДОВИНЕТТИ. МАДОННА. ОК. 1460 Г. ПАРИЖ, ЛУВР.
5. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. БИТВА ОБНАЖЕННЫХ. 1470. ГРАВЮРА.
6. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. АПОЛЛОН И ДАФНА. 1475. ЛОНДОН. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
7. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. ГЕРАКЛ И АНТЕЙ. ОК. 1465 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
8. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. ДАВИД БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.
9. БОТТИЧЕЛЛИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. ОК. 1476–1477 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
10. БОТТИЧЕЛЛИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. ДЕТАЛЬ.
11. БОТТИЧЕЛЛИ. ПОРТРЕТ СИМОНЕТТЫ ВЕСПУЧЧИ. ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ, ИНСТИТУТ ШТЕДЕЛЯ.
12. БОТТИЧЕЛЛИ. ВЕСНА. ДЕТАЛЬ.
13. БОТТИЧЕЛЛИ. ВЕСНА. OK. 1477–1478 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
14. БОТТИЧЕЛЛИ. РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ. ОК. 1483–1484. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
15. БОТТИЧЕЛЛИ. РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ. ДЕТАЛЬ.
16. БОТТИЧЕЛЛИ. ЮНОСТЬ МОИСЕЯ. ФРЕСКА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ В ВАТИКАНЕ. 1481–1482.
17. БОТТИЧЕЛЛИ. КЛЕВЕТА. ПОСЛЕ 1495 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
18. БОТТИЧЕЛЛИ. МАГНИФИКАТ. OK. 1482–1483 ГГ. ДЕТАЛЬ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
19. БОТТИЧЕЛЛИ. РОЖДЕСТВО. 1500. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
20. БОТТИЧЕЛЛИ. ПЬЕТА. ПОСЛЕ 1490 Г. МИЛАН, ГАЛЕРЕЯ ПОЛЬДИ-ПЕЦЦОЛИ.
Эту причудливую смесь античности с готикой мы найдем и во второй картине, посвященной любви Джулиано Медичи. Картина носит название «Primavera» («Весна»). Написанная в конце семидесятых годов для украшения виллы Медичи (по стихотворению Полициано «Турнир»), она находится теперь в галерее Уффици. Царство Венеры изображено в виде цветущей лужайки, окруженной апельсиновыми деревьями. В центре, на фоне полукруглой арки из ветвей, стоит Венера с чертами Симонетты Веспуччи; над ней — Амур, пускающий свои стрелы. Слева — Меркурий; рядом с ним три грации, сплетающие свои руки в медленном хороводе. Справа приближается Весна, сыплющая цветы, и Зефир преследует Флору. В этом фантастическом, зачарованном саду фигуры существуют как бы независимо друг от друга. Прозрачные одежды обнажают тонкие, изгибающиеся тела. Линии ясны и в то же время текуче-нежны. С бесшумной легкостью фантомов мелькают фигуры, и тень невысказанной грусти лежит на всех лицах. Весна — как сомнамбула, взгляд направлен вперед, она не видит окружающего; следы грусти или усталости на ее лице и в движениях. Позы неустойчивы; все чуть касаются земли и друг друга (руки граций). Все движения как бы лишены воли. Композиция построена на еле уловимом диссонансе. С одной стороны, она строго центральна и симметрична, с другой стороны, движение идет справа налево, мимо зрителя. В этом диссонансе композиции, недосказанности настроения, неутоленности движений и скрыта колдовская сила искусства Боттичелли.
Вместе с тем живопись Боттичелли становится все более бестелесной и архаичной. Глубокое пространство и пластическая лепка фигур его ранних произведений сменились плоской, как ковер, игрой декоративных линий. Крайнюю степень этого плоскостного стиля Боттичелли демонстрирует в третьей картине цикла — «Рождение Венеры» (тоже теперь в Уффици). Следует отметить, что, в отличие от всех предшествующих картин, она написана не на дереве, а на холсте. В «Рождении Венеры» Боттичелли заимствует тематическую канву из поэмы Полициано, где описывается прибытие Венеры, рожденной из морской пены, на остров Киферу. Венера полуплывет, полувитает в раковине, подгоняемой дуновением бога и богини ветра, которые сплелись в тесном объятии. На берегу Гора встречает Венеру, готовясь ее закутать в вытканный цветами плащ. Здесь уже можно определенно утверждать, что Боттичелли стремится к полному преображению реальности. Стилизованные листья, складки одежд и волосы, отвесная стена моря со стилизованным орнаментом волн, почти полное отсутствие теней — говорят об этом чрезвычайно красноречиво. И снова диссонансы: между бурным движением по краям и спокойным, плавным контуром Венеры, между центрической композицией и движением, идущим мимо зрителя, между радостью темы и грустью настроения.
Здесь сказывается все большая тенденция к архаизации. Об этом говорят плечи Венеры, удлиненная пропорция фигуры, изогнутый силуэт, витание, устремление, шаткость позы. Возникает своеобразный женский образ: удлиненный овал лица, длинный нос с тонкими, нервными ноздрями, приподнятые брови и широко открытые, недоуменные, мечтательные и как будто страдающие глаза. Все ясней намечается эволюция Боттичелли от языческой чувственности к повышенной одухотворенности; все отчетливей выступает свойственная ему двойственность: неловкости, скульптурной жесткости — и нежной хрупкости, изысканности; архаизма — и острой новизны; линейной точности — и эмоциональности, изменчивости.
Весьма распространено мнение, характеризующее искусство Боттичелли как культ чистой формы, объясняющее его воздействие исключительно из выразительности и ритма линии. Такой взгляд, безусловно, неправилен. Боттичелли один из самых содержательных, поэтически и идейно насыщенных художников. Но его искусство стремится не к прямому, а к косвенному содержанию. Отсюда — предпочтение к аллегорическим и символическим темам. Боттичелли любит размышлять, мечтать, выражаться намеком, символом, но тяготится обязанностью рассказчика, драматурга. Лучшим тому свидетельством могут служить фрески, которые Боттичелли выполнил в 1482 году в Риме, в Сикстинской капелле. К росписи этой капеллы, выстроенной по идее папы Сикста IV и которая впоследствии сделалась ареной деятельности Микеланджело, наряду с выдающимися умбрийскими мастерами (Перуджино, Пинтуриккьо и Синьорелли) были привлечены три флорентийских живописца — Боттичелли, Гирландайо и Козимо Росселли. Боттичелли написал на стенах Сикстинской капеллы три фрески на темы Ветхого и Нового завета. Рим еще усиливает тягу Боттичелли к античной тематике и мотивам; умбрийцы раскрывают ему новые возможности пространственного простора, декоративности и сентимента, экспрессии. Фрески Боттичелли, однако, уступают не только работам умбрийцев, но и Гирландайо — в цельности композиции, в ясности и убедительности рассказа. Напомню сначала фреску Гирландайо из того же сикстинского цикла. Она изображает «Призвание первых апостолов» в обычной для Гирландайо модернизации события многочисленными портретами современников. Композиция Гирландайо, как всегда, немного тяжеловесна, темп медлителен, но картина обладает несомненной цельностью декоративного и тематического замысла; действие выделено монументальной рамой просторного пейзажа, второстепенные эпизоды, разыгрывающиеся в глубине, легко вступают в повествовательную связь с передним планом. Иное впечатление мы получаем от фресок Боттичелли. Характерно прежде всего, что Боттичелли выбирает для себя самые сложные и до сих пор не разработанные темы. В первой фреске, помещенной как раз напротив папского трона, Боттичелли главную тему — «Искушение Христа» — дает в мелких эпизодах на заднем плане, на передний же план выдвигает второстепенный сюжет Нового завета — «Очистительную жертву прокаженного», подчеркивая ее символическое значение. В трактовке этой центральной части композиции Боттичелли бесспорно находится под сильнейшим влиянием Гирландайо и стремится к модернизации евангельского события. Он окружает главных действующих лиц портретами современников, выступающих как зрители очистительной жертвы. В своем подражании Гирландайо Боттичелли идет еще дальше и дважды повторяет любимый Гирландайо мотив служанки: в фигуре молодой женщины, выбегающей с правой стороны картины со связкой дров на голове, и еще раз — в глубине сцены в виде такой же спешащей служанки. По отдельности эти фигуры превосходны, полны свойственного Боттичелли ритма движений, точно так же, как превосходны некоторые портреты (например, белокурого мальчика в темной шапочке). Но как целое композиция страдает поспешностью темпа, неясностью группировок, теснотой пространства и пестротой пейзажа.
Буквально то же самое приходится сказать и о двух других фресках Боттичелли в Сикстинской капелле. Лучшая из них изображает «Юность Моисея» (опять-таки очень редкая тема). Свою тему Боттичелли развертывает по меньшей мере в семи эпизодах, семь раз повторяя фигуру Моисея. При этом горизонт закрыт холмами, на которых Боттичелли и разрабатывает мелкие сцены. Чрезвычайно характерно для Боттичелли, что и в этой фреске главное место уделено не самому драматическому эпизоду и не самому важному в историческом смысле, а близкой духу Боттичелли поэтической идиллии, своего рода аркадской пасторали. В центре фрески рассказывается о том, как дочери жреца Иофора привели своих овец на водопой и как грубые пастухи не пускают их к колодцу; является Моисей, отгоняет пастухов и поит овец девушек.
Эта сцена с характерным для эпохи Лоренцо Великолепного налетом любовной романтики удалась Боттичелли лучше всего и дала ему повод написать две удивительные по хрупкому, нежному изяществу фигуры белокурых женщин. По отдельности удачны и некоторые другие эпизоды, например шествие переселяющихся израильтян или бегство Моисея после убийства, но общий драматический дух рассказа безусловно утерян, целого опять нет.
Все это происходит там, где речь идет о прямом действии, изображении, драме, рассказе, событии, исторической теме. И совсем иначе обстоит дело, когда центр тяжести — на аллегории, символическом намеке, иносказании, настроении, эмоциональном выражении. Тогда у Боттичелли мы наблюдаем полет фантазии, тогда он находит средства для воплощения своей темы. Иногда эта символика имеет даже актуальный политический оттенок: так, в картине «Паллада и кентавр» кентавр воплощает дух распри, раздора, а в укрощении кентавра надо видеть намек на ликвидацию Лоренцо Великолепным внутренних распрей во Флоренции. Но чаще у Боттичелли мы встретим мифологическую символику — античную или средневековую. Между прочим, Боттичелли был одним из первых в Италии художников, которые стали писать картины не только по заказу, но по свободному выбору, для себя, для удовлетворения своей внутренней художественной потребности. Так возникла в начале девяностых годов аллегория «Клевета», картина, которую Боттичелли, по словам Вазари, подарил своему другу, флорентийскому дворянину Антонио Сеньи и которая теперь находится в галерее Уффици. Еще Леоне Баттиста Альберти в своем «Трактате о живописи» рекомендовал вниманию живописцев тему «Клеветы», которую в свое время греческий художник Апеллес использовал в картине, направленной против его соперника Антифила, когда тот оклеветал мастера перед египетским царем Птолемеем. Боттичелли обратился к первоисточнику Альберти — Лукиану, подробно описывающему картину Апеллеса, и, вдохновившись сложной аллегорической темой, написал свою «Клевету». Бурное действие происходит в пышной псевдоклассической застывшей архитектуре, богато украшенной статуями и рельефами; сквозь аркады портика видно неподвижное фиолетово-синее море. На троне сидит судья Мидас, в ослиные уши которого нашептывают его советницы — Невежество и Недоверие. К трону судьи Клевета с факелом в руке влечет за волосы обнаженного юношу. Хитрость и Обман украшают волосы Клеветы, ей предшествует мрачная фигура Зависти в темных лохмотьях. Позади процессии отдельную группу составляют Раскаяние в образе зловещей старухи и обнаженная Истина, тщетно взывающая к небесам. В этой картине противоречивая природа творчества Боттичелли особенно резко бросается в глаза. Если символы и понятия Боттичелли и заимствовал у Лукиана, то та общая духовная концепция, в которой они преломились на его картине, не имеет ничего общего с античным пониманием темы. В резких красках, в судорожностремительных движениях, в контрасте отягощенно-пышной архитектуры с оголенным пейзажным фоном отражается совершенно чуждое античному мировоззрению эмоциональное напряжение. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на своеобразный принцип композиции, который Боттичелли применяет в аллегории «Клевета» и который делается излюбленным приемом живописцев «второй готики». Этот принцип можно было бы назвать принципом «полярной или контрастной симметрии». Он состоит в том, что в правой и левой половине картины красочные пятна распределяются симметрично по своему силуэту и контрастно по своему световому или тональному значению. Так, правая группа судьи и его приспешниц более или менее соответствует по общему силуэту группе Истины и Раскаяния; но — светлой Истине противопоставлено темное Недоверие, и темному по тону плащу Раскаяния противопоставлена холодная мантия царя. Очень часто этот принцип полярной симметрии проведен не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. Так, затененным сводам в левой верхней части композиции противопоставлены светлые ступени в правой нижней части и т. п. Эта гармония, вытекающая из диссонансов, в высокой мере характерна для стиля Боттичелли, основанного на эмоциях, не на интеллекте.
К концу восьмидесятых — началу девяностых годов относится целый ряд популярных картин Боттичелли с изображением мадонны. Большинство этих картин исполнено в излюбленном эпохой формате тондо и представляет собой неистощимые вариации на одну и ту же тему — богоматерь с младенцем, окруженная группой поющих и славословящих ангелов. Есть среди них тондо, изображающие мадонну во весь рост и в полуфигуру; иногда присоединяется юный Иоанн Креститель; архитектурные фоны чередуются с пейзажными. С изумительным мастерством Боттичелли подчиняет композиционные линии круглой раме и находит все новые и новые комбинации группировок, эмоциональный ритм линий. В образе мадонны — чаще всего глубокая нежность и скорбь, выраженная самим наклоном головы; она поднимает брови, изгибает губы, широко раскрывает глаза; сначала на ее лице меланхолическая улыбка, потом — отчаяние. Все аскетичнее становятся образы, все стилизованней и архаичней язык форм.
Наиболее сложное и совершенное разрешение проблемы дает мадонна из Уффици, так называемая «Magnificat» («Величание Марии»), написанная в 1482–1485 годы. Здесь центр картины свободен и движения фигур концентрическими кругами вписаны в раму тондо. Орнаментальное соподчинение фигур в «Магнификате» проведено так последовательно, как будто Боттичелли хотел воплотить в фигурах мадонны и ангелов абстрактные представления о небесных сферах и мистических числах.
Но эта абстрактная, орнаментальная символика вместе с тем пронизана мелодией нежнейших эмоций. Мадонна, погруженная в мысли, записывает слова псалма — «Magnificat anima mea dominum» — в книгу, которую держит один ангел, и пользуется при этом чернильницей, которую держит другой ангел. Обратите внимание, как переплетаются прикосновения рук и как взгляды связывают одну фигуру с другой, нигде в то же время не встречаясь. Младенец смотрит на богоматерь. Богоматерь на книгу, первый ангел на второго, второй на третьего, а третий снова на мадонну. Раз в нее попав, зритель уже не может освободиться от этой сети перекрестных эмоций, которая его держит в гипнотическом плену.
Постепенно образы Боттичелли становятся все более аскетическими, язык форм все стилизованней и примитивней. Особенно ярким примером этого аскетического и в то же время мистически-экзальтированного стиля Боттичелли, его спиритуалистической экспрессии могут служить его рисунки к «Божественной комедии». В девяностые годы Боттичелли получил от племянника Лоренцо Великолепного, тонкого эстета Лоренцо ди Пьер Франческо де Медичи (того самого, которому принадлежали «Весна» и «Рождение Венеры») заказ на иллюстрации к рукописному экземпляру «Божественной комедии» Данте. Боттичелли исполнил около ста рисунков серебряным карандашом (с обведенными пером контурами), посвятив каждой песне поэмы по одному рисунку. Теперь этот рукописный кодекс, в котором сохранилась большая часть рисунков, находится в Берлинском кабинете гравюр и в Ватикане. Сама идея вернуться к рукописным иллюстрациям в эпоху развития книгопечатания и гравюрной техники ясно говорит об архаизирующих вкусах, царивших в кругу Медичи. Тем же духом проникнуты сами иллюстрации Боттичелли. Мастер довольствуется контурным рисунком, ограничивается часто только намеками на события и ситуации и постоянно пользуется сукцессивными приемами рассказа. Фигуры, по большей части довольно мелкие в иллюстрациях к «Аду», становятся крупнее в иллюстрациях к «Чистилищу» и особенно к «Раю», а их количество уменьшается. Графический стиль Боттичелли совершенствуется по мере продвижения работы. В иллюстрациях к «Аду» и «Чистилищу» Боттичелли стремится буквально следовать словам текста и видит свою цель в правдивом воспроизведении воспетых Данте событий. В иллюстрациях к «Раю» Боттичелли уже отказывается от точного сопровождения текста и воплощает в своих рисунках те моменты и переживания, которые в поэме непосредственно не описаны и которые можно прочитать только между строк. Иллюстрации к «Раю» состоят почти исключительно из двух фигур — Данте и Беатриче — из их диалогов, в которых Беатриче то поучает своего спутника, то ободряет его, то влечет его за собой в полете по небесным сферам. Здесь Боттичелли избегает всяких указаний на реальность пространства и фигур и дает как бы только сокращенные оптические символы — например, впечатление полета Беатриче и Данте усилено очертаниями тонких деревьев, гнущихся от ветра (наперекор природе) в обратную сторону. Или в другой иллюстрации к «Раю» — языки пламени, ослепляющие Данте, показаны отвлеченным орнаментом на белой поверхности пергамента; различие между телесным существом Данте и астральным существом Беатриче выражено исключительно различиями штриха, сплошного в одном случае и прерывистого, вибрирующего в другом. Рисунки Боттичелли к «Божественной комедии» не сразу оказывают воздействие на зрителя. Но тот, кто имел случай рассматривать их параллельно с чтением поэмы, невольно должен был поддаться их почти метафизическому внушению. Боттичелли ставит себе здесь задачу, совершенно неприемлемую для концепции Ренессанса. Возвышенный полет мысли Данте он пытается истолковать в своих рисунках не путем воссоздания конкретных образов, а путем воплощения в графических формах самих абстрактных идей и настроений поэта. Возникает странное противоречие между мощными, величаво-трагическими, потрясающими образами Данте и тонкой, чувствительной, трепещуще-хрупкой, абстрактно-символической паутиной графики Боттичелли.
Чем же вызван перелом в мировоззрении Боттичелли? Чем порожден своеобразный поздний стиль этого художника?
В конце XV века Флоренция испытывала социальные потрясения, переживала политический и культурный кризис. В 1492 году умер Лоренцо Великолепный, главный покровитель Боттичелли; через два года скончался его советник по вопросам культуры и друг Боттичелли — Полициано. Пьеро, Джованни и Джулиано Медичи бегут из Флоренции, страшась народного гнева, поднятого Савонаролой. В конце 1494 года во Флоренцию вступает французский король Карл VIII во главе войск; подвергаются разграблению дворец Медичи и библиотека Сан Марко. Гибнет все, что любил художник.
Партия Савонаролы завладела властью в городе. Была принята демократическая конституция. В патетических проповедях обличалась тирания Медичи, развращенность папства, верхов флорентийского общества, погрязших в «языческом зле»; проповеди были направлены также против упадка религии и нравственности, против гуманизма и «дьявольской» культуры Ренессанса. Идеал видели в возвращении в лоно христианской религии в простом, народном понимании, к благочестивым временам церковного феодализма (как казалось Савонароле и Боттичелли). Недавно еще праздничная и ликующая Флоренция под влиянием речей Савонаролы превращалась в кающуюся и плачущую (сторонники Савонаролы так и назывались piagnoni — плакальщики).
Сохранившийся в фрагментах дневник брата художника Симоне Филипепи подтверждает огромное впечатление, произведенное проповедью и трагической гибелью Савонаролы на восприимчивую натуру Боттичелли. Боттичелли отрекается от всей своей предшествующей деятельности, от своих излюбленных тем и приемов и стремится удовлетворить требованиям, предъявленным суровым монахом к искусству: отказу от изображения обнаженного тела, от использования живых моделей, от пышных одежд, даже от писания портретов. Внушение Савонаролы было так велико, что, по словам Вазари, в костер, на котором Савонарола хотел подвергнуть сожжению все предметы роскоши (музыкальные инструменты, театральный реквизит), Боттичелли самолично бросил некоторые свои картины. Отныне Боттичелли пишет картины в основном на религиозные сюжеты, подчеркивая в них или трагические, или мистические моменты.
Еще более сильное воздействие на Боттичелли оказала смерть Савонаролы, его сожжение на костре в 1496 году (Савонарола был сначала повешен на помосте перед Синьорией, потом сожжен). Это потрясло художника, пробудило в нем болезненный мистицизм и стремление реабилитировать память монаха. Боттичелли впал в глубокую, трагическую меланхолию. Его поздние произведения отличаются резким, холодным колоритом, искажением форм.
Начинает последний период творчества Боттичелли знаменитая «Пьета» (Плач над телом Христовым), написанная в 1490-е годы и теперь находящаяся в галерее Польди-Пеццоли в Милане. Это, несомненно, самое глубокое произведение Боттичелли и одно из самых потрясающих в истории итальянской живописи. Боттичелли дает в своей картине, если так можно сказать, застывший орнамент отчаяния и скорби. Ни в пропорциях, ни в позах фигур мастер не считается с реальной действительностью. Все его вдохновение направлено к тому, чтобы потоком непрерывных линий связать фигуры вместе, в одно духовное существо и чтобы поворотами их голов, сплетениями их рук, безжизненностью холодного колорита выразить обморочное бессилие скорби. Уже в этой композиции, в ее вертикальном нагромождении, в ее плоскостном характере ясно чувствуется, как наряду с религиозным пафосом усиливается элемент архаизации в творчестве Боттичелли. Но та степень архаизации, которую мастер применяет в миланской «Пьете», кажется ему недостаточной. Здесь фигуры еще слишком велики и поэтому слишком телесны и осязательны, здесь еще слишком ощущается реальность пространства и реальная сила света.
В произведениях последних десяти лет жизни мастера (Боттичелли умер в 1510 году) формальная упрощенность его концепции приводит к почти полному отказу от живописных завоеваний кватроченто. Таково, например, «Рождество Христово», написанное, вероятно, в 1500 или 1501 году и хранящееся в лондонской Национальной галерее. Эта сцена поклонения Христу задумана не в том повествовательном стиле, как ее любили трактовать живописцы кватроченто, а в мистически-символическом понимании раннего средневековья. Хотя фигуры и окружены со всех сторон пейзажем, но картина лишена пространственной глубины и вся развертывается как пестрый, стилизованный узор на переднем плане. Композиция разбивается на четыре горизонтальных пояса, уравновешенных в почти полной симметрии. Наверху — хоровод ангелов, затем на соломенной крыше хижины — три ангела, поющих «gloria in excelsis», далее — святое семейство, к которому слева приближаются волхвы, а справа пастухи, и, наконец, в нижней полосе — три пары ревностно обнимающихся с ангелами людей, в то время как маленькие чертенята в ужасе спасаются в щелях скалы. В каждом мотиве этой картины проявляется наивная искренность словно детской фантазии, подобную которой мы найдем разве только в пределлах Пезеллино; неловкая стремительность, с которой ангелы и монахи бросаются друг другу в объятия, развевающиеся тонкие ленты с надписями, символические короны, которые бросают с неба ангелы, — весь этот примитивный иконографический аппарат кажется таким готическим анахронизмом, особенно если мы вспомним, что всего, может быть, восемь лет отделяют эту картину Боттичелли от Сикстинского потолка Микеланджело и фресок Рафаэля в Ватикане. Но процесс архаизации в творчестве Боттичелли не останавливается даже на этой стадии. В духе художника происходит настоящее перерождение. Он начинает действительно чувствовать, мыслить и видеть, как средневековый иконописец. Из архаизатора он обращается в настоящего архаика. Об этом красноречиво свидетельствует последняя дошедшая до нас его работа — четыре сцены из жизни святого Зиновия (две из них хранятся в лондонской Национальной галерее, одна в Дрездене и одна в нью-йоркском музее Метрополитен). Если забыть о точности перспективного построения и о классическом характере архитектурных форм, то перед нами — чистейший образец живописи треченто во всей наивности чувств и художественных приемов. Многократное повторение главного героя повествования, удлиненные пропорции, пестрота локальных красок, полное отсутствие моделировки, абсолютная нереальность света — подобную совокупность признаков мы найдем, пожалуй, только в доджоттовской живописи. Однако в цикле святого Зиновия есть один момент, который выводит концепцию Боттичелли за пределы и Ренессанса и готики. Этот момент еще сильнее чувствуется в другой картине цикла, находящей в Дрезденской галерее. Обратите внимание, что в этой композиции нет ни одной спокойной фигуры — все суетятся, бегают, кричат, жестикулируют; даже у постели умирающего епископа не умеряется суетливое беспокойство. Подобное накопление тревоги, нервного сотрясения, диссонансов не только в корне противоречит стилю Ренессанса, но его не знает в такой мере и живопись треченто. Очевидно, что Боттичелли не нашел в примитивном искусстве полного удовлетворения своему религиозному чувству. Его новая вера, пробужденная проповедями Савонаролы, требовала и новых форм выражения, которых не могли заменить рецепты примитивов. Но и его собственная фантазия была бессильна создать эти новые формы для охватившего его религиозного пафоса. И как бы в сознании своего бессилия, своей оторванности от эпохи, Боттичелли совсем бросает кисть в последние годы своей жизни. Боттичелли представляет собой первый в истории европейского искусства пример художника, ставшего жертвой глубокого конфликта между собственными идеалами и стилем эпохи. Умер он в нищете, заброшенный и одинокий.
Одна из поздних работ Боттичелли полна глубокого символического значения — «Покинутая» (в частном римском собрании Паллавичини). Это как бы символ конца флорентийского кватроченто. У громадной стены с запертыми бронзовыми воротами сидит женщина; у нее распущены волосы, она закрыла лицо руками, на ступени брошена одежда. Господствует настроение трагического одиночества, безвыходности, все кончено — глухая стена, запертые ворота, безнадежность. Так должна была чувствовать себя флорентийская интеллигенция конца XV века, пережившая блеск Медичи и падение Савонаролы, предчувствовавшая неизбежность конца политической и культурной роли Флоренции.
Боттичелли — не единственная жертва конфликта эпохи. Наряду с ним еще целый ряд выдающихся флорентийских живописцев оказываются болезненно затронутыми этим конфликтом. Но они иначе реагировали на него в своем искусстве, чем Боттичелли. Если у Боттичелли перелом мировоззрения выразился в отречении от всех прежних, юношеских идеалов, в бегстве к примитивам и, наконец, в полном отказе от творческой деятельности, то большинство сверстников Боттичелли пытается разрешить конфликт путем дальнейшего развития и максимального напряжения его эмоциональной концепции, путем извлечения из нее всех ее художественных возможностей.
Здесь в первую очередь нужно назвать ученика Боттичелли, сына уже знакомого нам Филиппо Липпи, в отличие от отца, прозванного Филиппино Липпи. Он родился в 1457 году и пятнадцати лет вступил в мастерскую Боттичелли. От своего отца Филиппино унаследовал повествовательную жилку, а в мастерской Боттичелли усвоил себе экспрессивное ведение линии. И в его живописи эмоциональное начало играет господствующую роль. Но оно приняло у Филиппино несколько иные, более телесные и более динамические формы. У него нет творческого огня Боттичелли, он более нервный, мягкий, болезненно-эмоциональный. Ранние произведения Филиппино, относительно спокойные и интимные, овеяны нежной, поэтической романтикой. Особенно это относится к замечательной картине «Явление богоматери святому Бернарду», написанной около 1486 года и хранящейся в Бадии во Флоренции. Согласно легенде, святой Бернард писал жизнеописание богоматери и, утомленный, не мог довести его до конца; тогда ему явилась богоматерь и вдохнула новые силы для работы. Этот момент и изобразил Филиппино в своей картине, прибавив внизу полуфигурный портрет заказчика и наверху — монахов, тщетно ищущих и зовущих святого Бернарда. То чутье робкого и хрупкого изящества, с которым отождествляется обычное представление об искусстве кватроченто, вряд ли еще где-нибудь нашло такое совершенное выражение, как в этой сравнительно ранней картине Филиппино: в тонких профилях, в длинных, одухотворенных руках, касающихся кончиками пальцев, в наивном любопытстве ангелов. Однако уже и здесь намечаются признаки того беспокойного напряжения, которое свойственно дальнейшей деятельности Филиппино Липпи, может быть, еще в большей степени, чем Боттичелли. Например, как Филиппино нагромождает бесчисленные мелкие уступы скал и из каждой расщелины заставляет высовываться кустик или травку. Линейное беспокойство передается и колориту. Филиппино Липпи, несомненно, более одаренный колорист, чем Боттичелли. Но и в колорите он стремится не к гармонии, а к сложности, к достижению отдельных оптических эффектов. В этом смысле очень интересны его нимбы. Филиппино трактует их здесь не как сквозные золотые ободки, а как полупрозрачную, зеркальную поверхность, в которой реальные предметы отражаются и преломляются чудесным образом.
Нарастание беспокойства и динамики видим также в «Благовещении» из Сан Джиминьяно. Любопытно, что Филиппино Липпи возвращается к старинному приему раздельного изображения богоматери и ангела в двух самостоятельных картинах, причем обособленность этих двух тондо подчеркнута чрезвычайно сложным и хитроумным перспективным приемом: богоматерь и ангел находятся в одном и том же пространстве, но это пространство изображено под разными углами зрения (один раз мы видим цоколь параллельным к плоскости картины, другой раз — под прямым к ней углом). Фигуры отличаются таким же хрупким изяществом, но теперь они скрыты под пышными, тяжелыми одеждами, разбрасывающими во все стороны свои ломкие складки.
Максимума динамики, формальной и повествовательной взволнованности, нервной взвинченности стиль Филиппино достигает в середине девяностых годов. Об этом свидетельствует «Поклонение волхвов», теперь находящееся в Уффици. Филиппино написал эту картину в 1496 году по заказу монахов монастыря Сан Донато близ Флоренции взамен того знаменитого «Поклонения волхвов», которое пятнадцатью годами раньше было заказано Леонардо да Винчи, осталось незаконченным и теперь тоже хранится в Уффици. Это обстоятельство нужно принять во внимание. Оно показывает, что Филиппино Липпи уже нельзя рассматривать как предшественника Высокого Ренессанса, что он является в полной мере современником классического искусства, хотя его творчество и развивается в оппозиции к классическим идеалам. В композиции «Поклонения» Филиппино, безусловно, обнаруживает параллели к классическому стилю, в известной степени он даже использует уроки самого Леонардо. Мадонна находится в центре поклоняющихся, толпа пилигримов приближается к ней со всех сторон, теперь не только с боков, но и спереди; главные фигуры — мадонны, волхвов, как у Леонардо, образуют пространственную пирамиду; формы вылеплены крепкой светотенью. Однако все эти приемы классического стиля использованы как будто только для того, чтобы их потом раздробить и нарушить. Благодаря обилию беспокойно жестикулирующих фигур, благодаря мелким, но отчетливо показанным подробностям дальнего плана, благодаря, наконец, мигающей пестроте красок и световых бликов вместо концентрации получается децентрализация движений и впечатлений. Центробежность композиции, которую мы отметили уже у Поллайоло, обращается у Филиппино в настоящий хаос. Но именно в хаотическом беспорядке движений поколение Филиппино и видело залог жизненности изображения. То же самое относится и к отдельным фигурам, к отдельным головам у Филиппино Липпи. Филиппино — великолепный портретист. Как и во фресках Гирландайо, большинство фигур в композициях Филиппино представляет собой портреты современников. Но в то время как Гирландайо ограничивается пассивным, статическим сходством с моделью, Филиппино стремится к выразительному, эмоциональному портрету. В каждой его голове схвачена мимика определенного момента, определенного психологического мотива. Однако заметьте, что все эти мотивы совершенно обособленны, индивидуальны в своей экспрессии, что Филиппино сознательно изолирует их, не сливая в одну общую, коллективную экспрессию, как того требовал классический стиль.
Красноречивым примером резкой оппозиции к классическому стилю может служить также «Аллегория музыки» из Берлинских музеев. Ветер треплет тунику и плащ музы множеством мелких закругляющихся складок, круглыми спиралями вьются синяя лента лебедя и алые ленты амуров, светлыми завитками поблескивают травки и пенящиеся гребни фиолетовых волн. Ни минуты покоя в непрерывном трепетании натуры. Если классическое искусство олицетворяло бы музыку в виде мощного, сплошного нарастания мелодии, то в концепции Филиппино музыка представляется в виде брызгающей каскадами колоратуры.
Как и у Боттичелли, главным полем деятельности Филиппино Липпи является станковая картина. Но в зените своего творческого развития (Филиппино умер в 1504 году) мастеру пришлось испробовать свои силы и в большом фресковом цикле. В капелле Строцци, в церкви Санта Мария Новелла на рубеже XV и XVI веков Филиппино пишет фрески, посвященные легендам апостолов Иоанна и Филиппа. Стиль этих фресок можно было бы характеризовать как барочный — столько в них эмоционального напряжения, беспричинной динамики, в такой мере крайний натурализм переплетается с декоративным своеволием. Во фреске «Воскрешение Друзианы» есть несомненные элементы классического стиля. Фигурная композиция в виде рельефа развертывается на переднем плане; фигуры потеряли бестелесность, удлиненность пропорций, свойственную ранним произведениям Филиппино — они, скорее, коренасты, крепко сложены и пластично моделированы; в архитектурных кулисах преобладает излюбленный мотив классического стиля — круглое здание. И тем не менее общий дух концепции Филиппино решительно противоречит идеалам классического стиля. С одной стороны — резкий натурализм отдельных деталей: череп в изголовии носилок, тривиальный жест апостола — словно доктор, щупающий пульс пациентки, типы носильщиков в виде свирепых бродяг. И с другой стороны — стилизованная стремительность, преувеличенная экспрессивность движений, размахивание руками, развевающиеся одежды. В погоне за экспрессией Филиппино превратил священное событие в бьющую по нервам уличную сенсацию.
Во второй фреске Филиппино изображает «Святого Филиппа, заклинающего демона». Легенда рассказывает о пребывании апостола Филиппа в Скифии. Язычники привели его в храм Марса. Из расщелины в постаменте выползает дракон, своим ядовитым дыханием убивает сына царя и отравляет смрадом всех присутствующих. Святой Филипп приказывает дракону удалиться в пустыню. С какой, хотелось бы сказать, судорожной болтливостью, с какой смесью наивного натурализма и декоративной пышности Филиппино рассказывает о событии. Каких только деталей не нагромождает он для придания античного колорита обстановке — тут и римские гротески, и знамена, и канделябры, и трофеи, и гермы, и, наконец, сама статуя Марса в полном вооружении легионера, словно танцующего в паре со львом на постаменте! Характерно, что фрески Филиппино в Санта Мария Новелла заслужили самый восторженный отзыв Вазари, типичного представителя маньеризма, в своих воззрениях и в своем творчестве порвавшего с традициями Высокого Ренессанса. В виде особой похвалы Филиппино Вазари рассказывает, между прочим, анекдот: будто расщелина в постаменте была написана так натуралистически, что один из учеников Филиппино хотел туда спрятать какой-то предмет и задвинуть его камнем.
Но наиболее крайних пределов своей барочной фантазии Филиппино достигает во фреске цикла, изображающей «Мучение святого Филиппа». Не только развевающееся знамя, не только с резким натурализмом трактованные преступные типы палачей говорят об антиклассической концепции Филиппино. Но в основном мотиве своей композиции — в идее водружения креста — Филиппино создает динамическую проблему, которая только значительно позднее, в лице Тинторетто и Рубенса, нашла своих настоящих истолкователей. Искусство Ренессанса допускало изображение распятия только фронтально и только в виде прямой вертикали креста. Филиппино ставит крест в ракурсе, под углом, уравновешивая его диагональ другими диагоналями — лестниц и канатов. Подобный диссонанс, неустойчивое равновесие, разрешение которого может совершиться только в следующий момент, в корне противоречит принципам классического искусства и, напротив, составляет один из самых популярных композиционных приемов барокко.
Таким образом, историческое положение Филиппино Липпи можно определить следующим образом. От направления «второй готики», воплощенного в живописи Поллайоло и Боттичелли, творчество Филиппино Липпи создает известный переход к тенденциям, родственным маньеризму и даже барокко, минуя этап Высокого Ренессанса. Иными словами, антиклассические тенденции не потеряли своей силы даже в эпоху наибольшего торжества классических идей.
Прежде чем мы на время покинем Флоренцию в обзоре искусства кватроченто, нам нужно познакомиться с мастером, искусство которого выполнило историческую роль, аналогичную Филиппино Липпи. Я имею в виду Пьеро ди Козимо. Но при известном сходстве художественного творчества Филиппино Липпи и Пьеро ди Козимо, различие между ними заключается в том, что Филиппино воспитался в традициях кватроченто и умер в самом начале расцвета классического искусства; Пьеро же ди Козимо вырос на предпосылках классического стиля, пережил его и все же остался кватрочентистом. Пьеро ди Козимо родился в 1462 году, то есть на десять лет позднее Леонардо да Винчи, и умер в 1521 году, пережив и Леонардо, и Рафаэля, и «золотой век» Высокого Ренессанса. Пьеро был учеником флорентийского живописца Козимо Росселли, от которого и получил свое имя — Пьеро ди Козимо. В его искусстве можно найти следы влияния Боттичелли, но еще больше — Леонардо да Винчи. Вазари рисует Пьеро ди Козимо чудаком и выдумщиком, склонным ко всякого рода причудам, и страстным любителем природы. По всей вероятности, однако, Пьеро ди Козимо был не большим чудаком, чем всякий человек, выпадающий из ритма своего времени, живущий в обособленном мире своей фантазии. Вазари рассказывает, что Пьеро ди Козимо особенно прославился устройством всякого рода карнавалов, маскарадов, триумфальных шествий. Особенно одно карнавальное шествие запомнилось современникам, которое Пьеро ди Козимо устроил в 1511 году. Темой этого карнавала была колесница Смерти. Пьеро, рассказывает Вазари, изготовил ее тайно от всех в зале папы, и ее увидели только тогда, когда она появилась, украшенная белыми скелетами и крестами и влекомая черными буйволами. На колеснице стояла исполинская фигура Смерти с косою в руке; на краях колесницы видны были закрытые гробы. Эту сцену издали освещали факелы, несомые лицами в масках и черных одеждах, на которых белой краской были написаны все части скелета. Мертвецы под звуки глухих и хриплых труб подымались из своих могил и пели гробовыми голосами «Скорбь, плач и покаяние». Это странное зрелище своей новизной и своими страстями нагнало немало ужаса на жителей города. Но, в сущности говоря, это зрелище не было ни странным, ни новым. Оно было верным повторением тех жутких процессий, которые полтора века назад население Флоренции устраивало в годы страшной чумы, посетившей тогда Италию, и которые нашли свой драматический отзвук в знаменитой фреске пизанского кампосанто.
Вазари рассказывает с легкой усмешкой и о других странностях Пьеро ди Козимо. О том, как он любил дождь, с каким удовольствием смотрел на дождевые струи, стекающие с крыши и брызгами разбивающиеся о землю. О том, как Пьеро боялся грозы, как при первых ударах грома закрывал окна и двери, кутался в плащ и садился в угол. Наконец, о том, как Пьеро любил свой запущенный сад и никому не позволял наводить в нем порядок. Но что здесь странного и чудаческого? Только то, что художник полон чувств болезненной горечи, одиночества и пессимизма. Только то, что отношение Пьеро ди Козимо к натуре глубоко противоположно мировоззрению Ренессанса. В то время как художники Ренессанса сосредоточивают весь свой интерес на человеке, на проявлениях его воли, его действий, на преодолении природных сил своей логикой, Пьеро ди Козимо чувствует себя органически слитым с природой и всем своим искусством пассивно погружен в стихийную жизнь природы.
Это романтическое одухотворение природы Пьеро ди Козимо переносит и в свою живопись. Окруженные произведениями Высокого Ренессанса картины Пьеро ди Козимо производят, безусловно, странное впечатление. Но их странность, если можно так сказать, не абстрактна, не абсолютна, а относительна. Они странны потому, что, напоминая многими своими свойствами то Боттичелли, то Леонардо, то фра Бартоломео, по существу не имеют с ними ничего общего. Возьмем для примера одно из самых известных произведений Пьеро ди Козимо — «Портрет Симонетты Веспуччи». Здесь живопись Пьеро ди Козимо более всего напоминает Боттичелли. И там и здесь мы имеем дело с фантастическим, воображаемым, экспрессивным портретом. Как Боттичелли, Пьеро ди Козимо стилизует острый профиль Симонетты; еще дальше, чем Боттичелли, он развивает мотив сходства кос Симонетты со змеями, обвивает ее грудь спиралями живой змеи и в орнаменте шали, окутывающей ее плечи, подчеркивает иллюзию змеиной чешуи. Но есть и очень важное отличие. У Боттичелли все внимание сосредоточено на человеческом образе, на самой Симонетте. Пьеро ди Козимо гораздо больше интересует атмосфера вокруг Симонетты. Обратите внимание, как он прослеживает легкую тень, падающую от змеи и моделирующую нежное плечо Симонетты. Еще удивительнее мотив темного грозового облака, на фоне которого вырисовывается светлый профиль Симонетты. Если живопись Боттичелли основана главным образом на эмоциональности линий, то Пьеро ди Козимо стремится извлечь эмоциональное воздействие из света и колорита. До Пьеро ди Козимо никто из итальянских живописцев так внимательно не изучал жизнь неба, не достигал такой смелой живописности в трактовке облаков.
Интерес Пьеро ди Козимо к облакам, к небу и пейзажу вообще с несомненностью указывает на сильное северное, нидерландское влияние, которое испытал мастер. Если чувствительность к североевропейским художественным влияниям была свойственна большинству итальянских живописцев второй половины кватроченто, то увлечение проблемами нидерландской живописи в самом разгаре классического стиля действительно свидетельствует о совершенной обособленности Пьеро ди Козимо среди современников. Пьеро ди Козимо был единственным среди флорентийских живописцев Ренессанса, который обнаружил настоящее чутье пейзажа.
Особенно показательны в этом смысле его мифологические картины. Одна из них, «Венера и Марс», очень близка по композиции к знакомой нам картине Боттичелли. Но какое различие по существу художественного замысла! Вместо гибкого, непрерывно текущего ритма Боттичелли здесь нарочито угловатые, ломаные, прерывистые движения (обратите особенное внимание на левую руку Марса и на неестественно вытянутую правую ногу Венеры). Главное же отличие в том, что картина Боттичелли была посвящена только фигурам, тогда как Пьеро ди Козимо изображает фигуры в пейзаже, и именно это слияние человека с природой составляет главное содержание мифологической концепции Пьеро ди Козимо. Правда, идиллическое построение этой дрёмы на лоне природы показано еще очень архаическим накоплением деталей — тут и зайчик, и целующиеся голуби, и бабочка на ноге Венеры. Но и в самом пейзаже — в тихой, заснувшей заводи, в интимной тропинке, вьющейся по зеленому холму, — Пьеро ди Козимо сумел найти соответствующий идиллический тон. Равнинный характер пейзажа был навеян Пьеро ди Козимо концепцией нидерландских живописцев, но мастер сумел в нее внести своеобразный эмоциональный оттенок.
Если пейзаж картины «Венера и Марс» дышит счастливой идиллией, то в пейзаже к «Смерти Прокриды» соответственно теме отражается настроение трагического одиночества. Фигуры здесь занимают еще меньше места, играя роль почти обрамления для просторного далекого пейзажа. «Смерть Прокриды» (картина находится в Лондоне) интересна и по чрезвычайной редкости своей темы. Ревнивая Прокрида выслеживает во время охоты своего возлюбленного Кефала. Когда она пошевелилась в кустах, Кефал принял ее за дичь и насмерть заколол копьем. Умирающую Прокриду находит фавн, а у ее ног сидит черный Лелапс, ее верный пес. Не только в композиции — заметьте, как и фигуры и сама природа склоняются к телу Прокриды, — но и в колорите, построенном на сочетании зеленого и фиолетового, Пьеро ди Козимо удалось схватить элегическую, грустную ноту.
В последний период своей деятельности Пьеро ди Козимо освобождается от линейной хрупкости и ломкости, свойственной его ранним произведениям. Его формы, под несомненным влиянием Леонардо да Винчи, становятся более полновесными, его тени более густыми, его живопись более темной.
Тем не менее художественная концепция Пьеро ди Козимо по-прежнему остается вне русла классического искусства. Живописные проблемы, занимающие его, — свет, колорит, воздух — оставляли живописцев Высокого Ренессанса вполне равнодушными. Как Боттичелли является стилизатором линии, так Пьеро ди Козимо можно было бы назвать стилизатором света. Типичный образец позднего стиля Пьеро ди Козимо дает «Непорочное зачатие» в Уффици. По центрической композиции, по статуарному мотиву мадонны на пьедестале, по типам картина как будто примыкает к классическому стилю чинквеченто. Но что ее резко выделяет из сферы Высокого Ренессанса — это эффект фантастического освещения, подчеркивающий мистический характер темы. Главным источником света служит голубь, витающий над головой богоматери; излучаемый им свет придает всей картине голубой тон лунного освещения. Но особенно мастерскую стилизацию света Пьеро ди Козимо обнаруживает в своих поздних портретах. Одно из самых крупных достижений Пьеро ди Козимо в этой области — портрет архитектора Джулиано да Сан-галло в Гаагском музее; композиционную схему портрета Пьеро ди Козимо целиком перенимает у классического стиля: поворот в три четверти и балюстрада, отделяющая фигуру от передней плоскости картины и тем самым связывающая фигуру с окружающим пространством. Но в то время как классический стиль предпочитает темный нейтральный фон, мягкой светотенью вырабатывая из него формы, Пьеро ди Козимо пишет портреты на фоне светлых пейзажей, моделируя формы не столько градациями тени, сколько своеобразной стилизацией световых бликов. Пьеро ди Козимо приходит таким образом, вероятно бессознательно, к чрезвычайно важному открытию, получившему широкое распространение в эпоху маньеризма и сущность которого можно было бы определить как рисунок светом. В отличие от прежнего рисунка контуром, линией подготовляется совершенно новая графическая концепция — тонального рисунка.
Таким образом, флорентийская школа кватроченто кончает свой путь полным контрастом к реформе Брунеллески, Мазаччо и Донателло и к основной линии ее развития: интеллектуализму, аналитичности, интересу к конструкции (человек, пространство), характеру, героике, драматическому повествованию.
XX
ЕСЛИ В ХОДЕ нашего изложения нам не раз приходилось наблюдать, насколько велика разница между скульптурой и архитектурой в Средней и Северной Италии, то в области живописи это различие еще сильней. Кроме того, если в Средней Италии живопись была только одним из ряда равноправных искусств, то в Северной Италии она сделалась искусством по преимуществу господствующим и руководящим художественной жизнью.
Чтобы полнее охватить развитие североитальянской живописи, нам придется возвратиться далеко назад. Мы покинули Северную Италию приблизительно в середине XV века, когда там господствовал готический интернациональный стиль в живописи Стефано да Дзевио и Антонио Пизанелло. Дух готики не умирает в Северной Италии в продолжение всего XV века, но вместе с тем в середине века намечается определенный сдвиг в сторону новых художественных идеалов. Руководство художественной жизнью Северной Италии переходит к новым центрам — в первую очередь к Падуе, а затем и Ферраре, тогда как в XVI веке безусловное первенство захватывает в свои руки Венеция. Развитие североитальянской живописи отличается гораздо большим постоянством и медленностью темпа, чем, например, во Флоренции. Этому постоянству художественного развития содействовали, с одной стороны, непрерывные сношения с Северной Европой, очень консервативной в своих художественных привычках, с другой стороны, большая стабильность государственного уклада, особенно в Венеции, в отличие от беспокойной и стремительной политической жизни во Флоренции. Кроме того, здесь сыграло свою роль и то, что на Севере Италии преобладали небольшие придворные центры с феодальным укладом жизни, в полурыцарском окружении, для которых были характерны утонченные вкусы, спиритуализм, тяготение к красочному богатству — и одновременно к готической стилизации. Главные перемены в развитии североитальянской живописи кватроченто происходят благодаря появлению каких-либо крупных заезжих мастеров, пока, наконец, Венеция не создает свой специфический живописный стиль, который оказывается уже почти недоступным для чужих влияний. Так и поворот от готического интернационального стиля в середине кватроченто совершается под влиянием ряда флорентийских художников — Филиппо Липпи, Уччелло, Кастаньо, Донателло, одного за другим посещающих Падую и привозящих с собой новые для Северной Италии проблемы центральной перспективы, светотени, обнаженного тела. Однако прежде чем мы перейдем к обзору художников и памятников, мне бы хотелось вкратце выделить общие свойства североитальянской живописи по сравнению с живописью Флоренции и Рима.
Прежде всего североитальянская живопись по-своему ближе к жизни, чем флорентийская. Не в смысле большей последовательности и глубины реалистического проникновения. С этой точки зрения (флорентийцы были, пожалуй, даже более страстными почитателями и исследователями натуры. И не в смысле интереса к характеру, психике, действиям человека (сам человек был для нее менее важен и значителен, чем его окружение), к героическому, индивидуальному началу. Но в смысле большей чувственности, бытовой конкретности своих образов, в смысле стремления непосредственно связать происходящее в картине с реальным миром. Живопись Северной Италии обладает гораздо большей степенью оптической иллюзии, чем живопись флорентийская. Иные картины североитальянских живописцев в такой мере неразрывно сливаются с реальным пространством, служат его продолжением, что от их оптического гипноза почти невозможно избавиться. Но с этой силой оптической иллюзии в североитальянской живописи связано совершенно противоположное свойство — ее сказочность, наивная неправдоподобность. И в этом контрасте между силой оптической иллюзии и сказочной романтикой, которого совершенно не знают ни римские, ни флорентийские мастера, и заключается главная прелесть североитальянской живописи. Флорентийская картина всегда имеет какую-нибудь идейную цель, всегда обращается прежде всего к нашему логическому сознанию. Североитальянская живопись больше стремится радовать глаз зрителя, служить украшением. Поэтому североитальянские живописцы определенно предпочитают пассивные, недраматические темы. Настроение для них дороже действий и событий. Нельзя сказать, чтобы североитальянские живописцы не любили рассказывать. Но они никогда не подчеркивают в рассказе главных моментов, а, наоборот, постоянно отвлекаются различными второстепенными деталями и выдвигают их на первое место. Оттого многие североитальянские картины отличаются неясностью сюжета; часто стоит большого труда догадаться, не только где главное действующее лицо композиции, но и вообще о чем идет речь на картине. В североитальянской живописи редко можно найти темы, повествующие о быстром движении, о физическом напряжении, о резких конфликтах. Напротив, преобладают темы созерцательные, интимные, построенные на тонких нюансах духовных переживаний. Особенно популярна в североитальянской живописи тема sacra conversazione со святыми, окружающими богоматерь, и с музицирующими ангелами. Вообще можно сказать, что в Северной Италии отсутствует тот литературный интерес к теме, который так свойствен флорентийским и римским живописцам. Но с другой стороны, североитальянские мастера открывают ряд совершенно новых, чисто живописных тем, долгое время чуждых Средней Италии, как, например, групповой портрет, интерьер, пейзаж или натюрморт.
Само собой разумеется, что своеобразию общей духовной концепции соответствует и различие формальных средств, применяемых флорентийскими и североитальянскими мастерами. Так, неизбежным результатом пассивного, созерцательного характера рассказа является децентрализация композиции, то совершенно лишенной главного акцента, то переносящей ударение на самый край композиции или в глубину. Если для флорентийских живописцев в общем характерен круглый или близкий к квадрату формат, то в североитальянской живописи преобладает узкий, продолговатый формат — или растянутый горизонтально в виде длинного фриза, или, наоборот, с подчеркнутой вертикальной осью, причем композиция в виде орнаментального узора как бы скатывается сверху вниз. Вообще североитальянскую композицию можно с гораздо большим правом назвать плоской и орнаментальной, чем во Флоренции, Риме или Умбрии. Но вместе с тем этот орнаментальный узор лишен всякой правильности, той геометрической точности, которую так ценили мастера Тосканы. Североитальянские живописцы не любят ни симметрии, ни пирамидальной схемы, ни кольцеобразного построения. Они не боятся параллелизмов и пауз и охотно прибегают к двухосному ритму даже в ту эпоху, когда в Средней Италии трехосный ритм становится синонимом идеальной гармонии.
В целом, конечно, североитальянские живописцы должны быть названы большими колористами, чем живописцы Средней Италии. Не удивительно, что они гораздо раньше, уже с середины XV века, начинают с деревянных досок переходить на холст и что техника масляных красок скорее приобретает у них популярность и широкое распространение. Колорит североитальянской живописи отличается большей сочностью, более густыми тенями и предпочтением к более глубоким краскам. Ее фактура, разработка поверхности картины гораздо богаче и разнообразнее.
С этими общими предпосылками мы и приступим к обзору направлений и мастеров североитальянской живописи.
Как я уже говорил, первые признаки новых веяний в североитальянской живописи появляются благодаря наездам флорентийских художников в тридцатых и сороковых годах XV века. Влияние флорентийских «гастролеров» сказалось главным образом в двух направлениях. Во-первых, в смысле пробуждения интереса к гуманизму, к человеку и к античной культуре и ее художественным памятникам и, во-вторых, в пропаганде нового подхода к натуре, нового пластического, телесного стиля. Уччелло с его страстью к перспективным построениям, Кастаньо с его жесткой лепкой формы и особенно Донателло, показавший в рельефах падуанского алтаря, как надо драматизировать события и как достигать иллюзии глубокого пространства, оставили на североитальянских живописцев неизгладимое впечатление. Падуя, город гуманистов и самого прославленного в Италии университета, никогда не прерывала своих связей с античной культурой. Падуанцы гордились тем, что их город был родиной Тита Ливия, и в числе своих достопримечательностей насчитывали гробницу троянского героя Антенора. Окружавшие Падую земли были чрезвычайно богаты остатками классической культуры. Плуг крестьянина и лопата землекопа чуть ли не ежедневно отрывали на берегах Бренты античные рельефы, медали, фрагменты надписей, обломки капителей. Но только приезд флорентийских художников оживил по-настоящему классические традиции падуанцев и зажег их страстным археологическим энтузиазмом. Среди этих падуанских энтузиастов классической древности первое место в середине XV века занимает Франческо Скварчоне, которого по праву можно назвать основателем падуанской школы кватроченто. Портной и вышивальщик по своей первоначальной профессии, Скварчоне страстно увлекся собиранием античных древностей. Сначала он заводит сношения с венецианскими корабельщиками, и те привозят ему статуи и урны, найденные на берегах Далмации. Но его не удовлетворяют эти случайные находки, и Скварчоне сам предпринимает далекое путешествие в Грецию. Из своей поездки Скварчоне помимо восторга перед греческим искусством привозит большое количество оригиналов, слепков и зарисовок с античных памятников[2]. Его мастерской было суждено воспитать целое поколение североитальянских живописцев; и она является первым прообразом будущих художественных академий. Сам Скварчоне отнюдь не обладал большим художественным талантом; «Мадонна», подписанная его полным именем и хранящаяся теперь в берлинском музее, не говорит и о каких-либо сильных античных реминисценциях. В профильном положении мадонны позади балюстрады, в движении ребенка и в атрибутах — канделябре и гирляндах — скорее, сказывается влияние рельефов Донателло. Но, очевидно, Скварчоне был выдающимся педагогом, и его археологический энтузиазм заражал всех, приходивших с ним в соприкосновение. По словам старых авторов, более ста учеников, не только падуанцев, не только уроженцев соседней Венеции или Феррары, но также приезжих из отдаленных городов Ломбардии, работало в мастерской Скварчоне, развивая свой новый, «антиготический» стиль изучением и копированием памятников античной скульптуры. Однако нужно иметь в виду, что этот археологический энтузиазм падуанской школы сильно отличался от того возрождения античности, которое вдохновляло римских и флорентийских художников. Флорентийские реформаторы ставили своей целью проникновение в самую сущность античного художественного мировоззрения, стремились усвоить себе классические принципы и приемы подхода к натуре, тогда как школа Скварчоне в пылу увлечения скульптурными памятниками античности перенесла и в натуру и в живопись пластическую твердость античных статуй, весь мир стала видеть в неподвижной каменной застылости. Это окаменение натуры и является главной отличительной особенностью падуанской живописной школы кватроченто.
Если Скварчоне мог дать только идейный толчок новому художественному направлению, то воплотить новые идеи в живописную форму удалось гениальному ученику Скварчоне — Андреа Мантенья, который для Северной Италии играет ту же роль, что Мазаччо для Флоренции. Андреа Мантенья до самого конца жизни подписывался на своих работах: «падуанец». На самом же деле он не был родом из Падуи, и большая часть его деятельности протекала в Мантуе, при дворе тамошних герцогов Гонзага. Но в Падуе Мантенья провел свою молодость, здесь получил художественное воспитание, и здесь сложился его своеобразный кристально-твердый стиль. Андреа Мантенья родился в 1431 году в местечке Изола ди Картуро и умер в 1506 году в Мантуе. Из документов известно, что Мантенья был записан в цех живописцев, когда ему исполнилось всего десять лет, это, даже в Италии Ренессанса, — небывало раннее развитие. Помимо Скварчоне и флорентийских художников важное значение в сложении стиля Мантеньи имела еще его дружба с венецианским художником Якопо Беллини, на дочери которого, Николозе, Мантенья впоследствии женился. Немногочисленные дошедшие до нас картины Якопо Беллини свидетельствуют, что он не был крупным живописцем. Тем большее значение Якопо Беллини имеет как рисовальщик. Хранящиеся в Лувре и в Британском музее альбомы его рисунков показывают Якопо Беллини как неутомимого путешественника, постоянно заносящего в свои альбомы путевые впечатления — незнакомые местности, странных животных, толпу на городской площади, лестницы и дворы величественных зданий. Типичный образец рисунков Якопо Беллини (из луврского альбома) — «Поклонение волхвов». Сюжет дает только повод, чтобы изобразить какие-то странные строящиеся здания, затейливые контуры гор, всякого рода зверей и длинную процессию всадников, спускающихся по отвесным, извилистым тропинкам. Для рисунков Якопо Беллини характерны новые, очень маленькие пропорции фигур по сравнению с архитектурой, создающие впечатление изображения, как будто бы сделанного с очень большого отдаления. И этот иллюзорный характер пространства на рисунках Якопо Беллини и весь обширный репертуар его образов, как светских, так и религиозных, сыграли весьма важную роль в развитии стиля Мантеньи и всей североитальянской живописи.
Для понимания стиля Мантеньи особенно важны мои вступительные замечания о североитальянской живописи. Его живопись исключительно реальна с точки зрения осязательности вещей, иллюзорности пространства и совсем нереальна, сказочна, «заколдованна» с точки зрения преувеличения, односторонности, окаменелости всей натуры. Она полна огромного, чрезмерного увлечения античностью, любовью к материи, героическим пафосом — и в то же время проникнута мистичностью, фатализмом, суровостью, скорбностью. Мантенья был передовым гуманистом, сильной личностью, но для него характерна в то же время тяга к феодальному укладу, к пышности двора, к почестям (он настойчиво добивался введения в дворянство). И все же наряду с Мазаччо и Пьеро делла Франческа он оказался одним из наиболее героичных, величавых, волевых художников.
Первая крупная работа Мантеньи относится к концу сороковых и началу пятидесятых годов. Видный гражданин Падуи Антонио Оветари завещал семьсот дукатов на роспись принадлежавшей ему капеллы в церкви Эремитани, причем темой росписи, согласно завещанию, должны были быть легенды о святом Иакове и святом Христофоре[3]. Прежний взгляд, что главное руководство росписью капеллы Оветари находилось в руках Мантеньи, документальными известиями поколеблен. Работу разделили между собой подмастерье Донателло и вместе с тем ученик Скварчоне, Никколо Пиццоло и Мантенья. Капелла Оветари по справедливости может быть названа «колыбелью» североитальянской живописи в такой же мере, как это название для Флоренции утвердилось за капеллой Бранкаччи. Первую, наиболее архаическую фреску цикла написал Боно да Феррара; она изображает «Святого Христофора с младенцем Христом за плечами»[4]. Эта фреска в высшей степени типична для стиля североитальянской живописи. Влияние флорентийской школы сказывается во всех приемах Боно да Феррара. Пейзаж с высоким горизонтом, изрытый тропинками и вспаханными полями, явно навеян изучением работ Паоло Уччелло. В моделировке Христа отражается крепкая пластическая лепка Андреа дель Кастаньо. Но весь этот знакомый нам репертуар флорентийских средств приобретает совершенно другое значение благодаря специфическим свойствам североитальянской концепции. Во-первых, замечательному чутью световых и атмосферических явлений и, во-вторых, огромному интересу к материи, веществу предметов, который совершенно не знаком флорентийским живописцам. В результате создается то удивительное впечатление реальности, ощутимости деталей при фантастичности целого, о котором я уже говорил как о главном воздействии североитальянской живописи. Не менее показательны для методов североитальянской живописи те фрески, которые Никколо Пиццоло написал в апсиде капеллы Оветари. Четыре отца церкви написаны на низких сводах апсиды в обрамленных пластическими гирляндами тондо. Разумеется, и фрески Никколо Пиццоло обнаруживают явные следы флорентийского влияния, особенно пластической школы Донателло. Само обрамление фресок Никколо Пиццоло, пригодное, скорее, для рельефов, и выбор точки зрения снизу вверх — знаменитое донателловское «disotto in sii» — были бы немыслимы без тщательного изучения падуанских рельефов Донателло. Но, используя приемы Донателло, Пиццоло так далеко зашел в смысле оптической иллюзии, как никогда не осмеливалась флорентийская школа. Падуанский мастер мыслит свои тондо как действительные отверстия в стене, и всю свою перспективную изобретательность он направляет на то, чтобы заставить зрителя поверить в реальность этих отверстий, несмотря на полную неправдоподобность такого замысла. Никколо Пиццоло не только показывает глубину отверстия в стене, не только тщательно вычерчивает перспективу сводов в монашеских кельях, но и целым рядом маленьких оптических фокусов стремится усилить эффект перспективной иллюзии, он имитирует рисунок древесных волокон, свешивает предметы с края стола, раскрывает дверцы шкафчика — так что зрителю, кажется, нужно только протянуть руку и взять с полки книгу или рукопись святого. В этом уничтожении границ между действительностью и изображением — одна из любимых задач североитальянской живописи.
Но только самому младшему из учеников Скварчоне, Андреа Мантенье, удалось облечь разрозненные идеи и намерения мастерской в единство монументального стиля. Авторство Мантеньи можно считать окончательно установленным для большинства фресок из циклов святого Иакова и святого Христофора. Мантенья начал, по-видимому, свое участие в росписи с фрески «Крещение Гермогена». Эта фреска ближе всего по типам и приемам к стилю старших товарищей Мантеньи, работавших в церкви Эремитани. В ней чувствуется еще некоторая робость и вместе с тем напряженность концепции. Но как велик был все же природный талант этого юноши, чтобы в первой же работе с такой ясностью сформулировать свои художественные цели! И как далеки эти цели от тех, которые ставили себе реформаторы флорентийской живописи кватроченто. И там и здесь главный интерес вращается конечно вокруг создания глубокого пространства. Но во Флоренции пространство было важно только как арена действия, только как вместилище драматических событий, как мера страстей и движений. Человек во флорентийской живописи был на первом месте, и пространство было подчинено его воле. Мантенья же пришел к проблеме пространства не от живого человека, а от каменной статуи. Поэтому для него пространство сильнее человека, для него нет свободной человеческой воли. Мантенью интересует именно само пространство — как глубина, как отверстие, как пробоины в оболочке некой предметной коры. И все, что Мантенья показывает на своих фресках, служит одной главной цели — иллюзии пространства и материи. Конечно, Мантенья изображает некое священное событие — мы узнаем и святого Иакова и Гермогена, угадываем их взаимоотношения. Но все это только повод для Мантеньи поставить фигуры в пространстве, одну рядом с другой и одну за другой, ощупать их телесность и измерить глубину отверстий между ними. Зачем, например, положены книги на полу? Исключительно для того, чтобы дать меру расстояния от края до Гермогена. Или обратите, например, внимание на фигуру, стоящую в просвете между первым и вторым столбом. К священной теме она не имеет никакого отношения. Но благодаря тому, что ее рука высовывается из-за столба, а ее голова обращена к кому-то находящемуся там, позади столба, зрителю с гипнотической силой внушается впечатление пустоты между столбами. Так и хочется взять палку и потыкать во все эти отверстия, которые оптическая фантазия Мантеньи пробила между столбами и арками, или сосчитать ступени, неизвестно куда ведущие, или потрогать барьер, на который опираются руки одного из обитателей этого заснувшего царства.
Здесь мы подходим к другой своеобразной особенности концепции Мантеньи. Его герои являются существами не из плоти и крови, но из мрамора или бронзы. Поэтому движение совершенно останавливается на картинах Мантеньи. В этом мире, застывшем, как охлажденная лава, нет, кажется, ни воздуха, ни дуновения ветра. Во второй фреске цикла — «Святой Иаков перед Иродом Агриппой»-эта каменная застылость выражена еще сильней благодаря обилию мрамора и металла, благодаря абсолютной неподвижности фигур. Некоторых из них, как, например, мальчика в шлеме и с огромным щитом или воина слева с нестерпимо тяжелым, нечеловеческим взглядом, вообще невозможно принять за живые существа. И опять не само событие интересует Мантенью, не драма, а иллюзия ощутимости вещей, зияния пространства, которое фантазия Мантеньи словно просверливает в крепкой коре материи.
Но Мантенья не довольствуется этой пассивной иллюзией пространства, он хочет наполнить его динамической силой, хочет, чтобы пространство убегало или валилось и чтобы границы между реальностью и изображением были окончательно нарушены. Эту проблему Мантенья ставит себе в двух следующих фресках цикла. Во фреске, которая изображает, как святого Иакова ведут на казнь, главный сюжет отличается характерной для североитальянской живописи неясностью. Фигура святого отодвинута в сторону, заслонена второстепенными фигурами и эпизодами. Трудно догадаться, что святой Иаков благословляет упавшего перед ним на колени палача. Зато иллюзия пространства приобрела огромную, не виданную до сих пор динамическую силу. Мантенья избирает (несомненно, под влиянием Донателло) низкую точку зрения — «disotto in su» — и притом в такой крайней форме, на которую еще не осмеливалась итальянская живопись: пространство словно опрокидывается вниз, спереди назад, в резком сокращении. Этот эффект падения пространства подчеркнут целым рядом своеобразных приемов. Несколько фигур на переднем плане поставлено спиной к зрителю. Один воин высовывает ногу за раму, другой оттесняет толпу, чтобы освободить место шествию. Узкое отверстие триумфальной арки невольно увлекает глаз в глубину резким сокращением свода. Впечатление пустого, безвоздушного пространства здесь еще сильнее, чем в предшествующих фресках, благодаря контрасту с сильными, резкими движениями, которые, однако, кажутся совершенно застывшими.
В последней из фресок, посвященных легенде святого Иакова, — «Казнь святого Иакова» — Мантенья в первый раз осмеливается на изображение пейзажа. Но какой это мертвый, безрадостный пейзаж, страшный своей каменной неподвижностью и запустением, пейзаж, в котором и растения и люди кажутся тоже каменными! Жуткость этого пейзажа подчеркнута тем жестоким равнодушием, с которым изображена сама сцена мучения святого. Со связанными на спине руками святой лежит на земле. Палач со свирепой гримасой заносит тяжелый молот. Свидетели мучения безучастно взирают на эту сцену, и один из них свешивается за перекладину, чтобы лучше разглядеть, как голова святого будет разможжена молотом. И голова святого и эти свешивающиеся с перекладины руки написаны так, как будто они находятся не внутри картины, а за ее пределами, в реальном пространстве капеллы. Создается иллюзия такой ошеломляющей близости к изображению, какой еще никогда не достигала итальянская живопись. Мы видим у Мантеньи совершенно новый подход к проблеме изображения, который хотелось бы назвать физиологическим. Тема изображения интересует его лишь постольку, поскольку она может непосредственно воздействовать на чувственное восприятие зрителя.
В этом смысле наибольшей силы Мантенья достигает в пятой фреске — «Мучение святого Христофора». Тематическая сторона композиции опять-таки разработана чрезвычайно неясно; сильная порча фрески еще усугубляет эту неясность. Слева, у самого края фрески, надо себе представить гиганта Христофора, которого палачи осыпают стрелами. Но одна из стрел внезапно завернула на своем пути и вонзилась в глаз судьи, смотрящего на мучения из окна. И вот этот чисто физиологический момент чуда — в движениях изумленных, резко повернувшихся стрелков, в ужасе судьи — выражен с такой силой, что кажется, еще слышно гудение спущенной тетивы и свист стрелы, разрезающей воздух.
В работах, последовавших за окончанием росписи капеллы Оветари, Мантенья с удивительной последовательностью развивает свою концепцию на ряде самых разнообразных тем. Как образец его портретного искусства может служить портрет кардинала Лудовико Медзарота в Берлине. Как эта голова поставлена на черном безвоздушном фоне, как чуть подкрашена бледными, матовыми красками, как высечены, словно резцом, суровые линии неподвижного лица — она кажется головой каменной статуи, а не живого человека.
В области алтарной иконы к этому периоду относится большой триптих, исполненный Мантеньей для церкви Сан Дзено в Вероне. Мы уже имели случай бегло познакомиться с этим произведением Мантеньи в связи с пребыванием Донателло в Падуе. Я указывал тогда на то, что под влиянием донателловского алтаря святого Антония Мантенья видоизменил традиционную готическую форму алтарного полиптиха, объединив разрозненные, изолированные створки в одно пространственное целое, расчлененное архитектурным обрамлением. Особенно поучительна для стиля Мантеньи средняя часть алтарной иконы. Она показывает, в какой мере у Мантеньи господствовал, если так можно сказать, натюрмортный подход к природе. Природа для Мантеньи означает материю, и различные свойства материальной поверхности он стремится передать в своей живописи. Между живой и мертвой натурой для него нет органического различия, они различаются только фактурой поверхности — мадонна и младенец представляют собой такие же крепкие, пластические тела, как тяжелый золотой нимб или каменные пилястры. Но для глаза, чуткого к языку предметов, живопись Мантеньи дает неисчерпаемое наслаждение. Посмотрите, например, как коврик под ногами мадонны наполовину прикрывает фигурки каменных путти, держащих гирлянду, или на стеклянный светильник над головой мадонны, или на то, как гирлянда из плодов и цветов пересекает гирлянду каменного рельефа. Здесь перед нами в зародыше то мастерство живописной иллюзии, то богатство чувственного восприятия, которым впоследствии так прославятся представители венецианской школы.
Наряду с новой формой триптиха Мантенье принадлежит создание и другого типа алтарной иконы, особенно популярного в венецианской живописи. Мантенья впервые применил его в картине берлинского музея, изображающей, как мадонна приносит младенца Христа Симеону. В этом интимном, домашнем типе иконы композиция дается в виде полуфигур, находящихся или позади балюстрады, или в декоративном обрамлении окна. Характерно для североитальянской живописи, что и эта композиционная схема построена на иллюзорном сглаживании границ между изображением и действительностью. Не менее характерен и сам ритм композиции, столь непохожий на композиционные ритмы среднеитальянской живописи своей асимметрией, своей двухосностью, своим несколько однообразным чередованием пассивных вертикалей.
Как завершение первого периода деятельности Мантеньи следует рассматривать «Святого Себастьяна» Венского музея. Подчеркивая античные первоисточники своего искусства, Мантенья пишет свою подпись греческими буквами — ТО EPГON TOY ANΔPEOY. Но картина показывает, в какой мере Мантенья был еще готиком при всем своем классическом энтузиазме, в какой мере его концепция фантастична, а его линии, ломаные и жесткие, полны режущей остроты. Даже такой пережиток готики, как два горизонта: один — для переднего плана, другой — для пейзажа, удержался в его композиции. Вместе с тем две главные тенденции искусства молодого Мантеньи — окаменение натуры и сила осязательных ощущений — доведены здесь до высшего напряжения. В соседстве с пустынным, каменным пейзажем и с фрагментами античных развалин и статуй само тело Себастьяна превращается в статую, в окаменелость, и даже облако принимает очертания мраморной статуи всадника. Я уже говорил о, так сказать, натюрмортном подходе Мантеньи к натуре. В картине «Святой Себастьян» еще красноречивей проявляются особенности этого подхода. Они сказываются в том, как Мантенья любит разрушенные, сломанные предметы, с каким наслаждением подбирает он всякие обломки и выслеживает пробоины в гладкой поверхности колонн, с какой тщательностью протыкает он тело Себастьяна множеством стрел и притом так, что зритель видит, как стрелы насквозь проходят тело. Мы сталкиваемся здесь с тенденциями, резко противоположными флорентийским идеалам. Там задачей было нормирование натуры, введение ее в рамки объективной, целостной конструкции. Здесь, напротив, разрушение натуры, насилие над нею во имя субъективных настроений художника. Там — разум, здесь — эмоции. Там — постоянство, здесь — изменчивость. Таким образом, мнимый «классицизм» Мантеньи в глубокой сущности своей обнаруживается как несомненный «романтизм».
В 1460 году Мантенья по приглашению герцога Лодовико Гонзага переселяется в Мантую, где с маленькими перерывами для поездок во Флоренцию и в Рим, остается до самой своей смерти. Друг знаменитого педагога-гуманиста Витторино да Фельтре, герцог Лодовико Гонзага был одним из самых просвещенных тиранов кватроченто и стремился сделать Мантую главным центром научной и художественной культуры Италии. Донателло и Леоне Баттиста Альберти работали по его заказам; в его дворце были положены основы музею антиков, собранию резных камней, бронзовых и мраморных статуй. Само собой разумеется, что Мантенья нашел у герцога и его семьи самую горячую поддержку своим художественным планам. При дворе мантуанского герцога Мантенья жил спокойно, пользуясь богатством, уважением, славой. Все высокопоставленные путешественники, проезжая через Мантую, спешили побывать в доме Андреа Мантеньи и полюбоваться работами мастера. Сам Лоренцо Медичи был его гостем.
Мантуанский период деятельности Мантеньи увенчан самой замечательной его работой — росписью одной из комнат мантуанского дворца, так называемой Camera degli sposi. Мантенье удалось здесь разрешить проблему иллюзорной декорации, к которой он стремился в росписи капеллы Оветари. Роспись Камера дельи спози представляет собой одно оптическое целое: в освещении фресок приняты во внимание реальные источники света, линия горизонта находится в полном соответствии с положением наблюдающего зрителя, реальные своды продолжаются в воображаемом пространстве фресок и поддерживаются воображаемыми, написанными пилястрами. Сила оптической иллюзии усугубляется еще тем, что на каждый самостоятельный отрезок стены приходится только одна фреска. Зритель, вступающий под своды Camera degli sposi, испытывает впечатление, как будто стены маленькой комнаты раздвинулись и что между миром реальным и миром изображенным больше нет никаких преград. Но в этой иллюзии нет того беспокойства и напряжения, которое вызывают фрески капеллы Оветари. Юношеский напор таланта Мантеньи теперь умерился. Мантенья больше не пробивает стену глубокими отверстиями, не уводит глаз в глубину резкими сокращениями перспективы. В Camera degli sposi все фигуры сосредоточены на переднем плане, их широкие, спокойные силуэты закрывают даль, их движения уравновешенны и медлительны, и в них нет насильственной, сверхчеловеческой энергии, которая кипела в образах капеллы Оветари. Вместе с тем стиль Мантеньи стал мягче и живописней. Мантенья больше не крошит композицию мелким узором острых линий, не высекает фигуры и предметы с такой безжалостной каменной жесткостью, его формы теперь ложатся на плоскости широкими красочными пятнами.
Фрески расположены на двух стенах комнаты и распадаются на ряд эпизодов, воспроизводящих интимную жизнь обитателей мантуанского дворца. Слева, на стене, пробитой дверью, мы видим приготовления к охоте. Над дверями красноватые амуры на фоне синего неба поддерживают надпись, увековечивающую славу Гонзага и их придворного мастера Мантеньи. Далее следует встреча маркиза Лодовико Гонзага с его сыном, кардиналом Франческо, на фоне спокойного мантуанского пейзажа. Главная фреска расположена над камином и изображает маркиза Лодовико в кругу его обширной семьи. Композиция, как это свойственно североитальянской живописи, лишена центрического характера. Маркиз сидит у самого края фрески; он держит в руке письмо и отдает слуге какое-то распоряжение. Дальше, лицом к зрителю, в пышном парчовом платье сидит маркиза, урожденная Варвара Бранденбургская. Рядом с ней — любимая карлица маркизы, единственная из фигур фрески, прямо фиксирующая зрителя своим взглядом. Вокруг маркиза и маркизы, в свободных группах — их сыновья со своими женами и детьми. Четвертый сын маркиза, Родольфо, стоит перед пилястром и соединяет таким образом семью маркиза с правой частью фрески, где мажордом принимает гостя, поднимающегося по ступенькам лестницы. Благодаря этим ступенькам и тому, что Родольфо Гонзага и слуга изображены перед пилястрами, граница между реальностью и изображением стирается и семья маркиза кажется находящейся в том же пространстве, что и зритель. Но не только удивительное сочетание оптической иллюзии с декоративной гармонией составляет ценность фресок Мантеньи. Падуанскому мастеру удалось разрешить здесь и новую тематическую задачу, столь излюбленную в последующей венецианской живописи, — задачу группового портрета. Фрески Camera degli sposi в общем лишены, так сказать, литературного сюжета; перед зрителем проходит вереница портретов. Но эти портреты психологически так тонко связаны между собой, что составляют некое органическое целое. И многофигурность портрета и жанровый к нему подход указывают на специфически северные черты фантазии Мантеньи.
Насмотревшись на стенные фрески, зритель невольно поднимает взгляд к потолку, и здесь его встречает новая неожиданность. Оказывается, что потолок «снят» и «раскрывается» круглым отверстием прямо на сияющее небо. Мы видим в сильном сокращении перспективы балюстраду, вокруг которой резвятся путти. Иные стоят на карнизе и видны в сильном ракурсе снизу вверх, другие взобрались на балюстраду, третьи просовывают головы в круглые ее отверстия; а с балюстрады наклоняются и смотрят на зрителя женские головы (среди них одна — негритянка) — вероятно, челядь маркиза. Что особенно усиливает эффект раскрытого потолка — это смелый прием освещения: свет падает в отверстие как бы сверху, и поэтому лица служанок, смотрящих на зрителя, оказываются в тени. Этой гениальной шуткой Мантенья далеко опережает декоративные замыслы своего римского современника Мелоццо да Форли и подготовляет все предпосылки для плафонной живописи Корреджо и венецианцев.
В конце восьмидесятых и в начале девяностых годов стиль Мантеньи все более начинает склоняться в сторону Высокого Ренессанса. Как будто Мантенья сам почувствовал, что его юношеский энтузиазм перед антиками привел только к внешней имитации античных предметов, и теперь стремится проникнуть глубже, в самый дух классического искусства. Не довольствуясь, как раньше, античными фонами для священных событий, Мантенья ставит теперь своей задачей разработку античной темы и притом в специфически античной форме — в форме рельефного фриза. Так возникает самое знаменитое у современников произведение Мантеньи — «Триумф Цезаря». Но именно эта, быть может, самая классическая работа Мантеньи лучше всего показывает, насколько чужд Мантенье, как типичному представителю Северной Италии, истинный дух классицизма, насколько его искусство далеко, по существу, от идеалов Высокого Ренессанса. «Триумф Цезаря» представляет собой цикл из десяти квадратного формата картин, написанных на холсте. Цикл композиции предназначался для украшения театрального зала в мантуанском дворце. Впоследствии «Триумф Цезаря» был куплен английским королем Карлом I и теперь находится в одном из королевских дворцов, но в сильно испорченном и искаженном реставрацией состоянии. Поэтому, чтобы получить более правильное представление о концепции Мантеньи, приходится обратиться к старинным копиям. Триумфальная процессия открывается трубачами и знаменосцами; далее несут картины, изображающие победы, одержанные Цезарем; шествуют ряды пленников, бесконечной чередой несут добычу; шествие завершается в девятой картине колесницей, в которой восседает сам Цезарь. «Триумф Цезаря» разработан Мантеньей с исключительной археологической тщательностью и с огромными историческими познаниями. Типы и одежды, оружие и утварь несомненно изучены Мантеньей по оригинальным римским памятникам. Мало того, Мантенья усвоил в совершенстве композиционную схему римского исторического рельефа — с фигурами, тесной, непрерывной чередой двигающимися мимо зрителя в узкой колее переднего плана, на светлом фоне. Для примера сошлюсь на третью картину цикла. Не трудно видеть, как, несмотря на весь археологический аппарат и на применение античной рельефной схемы, мало в композиции Мантеньи подлинного античного духа, как далек он от понимания внутренних законов классического стиля. Правда, движения его фигур стали гораздо свободнее и ритмичнее, его пространственная концепция потеряла прежнюю напряженность, но рисунок Мантеньи продолжает быть таким же острым и жестким, как будто Мантенья изображает не живые существа, а фигуры каменного рельефа. И потом это беспорядочное накопление деталей, которое так не вяжется с античной художественной концепцией! Глядя на эту груду доспехов, на этот своеобразный археологический натюрморт, мы чувствуем, что Мантенья в душе своей остался тем же романтиком предмета и материи, каким был в дни росписи капеллы Оветари.
Вторая попытка овладеть тайнами классического стиля была вдохновлена новой правительницей Мантуи, Изабеллой д’Эсте, женой Франческо Гонзага. Эта ученая принцесса — типичный образец гуманистически образованной женщины Ренессанса — быстро освоилась с традициями меценатства, которые господствовали при мантуанском дворе, и сейчас же нашла для Мантеньи новую работу. По поручению Изабеллы д’Эсте Мантенья должен был украсить ее кабинет циклом мифологически-аллегорических изображений. Любительница сложных аллегорий, герцогиня сама придумывала темы картин, которые предстояло исполнить Мантенье. Но только одну из них мастер осуществил собственноручно — «Царство любви и искусства», как композиция первоначально была названа самой заказчицей, или «Парнас», как называют обычно теперь эту картину, находящуюся в Лувре. Она изображает Марса и Венеру как властителей царства любви на возвышении скалы. Слева виднеется гневный Вулкан, которого насмешки Амура вызвали из его пещеры; справа мечтает Меркурий, опираясь на Пегаса; а в центре музы ведут свой хоровод под аккомпанемент лиры Аполлона. Композиция «Парнас» принадлежит к самым грациозным созданиям Мантеньи, таланту которого вообще чужды легкость и изящество. Даже линия Мантеньи, всегда такая колючая и жесткая, приобретает здесь известную мягкость и округлость: красноречивый пример того, насколько значительно влияние на художественное творчество личности заказчика. Нельзя отрицать также, что в отдельных образах Мантенье удалось прекрасно схватить дух античного мифотворчества. Но вся композиция в целом может быть названа, скорее, антиклассической. Не только из-за пейзажа с фантастическими очертаниями скал, но главным образом потому, с каким трудом Мантенье дается концентрация композиции. Правда, группа Марса и Венеры занимает центральное, господствующее место, но она оторвана от остальных фигур и не находит в них никакого отзвука. Большой фигуре Меркурия на переднем плане противопоставлен слишком маленький и незаметный Аполлон. Особенно же поражает рассеянный, несконцентрированный хоровод муз. Каждая из них двигается в собственном ритме, и все смотрят в разных направлениях.
По-видимому, сам Мантенья почувствовал некоторый разлад между вкусами своей просвещенной заказчицы и органическими требованиями своего стиля. Уже вторую композицию цикла — «Минерва, изгоняющая пороки» — он предоставляет заканчивать своим ученикам. А для остальных аллегорий Изабелле долго пришлось искать исполнителей, прежде чем она заключила соответствующие контракты с Перуджино и Лоренцо Коста.
Последней вспышкой классицизма у Мантеньи является «Триумф Сципиона», хранящийся теперь в лондонской Национальной галерее. Монохромная картина была заказана Мантенье неким Франческо Корнаро, очевидно, в надежде получить в миниатюре некоторое подобие «Триумфа Цезаря». Но Мантенья медлил с выполнением, и только после его смерти картина поступила в собственность заказчика. Есть все основания думать, что медлительность Мантеньи была вызвана его охлаждением к первоначальной задаче. И действительно, в «Триумфе Сципиона» чувствуется некоторый внутренний разлад. С формальной стороны это произведение Мантеньи принадлежит к самым совершенным его достижениям. Мантенья задумал «Триумф Сципиона» как имитацию мраморного фриза — и эта имитация с точки зрения иллюзии мраморной поверхности удалась ему блестяще. Но вместе с тем в «Триумфе Сципиона» есть черты, которые решительно противоречат внутренней структуре античного рельефа — некоторый романтизм освещения, беспокойство движений и чувств. Позади классической оболочки мы как будто угадываем присутствие готического духа.
Правильность этого впечатления вполне подтверждают и другие работы Мантеньи 1480-х годов, в которых мастер обращается к чисто религиозным сюжетам. В религиозной концепции Мантеньи появляются чуждые ему раньше элементы экспрессивности, чрезвычайно сближающие его с искусством Северной Европы. Переходом к этому позднему стилю Мантеньи служит так называемая «Madonna della grotta» (то есть «Мадонна в гроте»). Странная идея этой картины основана на сочетании юного образа мадонны с безотрадным в своей каменной пустынности пейзажем, который как бы символизирует будущие земные страдания Христа. Пейзажи Мантеньи всегда отличаются окаменелой мертвенностью, отсутствием живой произрастающей силы. Но никогда еще Мантенья не достигал такого впечатления одиночества, такой тоскливой безнадежности, какой веет от острых, колючих очертаний этой сталактитовой горы. Сама мадонна, однако, еще словно не задета скорбным воплем окружающей ее натуры. В других картинах Мантеньи острая экспрессивность пейзажа передается и человеческим образам. Таков, например, «Скорбящий Христос» Копенгагенского музея, где Мантенья сумел вложить экспрессию страданий в каждый штрих своей острой, как лезвие ножа, линии, и в колючий орнамент ангельских крыльев, и в скомканные складки Христова плаща, и в разорванные силуэты облаков. Но самым сильным произведением старого Мантеньи надо считать безусловно «Мертвого Христа» из галереи Брера в Милане. В этой интереснейшей картине, которая была найдена в мастерской Мантеньи после его смерти, поражает не только чрезвычайная смелость пространственного замысла — мастер впервые в итальянской живописи дерзнул показать тело Христа в самом крайнем ракурсе, — но главным образом то обстоятельство, что перспективный эффект использован здесь как средство духовного выражения. Ибо именно благодаря тому что тело Христа видно в таком резком сокращении, ногами вперед, оно кажется таким беспомощным, таким пассивным, таким действительно мертвым куском материи. Этот экспрессивный эффект ракурса Мантенья еще подкрепляет прибавлением двух фигур — богоматери и апостола Иоанна. Резко и неожиданно перерезанные рамой, нарушающие равновесие композиции, они усиливают воздействие картины своим трагическим диссонансом.
На живучесть готических тенденций в творчестве Мантеньи указывает и сильный интерес к графике. Из большого списка гравюр, которые традиции связывают с именем Мантеньи, новые исследования вычеркнули более половины, безусловно признав авторство Мантеньи только за семью гравюрами. Как наиболее выразительный пример графической концепции Мантеньи приведу «Положение во гроб». Мантенья наряду с Антонио Поллайоло использовал гравюру на меди не только для репродуцирования своих картин, но и для самостоятельных композиций. Разумеется, это не случайно, что в своем увлечении гравюрой Мантенья совпадает с Поллайоло, ярким представителем «второй готики». Однако различие между Мантеньей и Поллайоло в этом смысле очень существенно. Для Поллайоло гравюра была только средством изображения обнаженного тела, одним из способов штудирования анатомии. Мантенья же увидел в графике специфические средства экспрессии. Графическая техника Мантеньи, пожалуй, еще проще, чем у Поллайоло. Он не пользуется для тушовки перекрестной сетью линий и довольствуется диагональными, параллельными штрихами. Но в то время как Поллайоло штриховка служит только пассивным средством моделирования формы, у Мантеньи линии превращаются в активное орудие выражения. Очерчивая острые, колючие контуры предметов, вибрируя в мелком динамическом узоре складок, линия повышает экспрессию отчаяния, которое выражено в жестах и мимике фигур. В своей графике Мантенья является не только готиком, но и готиком, так сказать, германского толка. Поэтому вполне естественно, что графика Мантеньи оставила такие заметные следы в развитии немецкой гравюры, особенно же в творчестве Дюрера.
В целом искусство Мантеньи служит своеобразным, несколько мрачным, но величественным прологом к грядущему расцвету североитальянской живописи. Мантенья предвещает и страсть к оптической иллюзии, и увлечение поверхностью вещей, и динамику пространства, окружения человека, которые так свойственны североитальянской живописи. Но особенно поучительно его искусство в том смысле, что оно демонстрирует полное бессилие классических идеалов преодолеть «романтические» наклонности североитальянских художников.
Ни в Падуе, ни в Мантуе Мантенья не имел крупных последователей; со смертью Мантеньи падуанская школа быстро теряет свое руководящее значение. Но зато был целый период, когда влияние Мантеньи распространилось во все крупные центры Северной Италии, когда и в Ферраре, и в Венеции, и в Милане, и в Виченце были живописцы, стремившиеся следовать за ним.
XXI
НАИБОЛЬШЕЕ РОДСТВО с падуанской школой обнаруживает географически близкая к ней Феррара. Она была тогда полна звучной и красочной жизни. Маленький феррарский двор был старейшим двором в Италии. Уже в конце XV века у феррарских герцогов д’Эсте были придворные поэты и художники, были придворные театры, были загородные замки. Здесь за триста лет был предвосхищен тип герцогской столицы, каких было так много в Германии в эпоху Просвещения. Феррара стала первым городом в Европе, существовавшим от двора и для двора. Здесь было огромное для того времени население, была промышленность, была торговля, но все это лишь служило праздничной жизни д’Эсте. Герцоги строили дворцы, церкви, укрепления; они, что беспримерно в Италии, строили даже самый город, как впоследствии Людовики строили Версаль и как Петр Великий строил Петербург. Проведенные ими широкие улицы заставили Буркгардта назвать Феррару первым европейским городом в современном смысле этого слова. Пестрая и парадная жизнь д’Эсте сосредоточивалась в их обширном замке, который и сейчас стоит, окруженный рвами, посреди города. Этот замок придает Ферраре особенный, не совсем ренессансный характер. Рвы, башни, подъемные мосты — все это еще напоминает о рыцарских традициях д’Эсте.
Слава феррарской живописи кватроченто зиждется главным образом на трех именах — Козимо или Косме Тура, Франческо Косса и Эрколе Роберти. Для того чтобы полней уяснить себе особенности их искусства, нужно иметь в виду, что помимо сильнейшего воздействия падуанской школы во главе с Мантеньей феррарская живопись испытала еще два важных влияния. С одной стороны, влияние живописного стиля Пьеро делла Франческа, который оставил Ферраре в наследство свое увлечение эффектами дневного света и свое дивное чутье колорита. Этим объясняется, что в живописи феррарцев гораздо большую роль, чем у Мантеньи, играли проблемы света и колорита. И с другой стороны, влияние североевропейской, нидерландской живописи, с приемами которой феррарцы познакомились благодаря приезду в Италию нидерландского мастера Рогира ван дер Вейдена, который пробыл в Ферраре около двух лет. Этим объясняется то обстоятельство, что феррарская живопись производит более северное впечатление, чем живопись Мантеньи, что она, во всяком случае, гораздо готичней и гораздо экспрессивней.
Наше знакомство с феррарскими живописцами начнем с самого старшего из них — Козимо Тура. Он родился в 1430 и умер в 1495 году. Сложился Козимо Тура под влиянием Франческо Скварчоне в Падуе. Позднее он, возможно, посетил Венецию, а в 1451 году поступил на службу к герцогу Борсо д’Эсте и до самой смерти не покидал Феррары. В своих ранних произведениях Козимо Тура обнаруживает особенно большую близость со стилем Андреа Мантеньи. Характерным примером может служить «Мадонна на троне с четырьмя святыми» берлинского музея[5]. Козимо Тура дает здесь новый вариант, особенно популярный в венецианской живописи, тому типу алтарной картины, который был создан Мантеньей. Композиция Козимо Туры отличается такой же каменностью, как и в картинах Мантеньи. И точно так же как молодой Мантенья, Козимо Тура любит глубокие и неожиданные зияния пространства (обратите, например, внимание на просвет под троном, открывающий вид на далекий пейзаж). При сравнении пространственной концепции среднеитальянской и североитальянской живописи невольно бросается в глаза контраст, который хотелось бы сформулировать следующим образом. Флорентийский художник воспринимает пространство как ограниченный со всех сторон глубокий ящик; для североитальянского живописца пространство представляется в виде бездонных дыр, пробитых в крепкой коре материи. Говоря архитектурной терминологией, флорентийское понимание пространства можно назвать тектоническим, североитальянское же — стереотомическим. Но живопись Козимо Туры прибавляет и много новых черт к концепции Мантеньи. Не будучи таким монументально-героическим, таким кристально-ясным, как у Мантеньи, стиль Козимо Туры во многих отношениях богаче своего падуанского вдохновителя. Прежде всего это относится к пропорциям. Заметно, как в картине Туры пропорции исключительно разнообразны, противоречивы и, в конце концов, произвольны. Помимо фигур святых, уменьшающихся по мере возвышения трона, мы видим статуи в люнетах, амуров, фигурки на рельефах и, наконец, льва и орла в разнообразных масштабах. Эта произвольность пропорции, граничащая с фантастикой, в соединении с исключительно точной, реальной осязательностью предметов придает картинам Козимо Туры своеобразный оттенок «романтического» гротеска. Другое обогащение живописи Козимо Туры относится к области колорита. Как и Мантенью, его увлекает поверхность вещей, иллюзия их материальной субстанции. Но в то время как Мантенья ограничивался только пластическим ощупыванием этой субстанции, Козимо Тура стремится к красочной передаче поверхности вещей. Посмотрите на преломления света на парчовых одеждах епископа, на хрустальный шар под когтями орла, на колонны темного мрамора или на мозаичный фон люнет — немыслимо даже перечислить разнообразие тех материальных пород поверхностей, которые стремится воспроизвести живопись Козимо Туры. Но эта красочная фантасмагория поверхности у Козимо Туры нисколько не оживляет предметы, а, напротив, делает их еще более крепкими, каменно неподвижными и металлически холодными.
В дальнейшем развитии стиля Козимо Туры жесткая колючесть предметов все усиливается. Если Мантенья стремился окаменить весь мир, то Тура как будто хочет все сущее обратить в металл. Живопись Козимо Туры воплощает субстанцию материи с какой-то дикой страстностью. Тура не допускает в природе ничего мягкого, податливого, неопределенного. Его мир подобен наковальне, его кисть — как молот, с сухим треском высекающий искры из всех предметов, даже человеческого тела. У Козимо Туры линия такая же твердая, как у Мантеньи, может быть, только еще более острая и колючая. Но в то время как линия Мантеньи всегда лепит форму, у Туры линия запутанная, сложная, вьющаяся, разбивающая все плоскости на отдельные узоры. К тому же искусство Туры гораздо нервнее, возбужденнее. Например, «Пьета» Козимо Туры из венецианского музея Коррер, несмотря на застылость фигур, полна глубокого внутреннего возбуждения. Но эта возбужденность проистекает не из драматизма событий, как на флорентийских картинах, а из тех странных и жутких превращений, которые претерпевают человеческое тело, растения и скалы, преломляясь через эмоции художника. Тела сморщиваются, головы же вырастают до огромных размеров, а руки и ноги делаются костистыми, словно когти; кресты распятых вытягиваются вверх до непомерной длины, и на дереве, над самой головой Христа, неожиданно оказывается обезьяна. В творчестве Мантеньи, в каждой его фигуре, мы чувствуем непреклонную волю и открытый ум. Тура, напротив, всегда глубоко замкнутый, ускользающий и странный в своих искривленных фигурах, преувеличенной мимике, ломких складках и особенно в своих пейзажах. Если на каменных равнинах Мантеньи способны были бы обитать статуи, то среди винтообразных скал и диких, похожих на сахарные головы гор Козимо Туры могли бы жить разве только волшебники и драконы.
Что касается самой концепции основной темы — богоматерь держит тело Христа на коленях и поднимает его руку к губам для поцелуя, — то она могла возникнуть только под непосредственным влиянием нидерландской живописи, в особенности Рогира ван дер Вейдена. Столь же несомненно нидерландское воздействие и в других поздних произведениях Козимо Туры — «Святом Себастьяне» в Дрездене и «Святом Христофоре» берлинского музея. Святого Себастьяна Козимо Тура трактует, как и Мантенья, значительно отступая от итальянских традиций, но в полном согласии с североевропейским пониманием этой темы. Живопись итальянского кватроченто знала два типа изображения святого Себастьяна. Или повествовательно-драматический тип — с изображением самого расстрела святого (например, Поллайоло), или сентиментально-символический тип — нежного юношу в красивой позе на фоне лирического пейзажа (например, Перуджино). Козимо Тура, вместе с Мантеньей, заимствует у североевропейских живописцев экспрессивный тип: святой Себастьян после расстрела, пронзенный множеством стрел, в страданиях извивающийся у столба. Но «Себастьян» Козимо Туры еще готичнее, еще севернее, чем у Мантеньи. Во-первых, в смысле большей силы экспрессии (обратите внимание, между прочим, как Козимо Тура снова прибегает к своему излюбленному приему — иррациональной игре пропорций: у ног Себастьяна он помещает воина в схожей позе, этим сопоставлением добиваясь того, чтобы образ Себастьяна, сила его мук выросли до сверхчеловеческих размеров). С другой стороны, стиль Козимо Туры гораздо бестелеснее, орнаментальнее стиля Мантеньи. Линии Козимо Туры помимо своего изобразительного значения всегда имеют и чисто декоративные функции, чертя своеобразные узоры на плоскости картины. Этот орнаментальный характер концепции Туры особенно бросается в глаза в берлинской картине «Святой Христофор», первоначально составлявшей, вероятно, одну из створок алтарного полиптиха. Здесь не только складки одежды, закрученные совершенно произвольным танцующим вихрем, но и сами движения Христофора и младенца Христа подобны орнаментальному узору.
Несколько иной оттенок в живопись феррарской школы вносит младший современник Туры, Франческо Косса. Он родился в Ферраре около 1436 года. Его искусство находилось под сильнейшим влиянием Мантеньи. К этим падуанским тенденциям в живописи Коссы прибавился, однако, другой, не менее важный фактор — неизгладимое впечатление, которое на феррарского художника произвели работы Пьеро делла Франческа. От Пьеро делла Франческа картины Коссы приобрели ясность дневного света и мягкость серебристого тона, который так отличает их от мрачно-сверкающей живописи Козимо Туры. В некоторых своих произведениях Франческо Косса очень близок как к Мантенье, так и к Туре. Таков, например, алтарный полиптих, центральная часть которого находится теперь в Лондоне, боковые створки в Брере, а пределла в Ватикане. Такая же, как у Туры и Мантеньи, каменистость пейзажа со скалами, очертания которых похожи на фантастическую архитектуру, и без малейшего признака растительности. И столь же жестко, каменно трактовано тело святого и словно оледеневшие складки его одежды. Но Коссу и от Мантеньи и от Туры отличает как бы большая светскость, большая жизнерадостность его фантазии. Религиозный и экспрессивный моменты отступают в его творчестве на второй план, и с наивным наслаждением Косса погружается в любование вещами, вырисовывая причудливые контуры огромных ключей или ожерелья, висящего на бронзовых кольцах. Но еще больше отделяет Коссу от Туры его страсть к рассказу. Об этой повествовательной склонности Франческо Коссы свидетельствует пределла этого полиптиха, хранящаяся в Ватиканской пинакотеке и иллюстрирующая легенду святого Гиацинта (а может быть, святого Викентия Феррера). В левой половине пределлы (разбивающейся на четыре самостоятельных эпизода легенды) мы снова видим излюбленный феррарской и падуанской школами окаменелый пейзаж со скалами, похожими на развалины зданий, и с архитектурой, похожей на скалы. Насколько отличны повествовательные приемы Коссы от тех, к которым мы привыкли в среднеитальянской живописи! У Коссы не только не чувствуется религиозное значение событий, не только отсутствует драматическая концепция, но и вообще почти немыслимо расшифровать тематический остов рассказа. Мы видим ряд свободно нанизанных одна на другую жанровых сцен, в которых нет ни главных, ни второстепенных эпизодов, ни героев, ни статистов и выбор которых определяется не требованиями сюжета, а исключительно субъективными симпатиями и интересами художника. Но если Франческо Косса далеко уступает флорентийцам в драматической и композиционной цельности, то он несомненно превосходит их непосредственностью и полнотой ощущения жизни.
Своеобразный повествовательный талант Франческо Коссы как нельзя более подходил к той задаче, которую доверил мастеру герцог Борсо д’Эсте в 1469 году, поручив ему расписать большую залу во дворце Скифанойя. Вопрос об авторах фресок является предметом ученых изысканий[6]. Но лучшая их часть была исполнена именно кистью Франческо Коссы. В первоначальном своем виде фрески палаццо Скифанойя состояли из двенадцати частей, двенадцати вертикальных полос, отделенных одна от другой пилястрами; причем каждая такая часть была посвящена одному из двенадцати месяцев года. Лучше всего сохранившиеся и написанные Коссой три части на восточной стороне соответствуют месяцам марту, апрелю и маю. Каждая вертикальная полоса фресок, посвященная определенному месяцу, в свою очередь разделяется горизонтальными линиями на три ряда. В нижнем ряду изображены сообразные с временами года сцены из жизни герцога Борсо д’Эсте и его двора — выезд на охоту и возвращение с охоты, Борсо, творящий суд, Борсо, следящий за полетом сокола, Борсо, вместе со свитой и придворными дамами развлекающийся бегом женщин, скороходов и лошадей. Фоном для этих сцен служат картины сельской жизни: весенние работы на виноградниках, посев, пахота. Выше идет полоса, где изображены знаки Зодиака и аллегорические существа, воплощающие декады каждого месяца. Все здесь характерно для стиля Франческо Коссы, сотканного из фантастики и натурализма, из гротеска и светской изысканности. Но всего лучше удались Коссе фрески верхнего ряда, центром которых являются богини-покровительницы, въезжающие в мир людей на колесницах, запряженных лебедями или белыми конями. Месяц апрель символизирован в виде Венеры, передающей коленопреклоненному рыцарю, то есть Марсу, гранатовый плод. Античная мифология в фантазии Коссы совершенно перевоплощается в духе рыцарско-романтической поэзии того времени. Корабль Венеры по обеим сторонам реки окружают группы юношей и девушек, занимающихся музыкой и танцами или предающихся радостям любовных бесед и улыбок. Среди причудливых гротов снуют кролики, а на скалистой террасе возвышается группа трех граций, долженствующая свидетельствовать об археологических познаниях Коссы. Месяц март символизирован триумфом Минервы, богини мудрости и трудовой жизни, которую сопровождает, с одной стороны, группа ученых мужей, а с другой — трудолюбивые девушки, занимающиеся рукоделием. Чувством какой-то простой и законной радости бытия, незнакомым флорентийскому искусству, верой в непреложное счастье жизни проникнуты все фрески феррарского цикла. Борсо д’Эсте неизменно милостив и щедр, и гордая улыбка неизменна на его устах. Его охоты удачны, его суды праведны, его свита состоит из прекрасных юношей и опытных старцев. Придворные кавалеры учены и вежливы, дамы нежны и искусны, их жизнь течет, как вечный праздник, — в легком труде и невинных наслаждениях. Оптимизм, бездумность и полное отсутствие героизации — вот отличительные черты искусства Франческо Коссы. Но Косса нисколько не был льстивым бытописателем — развлечения герцога д’Эсте имели для него ту же ценность, что и сельские работы. Он изображает их рядом, с той же любовью, с тем же наслаждением. Косса словно впервые угадал важный смысл труда среди вечной чистоты и ясности полей. Близость к природе, понимание жизни не как сгущенного героизма страстей, а как радости существования в труде и отдыхе — вот чем Косса обогатил мировосприятие итальянских живописцев. Лучшим свидетельством тому может служить самое замечательное произведение Коссы — «Аллегория осени», написанное, вероятно, в годы работы над фресками Скифанойи и теперь хранящееся в берлинском музее[7]. Осень представлена в виде молодой крестьянки с лопатой, тяжелой киркой за плечами и виноградной лозой в руках, стоящей прочно и непоколебимо на пороге счастливой жизни. Нигде в живописи Коссы не сказалось так сильно влияние Пьеро делла Франческа, как в картине «Осень». Рисунок Коссы по-прежнему тверд и отчетлив, но уже не имеет такой каменной или металлической жесткости, как у Мантеньи и Туры; в пейзаже появилась растительность, и безлюдные каменные гроты сменились зелеными холмами. Главная же ценность, которую живопись Коссы получила от Пьеро делла Франческа, — это обилие воздуха. Из натуры Мантеньи и Туры воздух, казалось, вовсе был изгнан. У Коссы он серебристой пеленой ложится на сияющие деревенские дали и смягчает переходы тонов на одежде «Осени».
Странным образом герцог Борсо не сумел оценить дарование Коссы. Сохранилось письмо Коссы к герцогу, где художник просит более справедливой оценки его трудов по росписи Скифанойи. Ему было отказано в этом, и, оскорбленный, Косса переселился в Болонью, где в почете прожил до ранней своей смерти — около 1478 года. Примером болонского стиля Коссы может служить «Благовещение» в Дрездене. Живопись Коссы стала ярче и богаче. Одежда ложится множеством тяжелых складок, и массивно нависают архитектурные формы. Но мастер остался верен главным проблемам феррарской и падуанской школ. Зияния пространства увлекают его так же, как и иллюзия материи во всем разнообразии ее поверхности.
Последний выдающийся мастер феррарской школы, Эрколе де Роберти, совершает тот же поворот, какой произошел в стиле старого Мантеньи: вновь возвращается к готике. Эрколе Роберти был учеником Туры, и его художественная концепция близко примыкает к стилю Козимо Туры. Беспокойным, вечно взволнованным представляется Роберти в своей живописи. Он, очевидно, не удовлетворен каменным, неподвижным стилем своих предшественников, крайним материализмом их мировосприятия, и в поисках одухотворения он часто впадает в обратную крайность — в карикатурную бестелесность образов и в судорожный натиск движения. Насколько радостен оптимизм Коссы, настолько же безотраден пессимизм Роберти. Такие крайности свойственны североитальянской живописи. Она не стремится к интерпретации натуры, она или полностью ее принимает, или так же целиком отвергает. К сожалению, работы Роберти сохранились в очень небольшом количестве. «Иоанн Креститель» (Берлин) так худ и истощен, его скелет настолько обнажен, что он уже перестал быть живым существом, его плащ настолько изорван, что перестал быть одеждой. Это та же материя Мантеньи и Коссы, только истлевшая до последней степени. На двух пределлах Дрезденской галереи изображены «Взятие Христа под стражу» и «Путь на Голгофу». Обе композиции полны беспокойства и судорожной, ничем не оправданной подвижн зсти. Насколько фигуры Мантеньи, Туры и Коссы непоколебимо прочны, настолько у Роберти они шатки, невесомы и бестелесны. И эта дематериализация натуры в соединении со стремительными, некоординированными движениями придает живописному стилю Эрколе Роберти в высокой мере готический характер. В этом смысле Эрколе Роберти занимает в развитии феррарско-падуанской школы приблизительно то же место, что во флорентийской школе представители «второй готики» — Боттичелли или Филиппино Липпи.
Обобщая наши наблюдения над падуанской и феррарской школами живописи, можно сказать, что они в целом проделали то же развитие, что и флорентийская живопись кватроченто, и для Северной Италии сыграли ту же историческую роль, что Флоренция для Средней Италии. Разница только в основных художественных предпосылках. Флорентийские живописцы исходят из изучения конструкции предметов и пространства, живописцев же падуанской и феррарской школ гораздо больше привлекает сама материя, ее вещество, ее поверхность. При этом флорентийцы понимали жизнь как действие, феррарцы же и падуанцы как существование. И подобно тому как флорентийские мастера кватроченто дали предпосылки стилю Высокого Ренессанса, выдвинули новые художественные проблемы, а разрешение свое эти проблемы получили в классическом искусстве Рима, так и падуанскую и феррарскую школы следует рассматривать как пролог к венецианской живописи «золотого века». К характеристике венецианской школы живописи мы теперь и обратимся.
* * *
Венеция занимает особенное место не только в истории итальянского искусства, но и вообще Италии. Венеция живет и развивается как бы совершенно независимо от остальной Италии. У нее свой климат, свои связи с Востоком, свое особенное политическое устройство, которое не имеет аналогий нигде в Европе. У нее огромное богатство; хищническая эксплуатация колоний и высокие торговые прибыли стали главным источником капиталов. Столь раннее экономическое развитие Венеции обусловило и раннюю аристократизацию ее политического строя, патрицианский характер ее культуры. Это была олигархическая купеческая республика; власть находилась в руках немногих богатых семей (из них по наследству выделялись члены так называемого Большого совета). Папская власть не была способна оказать на Венецию никакого влияния. «Прежде всего мы — венецианцы, а потом уж христиане» — этот ответ, который венецианцы дали папе Павлу V, в течение веков был в Венеции своего рода паролем.
21. ФИЛИППИНО ЛИППИ. ЯВЛЕНИЕ МАРИИ СВ. БЕРНАРДУ. ФРЕСКА БАДИИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1486 Г.
22. ФИЛИППИНО ЛИППИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. 1496. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ.
23. ФИЛИППИНО ЛИППИ. МУЧЕНИЯ СВ. ФИЛИППА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ 1487–1502.
24. ПЬЕРО ДИ КОЗИМО. ВЕНЕРА И МАРС. 1490-Е ГГ. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.
25. ПЬЕРО ДИ КОЗИМО. ПОРТРЕТ СИ МОН ЕТТЫ ВЕСПУЧЧИ. ШАНТИЛЬИ, МУЗЕЙ КОНДЕ.
26. ПЬЕРО ДИ КОЗИМО. ПОРТРЕТ ДЖУЛИАНО ДА САНГАЛЛО. ОК. 1500–1510 ГГ. ГААГА, МУЗЕЙ.
27. СКВАРЧОНЕ. МАДОННА. OK. 1450 Г. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.
28. ЯКОПО БЕЛЛИНИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. ОК. 1450 Г. ПАРИЖ. ЛУВР.
29. МАНТЕНЬЯ. КРЕЩЕНИЕ ГЕРМОГЕНА. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ОВЕТАРИ В ЦЕРКВИ ЭРЕМИТАНИ В ПАДУЕ. 1449–1455.
30. МАНТЕНЬЯ. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. 1457–1459. ВЕРОНА. ЦЕРКОВЬ САН ДЗЕНО.
31. МАНТЕНЬЯ. СВ. СЕБАСТЬЯН. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
32. МАНТЕНЬЯ. СВ. ИАКОВА ВЕДУТ НА КАЗНЬ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ОВЕТАРИ В ЦЕРКВИ ЭРЕМИТАНИ В ПАДУЕ. 1449–1455.
33. МАНТЕНЬЯ. КАЗНЬ СВ. ИАКОВА. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ОВЕТАРИ В ЦЕРКВИ ЭРЕМИТАНИ В ПАДУЕ. 1449–1455.
34. МАНТЕНЬЯ. РОСПИСИ КАМЕРЫ ДЕЛЬИ СПОЗИ В ПАЛАЦЦО ДУКАЛЕ В МАНТУЕ. 1474.
35. МАНТЕНЬЯ. ВСТРЕЧА ЛОДОВИКО ГОНЗАГА С КАРДИНАЛОМ ФРАНЧЕСКО ГОНЗАГА. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ КАМЕРЫ ДЕЛЬИ СПОЗИ В ПАЛАЦЦО ДУКАЛЕ В МАНТУЕ. 1474.
36. МАНТЕНЬЯ. ТРИУМФ ЦЕЗАРЯ. 1485–1492. ЛОНДОН, ХЭМ ПТОН-КОРТ.
37. МАНТЕНЬЯ. ЛОДОВИКО ГОНЗАГА СО СВОИМ СЕМЕЙСТВОМ. ФРЕСКА КАМЕРЫ ДЕЛЬИ СПОЗИ В ПАЛАЦЦО ДУКАЛЕ В МАНТУЕ. 1474.
38. МАНТЕНЬЯ. МЕРТВЫЙ ХРИСТОС. ОК. 1500 Г. МИЛАН. ГАЛЕРЕЯ БРЕРА.
39. МАНТЕНЬЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. ДО 1478 Г. ГРАВЮРА.
Наконец, Венеция резко отделяется от остальной Италии непрерывными сношениями с Востоком. Венеция долго сохраняет восточные черты в своем облике, обычаях.
Ту же самую полную независимость проявляют венецианцы и в искусстве. То, чем увлекались художники Флоренции и Рима, оставляет венецианцев холодными. Венецианское искусство не знало такого преклонения перед античностью, какое было характерным для художников римско-флорентийского круга. Венецианские живописцы не проявили никакого интереса к фресковой Технике, в которой созданы были величайшие произведения римско-флорентийской живописи дойная от Джотто и кончая Микеланджело. Венецианские живописцы не изучали с такой ревностью ни анатомии, ни перспективы, ни пропорций. У них нет тяги к теоретической мысли. У венецианских художников все свое — свои темы, свои типы, свои живописные приемы. Не удивительно, что в Венеции искусство развивалось совсем другими этапами, чем в остальной Италии. В Венеции не было по-настоящему ни готики, ни Ренессанса, ни барокко. Была только венецианская живопись, которая брала от Востока и Запада, от Севера и Юга, от прошлого и настоящего то, что было ей нужно для создания особого венецианского стиля.
В чем же состоит принципиальное отличие венецианской живописи от живописи остальной Италии? Венецианцы — прежде всего колористы. Выросло ли это тончайшее чутье колорита под влиянием Византии и ислама или, может быть, его нужно связать с климатом Венеции, с влажностью каналов, создающей прозрачный красочный туман, который обволакивает все предметы? Важно, что главное воздействие венецианской живописи покоится на колорите. Но одного понятия колорита недостаточно для определения сущности венецианской живописи. Колористами были также мастера североевропейской живописи — голландцы и фламандцы. Но их колорит преследует совершенно другие цели. Колорит венецианцев, если так можно сказать, «осязательный» колорит. Их живопись посвящена телесным, вещественным явлениям мира. Блеск золотых кудрей и тяжесть бархата и парчи венецианские живописцы ценили выше всего на свете. Эта пластичность венецианской живописи сближает ее с остальной Италией. Коренная разница заключается, однако, в том, что телесности, пластичности венецианцы достигают не линией и моделировкой, а отношением красок. Известен рассказ о том, как венецианский живописец Джорджоне поспорил с одним скульптором о первенстве между скульптурой и живописью. Скульптор отстаивал первенство пластики: статуя может быть показана со всех четырех сторон, тогда как картину можно рассматривать только с одной точки зрения. Джорджоне же настаивал на преимуществе живописи: статуя бесцветна или однотонна, а картина дает все богатство красочных оттенков природы. В доказательство же того, что и живопись способна создавать впечатление круглых, всесторонних предметов, Джорджоне будто написал картину, в которой изобразил обнаженную фигуру женщины; ее тело отражалось с одной стороны в ручье, с другой стороны — в доспехах, с третьей — в зеркале. Этот рассказ чрезвычайно красноречиво вскрывает живописные идеалы венецианцев. Венецианская живопись есть прежде всего зеркало действительности. Ощутимость вещей, материальность их оболочки, их поверхности, — вот одна из характернейших черт венецианской живописи.
Венецианская живопись кватроченто чрезвычайно запаздывает в своем развитии. Главным задерживающим моментом были византийские традиции, прочно утвердившиеся в венецианском искусстве. Несмотря на то, что в начале XV века Венецию посетил и в ней долгое время работал целый ряд выдающихся мастеров из разных концов Италии — напомню, что в Венеции один за другим работали Джентиле да Фабриано, Пизанелло, Андреа дель Кастаньо, — венецианская живопись почти до середины XV века оставалась верной своим средневековым традициям, смешанным из приемов живописи треченто и византийской мозаики. Знаменитые мозаики собора святого Марка были высшим идеалом для венецианских живописцев, в то время как во Флоренции создавались фрески капеллы Бранкаччи и бронзовые врата баптистерия. Сошлюсь на «Венчание богоматери» самого популярного в те годы венецианского живописца Якобелло дель Фьоре. Совершенно плоскостной характер этой алтарной картины, ее золотой фон, орнаментальное распределение фигур и произвольность пропорций — все указывает на чисто византийские основы творчества Якобелло дель Фьоре. Особенно обращаю ваше внимание на своеобразную пространственную концепцию венецианского мастера. Пышное сооружение трона, на котором происходит «Венчание», изображено таким образом, как будто оно находится перед плоскостью картины, как будто пространство иконы нужно читать не спереди назад, а сзади наперед. Этот чисто византийский прием обратной перспективы чрезвычайно прочно утвердился в дальнейшем развитии венецианской живописи; и даже в ту пору, когда венецианские живописцы полностью усвоили себе приемы центральной перспективы, пережиток этой византийской схемы сохранился в виде барьера или приступочки, которая выходит из картины прямо в реальное пространство зрителя.
Новую страницу в истории венецианской живописи кватроченто открывают примерно в сороковых годах два мастера, основавшие общую мастерскую в пригороде Венеции, Мурано, и положившие начало так называемой муранской школе. Один из них, Джованни д’Алеманья, по-видимому, немец по происхождению, другой — Антонио Виварини, глава многочисленной семьи венецианских живописцев XV века. То обстоятельство, что немецкий художник был одним из основателей муранской школы, сыграло в ее судьбе немаловажную роль. Византийские традиции теперь, несомненно, ослабевают; но их место занимают влияния североевропейского искусства, притом не столько северной живописи, сколько декоративной, раскрашенной пластики. Отсюда стремление муранских мастеров к твердому пластическому рисунку и обилие в их картинах чисто ювелирной пластической декорации. Типичным примером живописи муранской школы может служить «Поклонение волхвов» в Берлине, исполненное ранним представителем школы Мурано Антонио Виварини. Сильнейшее североевропейское влияние сказывается прежде всего в эффекте вечернего освещения, а затем — в пластической лепке обильного золотого орнамента. Не только нимбы и скипетры, но и одежда и знамена, даже шпоры и уздечки выделяются на плоскости картины в виде выпуклого золотого рельефа.
Это своеобразное смешение живописи и пластики, это увлечение ювелирной лепкой предметов достигает крайнего напряжения в творчестве последнего представителя муранской школы — Карло Кривелли. Карло Кривелли — один из самых причудливых художников XV века. Его картины можно узнать с первого же взгляда, настолько силен специфический привкус оригинального стиля мастера. Вместе с тем в живописи Кривелли сочетаются самые противоположные элементы: византийская орнаментальность, страстная экзальтация, экспрессивность поздней готики, холодная каменность падуанской школы и нидерландское чутье интимных деталей. Кривелли умел быть одновременно утонченным и грубым, пышным и интимным. Кажется, что он стремился к максимальной пластической реальности образов; но в результате его картицы поражают своей сказочной невероятностью. Карло Кривелли упоминается в Венеции с 1457 года. Некоторое время был, по-видимому, учеником муранской школы. Позднее Кривелли подпадает под влияние Скварчоне и всецело проникается каменно-пластическим стилем падуанско-феррарской школы. Работает он в Марках. Многочисленные картины Кривелли посвящены исключительно религиозным темам.
Характерный пример раннего стиля Кривелли дает «Мадонна» Веронского музея, относящаяся к середине пятидесятых годов. Влияние мастерской Скварчоне здесь вполне очевидно. Мадонна в виде полуфигуры позади барьера, массивная гирлянда из фруктов, нереальность пропорций и обилие архитектурно-археологических деталей — все эти особенности ярко свидетельствуют о падуанском происхождении живописи Кривелли. Ни типы, ни несколько неуклюжий рисунок не обличают еще будущей утонченной манеры мастера. Но уже в семидесятых годах начинают проявляться специфические черты концепции Кривелли. «Мадонна» из собрания Бенсон в Лондоне иллюстрирует эту переходную стадию в творчестве Кривелли. Парчовое платье мадонны ложится остро очерченными готическими складками; заострились и черты лица мадонны, с типичным для Кривелли миндалевидным разрезом глаз; ее длинные руки с худыми костлявыми пальцами держат младенца преувеличенно изощренным жестом; младенец же изображен в невиданной до сих пор позе — идущим по коленям матери. Но особенно характерна для фантазии Кривелли расщелина в мраморе постамента, возле которой лежат две груши и ползает муха. Еще изощренней, готически орнаментальней фантазия Кривелли становится в картине берлинского музея, изображающей «Магдалину». В самом выборе узкого вертикального формата (перед нами, по всей вероятности, не створка алтарной иконы, а самостоятельная картина) Кривелли проявляет готический уклон своей фантазии. Обратите внимание, каким изысканным жестом Магдалина придерживает свое платье, каким змеевидным орнаментом струятся ее волосы, как заострен ее профиль. Цвет ее тела кажется еще бледнее, гладкость кожи еще глянцевитее от соседства с золотыми пряжками корсажа и блеском драгоценных камней на ее груди. В живописи Кривелли не знаешь, чему верить — фантастической ли сказочности человеческих образов или пластической осязательности оболочки, в которую они наряжены. Венецианская душа Кривелли более всего обнаруживается в этом увлечении поверхностью вещей. Но благодаря традициям падуанской школы Кривелли воспринимает вещи словно в каком-то безвоздушном пространстве, крепкие, как камень, и холодные, как металл. Кривелли еще не столько видит предметы, сколько их осязает.
Своего наибольшего расцвета живопись Кривелли достигает в восьмидесятых годах. Три главных произведения мастера относятся к этому времени. Все три абсолютно различны по своим задачам и построению и все же родственны друг другу благодаря особому привкусу прихотливой фантазии Кривелли и его чрезвычайной чуткости к языку вещей и поверхностей. «Пьета» Бостонского музея представляет собой редкий для Кривелли пример драматически-страстной концепции темы. С готической экспрессивностью Кривелли изображает вопль отчаяния, вырывающийся из раскрытого рта Иоанна, чертит искаженный профиль богоматери, искривляет судорогой длинные пальцы Христа. Но эта экспрессивность Кривелли лишена выразительной силы, она принадлежит только поверхности; по существу искусство Кривелли холодно и жестко. Рядом с ошеломляющей реальностью фруктовой гирлянды, с выпуклым золотым орнаментом на одежде Магдалины гримасы богоматери и Иоанна кажутся застывшими и окаменелыми, превращаются в такой же натюрморт. Еще большим торжеством натюрморта является знаменитое «Благовещение» лондонской Национальной галереи. В этой картине всего заметнее то влияние, которое на Кривелли оказала нидерландская живопись. О нем свидетельствует и эмалево-гладкая фактура картины, и звучность красок, и в особенности любовное внимание к быту, с которым трактована жизнь улицы и уютной комнаты богоматери. Главный сюжет задавлен пестротой переполняющих картину архитектурных и диковинных предметов. Павлин, сидящий на карнизе, ковер, переброшенный через перила балкона, и огромный огурец, высовывающийся за раму картины, — вот главные герои картины Кривелли. Уже в творчестве Кривелли начинается тот процесс секуляризации алтарной иконы, который так характерен для венецианской живописи «золотого века». Сила оптической иллюзии, которой Кривелли достигает в изображении вещей, совершенно поразительна, но она и крайне односторонна в двух отношениях. Во-первых, потому, что, увлеченный пластическим объемом предметов, Кривелли видит все предметы одинаковыми, одинаково крепкими, одинаково блестящими, одинаково яркими. И его фрукты, и его птицы, и его ткани кажутся сделанными из одного вещества, и притом вещества искусственного — не то олова, не то папье-маше. Во-вторых, потому, что Кривелли видит предметы порознь: они не сливаются у него вместе, не объединяются общей атмосферой, общим ритмом жизни, они — натюрморт в самом буквальном смысле слова. Насколько эта органическая, внутренняя связь вещей отсутствует в картинах Кривелли, показывает одна из самых последних и безусловно самых красивых работ мастера, так называемая «Мадонна со свечой» в галерее Брера. Замысел показать мадонну в оправе цветов и фруктов удался Кривелли чудесно. Действительно, все цветет, все переливается драгоценными камнями в этой картине, начиная с букета цветов в темно-красной вазе, с мраморного трона и ковра и кончая цветущей одеждой мадонны. Но это цветение имеет не органический, а чисто декоративный характер. Недаром мастер выбирает и такой специфический узкий формат декоративного панно и такую своеобразную точку зрения сверху, как будто все предметы скатываются вниз орнаментальным узором.
Трудно сказать, как развернулась бы дальнейшая эволюция венецианской живописи, если бы ее судьба была предоставлена нечеловеческой зоркости глаза Кривелли и металлически-орнаментальному гипнозу его живописи. Но как раз в годы расцвета деятельности Кривелли в Венеции появился чужеземец, привезший с собой новые живописные приемы и сумевший угадать будущее венецианской живописи. Кажется, во всей истории искусства нет другого примера, чтобы художник мог за такой короткий срок оставить такой глубокий след в искусстве чужой страны, какой оставил в венецианской живописи Антонелло да Мессина. Как показывает само имя, Антонелло да Мессина был родом из Сицилии. Он родился в Мессине около 1430 года. Каким образом развилось искусство Антонелло да Мессины в этом бедном художественной жизнью центре, до сих пор еще не удалось вполне выяснить. Судя по сохранившимся наиболее ранним произведениям Антонелло, некоторые ученые предполагают, что он испытал влияние нидерландской живописи.
Его искусство сложилось при дворе неаполитанских королей, где была целая колония нидерландских живописцев. У них Антонелло усвоил себе в совершенстве технику масляной живописи, специфический — сочный и звучный нидерландский колорит и овладел тайной североевропейского восприятия натуры. Во всеоружии своего живописного таланта и этих новых для Венеции художественных средств Антонелло да Мессина и появился в городе лагун в 1475 году. В Венеции Антонелло да Мессина успел пробыть всего только полтора года, но его пребывание произвело настоящий переворот в венецианской художественной жизни. Возможно, что в середине семьдесят шестого года Антонелло на короткий срок переселился в Милан, чтобы выполнить несколько портретов по заказу герцога Сфорца, а затем возвратился к себе на родину, где и умер в 1479 году.
Чтобы оценить как следует значение, которое для Венеции имело появление Антонелло да Мессины, надо вспомнить, что одно из главных стремлений венецианской живописи определяется тягой к пластическому колориту. Именно его-то и привез в Венецию Антонелло да Мессина. Мастера падуанско-феррарской школы и еще более Кривелли блестяще владели оптической иллюзией поверхности. Они умели передавать блеск или шероховатость поверхности с такой наглядностью, как будто зритель непосредственно прикасался к предметам. Но, во-первых, острота их зрения делала все предметы одинаково четкими, независимо от расстояния; во-вторых, их глаз воспринимал, кажется, только твердые и жесткие поверхности. Вследствие этого предметы на их картинах производят впечатление холодных, мертвых и словно оголенных. Они видят предметы, но не видят воздуха, окружающего предметы, света и тепла, пронизывающего их. Антонелло да Мессина впервые научил венецианских живописцев различать далекие и близкие предметы, мягкие и жесткие, научил их «видеть» воздух и заставил свет проникать внутрь пространства и внутрь предметов.
Для примера возьмем одну из самых популярных картин Антонелло — «Святой Себастьян» Дрезденской галереи. С точки зрения экспрессии и даже просто тематической логики «Себастьян» Антонелло безусловно уступает всем «Себастьянам», с которыми мы до сих пор познакомились, — и флорентийским, и умбрийским, и падуанским. Его поза кажется слишком равнодушной, кроткая меланхолия взгляда — слишком немотивированной. Но зато с какой мягкостью и гибкостью, с какой теплотой написано его тело. В сущности говоря, можно утверждать, что Антонелло да Мессине первому в истории итальянской живописи удалось изобразить действительно обнаженное тело — с мягкой живостью кожи, с теплой кровью, струящейся под ней. И как благодаря обволакивающему тело воздуху и переходам полутонов круглятся формы тела Себастьяна. Сам художник как будто испытывал особую радость при создавании этих мягко круглящихся форм и от избытка своей пластической энергии рядом со святым изобразил круглый цилиндр колонны. Заметьте также, что на картине Антонелло, впервые за долгую историю изображений святого Себастьяна, стрелы бросают тень на обнаженное тело святого. Наконец, характерный для венецианской живописи светский подход к религиозной теме проявляется, во-первых, в том, что голова Себастьяна лишена нимба; а затем — в чисто жанровой, житейски-обыденной обстановке, на фоне которой изображено мучение святого. Солдат, прячась от зноя, улегся в тени, женщина несет ребенка, венецианки выглядывают со всех балконов, завешенных коврами. Подобные сценки еще Кривелли пытался изобразить в своем «Благовещении», но только у Антонелло да Мессины они приобрели аромат живого венецианского быта. Единственно, чего не хватает Антонелло, в чем проявляется известный архаизм его концепции, это отсутствие органической связи между передним и задним планом, между фигурой и фоном. Достигнуть этого единства и составляет главную задачу венецианских последователей Антонелло.
Если в «Святом Себастьяне» Антонелло показывает, как свет и воздух смягчают контуры предметов и пропитывают их поверхность, то не менее важная заслуга принадлежит сицилийскому мастеру и в изображении воздушной и световой атмосферы в замкнутом пространстве, в интерьере. Интерьер всегда был самым слабым местом итальянских живописцев. Правда, они нередко изображали действие различных легенд происходящим во внутреннем помещении, в замкнутом пространстве комнаты. Но это никогда не был интерьер в полном смысле слова. Это была только линейная схема пространства, некий глубокий ящик, отгороженный с трех сторон голыми стенами, это был только геометрический символ трех измерений. Той специфической среды, того жилого духа, который окружает предметы интерьера, итальянская живопись до сих пор не знала. И в этом смысле картина Антонелло, изображающая святого Иеронима в его монастырской келье (она находится теперь в Лондоне), безусловно может быть названа первым настоящим интерьером итальянской живописи. Конечно, нидерландское влияние здесь особенно сильно сказывается в той особенной тишине, настороженности настроения, которую Антонелло внес в свою картину, и в том мастерстве, с которым обилие световых источников сведено к оптическому единству. Но надо сказать, что и пребывание в Венеции, хоть и очень краткое, оставило заметные следы на творчестве Антонелло. Приступочка с диковинными птицами, своего рода просцениум, соединяющий зрителя с пространством картины, есть несомненная дань Антонелло североитальянской страсти к оптической иллюзии.
Наконец, еще в одной области новаторства Антонелло оказали в высшей степени плодотворное влияние на дальнейшее развитие венецианской живописи — в области портрета. Именно эта специальность стяжала Антонелло наибольшую славу у современников. Портреты Антонелло выделяются крайней простотой и на первый взгляд мало отличаются от традиционной схемы портрета кватроченто. Антонелло обычно довольствуется погрудным изображением. Голова повернута в три четверти, глаза обращены на зрителя. Но, во-первых, портреты Антонелло поражают живописной мягкостью форм, широтой и полнотой письма, каких до сих пор не знала итальянская живопись. Главное же, что Антонелло как будто первый понял, где находится главный ключ к оптическому языку портрета — в глазах и губах. Особенно глаза портретов Антонелло неудержимо привлекают к себе естественной живостью своего выражения, влажной мягкостью взгляда. Глаза действительно смотрят, улыбаются, сердятся или презирают. Только перед портретами Антонелло мы понимаем, что все остальные живописцы кватроченто писали не глаза, а каменные или стеклянные шарики. Чтобы оценить всю богатую восприимчивость Антонелло к оптической выразительности портрета при всем кажущемся однообразии его средств, напомню несколько его мужских портретов. Вот портрет из галереи Боргезе в Риме — с удивительной благожелательностью взгляда и мягко-расплывчатыми чертами лица. Сопоставим с ним портрет так называемого «Кондотьера» в Лувре — жесткий, тупой и упрямый, опять-таки благодаря главным образом красноречию взгляда. Наконец, портрет миланского гражданина (из собрания Тривульцио, ныне в Туринской галерее) с пренебрежительным и в то же время внимательным взглядом человека, привыкшего и умеющего разбираться в людях.
Пребывание Антонелло в Венеции решающим образом повернуло колесо развития венецианской живописи. Византийским традициям была объявлена беспощадная война, падуанские уроки были сразу забыты. Перед венецанскими живописцами встали проблемы «пластического» колорита, живописной поверхности, световой среды, и на овладение этими проблемами с жадностью кинулось все молодое поколение венецианских живописцев. Во главе этого нового движения стали два представителя семейства Беллини, быстро оттеснившие с передовых постов муранскую школу, и заняли господствующее положение в венецианской художественной жизни. С отцом братьев Беллини, Якопо Беллини, мы уже мимоходом познакомились как с неугомонным путешественником и отличным, оригинальным рисовальщиком. История венецианской живописи «золотого века» начинается с деятельности его сыновей — Джентиле и Джованни. Ими положены основы двум главным тематическим направлениям венецианской живописи — жанру и «картинам с настроением». Укреплению новых живописных приемов и задач содействовало и появление нового рода заказчиков. С середины XV века все большую роль в культурной жизни Венеции начинают играть различные братства филантропического назначения, так называемые «scoule». Стены зал, где происходили собрания этих братств, открывают широкое поле для деятельности живописцев. Хотя венецианские скуоле и называли себя именем какого-нибудь святого, но их деятельность имела главным образом светский характер. Соответственно этому и в картинах, которые братства в большом количестве заказывали художникам, стал господствовать светский тон. Отныне светская трактовка даже религиозных тем делается все более популярной в венецианской живописи.
Возникновение специфического венецианского жанра связано с именем старшего из братьев, Джентиле Беллини. Он родился, видимо, в 1429 году и помимо выучки, полученной у отца, очевидно, прошел живописную школу в Падуе. В биографии Джентиле Беллини следует выделить путешествие, совершенное им на Восток, в Константинополь. Сношения Венеции с Востоком, прерванные завоеванием турками Константинополя, были скоро возобновлены, особенно благодаря желанию султана Магомета II распространить эти связи и на области духовной культуры. По просьбе султана венецианский сенат отправил в Константинополь в 1479 году своих «лучших художников», живописца Джентиле Беллини и скульптора Беллано. Одним из интереснейших документов этого путешествия является портрет султана Магомета, написанный Джентиле Беллини и хранящийся теперь в лондонской Национальной галерее. Кроме того, Джентиле Беллини привез с собой из путешествия альбомы, наполненные зарисовками восточных зданий и костюмов. Эти альбомы Джентиле Беллини приобрели большую популярность в венецианских художественных кругах и вновь возбудили интерес венецианских живописцев к Востоку, но теперь уже не к византийскому, а к мусульманскому. По возвращении на родину Джентиле Беллини сделался зорким и этнографически правдивым бытописателем венецианской жизни. Особенно выдающимся живописным талантом Джентиле Беллини не отличался. Тем не менее его историческое значение очень велико. Джентиле Беллини был первым, кто решился на абсолютно точный архитектурный портрет города, на тот вид пейзажной живописи, который в XVIII веке получил название ведуты и так блестяще расцвел в творчестве венецианцев Канале, Белотто и Гварди. Венецианская академия и миланская галерея Брера хранят четыре главных произведения Джентиле Беллини, четыре большие картины, написанные им по заказу братств — скуола ди Сан Джованни и скуола ди Сан Марко. Первая из них — «Большая процессия на площади святого Марка». Поводом для картины послужило чудо, совершенное святой реликвией, находившейся в обладании братства, — исцелился сын одного брешианского купца, склонившегося на колени перед реликвией во время процессии. Но это именно только повод. Даже при самом тщательном изучении картины трудно найти изображение этого мотива. Главной же задачей Джентиле Беллини было исторически верное и полное описание процессии и оптически точное изображение места действия: собора святого Марка, уголка Палаццо дожей и старых Прокураций, окружающих площадь. Никогда еще живопись не изображала действительность с такой объективной наглядностью. Более оживленный тон вносит Джентиле Беллини в композицию и колорит второй картины цикла, где рассказывается о том, как реликвия братства во время торжественного шествия упала в канал и была спасена одним из членов братства. Джентиле Беллини дает здесь и портреты современников, и грандиозную массовую сцену, и ряд отлично наблюденных жанровых эпизодов — например, негра, готового со ступенек спрыгнуть в воду для спасения реликвии.
Но во всем, что пишет Джентиле Беллини, есть какая-то жесткость и сухость. Рассказам Джентиле Беллини так же не хватает воздуха, как воздуха были лишены предметы на картинах Кривелли. Все эти впечатления действительности, которые Джентиле Беллини точно фиксировал на своих полотнах, должны были пройти через призму романтической фантазии, чтобы стать живыми образами. Такой романтик венецианского жанра кватроченто и является в лице ученика Джентиле Беллини — Витторе Карпаччо. О жизни этого художника почти ничего не известно. Но работы Витторе Карпаччо сохранились в изобилии и притом почти исключительно в Венеции. Можно сказать, что само представление о Венеции предельно связано с воспоминаниями о зеленоватых, точно видимых сквозь морскую воду, картинах Карпаччо. Карпаччо писал главным образом по заказу братств, большими циклами. Лучший из них — это первый, который Карпаччо в девяностых годах написал для скуола ди Сайт Ореола и который теперь хранится в Венецианской академии. Цикл этот посвящен легенде о святой Урсуле, но изображает он Венецию, венецианский воздух и венецианские каналы, повседневную жизнь Венеции и ее сказочное очарование. Если Карпаччо рассказывает о том, как английские послы просят у короля Мауруса руку его дочери Урсулы для своего принца, то он изображает сцену приема знатного посольства венецианским сенатом на фоне венецианской гавани, согретой золотисто-зеленоватым светом венецианского солнца. В следующей картине цикла должен быть представлен отъезд английских послов. На самом деле Карпаччо вводит зрителя в венецианский интерьер тогдашнего пышного полувосточного стиля с пестрой мозаикой мрамора и дает обстановку канцелярии венецианского вельможи. Но хотя рассказ Карпаччо так же правдив, как и рассказ Джентиле Беллини, он в то же время полон особого романтического очарования благодаря туманному и светящемуся воздуху Венеции, пропитывающему интерьеры Карпаччо. Особенно чарующее впечатление оставляет четвертая картина цикла: святой Урсуле снится смерть, которая ожидает ее в Кёльне, и в это время ангел является со знаком мученицы — пальмовой ветвью. И все это происходит в уютной спальне венецианской патрицианки, с высоким альковом, с диковинными растениями на окнах, со шкафчиком, хранящим девичьи секреты Урсулы.
В живописи Карпаччо более всего поражает ее естественность, непринужденность, вольность, особенно если подойти к его картинам после знакомства с флорентийскими или падуанскими живописцами. В его картинах нет ни малейшего пафоса, ни малейшего намека на преувеличенность жеста, нет никаких подчеркиваний. Но именно в этом спокойствии концепции кроется глубокая жизненность его образов. Только глядя на картины Карпаччо, мы начинаем понимать истинное значение венецианской живописи. Она первая открыла тайну чисто живописного рассказа — рассказа, который не может быть повторен словами и который может быть выражен только оптическими символами. Само собой разумеется, что подобный подход к концепции картины должен был, естественно, привести к бессюжетному изображению. Под бессюжетной картиной я разумею не только такую, которая лишена драматического или новеллистического сюжета, одним словом, того, что называют «интересным» сюжетом, но в особенности такую, в которой сюжет не предшествует картине, но в самой картине рождается, может быть только из нее «вычитан» в результате созерцания. Величайшим мастером такой бессюжетной живописи, как мы увидим, является Джорджоне. Но Карпаччо был первым, кто осмелился пойти по этому пути. Одна из его картин в Венецианской академии изображает «Двух куртизанок». В тупом безделье две женщины сидят на балконе. Они лениво развлекаются птицами, собаками; кудрявый мальчик играет с павлином; здесь же стоят высокие приставные каблуки — предмет тогдашней затейливой, и стеснительной моды. Еще интереснее другая картина — из собрания Рогонц в Кастаньоле. Перед нами портрет знатного венецианского кавалера, по замыслу — единственный в своем роде. Карпаччо изобразил заказчика в виде рыцаря, на фоне его загородного замка, у берега моря. С зоркостью страстного натуралиста Карпаччо зарисовывает каждое растение, каждый цветок, каждого зверя, обитающего в саду рыцаря. Таким образом, картина Карпаччо дает реальное изображение модели в реальной оправе обстановки. Но вместе с тем это и фантазия, которая вскрывает нам тайные мотивы и предпочтения кавалера: его любовь к природе, его охотничью страсть, его мечты о странствиях и военных подвигах, воплощенные в образе всадника на черном коне. Здесь сюжет не определяет картину, но сам рождается из восприятия натуры художником. Таково первое завоевание школы Беллини.
Мы познакомились с жанровым направлением венецианской живописи, которое возглавлял Джентиле Беллини. Еще значительнее было влияние, которое на судьбы венецианской живописи оказал младший из братьев, Джованни Беллини. Из мастерской Джованни Беллини вышли буквально все выдающиеся мастера венецианского «золотого века». Можно утверждать, что в течение по меньшей мере пятидесяти лет венецианская живопись жила почти исключительно проблемами, приемами и образами, которые дал в своих картинах Джованни Беллини. Джованни Беллини прожил очень долгую жизнь. Он родился около 1430-го и умер в 1516 году. Его главным вдохновителем был Мантенья; позднее сильнейшее влияние на сложение живописного стиля Джованни Беллини оказал Антонелло да Мессина. За исключением самого раннего периода своей деятельности, когда Джованни Беллини был верным последователем Мантеньи, и начиная с того момента, когда он создал свой собственный стиль, искусство Беллини почти не пережило никаких изменений, не испытало никакой резкой эволюции. Творческий путь Джованни Беллини отличается изумительной ровностью и спокойствием. Кажется, что мастер не знал никаких разочарований и сомнений. Искусство Беллини, несомненно, несколько однообразно. Мастер избрал себе немного тем — мадонну с младенцем, Пьету, Sacra conversazione — и в течение всей своей долгой жизни не уставал их варьировать. Но вместе с тем искусство Беллини поражает своей сознательностью и последовательностью. Вряд ли во всей истории живописи мы найдем другого художника, который бы с таким упорством добивался совершенства в пределах определенной, раз навсегда поставленной себе задачи. Эту задачу живописи Беллини можно определить как атмосферу, физическую или духовную, или иначе — как настроение.
Мы пройдем мимо первого периода деятельности Беллини, когда молодой художник находился в полной зависимости от падуанско-феррарской школы, когда его живопись отличалась такой же жесткостью, когда он писал такие же, как Мантенья, каменные пейзажи и такие же, как Тура, крючковатые пальцы и колючие складки. Завершением этого периода можно считать картину, которая находится в Брере и изображает богоматерь и Иоанна, поддерживающих тело мертвого Христа. Картина написана, вероятно, в начале семидесятых годов. Следы влияния Мантеньи еще очень заметны — в жесткой угловатости рисунка, в окаменелых складках, в характерной двухосной композиции. Но вместе с тем начинает сказываться и специфическое свойство концепции Джованни Беллини — большая теплота и мягкость, почти женственность чувств. Очень характерно для Беллини движение богоматери, как бы стремящейся слиться воедино с телом Христа.
Совершенно избавиться от пережитков падуанской школы Беллини, однако, удается очень нескоро, его развитие идет крайне медленным шагом. Но оно удивительно последовательно. С каждой картиной усиливается эмоциональное отношение к природе, музыкальность концепции. Беллини стремится передать само настроение вечера или наступающего утра, когда природа просыпается очищенная, бодрая. Но всегда у него ликующее настроение подернуто глубокой и сладостной грустью. Вместе с тем его живопись становится все более сочной, колорит приобретает золотой, горячий, иногда пылающий оттенок. Пожалуй, только к концу восьмидесятых годов можно говорить о вполне сложившемся, самостоятельном стиле мастера. В области самой излюбленной темы Беллини, изображения богоматери, этот сложившийся стиль лучше всего может иллюстрировать так называемая «Мадонна с деревцами», хранящаяся в Венецианской академии. Почти все мадонны Беллини принадлежат к одному и тому же типу. Мадонна изображена в виде полуфигуры, позади барьера, на котором сидит или, чаще всего, стоит младенец. Почти всегда фоном служит пейзаж, от которого мадонна обычно отделена или занавесом, или высокой спинкой трона. Различаются композиции только поворотом младенца, жестом рук мадонны или прибавлением каких-нибудь сопровождающих фигур. И мадонна и младенец у Беллини всегда миловидны, очень просты и серьезны. Они не печальны и не улыбаются, но всегда погружены в ровную и важную задумчивость. Это чувство задумчивости, которое невольно передается и зрителю, составляет как бы воздух картин Беллини. Никто до него не умел так соединять все помыслы зрителя на какой-то неопределенной сосредоточенности, приводить его к бесстрастному и беспредметному созерцанию. Картины Беллини создают настроение, подобное тому, какое бывает на границе между бодрствованием и сном. Это настроение вызывается отчасти самой концепцией темы, самим подбором типов, жестов и положений, но ему в высокой мере содействуют также чисто живописные качества картин Беллини. У Антонелло да Мессины Беллини заимствовал тайну «пластического» колорита. Но постепенно Беллини далеко превосходит своего вдохновителя в смысле мягкости переходов, растворения контуров, в смысле чувственного и пространственного звучания краски. Уже в «Мадонне с деревцами» можно наблюдать чрезвычайную нежность и ощутимость воздушной среды, обволакивающей формы. И эта мягкая воздушная атмосфера, сливаясь с атмосферой духовной, создает то чудесное рассеяние мыслей и чувств, ту мечтательность настроения, которая составляет главное очарование живописи Джованни Беллини.
Для того чтобы дать представление о том, какой степени совершенства Беллини достигает в этом направлении, напомню одну из самых замечательных работ мастера в чисто живописном отношении, исполненную им в зените своего таланта, в 1506 году. Это алтарная икона из церкви Сан Дзаккария в Венеции; она принадлежит к другому излюбленному типу композиции Беллини — к типу Sacra conversazione, где Беллини развивает дальше предпосылки, полученные от падуанской школы. Мадонна на троне в углублении круглой ниши в сопровождении четырех святых и ангела, играющего на виоле, — эта схема нескончаемое количество раз повторялась венецианскими живописцами «золотого века», но никто не умел в ней достигнуть такой благоговейной тишины, как Беллини. Здесь чары беллиниевского настроения еще в большей степени зависят от чисто живописных средств — от полусумерек глубокой ниши, от золотистого света, пронизывающего и согревающего атмосферу. Два свойства колорита Беллини особенно следует выделить. Во-первых, изумительную прозрачность его красок, как бы светящихся внутренним светом. Во-вторых, их непреоборимый пространственный гипноз. Живописные приемы Беллини таковы, что мы не видим поверхности картины, не сознаем самого пигмента красок. Каждая краска отступает в глубину на то расстояние, которое соответствует ее силе и ее светоносности; и, таким образом, между зрителем и изображенными предметами все время как бы вибрирует пелена пространства. Не будет преувеличением сказать, что это открытие Беллини предопределило всю дальнейшую судьбу европейской живописи и что собственно только с этого момента определились специфические качества европейской живописи, которых не знала и не знает живопись внеевропейских стран.
Хотя главная деятельность Беллини посвящена была религиозным темам и именно в этой области он стяжал себе наибольшую славу, но среди его картин есть небольшое число, написанных на мифологические и аллегорические темы. Две из них безусловно должны быть названы высшими достижениями Беллини. Первая находится в Уффици и носит название «Души в чистилище». И действительно, ее содержание крайне туманно, с тем преобладанием настроения над сюжетом, которое так характерно для венецианской живописи, начиная с Беллини. Изображена терраса, выстланная разноцветными плитами и обнесенная венецианскими мраморными перилами. Терраса расположена на берегу каких-то особенно спокойных, уснувших вод. На другом берегу — скалистые горы с пещерами и замок. На террасе — ряд фигур. Мадонна на троне с молитвенно сложенными руками, молодая женщина в черном платке, такие до сих пор носят венецианки. За мраморными перилами два старика, по-видимому, апостолы Петр и Павел. Посредине же террасы в глиняной вазе растет дерево с золотыми яблоками, возле которого играют четверо младенцев. С правого конца террасы к дереву медленно приближаются святой Иов и святой Себастьян. Если присмотреться внимательнее, то и на другом берегу можно найти странные фигуры — пастуха, пустынника, кентавра. Только недавно сюжет этой картины был до некоторой степени разгадан. Оказалось, что сюжет заимствован из французской поэмы XIV века под названием «Паломничество души». Младенцы — это души чистилища, о которых молятся их святые покровители. Но это иконографическое истолкование не дает настоящего ключа к картине Беллини, потому что дело не столько в том, что изображено, сколько в самом чувстве мягкого лиризма, которым проникнуты и фигуры, и воздух, и заснувшие воды, и сумеречный пейзаж. Беллини изобразил сон, то состояние забвения природы, когда нет ни шелеста листьев, ни плеска воды, когда звучат только голоса блуждающих и созерцающих душ. Не менее замечательна и другая картина Беллини. Особенно, если вспомнить, что она написана за два года до смерти мастера, когда ему исполнилось восемьдесят четыре года. Она называется «Пир богов», и Беллини написал ее по заказу герцога Альфонсо д’Эсте. Но и здесь дело, конечно, не в богах и не в пире, а в изумительном слиянии человека с природой, с прохладным вечерним пейзажем, в чувстве благодати, разлитой во всей картине. Люди и здесь тоже ничего не делают, точно застыли в ожидании какой-то нечаянной радости или, может быть, прислушиваются к звукам неслышной для зрителя, но как бы видимой музыки. От этой картины ведет прямой путь не только к Джорджоне, но и к Пуссену.
На Джованни Беллини зиждется вся венецианская живопись так называемого «золотого века». В его искусстве заложены основы и для романтических настроений Джорджоне и для красочных пиршеств Тициана.
XXII
ЕСЛИ СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ стоит до известной степени особняком в истории итальянской живописи, то Средняя Италия во главе с умбрийской школой, напротив, все более входит в соприкосновение с главным руслом художественного развития, и ее живопись в подготовке классического стиля чинквеченто играет не меньшую роль, чем живопись Флоренции. Социально-политическое развитие в Умбрии шло иначе, чем в Тоскане. Здесь не было крупного объединяющего городского центра (как Флоренция). Умбрия состояла из ряда небольших городов вперемежку с крупными феодальными поместьями; поэтому в ней было больше феодальных традиций. В XIV веке в Умбрии распространилось придворно-рыцарское искусство, занесенное из Бургундии, значительны были также культурные связи со Сьеной, Венецией, Северной Европой.
В первой половине XV века умбрийская школа не имеет самостоятельного значения. С одним ее представителем мы уже познакомились — с Джентиле да Фабриано. Но его искусство послужило не столько к образованию местной живописной школы, сколько выполняло роль посредника между различными направлениями эпохи. Что касается Пьеро делла Франческа, тоже умбрийца по художественному происхождению, то его искусство вышло за пределы не только местной школы, но и за пределы вообще национально-итальянских художественных предпосылок. Остальные же представители умбрийской школы в первой половине XV века находятся в своем искусстве всецело под обаянием Сьены и упорно культивируют запоздалые традиции треченто. Характерным примером может служить творчество Бенедетто Бонфильи. Его «Благовещение» (в Перудже) отлично знакомит нас с этой орнаментальной, изящной и в то же время немного жесткой живописью, в которой так много пережитков осталось от блестящего сьенского треченто. Быть может, только в одном отношении — в мастерском использовании архитектурных фонов для декоративного расчленения плоскости картины и для подчеркивания композиционных акцентов — живопись Бенедетто Бонфильи предвосхищает важное качество умбрийской школы в эпоху ее последующего расцвета. Этот запоздалый готицизм умбрийской школы начинает рассасываться только в семидесятых годах, когда ряд выдающихся умбрийских живописцев завязывает непосредственные отношения с Флоренцией, проникается ее художественными проблемами и на этих новых предпосылках строит свой оригинальный местный стиль. Только с этого момента можно говорить собственно о самостоятельной умбрийской школе живописи.
Если сравнивать умбрийскую школу с флорентийской, то прежде всего следует отметить, что умбрийская живопись гораздо религиозней флорентийской. Конечно, и картины флорентийской школы в подавляющем большинстве написаны на религиозные темы. Но религиозные темы во Флоренции представляют собой обычно только повод для изучения действительности, для увлекательного рассказа, для постановки той или иной формальной проблемы. В умбрийской школе религиозные темы являются для живописцев самоцелью. Умбрийский живописец руководствуется не столько интеллектом, сколько воображением и чувством, и по большей части именно религиозным чувством. Поэтому на первом месте в умбрийской школе стоит не фреска, а икона и затем еще специальный умбрийский вид живописи — так называемые «gonfaloni», то есть прецессионные знамена. Умбрийская живопись вообще гораздо менее проблематична, чем флорентийская. Художественной задачей умбрийского живописца является не столько правда, сколько красота. Не к размышлению призывают его картины зрителя, а к любованию. Во имя изящества он в гораздо большей степени, чем флорентиец, готов принести в жертву натуральность. Умбрийская живопись часто гораздо привлекательнее флорентийской, но и гораздо однообразнее. И еще одно: в центре умбрийской живописи не стоит в такой мере человек, как во флорентийской. Глаз умбрийского живописца больше блуждает вокруг человека, более чувствителен к восприятию пространства, пейзажа, архитектуры. Поэтому умбрийская живопись гораздо пассивнее, ритмичнее и декоративнее, чем флорентийская. Конечно, эту общую характеристику нельзя в одинаковой мере отнести ко всем крупным умбрийским живописцам. В их творчестве есть самые различные оттенки. По своему духу ближе всего к флорентийской школе стоит Лука Синьорелли и дальше всего от нее, на чисто умбрийских началах, — Пьетро Перуджино. Главным художественным центром умбрийской школы является Перуджа. Но рядом с ней немаловажную историческую роль в создании умбрийского стиля сыграли и другие города, как Урбино, Кортона, Орвьето. Начнем наш обзор с Перуджи, слава которой зиждется главным образом на двух живописцах — Пинтуриккьо и Перуджино.
Самым младшим из крупных умбрийских мастеров и в то же время самым архаичным по своей художественной концепции является Пинтуриккьо. Бернардино ди Биаджо, прозванный Пинтуриккьо, родился около 1454-го и умер в 1513 году, то есть его творчество захватывает значительную часть классического периода. Но в его творчестве еще сильны отзвуки архаизирующего умбрийского стиля. Он любит позолоту, его фигуры отличаются хрупкими пропорциями и грациозно-жеманными движениями, его рисунок склонен к узору. Лучше всего его живопись можно сравнивать с теми флорентийскими живописцами, которых мы назвали «рассказчиками», как Беноццо Гоццоли или Доменико Гирландайо. Подобно им и Пинтуриккьо предпочитает фреску станковой картине. И он любит большие декоративные циклы, любит уснащать свои композиции портретами современников и всякими жанровыми подробностями. Но все же его нельзя назвать «рассказчиком» в том смысле, как того заслуживают многие из флорентийских живописцев. Потому что центр тяжести в его фресках лежит не на рассказе, не на жизненной выпуклости темы, а на общем декоративном ритме, на создании чисто зрительной радости. Для флорентийских мастеров фрески каждая картина есть сцена, подобная театральной, обладающая самостоятельной драматической и логической цельностью. Поэтому при созерцании фресковых циклов Беноццо Гоццоли и Гирландайо хочется выделить каждую картину и рассматривать ее отдельно. Для Пинтуриккьо каждая фреска есть некая декоративная плоскость, подлежащая украшению, связанная с соседними и подчиненная общему декоративному ансамблю. Поэтому фресковые циклы Пинтуриккьо могут производить настоящее впечатление только на месте, только в своей органической обстановке. Флорентийские мастера фрески часто хотят быть драматургами и иллюстраторами, Пинтуриккьо же только декоратор. Флорентийские мастера фрески обычно удовлетворяются в своих декоративных циклах несколькими фресками по стенам залы или капеллы. Пинтуриккьо же стремится охватить в своей декоративной концепции все пространство комнаты от пола до потолка.
Три таких декоративных цикла составляют главную славу Пинтуриккьо. К первому из них Пинтуриккьо приступил в 1493 году. Это роспись по заказу папы Александра VI четырех комнат в Ватикане, так называемых апартаментов Борджа. Четыре комнаты апартаментов лежат на одной оси. Предвосхищая концепцию Рафаэля в станцах Ватикана, Пинтуриккьо замышляет украшение всей анфилады комнат как тематическое и декоративное целое. Тематический стержень росписи еще имеет вполне средневековый, церковный характер: церковные праздники, жизнь святых, семь свободных искусств. Но в эту схоластическую программу вплетено прославление имени и герба Борджа в виде легенды об Озирисе, Изиде и Аписе. Напомним главную комнату апартаментов Борджа, получившую название «комнаты святых легенд». Во всех апартаментах проведен один и тот же декоративный принцип. Нижняя часть стены, как замкнутая плоскость, расчленена чисто орнаментально. Светлый, широкий карниз отделяет люнеты сводов, в которых помещены повествовательные фрески. Благодаря такому делению создается незнакомая флорентийской декоративной живописи удивительная гармония между замкнутыми стенами интерьера и свободным, как бы открытым в пейзаж пространством сводов. Радостное, праздничное впечатление подчеркнуто цветными плитами каменного пола, сияющими красками потолочной росписи, в которой преобладает золотой орнамент на синем фоне, и в особенности пестрыми пилястрами, где Пинтуриккьо впервые применяет орнаментальную систему так называемых гротесков (того декоративного смешения орнаментальных и фантастически-фигурных мотивов, которое было распространено в античной живописи и образцы которого были найдены в «гротах», то есть в подземных руинах Древнего Рима).
Однако наиболее совершенным декоративным достижением Пинтуриккьо надо считать роспись соборной библиотеки в Сьене, законченную им в 1508 году. Впечатление, которое испытывает посетитель этой узкой, капеллообразной залы, принадлежит к самым сильным впечатлениям итальянского кватроченто. Пинтуриккьо воспользовался реальными пилястрами, расчленяющими стены и поддерживающими своды, дополнил их воображаемыми пилястрами, перекинул через них воображаемые своды и заставил действие своих фресок разыгрываться позади этой полуреальной, полувоображаемой архитектуры. Таким образом, впечатление реальных стен и потолка, чувство замкнутого интерьера сохранилось, но вместе с тем эти реальные стены раздвигаются и как бы наполняются свежим воздухом, в котором так легко дышать. Перед этим общим свободным ритмом декорации впечатление от отдельных фресок отступает на второй план.
Пинтуриккьо пересказывает жизнь гуманиста Энеа Сильвио Пикколомини, впоследствии папы Пия II. Это новая гуманистическая тематика. В первой фреске, например, изображено отправление кардинала Капраника на Базельский собор, причем юноша, гарцующий на белом коне в свите кардинала, и есть тогда еще никому не известный Энеа Сильвио. Стиль фресок Пинтуриккьо в высокой мере архаичен, ему свойственна сказочность народной книжки, ребяческая ясность и непосредственность. Это как бы не жизнь, а ее церемонии; нет героев, действия. Как Джентиле да Фабриано, Пинтуриккьо любит пестрые одежды, всевозможные породы животных; его фигуры непрочно стоят на земле, и их движения неубедительны; его пейзажные фоны имеют всегда какой-то кукольный характер, и даже такие занимательные подробности, как, например, радуга или ливень из темной грозовой тучи, не придают им правдивости, а, напротив, еще усиливают их условный, чисто декоративный характер.
Вторая фреска цикла изображает Пикколомини в качестве посла перед шотландским королем. И она весьма мало драматична, невыразительна в типах. Фигуры отличаются готическими удлиненными пропорциями и хрупкой жеманностью поз (обратите внимание на характерно умбрийский лирический наклон голов то вправо, то влево). Если присмотреться повнимательнее, то мы найдем еще два момента художественной концепции Пинтуриккьо, которые сильнейшим образом проникнуты духом готики. Во-первых, три горизонта, три точки зрения, то есть готический сукцессивный метод восприятия. Один горизонт для пилястров и арки обрамления, второй — для главной сцены и третий — для пейзажа. Кроме того, отметим прием Пинтуриккьо, который он повторяет почти во всех фресках сьенского цикла: средний план погружен в полусумрак, благодаря чему все фигуры, деревья, архитектурные профили вырисовываются темными силуэтами на светлом фоне неба и далекого пейзажа. Но все эти архаизмы, всю наивность характеристики, всю поверхностную декоративность своего рисунка и колорита Пинтуриккьо искупает одним — чудесным чутьем глубины, в которой так легко располагаются фигуры, ритмом широкого, свободного пространства. Особенно ярко это ценное качество живописи Пинтуриккьо проявляется в третьей фреске сьенского цикла, изображающей, как император Фридрих венчает Энеа Сильвио лаврами поэта. В этом чувстве свободного дыхания пространства, которого лишена флорентийская живопись, сказывается умбрийская природа искусства Пинтуриккьо. Оно-то и делает из Пинтуриккьо важного предшественника классического стиля, и в особенности Рафаэля.
Но у Пинтуриккьо это чутье пространства не идет дальше поверхностных и случайных декоративных эффектов. Другой выдающийся умбрийский мастер, Перуджино, вполне сознательно делает пространство главным орудием своей живописи. Живопись Перуджино, когда-то пользовавшаяся неограниченными симпатиями любителей итальянского искусства, в наши дни вызывает, скорее, отрицательную оценку. И действительно, всякому, кто знакомится с произведениями Перуджино после встречи с флорентийским искусством, бросается в глаза полное бессилие Перуджино как раз в тех проблемах, в которых так сильны флорентийцы, — в драматическом рассказе, в выразительной характеристике, в быстроте наблюдения, в трактовке движений. В восприятии человека Перуджино крайне однообразен и условен. Раз установленную схему грациозно изгибающейся позы и сентиментально-благочестивого взгляда он без изменения повторяет в своих картинах. Но такой подход к живописи Перуджино вряд ли справедлив. Искусство Перуджино надлежит рассматривать не с флорентийской, а с умбрийской точки зрения. И если проникнуться этим умбрийским критерием, то искусство Перуджино способно нам доставить огромное наслаждение. Потому что Перуджино открывает новый источник художественного воздействия — воздействия чистым пространством, его просторностью, его гармонией, его настроением.
Пьетро Вануччи, прозванный по месту своей главной деятельности Перуджино, родился в Местечке Читта делла Пьеве около 1450 года, первоначальную живописную школу прошел в мастерской местного живописца Фиоренцо ди Лоренцо и в юности испытал, несомненно, сильное слияние Пьеро делла Франческа. В конце шестидесятых годов мы застаем Перуджино во Флоренции. Он вступает в мастерскую Верроккьо, где работает бок о бок с Леонардо да Винчи. Все усилия ученых отыскать произведения Перуджино юношеского периода до сих пор не увенчались Спехом. Первое документально удостоверенное и датированное произведение Перуджино относится только к 1478 году. Это — сильно испорченная фреска в церкви Магдалины в Черквето, Изображающая святого Себастьяна. Следы флорентийской школы ясно проявляются в уверенной разработке сочленений и мускулов, в пластической моделировке тела. Но рядом с флорентийскими элементами намечаются и природные свойства таланта Перуджино. Говоря музыкальным термином, более мягкая, певучая кантилена линии; изогнутая в виде буквы S ось тела, создающая несколько искусственный, но чрезвычайно богатый ритм движений; и, наконец, благочестиволирическое настроение, которое находит себе выход в мечтательно устремленном кверху взгляде («голубином» взгляде, как говорили современники).
Отныне эта схема становится неизменной в живописи Перуджино. И если мы наугад возьмем любого из многочисленных святых Себастьянов, которых Перуджино написал в последующие годы, например «Святого Себастьяна» из Лувра, который исполнен спустя пятнадцать лет после «Себастьяна» в Черквето, то увидим, что концепция человеческого тела, интерпретация темы и позы ни на йоту не изменились (с той только разницей, что поворот вправо сменился поворотом влево). Нужно, однако, иметь в виду, что эта схема баланса тела, найденная Перуджино, оказалась роковой не только для него самого, но оказала сильнейшее влияние на формопонимание классического искусства. В эпоху Высокого Ренессанса этот контраст между двумя половинами тела — одной отягощенной и другой разгруженной — приобретает широкое распространение и получает специальное название контрапоста. Сущность этого баланса тела заключается в том, что всякому движению в одной части тела противопоставлено контрдвижение в другой, соседней. Так, правая нога прочно опирается на землю, тогда как левая нога свободно балансирует, чуть касаясь земли кончиками пальцев. Благодаря этому нижняя часть тела отклоняется влево, но это движение балансируется противоположным движением корпуса вправо, за которым опять следует поворот головы влево. Другими словами, парные элементы человеческого тела никогда не находятся на одном уровне: если правое колено выше левого, то, напротив, правое плечо ниже левого (контраст, который Перуджино еще подчеркивает размещением стрел). Таким образом, находясь в полном покое, все тело оказывается в то же время в состоянии непрерывного движения. Но это движение имеет не внешнюю цель, а выступает как отражение внутренней жизни. Искусство Перуджино религиозно, но оно религиозно совсем не в том смысле, как это понимали до сих пор. Религиозность Перуджино не есть религиозность веры, как в живописи треченто, и не религиозность действий, как во флорентийской живописи кватроченто, а религиозность чувства. И тогда нам становится понятно, почему не человек, а пространство сделалось главным героем живописи Перуджино. Потому что религиозное чувство выражается у него в сознании слияния человека с вселенной, растворения человеческой единицы в мироздании. Это слияние и составляет главную и, пожалуй, единственную тему искусства Перуджино.
Но вернемся к последовательному обзору развития Перуджино. Перуджино был уже знаменитым мастером, когда в 1481 году папа Сикст IV привлек его к росписи Сикстинской капеллы наряду с самыми прославленными флорентийцами той эпохи. И нужно отдать справедливость Перуджино, его фреска — единственная в росписях, которая до некоторой степени выдерживает соседство со «Страшным судом» Микеланджело. Фреска Перуджино изображает «Передачу ключей апостолу Петру». Перуджино помещает главную сцену на самом переднем плане, в виде темной рельефной полосы на светлом фоне. В этом смысле он еще чистый кватрочентист. Но вместе с тем во фреске Перуджино есть некоторые свойства, которые сильно отличают его от соперников и определяют его превосходство, его приближение к классическому стилю. Во-первых, упрощение и обобщение композиции. Перуджино определенно старается избавиться от типичной для всех его сотоварищей по росписям многоречивости. Он рассказывает только одно событие. За исключением нескольких портретов по краям картины, в композиции нет лишних фигур. Жанровый аккомпанемент отодвинут на задний план и показан в маленьких фигурках, которые не отвлекают внимания от главной сцены.
40. КОЗИМО ТУРА. ПЬЕТА. ОК. 1472 Г. ВЕНЕЦИЯ, МУЗЕЙ КОРРЕР.
41. КОЗИМО ТУРА. СВ. СЕБАСТЬЯН. ДРЕЗДЕН, КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
42. ФРАНЧЕСКО КОССА. ФРЕСКИ ПАЛАЦЦО СКИФАНОЙЯ В ФЕРРАРЕ. 1470.
43. ФРАНЧЕСКО КОССА. БЕГА. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ПАЛАЦЦО СКИФАНОЙЯ В ФЕРРАРЕ. 1470.
44. ЭРКОЛЕ ДЕИ РОБЕРТИ. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.
45. КАРЛО КРИВЕЛЛИ. МАДОННА СО СВЕЧОЙ. 1492. МИЛАН. ГАЛЕРЕЯ БРЕРА.
46. КАРЛО КРИВЕЛЛИ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 1486. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
47. АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ. ОК. 1473 Г. РИМ. ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ.
48. АНТОНЕЛЛО ДА МЕССИНА. СВ. СЕБАСТЬЯН. 1476. ДРЕЗДЕН, КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
49. ДЖЕНТИЛЕ БЕЛЛИНИ. ПРОЦЕССИЯ НА ПЛОЩАДИ СВ. МАРКА. МЕЖДУ 1496 И 1500 ГГ. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
50. ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО. СОН СВ. УРСУЛЫ. 1490–1495. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
51. ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО. КУРТИЗАНКИ. ВЕНЕЦИЯ. МУЗЕЙ КОРРЕР.
52. ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. МАДОННА НА ТРОНЕ В ОКРУЖЕНИИ СВЯТЫХ. 1505. ВЕНЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САН ДЗАККАРИЯ.
53. ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. ДУШИ В ЧИСТИЛИЩЕ. ОК. 1488 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
54. ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. МАДОННА С ДЕРЕВЦАМИ. 1487. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
55. ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. ПОРТРЕТ ДОЖА ЛОРЕДАНО. ДО 1507 Г. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
56. ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. ПИР БОГОВ. 1514. ВАШИНГТОН. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
57. ПИНТУРИККЬО. РОСПИСИ АПАРТАМЕНТОВ БОРДЖА В ВАТИКАНЕ. 1493–1494. ДЕТАЛЬ.
58. ПИНТУРИККЬО. ОТПРАВЛЕНИЕ КАРДИНАЛА КАПРАНИКА НА БАЗЕЛЬСКИЙ СОБОР. ФРЕСКА БИБЛИОТЕКИ СОБОРА ВСЬЕНЕ. 1503–1508.
59. ПЕРУДЖИНО. СВ. СЕБАСТЬЯН. ПАРИЖ, ЛУВР.
60. ПЕРУДЖИНО. РАСПЯТИЕ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА MAPHJ МАДДАЛЕНА ДЕИ ПАЦЦИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1496.
61. ПЕРУДЖИНО. ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ. ФРЕСКА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ В ВАТИКАНЕ. 1481–1482.
62. ПЕРУДЖИНО. ЯВЛЕНИЕ МАРИИ СВ. БЕРНГАРДУ. ОК. 1490 1494 ГГ. МЮНХЕН. СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА.
63. МЕЛОЦЦО ДА ФОРЛИ. УЧРЕЖДЕНИЕ ВАТИКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПАПОЙ СИКСТОМ IV. 1477. ВАТИКАН. ПИНАКОТЕКА.
64. МЕЛОЦЦО ДА ФОРЛИ. АНГЕЛ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ «ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА» ЦЕРКВИ САНТИ АПОСТОЛИ В РИМЕ. ДО 1481 Г. ВАТИКАН, ПИНАКОТЕКА.
65. МЕЛОЦЦО ДА ФОРЛИ. АНГЕЛ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ПОТОЛКА РИЗНИЦЫ СОБОРА В ЛОРЕТО. ОК. 1477 Г.
66. ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ. СВ. СЕМЕЙСТВО. КОНЕЦ 1490-Х ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
67. ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ. РОЖДЕСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. ПАРИЖ, ЛУВР.
68. ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА. OK. 1475–1480 ГГ. МИЛАН. ГАЛЕРЕЯ БРЕРА.
69. ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ. ГИБЕЛЬ МИРА. ФРЕСКА ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЙ СУД» СОБОРА В ОРВЬЕТО. 1499–1504.
70. ЛУКА СИНЬОРЕЛЛИ. ИСТОРИЯ АНТИХРИСТА. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЙ СУД» СОБОРА В ОРВЬЕТО. 1499–1504.
Во-вторых, симметрия, равновесие. Центрическое здание возвышается над головами Христа и Петра; апостолы соединены в группы; края композиции уравновешены двумя триумфальными арками. Главное же — пространство, свободное, просторное, раскрывающееся в глубину и во все стороны позади фигур. Так легко еще никогда не дышалось на фресках кватрочентистов. Но во фреске Сикстинской капеллы Перуджино еще не вполне овладел ритмом пространства. Фигуры и пространство еще существуют независимо друг от друга; пространство является только фоном, только пустотой позади фигур. В дальнейшем все усилия Перуджино направлены к тому, чтобы связать пространство и фигуры воедино и чтобы подчинить фигуры пространственному ритму. Хочется отметить еще один характерный признак примитивной концепции — преувеличенно большие размеры ключа. Классический стиль никогда не допустил бы такой наивной символики.
В девяностых годах живописный стиль Перуджино достигает своего полного расцвета. Одним из самых совершенных достижений Перуджино в области алтарной картины надо считать «Явление богоматери святому Бернарду», написанное около 1490–1491 года и теперь находящееся в Мюнхене. Не трудно видеть, что Перуджино весьма посредственный рассказчик. Если сравнить его «Явление богоматери» с картиной Филиппино Липпи на аналогичную тему, то насколько же концепция Филиппино сердечней, искренней, богаче психологическими оттенками. Перуджино довольствуется стереотипными позами и общим благочестивым настроением. Ему неправильно предъявлять требования увлекательного рассказа или сильной экспрессии. Его задача совсем в другом. Для него фигуры важны не сами по себе, а как звенья, как резонаторы пространства. Перуджино в корне изменил самое понятие композиции. До него композиция понималась как распределение элементов картины на плоскости. Начиная с Перуджино понятие композиции приобретает пространственное значение. Фигуры для него — это те же колонны, пилястры и арки, отмеряющие ритм пространства и перекидывающие его дальше мягкой мелодией своих движений. Никто до Перуджино не умел находить такого удивительного созвучия между фигурами и архитектурой. Обратите внимание на линию, которая начинается у кончика правой ноги богоматери, проходит по всему ее телу, продолжается в дуге арки, подхватывается жестом святого Бернарда и передается обратно к руке мадонны через пюпитр. В смысле упрощения композиции Перуджино идет теперь еще дальше, откидывая всякий жанровый и портретный балласт. А вместе с этим балластом из картин Перуджино исчезает тот элемент современного, индивидуального, однократного, к которому так стремились флорентийские живописцы кватроченто. Перуджино изображает не происшествия, не моменты, а какие-то длительные настроения, какие-то очищенные от всех случайностей состояния духа. Стиль Перуджино должен быть назван безусловно стилем идеальным — и в этом смысле Перуджино не только предшественник, но до некоторой степени и участник Высокого Ренессанса.
Чего Перуджино не хватает, чтобы сделаться полноправным представителем классического стиля, это объективности, во-первых, и активной силы, во-вторых. Искусство Перуджино пассивное, созерцательное, не волевое, а эмоциональное. Поэтому ему лучше всего и удаются те композиции, в которых основной темой является это благочестивое созерцание. Таков, например, триптих лондонской Национальной галереи, средняя часть которого изображает «Поклонение младенцу». И в этой картине главная ценность заложена не в человеческих фигурах, не в мадонне в условной молитвенной позе и не в стереотипном хрупком изяществе ангелов, а в атмосфере свежего весеннего утра, в тающей голубой дали. Но нигде это преобладание пространства над фигурами, это мастерство Перуджино извлекать из самого ритма пространства художественное воздействие, нигде оно не проявляется так очевидно, как во фреске «Распятие», которую в 1496 году Перуджино написал для флорентийской церкви Санта Мария Маддалена деи Пацци. И заметьте, что в трактовке пейзажа Перуджино так же стереотипен, как в характеристике фигур: те же тонкие, весенние, едва зазеленевшие деревца, те же сонные воды озер и мягкие линии умбрийских холмов. Они повторяются во всех картинах Перуджино, независимо от темы, подобно «голубиному» взгляду и изгибу фигур в виде буквы S. Но изумительная простота и благозвучность композиционного замысла заставляют зрителя забыть о бедности фантазии Перуджино и отдаться во власть меланхолического, баюкающего ритма фрески.
Однако, обладая удивительным чутьем пространственного ритма, он не смог его сделать носителем больших художественных идей. В его распоряжении были только средства, но не было цели. Поэтому Перуджино не способен был выйти за пределы созданной им самим схемы и стал безнадежно повторяться. Перуджино была суждена долгая жизнь. Он умер в 1523 году, пережив расцвет классического стиля, но его полуклассическая схема осталась неизменной до самого конца. В произведениях Перуджино, написанных после 1500 года, пассивность его концепции становится вялостью, равновесие превращается в однообразное повторение, пространство, лишенное жизни, застывает. Только великому ученику Перуджино, Рафаэлю, удалось из предпосылок Перуджиновой живописи создать активные, положительные ценности.
Теперь нам предстоит обратиться к другой группе умбрийских живописцев, в творчестве которых природные умбрийские черты смешались с элементами других школ. Два мастера составляют крайние полюсы этой группы — Мелоццо да Форли и Лука Синьорелли.
Мелоццо дельи Амброджи, родом из города Форли, откуда и его прозвище, родился в 1438-м и умер в 1494 году. Судьба обошлась жестоко с произведениями Мелоццо, и поэтому составить себе настоящее представление об его искусстве довольно трудно. Большая часть его декоративных работ оказалась разрушенной или вовсе уничтоженной временем и нетерпимостью позднейших поколений. Остались только осколки, свидетельствующие о большом, хотя и несколько неровном даровании.
О ранней деятельности Мелоццо да Форли в Урбино, которая относится к началу семидесятых годов, мы уже вскользь упоминали. Здесь Мелоццо пришлось работать в тесном сотрудничестве с нидерландским живописцем Иоссе ван Гент, которого специально для росписи своего дворца выписал в Италию урбинский герцог Федериго да Монтефельтре. Нужно было расписать две залы дворца: так называемую Sala dei ritratti — портретами знаменитых мудрецов и ученых всех времен и так называемый Studio (рабочий кабинет герцога) — аллегориями семи свободных искусств. Предполагают, что общий проект росписи, как и большая часть «Аллегорий», принадлежит Мелоццо да Форли, тогда как Иоссе ван Гент исполнил большинство портретов[8].
Дальнейшая деятельность Мелоццо да Форли протекает частью в Риме, частью в Лорето, и, таким образом, мастер постепенно отрывается от умбрийских корней. К 1477 году относится завершение замечательной фрески, некогда украшавшей стену папской библиотеки, а теперь перенесенной на холст и хранящейся в Ватиканской пинакотеке. Это, несомненно, один из самых значительных памятников живописи кватроченто. Перед зрителем открывается грандиозная и светлая архитектурная перспектива, выдержанная в красноватых и серо-золотистых тонах. Сама просторность и воздушность этого архитектурного пространства выдает умбрийское происхождение Мелоццо. Папа Сикст IV сидит в кресле, и его твердый профиль обращен к стоящему перед ним на коленях гуманисту Платине. Позади Платины видны высокий и суровый кардинал делла Ровере (будущий воинственный папа Юлий II) и, возможно, изнеженно-красивый фаворит Джироламо Риарио. Мелоццо дает в этой фреске один из первых самостоятельных групповых портретов итальянской живописи. Несомненно, что концепция этой темы в значительной мере навеяна Мелоццо североевропейской живописью. Характерно, что почти в те же годы Мантенья пишет в Мантуе семейный портрет Гонзага. Различие между групповыми портретами Мелоццо и Мантеньи в том, что, как типичный умбриец, Мелоццо не стремится к рассказу, к действию, довольствуясь длительным настроением торжественного парада, тогда как Мантенья связывает участников портрета взаимными нитями интимного жанра. Главная ценность группового портрета Мелоццо в колорите, в удивительно широком распределении больших цветных поверхностей. Каждая из фигур входит в композицию со своим тоном: белый папа, серебристо-серый Платина, сиреневый Риарио и вишневый префект, и все эти оттенки стягивает к себе и покрывает своей звучностью пурпурный делла Ровере на фоне темно-зеленой колонны. Сиреневый, вишневый и зеленый цвета Мелоццо, светящиеся каким-то особенным жемчужным блеском, принадлежат к числу величайших колористических откровений Италии.
Слава Мелоццо в эпоху Ренессанса была основана в еще большей степени на росписи купола в церкви Санти Апостоли, которую мастер исполнил в начале восьмидесятых годов. К сожалению, обидная участь постигла фреску Мелоццо. Трудно понять варварство папы Климента XI, приказавшего в начале XVIII века сбить всю живопись Мелоццо и переделать церковь в духе времени. От грандиозного ансамбля Мелоццо остался фрагмент «Вознесение», попавший после разных превратностей на лестницу Квиринальского дворца, и куски фрески, изображающие апостолов и поющих и играющих на разных инструмантах ангелов. Сохранившиеся фрагменты показывают, насколько сильно Мелоццо охвачен монументальным духом Высокого Ренессанса, как далеко ушел он от умбрийской сентиментальной грации. И апостолы и ангелы Мелоццо принадлежат совсем другой породе людей, чем та, с которой мы привыкли встречаться на картинах кватроченто. Особенно ангелы с точеными, строгими профилями, с пышной массой локонов, с прямыми, сильными и в то же время сдержанными движениями резко отличаются от типа хрупких, то изнеженных, то задорных подростков, которых так любили изображать Поллайоло и Боттичелли, Перуджино и Пинтуриккьо. Новый, классический идеал красоты подготовляется на купольной фреске Мелоццо да Форли. Но в этой фреске есть нечто большее, чем подготовка классического идеала, ее художественная концепция выходит за пределы Высокого Ренессанса. Смелый ракурс, в котором показана голова апостола и благодаря которому его рука кажется почти столь же крупной в размерах, как его голова, противоречит логической чистоте классических художественных понятий. На основании старинных описаний и сохранившихся фрагментов можно попытаться реконструировать общую композицию фрески. Ее надо представлять себе таким образом, что центр купола занимала возносящаяся к небу фигура Христа, окруженная сонмом серафимов — вокруг центральной группы был изображен хоровод танцующих и музицирующих ангелов, а нижнее кольцо купола было образовано богоматерью и апостолами, в экстазе созерцающими возносящегося Христа. Как апостолы, так и центральная фигура Христа изображены в ракурсе снизу вверх. Историческое значение купольной композиции Мелоццо огромно. То был первый пример декоративной живописи, предназначенной для рассмотрения снизу вверх, «disotto in su» — первая попытка последовательного проведения оптической иллюзии в купольной росписи. Опыт оптического расширения стен, который Пинтуриккьо предпринял во фресковом цикле сьенской соборной библиотеки, Мелоццо переносит на купол. До сих пор архитектурные границы купола мыслились живописцами как непроницаемые; поэтому купольная роспись всегда имела плоскостной характер, фигуры, украшавшие поверхность купола, вытягивались к ней параллельно и изображались независимо от положения зрителя под куполом. Теперь впервые купол заполняется и расширяется в своих пределах воображаемым пространством, видимым с одной определенной точки зрения снизу вверх. И опять необходимо отметить, что почти в то же время Мантенья делает в росписи мантуанского дворца аналогичную попытку пробития купольной поверхности иллюзией воображаемого пространства. Этот принцип оптической иллюзии, разрушающей архитектурный остов купола, в корне противоречит тектоническим идеям Высокого Ренессанса. Здесь творческая прозорливость Мелоццо предвосхищает купольные фантазии Корреджо и мастеров барокко.
Разрушение римской купольной росписи Мелоццо является одной из наиболее невосполнимых утрат истории искусства. У нас есть только одно утешение. Если мы и бессильны полностью восстановить в нашем воображении живописный замысел Мелоццо в куполе Санти Апостоли, то все же мы в состоянии составить наглядное представление о смелости декоративной концепции Мелоццо на основе другой его купольной фрески, которую несколькими годами раньше Мелоццо исполнил в Лорето, в так называемой капелле дель Тезоро (то есть ризнице). Основная идея та же, в известном смысле, пожалуй, даже еще смелее, но выполнена более консервативными, более соответствующими духу классического стиля средствами. Большая по сравнению с куполом Санти Апостоли смелость, почти дерзость живописного замысла Мелоццо в лоретском куполе заключается в том, что Мелоццо имел здесь дело с плоским в действительности потолком, но иллюзией своей живописи превратил его в сферическое купольное пространство. Мало того что Мелоццо внушил зрителю впечатление несуществующего купола, он еще пробил стены купола воображаемыми окнами, сквозь отверстия которых открывается даль голубого неба. Нижнее кольцо купола образуют фигуры восьми пророков, сидящих на карнизе и изображенных в ракурсе снизу; второе кольцо, состоящее из голов херувимов, отделяет верхнюю, светлую часть купола. Между этими двумя кольцами и пробиты восемь окон, на фоне которых витают ангелы, словно поднимающиеся к вершине купола. Ветер, проникающий в отверстия окон, раздувает их одежды. В изображении этих ангелов Мелоццо не решился на полный разрыв с традициями. Правда, у некоторых из этих ангелов он показывает подошвы ног, словно зритель видит ангелов снизу. Но в целом фигуры ангелов изображены без ракурса, распластанными во весь рост параллельно стенам купола. Как будто традиционная плоскость потолка еще магнетически притягивает их к себе, еще мешает им свободно развернуть свои движения на всем просторе купольного пространства. Позднее мы увидим, что Корреджо был первым, кто осмелился преодолеть этот веками сложившийся гипноз декоративной плоскости потолка. Но дерзновение Корреджо было бы невозможно без тех предпосылок, которые дали ему купола Мелоццо.
В обзоре умбрийской школы я стремился подчеркнуть ту важную подготовительную роль, которую умбрийские мастера сыграли для живописи чинквеченто. От Перуджино и Пинтуриккьо прямая линия ведет к Рафаэлю. Мелоццо да Форли расчищает путь для Корреджо. Последнего выдающегося умбрийского мастера — Луку Синьорелли — можно считать предшественником Микеланджело. В искусстве Луки Синьорелли менее всего проявляются локальные умбрийские корни и, напротив, очень заметна связь с флорентийской школой. Более всего сходство Лука Синьорелли обнаруживает с той группой флорентийских живописцев, которые, как Поллайоло, Боттичелли, Филиппино Липпи, стремятся к экспрессивной форме и соединяют в своем творчестве пережитки готики с предчувствиями барокко. И Луку Синьорелли лучше всего можно характеризовать как мастера экспрессивной формы; и в его живописи отзвуки средневекового мировоззрения скрещиваются с тенденциями к барочному пафосу.
Родина Луки Синьорелли — Кортона, городок, лежащий на границе между Умбрией и Тосканой. Вероятно, он родился около 1445–1450 годов. Умер Синьорелли в 1523 году, как и Перуджино, пережив расцвет классического стиля, но в нем почти не приняв участия. Первым учителем Синьорелли был Пьеро делла Франческа, но длительное пребывание во Флоренции, вероятно в кругу Поллайоло, отвлекло Синьорелли от тех проблем, которые занимали мастера из Борго Сан Сеполькро (осталась только любовь к яркому дневному свету — не вечернему или утреннему, как у Перуджино, но гораздо более резкому, контрастному, драматичному, чем у Пьеро делла Франческа). Лука Синьорелли принадлежит к наиболее сильным, к наиболее односторонним и к наименее привлекательным художникам итальянского кватроченто. Его искусство на протяжении очень долгой жизни мастера почти не испытало никаких эволюционных перемен. Раз найдя свою палитру, свои типы, свое отношение к натуре, Синьорелли больше уже от них не отступал. Его искусство редко бывает приятно, но всегда серьезно. И мимо него нельзя пройти равнодушно, не будучи то заинтересованным, то озадаченным, то оттолкнутым или привлеченным его своеобразным художественным подходом.
Искусство Синьорелли лучше всего можно понять из сравнения с Боттичелли и Поллайоло. Как для них, так и для Синьорелли основой живописных исканий является обнаженная натура, нагота в движении. Но в то время как Поллайоло старался извлечь из движений человеческого тела максимум физической энергии, Синьорелли понимает движение человеческого тела как выражение аффектов. Человеческое тело занимает его главным образом со стороны эмоциональной, взаимодействием телесного и духовного начала. В этом смысле Синьорелли как будто бы приближается к художественным намерениям Боттичелли. Важное различие, однако, в том, что Боттичелли извлекал эмоциональное воздействие из контура, из ведения линии, тогда как Синьорелли стремится вложить аффект в самое пластическую форму, в изменения ее рельефа и объема. Свет и тон для него важнее, чем линия. Живописный стиль Поллайоло и Боттичелли можно назвать плоскостным стилем, тогда как стиль Синьорелли является по преимуществу объемным, пластическим стилем.
Уже в самых ранних произведениях Луки Синьорелли отмеченные элементы его стиля обнаруживаются с полной ясностью. «Бичевание Христа» в миланской галерее Брера относится ко второй половине шестидесятых годов. Близость этой картины к проблемам, которые занимали Поллайоло в «Мучении святого Себастьяна» или «Битве обнаженных», не подлежит никакому сомнению. То же увлечение разнообразием поз и поворотов обнаженного тела, тот же интерес к размахивающим рукам, широкому шагу, напряженным мускулам. Но бесстрастная у Поллайоло демонстрация физической энергии наполняется у Синьорелли сгущенной атмосферой аффектов; мрачная злоба палачей приобретает еще большую выразительность благодаря презрительно-жеманной усмешке Пилата на высоком троне. Но и другое отмеченное нами различие с Поллайоло сразу же бросается в глаза. Несмотря на все усилия Поллайоло развернуть движения тела по трем измерениям, они все же распластываются на плоскости. У Синьорелли мы определенно чувствуем, что тела двигаются в пространстве, что они круглятся, делаются всесторонними. Теперь уже не только наружный контур, но и внутренняя форма приходит в движение. Конечно, и у Синьорелли не обходится без преувеличений. Особенно мастер любит изображать фигуры со спины, так как изгиб спинного хребта позволяет ему показать вращение тела вокруг оси и выпуклую лепку формы. Но в погоне за экспрессивностью Синьорелли слишком сильно взрыхляет поверхность спины, так же, как Поллайоло слишком преувеличивает остроту силуэта. Есть в картине «Бичевание» и еще один очень характерный для экспрессивного стиля Синьорелли прием — обилие падающих теней. Ни один живописец кватроченто не следил с таким преувеличенным вниманием, как Синьорелли, за сложной сетью рефлексов и теней, не стремился их в такой мере использовать для придания динамики пространству. Наконец, «Бичевание» может служить красноречивым примером того композиционного принципа, который я назвал «полярной симметрией» и который мы отметили у Боттичелли. В самом деле, темная фигура Пилата в смысле абсолютной симметрии как будто не имеет себе никакого противовеса и искривляет композицию. В действительности же она тончайше уравновешена в смысле полярной, тональной симметрии, так как в правой нижней части картины темному пятну Пилата противопоставлено такое же темное пятно воина с мечом, в то время как светлое пятно левого палача уравновешивается справа наверху светлым пятном стены.
На аналогичном принципе тональной симметрии по диагонали построена знаменитая картина Синьорелли «Пан», погибшая в 1945 году в Берлине. Тематическое построение картины не вполне ясно. Его пытаются истолковать ссылкой на «Буколики» Вергилия. В таком случае в женской фигуре надо видеть нимфу Сирингу, тогда как четыре фигуры вокруг Пана олицетворяют четыре фазы человеческой жизни: любовь олицетворена лежащим юношей, искусство — юношей с флейтой, дискутирующий с Паном старик олицетворяет размышление, тогда как опирающийся на палку и согнувшийся под тяжестью лет старик олицетворяет воспоминание. Не трудно видеть, что мы имеем здесь дело с тем же кругом мифологически-мистических идей, которые одно время сильно занимали Боттичелли. Это и не удивительно, так как заказ на «Пана» Синьорелли получил, по всей вероятности, от того же Лоренцо Медичи, который и Боттичелли привил интерес к полуантичным, полусхоластическим темам. Сохранилось даже указание на то, что одно время «Венера» Боттичелли и «Пан» Синьорелли висели на двух противоположных стенах в кабинете Лоренцо Медичи. Но если картины Боттичелли и Синьорелли очень близки по тематическому замыслу, то насколько же они различны по настроению и по своим формальным приемам! Нагота у Синьорелли — без жеманства, без «раздетости» Боттичелли: просто торжествующее нагое тело, чувственное, самоутверждающееся (немного слишком бронзовое, каменное). Конечно, Синьорелли не обладает ни грацией Боттичелли, ни его нежной лирикой, ни его певучей линией. Но Синьорелли искупает эти чарующие качества флорентийского соперника глубокой серьезностью своей фантазии и своим несравненным пластическим чутьем. В теле его нимфы тоже звучит своеобразная музыка, но музыка не контуров, а мягкой, пронизанной светом плоти. По своему обыкновению, Синьорелли строит композицию «Пана» на парных сочетаниях, на перекрестных диалогах. Фигуры расположены на двух ступенях, и лежащий юноша служит связующим звеном для двух парных групп. Светлой нимфе слева внизу соответствует светлый же юноша справа наверху, и накрест — два темных тела согнувшихся стариков. Сколько мудрого расчета в перебегающих от одного к другому взглядах, в дополняющих друг друга движениях; какое богатство тональных контрастов и переходов в этих обнаженных телах, освещенных лучами заходящего солнца! Синьорелли никогда больше не удавалась ни такая мягкость элегического настроения, ни такая полнота созвучий.
При всем различии стилистических предпосылок между Боттичелли и Синьорелли можно провести еще одну интересную параллель благодаря их взаимному увлечению проблемой тондо. Как и Боттичелли, Синьорелли избирает главной темой тондо мадонну и в ряде картин пытается разрешить увлекавшую Боттичелли задачу подчинения фигурной композиции кольцу рамы. Характерным примером является картина в Уффици, написанная между 1490 и 1495 годами. Здесь Синьорелли еще чистый кватрочентист. Решение проблемы с помощью повторения мотива тондо в медальонах с пророками и раковине с головой Крестителя имеет еще поверхностно орнаментальный характер. Поза мадонны приспособлена к тондо искусственным, натянутым поворотом; заполнение плоскости картины достигнуто ценою множества второстепенных деталей, вставных фигур обнаженных юношей, мелочного пейзажа; частая смена светлых пятен вносит в композицию ненужное беспокойство.
Долгий путь исканий ведет к заключительному звену этой группы картин — к «Святому семейству», точно так же находящемуся в Уффици, но написанному в конце девяностых годов. Теперь проблема тондо нашла в фантазии Синьорелли окончательное разрешение. Как бы сами собой, без всякого видимого напряжения, три фигуры складываются в композицию, гибко подчиняющуюся линиям тондо и заполняющую всю его плоскость. По простоте, лапидарности и мощности пластической формы это тондо может быть смело причислено к произведениям Высокого Ренессанса. Только Рафаэлю и Микеланджело удалось дать проблеме тондо еще более логическое оформление и еще более богатое пластическое содержание. Обратите внимание, между прочим, на то, как эволюционирует поза сидящей мадонны, как она становится все свободнее и вто же время все прочнее. На картинах кватрочентистов фигуры сидят всегда очень высоко, вертикально, на самом кончике опоры. С каждым новым тондо Синьорелли опора сидящей фигуры становится все ниже, движение ее тела приобретает все более горизонтальное направление, пока, наконец, в картинах Рафаэля мадонна не опускается на землю в полулежащей позе. Вспомним, что ведь и Венера, которую Боттичелли изображал стоящей, на картинах Высокого Ренессанса всегда возлежит на ложе.
Однако, подобно Мелоццо да Форли, историческая роль Луки Синьорелли не исчерпывается тем, что он подготавливает формопонимание Высокого Ренессанса. В его «Мадонне» из Уффици есть нечто большее, чем только предпосылки классического стиля. По общей концепции темы, по отвлеченной, тектонической композиции стиль Синьорелли в этой картине может быть назван идеальным и объективным. Но в подходе к отдельным формам натуры Синьорелли чрезвычайно субъективен и натуралистичен. Обратите внимание, как он подбирает себе характерные, выразительные, скорее некрасивые типы, как он трактует руки, большие, с костистыми, неуклюжими пальцами, с какой тщательностью он взрыхляет лицо Иосифа морщинами и впадинами и рисует его отвороченное ухо. Этот диссонанс между идеализмом общей концепции и натурализмом отдельных деталей, который придает живописи Синьорелли какой-то специфический жесткий и пряный характер, выходит за пределы классического стиля и сближает Луку Синьорелли с художественными идеалами более позднего времени.
Но более всего барочные тенденции искусства Синьорелли проявляются в некоторых его многофигурных композициях конца девяностых годов. Ярким примером может служить «Сошествие святого духа», которое Синьорелли написал на процессионном знамени для урбинского братства Санто Спирито и которое теперь хранится в Урбинском дворце (на обороте знамени — «Распятие»). В этом очень сильном, хотя и не совсем приятном произведении Синьорелли готическая теснота и беспокойство фигур соединяются со свойствами, которые можно найти только в живописи поздних маньеристов, у Тинторетто или Греко. Эти свойства можно назвать экспрессивностью света и пространства. На чем основана выразительность картины, какое иррациональное впечатление она вызывает? На контрасте между беспокойным нагромождением фигур и голыми гладкими стенами архитектуры, на контрасте между натуралистической и рационалистической трактовкой мраморных плит и иррациональной бездонностью свода, растворяющегося в лучезарном сиянии Саваофа. Пространство использовано здесь не как объективная арена действия, а как носитель субъективного настроения, как стихийная сила, словно всасывающая стремительным сокращением своих линий.
Такое же мастерское владение экспрессивной силой света Синьорелли обнаруживает в маленькой луврской пределле «Рождество Иоанна Крестителя». С большой смелостью Синьорелли использует продолговатый формат пределлы для придания максимальной силы косому удару света. Вся композиция искусно построена на ритме нагибающихся и устремляющихся фигур, горизонтальное движение которых подчеркнуто длинными падающими тенями. Снова Синьорелли возвращается к своему любимому приему полярной симметрии, противопоставляя слева — темное пятно юноши и справа — ярко освещенную фигуру служанки. Сама живописная техника Синьорелли, в отличие от его больших картин, приобретает здесь характер смелых, беглых мазков. Типично также для Синьорелли, что и радостное событие — рождение — преломляется в его фантазии в мрачные, зловещие тона.
Характеристика творчества Луки Синьорелли получит свое естественное завершение, если мы обратимся теперь к самой крупной работе мастера — к росписи капеллы Брицио в Орвьетском соборе, которую Синьорелли закончил в 1504 году. Синьорелли и раньше пробовал свои силы во фреске. Так, бок о бок с Мелоццо да Форли он расписывал купол одной из сакристий в Лорето. Позднее, как мы уже знаем, он участвовал в росписи Сикстинской капеллы. Но ни в том, ни в другом случае Синьорелли не удалось добиться особенно выдающихся результатов. Только в росписи Орвьетского собора перед ним впервые встала монументальная задача, вполне отвечавшая духу его творчества. В свое время роспись капеллы Брицио была поручена фра Анджелико. Но мастер едва успел притронуться к сводам капеллы. Наконец, в 1499 году заказ перешел к Синьорелли. Общей темой росписи избрано было «Светопреставление». Впервые в истории европейского искусства эта тема нашла столь широкое истолкование, какое ей дал Синьорелли. До него тему «Страшного суда» имели обыкновение изображать в виде одной огромной фрески, чисто орнаментально разделенной на отдельные эпизоды. Синьорелли выделил в теме ряд отдельных больших сцен и дополнил ее новыми событиями, как бы предшествующими моменту «Страшного суда». Жесткий, мрачный стиль Синьорелли нашел себе самую благодарную почву в этом повествовании о последних днях мира. Никогда еще стены итальянских церквей не видели такого количества обнаженных тел. Средневековый демонизм сочетался во фресках Синьорелли С ренессансной чувственной конкретностью и почти барочной жаждой эмоциональной насыщенности (все возможные положения и группировки человеческих тел, все страсти, ужасы и радости).
Цикл орвьетских фресок открывается «Делами антихриста». Здесь мастер еще не вполне выработал свой самостоятельный фресковый стиль. В отличие от трех других больших фресок, где действие сосредоточено на переднем плане, в «Делах антихриста» Синьорелли разбрасывает эпизоды в некотором беспорядке на просторной и глубокой арене. На переднем плане представлена проповедь антихриста. Справа, в глубине, — сцена казни по приказанию антихриста; в центре — воскрешение мертвой; слева, наконец, — наказание и гибель мнимого пророка, где Синьорелли нашел наиболее благоприятную почву для своей страсти к ракурсам и экспрессивным движениям. В левом углу Синьорелли помещает свой автопортрет и портрет своего предшественника фра Анджелико.
Чрезвычайно трудную задачу поставила перед Синьорелли входная стена, где изображение «Гибели мира» нужно было вставить в узкую полосу между двух арок. Синьорелли мастерски разрешил свою задачу с помощью того приема иллюзорной декорации, который ввели Пинтуриккьо и Мелоццо да Форли. Над реальной аркой портала Синьорелли перекидывает арку, усиливая ее перспективным сокращением иллюзию глубокого пространства и очищая таким образом две площадки на переднем плане для фигурных сцен. В глубине, как бы позади портальной арки, разыгрывается космическая драма: чернеют небеса, планеты выходят из своих орбит, зажигая мировой пожар, буря свирепствует на земле и на море. Справа группа пророков и сивилл во главе с Давидом наблюдает осуществление своих прорицаний; слева — паника, бегство, гибель последних остатков человечества. Благодаря иллюзии второй воображаемой арки Синьорелли удается добиться впечатления, как будто стены раздвинулись и группа спасающихся врывается в реальное пространство капеллы. Как и в куполах Мелоццо да Форли, мы имеем здесь дело с нарушением тектонических принципов Ренессанса, с предчувствием барочного иллюзионизма.
В трех последних фресках цикла — «Воскресение мертвых», «Гибель грешников» и «Торжество праведников» — Синьорелли дает три варианта одинаковой композиционной схемы. Все фигуры сосредоточены на переднем плане. Действие совершается на отвлеченном, нейтральном фоне, вне реальных временных и пространственных отношений; между масштабами верхней к нижней части фрески, между ангелами и людьми нет соответствия. Эта средневековая иррациональность общей концепции находится в резком контрасте с языческим обилием наготы и натуралистической трактовкой отдельных фигур. В «Воскресении мертвых» Синьорелли изображает обнаженные тела во всех стадиях своих анатомических штудий. Тут есть черепа и скелеты в виде почти случайной кучи костей или уже сложившиеся в человеческие фигуры; есть тела, наполовину вырастающие из земли и как бы еще не обтянувшиеся кожей; и есть мужские и женские фигуры в окончательной стадии воплощения, в самых различных позах и поворотах — своего рода анатомическая энциклопедия.
Еще большее накопление обнаженных тел дают две массовые композиции: «Гибель грешников» и «Торжество праведников». Пожалуй, только в картинах Рубенса можно встретить еще такой переизбыток наготы. Но сколь различно эмоциональное воздействие фресок Синьорелли и картин Рубенса! У Рубенса — восторг наготы, радостный гимн телу, у Синьорелли — демонизм, проклятие плоти. Поэтому Синьорелли менее всего удалось именно «Торжество праведников». Его искусство лишено тех радостных, восторженно звучащих струн, которые способны были бы вызвать соответствующее теме настроение. Напротив, тема мучения грешников находит себе вполне созвучный отголосок в фантазии мастера. С неистощимой изобретательностью Синьорелли повествует о страшных бесах, с демонической свирепостью набрасывающихся на свои жертвы, топчущих, кусающих, душащих. Если бы Савонарола был художником, он не мог бы дать лучшее воплощение этому апофеозу кары и отмщения.
Последующая за фресками в Орвьето деятельность Синьорелли лишена и исторического и эстетического значения. Подобно Перуджино, Синьорелли не нашел контакта с классическим стилем и потерял веру в свои прежние идеалы. Как запоздалого кватрочентиста, его оттесняют мастера нового поколения, и Синьорелли кончает свою жизнь в провинциальной безвестности.
Если мы восстановим в нашей памяти общую картину умбрийской живописи, то должны будем признать, что в творчестве наиболее выдающихся представителей умбрийская школа владела почти всеми предпосылками классического стиля. А между тем искусство Перуджино или Синьорелли, например, невозможно назвать классическим. Кажется даже, что оно стоит дальше от Высокого Ренессанса, чем искусство предшествующего поколения. Происходит это потому, что, будучи вооружены средствами классического искусства, умбрийские живописцы еще не осознали его целей и устремляются часто в сторону эмоций, мистики, экспрессии. Поэтому их искусство по внутреннему духу гораздо родственнее художественным течениям послеренессансного периода, когда средства классического стиля еще оставались в силе, но его цели уже потеряли свою привлекательность. Был, однако, один художник того же самого поколения, что Боттичелли и Филиппино Липпи в Тоскане, что Перуджино и Синьореллшв Умбрии, который, базируясь на тех же самых реалистических и субъективных предпосылках кватроченто, пришел к сознанию противоположного кватроченто идеального, объективного стиля. Я разумею Леонардо да Винчи, основоположника искусства Высокого Ренессанса, или классического искусства.
XXIII
ПОНЯТИЕ высокого Ренессанса охватывает относительно недолгий период: во всей чистоте мы застаем идеалы классического стиля только в узкой полосе времени, примерно от 1500 до 1520 года. Далее надо иметь в виду, что понятие «Высокое Возрождение» без всяких оговорок применимо главным образом к искусству Средней Италии, и прежде всего — Рима. Как Сьена для треченто, как Флоренция для кватроченто, так Рим для искусства чинквеченто является доминирующим в идеологическом смысле центром. И еще одна оговорка: искусство Высокого Ренессанса — искусство немногих гениев и множества подражателей, среди которых известны, например, «леонардески», «джорджонески» и другие.
Художественную культуру Высокого Возрождения обычно рассматривают как дальнейшее развитие тех идей и принципов, которые складывались в XIV–XV веках, причем отмечают, что расцвет этот совершался в условиях, разрушивших ту историческую основу, на которой возникло искусство Возрождения, но вместе с тем продолжавших еще предоставлять мастерам Высокого Ренессанса возможность широкой творческой деятельности. Это, безусловно, верно, поскольку реалистическое искусство Леонардо, Рафаэля и Микеланджело выросло на традициях, заложенных уже Джотто, Мазаччо и Донателло; это верно, поскольку Италия еще продолжала оставаться богатой, передовой страной, но в ней уже заметно ощущались признаки экономического кризиса; это верно, поскольку главная социально-экономическая основа культуры Возрождения — свободные города — становилась в XVI веке уже пройденным этапом исторического развития. Однако такое объяснение явно недостаточно для выявления специфики искусства Высокого Возрождения и его принципиального отличия от искусства XV века. Необходимо вспомнить, что к рубежу XV–XVI веков относится начало длительной иностранной интервенции в Италию, которая несла с собой раздробление и порабощение страны, утрату независимости для итальянских городов и усиление в них феодальной реакции, поддерживаемой оккупантами. В свою очередь это вызвало резкий, но кратковременный патриотический подъем в широких демократических кругах городов и содействовало росту политической активности и национального самосознания итальянского народа. Этот подъем общественного самосознания, патриотических чувств и республиканских идей, особенно ярко сказавшийся во Флоренции (начиная с возвышения Савонаролы и восстановления демократического республиканского строя и кончая последней героической борьбой флорентийцев за независимость в 1530 году), создал широкую народную основу культуре Высокого Ренессанса.
Однако эта народная основа была несколько иной, чем в XV веке, прежде всего потому, что появление на арене борьбы широких народных масс заставило уже задуматься о значении народа в историческом процессе. Значение народной массы как двигателя истории понимали не только передовые деятели XVI века, как Кампанелла, но отчасти и такие, как Гвиччардини.
Но была и еще одна очень важная тенденция, определявшая своеобразие народных основ в культуре Высокого Возрождения, — порожденное угрозой порабощения и раздробления Италии стремление к национальному объединению.
В первые два десятилетия XVI века, благодаря огромным доходам курии и политическому влиянию папства, Рим стал главной политической силой в Средней Италии и, возглавив борьбу за национальное объединение, вместе с тем сделался господствующим центром культуры Высокого Ренессанса. При Юлии II эта иллюзия возможности национального объединения приобрела наиболее яркий и осязательный характер. Несколько позднее, в более сложной обстановке, на более светской основе и с более ярко выраженным антифеодальным оттенком, эту роль передового борца за независимость страны взяла на себя Венеция.
К началу XVI века ренессансное мировоззрение одержало полную победу в Италии. Оно охватило не только городские слои, но и знать и церковные круги, стало достоянием всего образованного общества. Вместе с тем культура Высокого Возрождения — это не культура городских коммун, а культура больших патрицианских центров. Она не однородна, в ней есть два пласта, два направления. Одно из них, прогрессивное, борется за сложившиеся в XIV–XV веках идеалы Возрождения, опирается на широкие народные основы, отражает общенациональный подъем; другое, консервативное, связано с интересами феодализирующейся верхушки, с очагами придворной, аристократической культуры.
Таковы были исторические условия, в которых складывался и ярко развернулся короткий, но блестящий расцвет искусства Высокого Ренессанса. Реалистическое искусство Высокого Возрождения было насыщено оптимизмом и пафосом утверждения жизни, полно веры в возможность исторического прогресса, в творческие силы человека и его неограниченные возможности. Образ прекрасного, сильного духом человека составляет главное содержание искусства того времени, точно так же, как ему свойственно, в отличие от искусства XV века, стремление постигнуть общую закономерность явлений жизни, воплощать ее в их органической связи, в психологическом единстве. В этом смысле можно провести аналогию между мировоззрением мастеров Высокого Ренессанса и их современника Никколо Макиавелли, который рассматривает историю не как нагромождение отдельных фактов, а как процесс закономерного развития, в основе которого лежит социальная борьба.
Художники Высокого Возрождения освобождаются от узкоцеховой рутины, от ремесленных наставлений и правил и руководствуются передовой теорией (здесь особенно важно значение Леонардо как художника и ученого одновременно). Для них отныне творческий акт — сознательный, рациональный процесс. Они изучают числовые соотношения, пропорции, закономерности. Они стремятся к реализму, к наглядности и достоверности образов, но к синтезирующей, типизирующей, героизирующей достоверности. Дело в том, что для искусства Высокого Ренессанса характерен момент обобщения, интерес не столько к непосредственному отражению действительности, сколько к синтезу ее лучших сторон через призму религиозной и мифологической тематики. Отсюда — величавая мощь и в то же время своеобразная односторонность реалистического метода, выразившаяся в убеждении художников, что значительное и человечное может существовать только в прекрасной оболочке, и в их стремлении видеть лишь исключительные явления и показывать их возвышающимися над повседневностью. Именно в этой связи возникает столь типичный для искусства Высокого Ренессанса призыв превзойти природу (superare la natura). С огромной силой обобщения и типизации создавали тогда итальянские художники образы героических личностей, прекрасных и сильных духом людей, воплощая в них эстетический идеал эпохи.
Вместе с тем стиль Высокого Возрождения не содержит в себе того многообразия и тех противоречий, которые характерны для искусства кватроченто. Если в XIV и особенно в XV веке даже единство стиля допускало самую разнообразную постановку и истолкование художественных проблем, то Высокий Ренессанс требует гораздо большего единообразия эстетических вкусов и теоретических принципов. Здесь, так сказать, почти исключены неожиданности и внутренние противоречия. Если в творчестве художников кватроченто центр тяжести лежит на исканиях, на неутолимой жажде новых проблем и задач, на борьбе за новые ценности, то искусство Высокого Ренессанса в известной мере производит впечатление, что ценности уже найдены, стабилизировались. Все проблемы кватроченто имели для современников обычно практическое, конкретное назначение: перспектива, анатомия, пропорции, свет, быстрое движение. Основные же проблемы классического искусства, как они воспринимались современными художниками, сформулированы ими в идеях, в отвлеченных понятиях: invenzione, grazia, gravita, decoro (выдумка, изящество, величавость, достоинство).
Конечно, все это было подготовлено многосторонними и длительными творческими исканиями художников предшествующих веков. Так, центральной задачей в классическом искусстве является пластическое тело в пространстве — то, над чем особенно глубоко задумывались передовые мастера кватроченто. Однако под пластическим телом классическое искусство понимает все же нечто другое, чем эпоха кватроченто. Уже художники второй половины XV века добивались активности человеческой фигуры. Но эта активность понималась в эпоху кватроченто всегда в смысле перемены места, в смысле скорости. Классическое же искусство стремится показать максимальную активность в состоянии покоя. Не самое движение его интересует, но воля к движению, возможность движения. Отсюда — любимый прием классического искусства — контрапост и вращательное движение. А с этим связано второе важное свойство классического искусства. В своем стремлении к быстроте темпа, к максимальному напряжению движения, художники кватроченто изображали и в отдельной фигуре и во всей картине ряд последовательных этапов движения, множество коротких, следующих друг за другом моментов. Поэтому целью композиции в искусстве кватроченто является уменье провести глаз зрителя по всем этапам движения с начала до конца. Иначе говоря, композиция кватроченто по преимуществу сукцессивна и центробежна. Классическое же искусство ставит своей целью изображение одного-единственного момента движения, одновременность всех функций движения как в отдельной фигуре, так и в группе фигур и во всей картине. Поэтому идеал классической композиции заключается в уменье концентрировать все элементы картины в некое оптическое и психологическое целое. Другими словами, композиция классического искусства симультанна и центростремительна.
Нужно подчеркнуть, что искусство Высокого Ренессанса было не началом, а концом некоторого исторического процесса, не столько устремлением вперед, сколько завершением, остановкой. Поэтому главным ключом к пониманию классического искусства является понятие композиции (акцент не на восприятии натуры, а на ее перевоплощении). Недаром любимым словом художников и теоретиков чинквеченто было invenzione — в буквальном смысле слова «выдумка», то есть именно композиционная выдумка — уменье извлекать из темы законченный, героический, возвышенный образ и единовременность действия. Это преобладание «инвенции», естественно, переносит центр тяжести в классическом искусстве на содержание, идею. Рационализм классического искусства проявляется не в научно-детальном изучении действительности, но в логичности замысла и построения. Натура в ее индивидуальных проявлениях вообще отступает на задний план. Классическое искусство признает натуру только типизированную и сублимированную. В отношении к отдельной фигуре устанавливаются нормы идеальных пропорций; в отношении к пространству нормируется уровень горизонта и точка отстояния зрителя; в отношении к свету — его сила и угол падения.
Высокий Ренессанс — это программа «завершения», вершина. Но за вершиной горы неизбежно следует спуск. И если господство классического искусства промелькнуло с почти неуловимой скоростью, то разочарование, вызванное спуском, падением, длилось почти целое столетие.
В высшей степени показательно для генезиса классического стиля, что его родоначальником, его идейным вождем был Леонардо да Винчи, человек, неделимо объединивший в себе и художественный и научный гений. Показательно, во-первых, потому, что Леонардо воплощал наиболее прогрессивные тенденции Ренессанса, идеологию передовой части общества, боровшейся с силами старого, феодального мира. Деятельность Леонардо означала борьбу за раскрепощение мысли от религиозного догматизма, развитие экспериментального метода. Опыт дла Леонардо есть единственный источник познания: «Мудрость — дочь опыта». Он прекрасно знает, что не сознание определяет бытие, а, наоборот, бытие определяет сознание («предмет двигает ощущение»). Показательно, во-вторых, потому, что вскрывает чисто рационалистические основы классического искусства. Но при этом важно вот что. И художественные и, особенно, научные интересы и познания Леонардо прямо-таки безграничны. Леонардо был не только живописцем, скульптором, архитектором, музыкантом, но и инженером, химиком, ботаником, астрономом. Он изучал рост растений, полет птиц, причину приливов и отливов, законы тяжести и падения тел. Он строил мосты, подъемные краны и стенобитные машины. Но эта универсальность гения Леонардо, пытливость, любознательность не дали ему возможности довести до конца ни одно из намеченных им начинаний. Леонардо не создал нового метода изучения и понимания натуры, не решил проблем, а только их поставил, формулируя новые задачи.
Нас в первую очередь занимает здесь Леонардо-живописец. Но при этом нужно иметь в виду, что живопись отнюдь не была его главной профессией, а только одной из точек приложения его экспериментаторского гения. Леонардо был прежде всего именно ученым, познающим природу не ради искусства, а ради науки. Его искусство тоже развивалось на базе науки. Его занимала сама проблема, но не решение задачи, не исполнение. Поэтому до нас дошло такое малое количество законченных его произведений. Леонардо начинал картины и бросал их, как только проблема казалась ему ясно сформулированной. Следует отметить, кроме того, еще одну особенность гения Леонардо да Винчи. К каждой занимавшей его проблеме он подходил одновременно с теоретической и практической стороны. Но теория и практика у него редко совпадали. Теоретическая мысль Леонардо обладала совершенно невероятной прозорливостью. Многие его отдельные наблюдения и утверждения предвосхищают развитие европейской науки на целые столетия. Как практик же Леонардо всецело принадлежит своему времени. Особенно это бросается в глаза при сравнении тех теоретических наблюдений, которые Леонардо зафиксировал в своем «Трактате о живописи», с его сохранившимися картинами. Так, например, теоретические наблюдения и соображения Леонардо о красках совершенно не использованы в его практической деятельности живописца. В связи с размышлениями о рефлексах Леонардо приводит как пример образ женщины в белом платье на залитой солнцем зеленой лужайке — образ, который вполне соответствовал бы представлениям французских импрессионистов. Он пишет о том, что краска приобретает свою чистую звучность только на световой стороне предмета, пишет о голубых тенях, о взаимном воздействии красок, о необходимости живописи на открытом воздухе, то есть пленэре. Одним словом, в теории Леонардо да Винчи предвосхищает все главные предпосылки импрессионизма. Но на практике его картины являют собой крайний образец так называемого «тенебризма», то есть того темного колорита, который прямо противоположен тенденциям импрессионизма.
Леонардо родился в 1452 году в маленьком городке Винчи. Он был внебрачным сыном флорентийского нотариуса сер Пьеро да Винчи и крестьянской девушки Катарины. В том же году сер Пьеро сочетался законным браком с другой девушкой, своего класса, а Катарина вышла замуж за крестьянина. Расширение практики заставило сер Пьеро переселиться во Флоренцию, и молодой Леонардо был отдан в мастерскую Верроккьо, вероятно, в 1467 году. Верроккьо принял мальчика в свой дом, как сына, и сразу оценил его блестящие способности. По словам Вазари, молодой Леонардо занимался у Верроккьо всем, что имеет отношение к искусству рисования. «Его божественный и дивный ум был таков, что наряду с превосходнейшим знанием геометрии он в то же время сделал опыты не только в скульптуре, где он вылепил из глины несколько смеющихся женских голов, которые позднее были отлиты из гипса, равно как и детские головы, казавшиеся вышедшими из рук зрелого художника». Леонардо поражал современников разносторонностью своих талантов и интересов и гипнотическим очарованием своей личности. У него были изящные манеры, красивая внешность, он обладал огромной силой, легко гнул подковы, чудесным голосом пел под аккомпанемент лютни, импровизируя одновременно и стихи и музыку. «Никто, — говорит Вазари, — не мог сравниться с совершенством его находчивости, живости, доброты, любезности и обаятельности». Мы увидим дальше, что и в живописи Леонардо соединял, казалось бы, несоединимое. Сила и мягкость были ему одинаково подвластны. Он обладал удивительным чутьем живописной поверхности вещей и при этом не переставал разлагать вещи, как физик и анатом. Чувствительность поэта и любознательность исследователя в его жизни и творчестве чудесным образом примиряются. Вазари рассказывает, что Леонардо очень любил животных. Часто, когда он проходил по площадям города, где продавались птицы, он, заплатив требуемую цену, открывал клетки и выпускал птиц, чтобы возвратить им утерянную свободу. Однажды Леонардо задумал написать на щите голову Медузы. С этой целью он в одной комнате, куда никто не входил, собрал ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей и других странных животных. Из этого странного разнообразия он различными сочетаниями составил ужаснейшее и страшнейшее животное, дышавшее ядом и пламенем, окруженное огненной атмосферой. Причем он изобразил его как бы выходящим из темных, диких скал. Он до того увлекся работой, что не замечал даже зловония, которое распространялось в комнате от дохлых животных.
То, что молодой Леонардо попал именно в мастерскую Верроккьо, несомненно, отразилось на судьбе классического стиля. Правда, ученик скоро далеко перерос учителя, но стимулы, которые юный Леонардо получил от искусства Верроккьо, оказались решающими для его дальнейшего развития. Как природный скульптор, Верроккьо и в живописи культивировал прежде всего пластические ценности, крепкий рисунок и выпуклую моделировку формы. Кроме того, Верроккьо был наиболее интеллектуальным среди флорентийских современников, объединяя в своем творчестве научные познания с ювелирной тонкостью. Ни музыкальность линии, ни стремительный темп движения, ни эмоциональная выразительность, которые дают главный отпечаток флорентийской живописи его времени, совершенно не занимают Верроккьо-живописца. Его живописная концепция вообще лишена элементов фантазии и чувства и отличается прозаичностью и сухостью объективного научного подхода к натуре. В этом смысле Верроккьо-живописец занимал действительно чрезвычайно обособленное и исключительное положение в поколении мастеров конца кватроченто и был как бы предназначен для роли подготовителя Высокого Ренессанса. Образцом его кисти может служить «Мадонна» берлинского музея. Как все картины Верроккьо, она отличается некрасивым типом, с резко выраженными индивидуальными признаками и чрезвычайно жесткими контурами и поверхностью формы. Такие детали, как большие ноздри или толстые пальцы с обломанными ногтями, постоянно повторяются на картинах Верроккьо. Движения его фигур кажутся застывшими, и воздух как бы отсутствует в его пейзаже. Но все эти дефекты и странности искупаются одним очень важным положительным свойством живописи Верроккьо — исключительно сильным чувством осязательности, тактильности формы. Посмотрите на лоб мадонны, на щеки или колени младенца, на изогнутый большой палец мадонны — они обладают для наших осязательных ощущений какой-то неопровержимой реальной вещественностью.
Верроккьо только не хватает таланта объединить эти разрозненные впечатления натуры в общий живописный образ. Мы верим деталям Верроккьо, но не верим всей его картине. Гений Леонардо явился как раз вовремя, чтобы синтезировать разрозненные наблюдения Верроккьо.
Самым ранним свидетельством живописной деятельности Леонардо да Винчи является его участие в картине Верроккьо, изображающей «Крещение Христа» и находящейся теперь в Уффици. Картина эта написана, вероятно, около 1470 года и отличается в своих главных частях всеми типичными признаками Верроккьева стиля. С педантической добросовестностью Верроккьо изучает в натуре формы обнаженного тела (обратите внимание на левую руку Крестителя), мотивы растительности, скалистых берегов и прозрачной воды и воспроизводит их с максимальной осязательностью. Контуры очень резки, движения угловаты. Эта наивная педантичность передается и героям картины. Креститель старательно шагает по воде, и все его внимание устремлено на то, чтобы содержимое чаши до последней капли вылилось на голову Христа. В позе Христа смирение смешивается с боязнью застудить ноги. Младший из ангелов с подобострастным вниманием вперил свой взор в лицо старшего товарища. Но вот этот-то старший ангел, держащий Христовы одежды, не выпадая из общего композиционного замысла, тем не менее кажется совершенно посторонним элементом в картине, существом какого-то иного порядка, чем робкие и нескладные герои Верроккьо. В движениях этого ангела столько богатства и гибкости, его формы так мягки, его голова так благородно очерчена, в его взгляде столько мечтательности, что глаз зрителя сразу же выделяет его из остальной картины. Уже ко времени Вазари восходят сведения, что один из ангелов на картине «Крещение» был написан юным Леонардо да Винчи. Вазари дополняет эти сведения маловероятным рассказом, будто Верроккьо, видя себя в такой мере превзойденным учеником, с этого времени бросил кисть и всецело посвятил свои силы скульптуре. Как бы то ни было, но фигура левого ангела на «Крещении» ясно показывает, что молодому Леонардо было уже тесно в мастерской Верроккьо, что ему там нечему было учиться. В 1472 году Леонардо выходит на самостоятельную дорогу, записавшись в цех святого Луки.
Судя по литературным источникам, Леонардо исполнил многочисленные крупные произведения как раз в самом начале своей деятельности. Так, Вазари рассказывает о картоне для ковра, на котором Леонардо написал Адама и Еву. Но все эти упомянутые в источниках ранние работы Леонардо пока не найдены. Взамен их исследователи с давних пор стараются выделить среди сохранившихся картин те, в которых можно предположить авторство Леонардо да Винчи. Наиболее единодушную оценку ученых встретили в этом смысле два «Благовещения» — в Лувре и Уффици. «Благовещение» в Уффици имеет ряд несомненных признаков живописного стиля Леонардо. Сюда относится, например, мотив плаща мадонны, непривычно для кватроченто широкого в массах и обобщенного в световых контрастах. Рисунок складок сильно напоминает одежду старшего ангела на «Крещении». Далее — мотив далекого пейзажа между двух кипарисов воздушной дымкой своих скалистых очертаний определенно предвещает позднейшие пейзажи Леонардо. Кроме того, в последнее время найден собственноручный рисунок Леонардо к правой руке ангела. С другой стороны, «Благовещению» в Уффици не хватает как раз того, что составляет неотъемлемую принадлежность всех подлинных произведений Леонардо да Винчи — духовного единства, глубокой концентрации пространственного и пластического замысла. Саркофаг с его резким рисунком не столько соединяет, сколько разъединяет мадонну и ангела, и этому еще способствует резкий прорыв пейзажа.
71. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. АНГЕЛ. ДЕТАЛЬ «КРЕЩЕНИЯ ХРИСТА» РАБОТЫ ВЕРРОККЬО. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ.
72. ВЕРРОККЬО. КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА. ПОСЛЕ 1470 Г. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ.
73. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ТОСКАНСКИЙ ПЕЙЗАЖ. 1473. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
74. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. МАДОННА БЕНУА. ОК. 1478 Г. ЛЕНИНГРАД. ЭРМИТАЖ.
75. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ДЖИНЕВРА ДЕИ БЕНЧИ. ОК. 1478 Г. ВАШИНГТОН. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
76. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. СВ. ИЕРОНИМ. ОК. 1481 Г. ВАТИКАН. ПИНАКОТЕКА.
77. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. РИСУНОК К «ПОКЛОНЕНИЮ ВОЛХВОВ». ОК. 1480 Г. ПАРИЖ, ЛУВР.
78. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. 1481. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ.
79. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. МАДОННА В СКАЛАХ. 1483–1494. ПАРИЖ. ЛУВР.
80. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ И АМБРОДЖО ДЕ ПРЕДИС. МАДОННА В СКАЛАХ. OK. 1497–1511 ГГ. ЛОНДОН. НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
81. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. ФРЕСКА ТРАПЕЗНОЙ МОНАСТЫРЯ САНТА МАРИЯ ДЕЛЛЕ ГРАНИ В МИЛАНЕ. 1495–1497.
82. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.
83. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. СВ. АННА С МАРИЕЙ И МЛАДЕНЦЕМ ХРИСТОМ. 1500–1507. ПАРИЖ. ЛУВР.
84. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. СВ. АННА С МАРИЕЙ. МЛАДЕНЦЕМ ХРИСТОМ И ИОАННОМ КРЕСТИТЕЛЕМ. КАРТОН. ОК. 1499 Г. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
85. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. БИТВА ПРИ АНГЬЯРИ. ФЛАМАНДСКАЯ КОПИЯ. 1503–1506. ПАРИЖ, ЛУВР.
86. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ПОРТРЕТ МОНЫ ЛИЗЫ («ДЖОКОНДА»). ОК. 1503 Г. ПАРИЖ, ЛУВР.
87. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ЛЕДА. КОПИЯ. РИМ, ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ.
88. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. РИСУНКИ ДЛЯ КОННОГО ПАМЯТНИКА. ВИНДЗОР, КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
89. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (?). ВСАДНИК. БУДАПЕШТ, МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.
Беспокойная пестрота деревьев ослабляет движение ангела. В образе и жестах мадонны, поверхностно изящных, нет той красоты, того специфического духовного ореола, который окружает все подлинные образы Леонардо. Отсюда справедливо сделать вывод, что «Благовещение» в Уффици есть коллективное создание мастерской Верроккьо. Весьма возможно, что общий замысел восходит к Леонардо, точно так же, как этюды отдельных элементов композиции, но окончательное выполнение принадлежит кисти неизвестных нам его сотоварищей по мастерской.
Если от «Благовещения» в Уффици мы обратимся к крошечной луврской картине на аналогичную тему, то сразу бросится в глаза, что она как бы дает поправку ко всем дефектам предшествующей композиции. То, что там демонстрировалось с помощью жестов и поз, то здесь пережито. Духовное и оптическое единство между мадонной и ангелом, которого так не хватало «Благовещению» в Уффици, здесь, напротив, достигнуто в полной мере; скромный, темный пюпитр соединяет фигуры, связывает их вместе, как упрощенные акценты архитектуры и пейзажа, как почти непрерывная линия балюстрады и скамеек. Наконец, руки мадонны, такие жеманные в «Благовещении» Уффици, здесь сложены на груди в жесте, полном простоты и чарующей прелести. Кто, кроме Леонардо, мог в семидесятых годах кватроченто написать фигуры с таким замкнутым силуэтом и с такой классической цельностью массы? Трудно противостоять соблазну видеть в луврской картине оригинал Леонардо да Винчи.
Из бесспорно достоверных работ Леонардо этого времени сохранились, к сожалению, только рисунки. Здесь в первую очередь следует упомянуть рисунок пером из Уффици, изображающий «Тосканский пейзаж». Рисунок этот является исключительно важным историческим документом, так как он датирован 1473 годом в собственноручной надписи Леонардо; характер этой надписи вполне подтверждает литературные традиции, согласно которым Леонардо был левшой. Но Леонардо не только писал справа налево, что крайне затрудняло чтение его рукописей (их можно читать только в зеркале). С художественной стороны рисунок тоже крайне интересен. Он представляет собой первый опыт пейзажа с натуры, без всякого стаффажа, предвосхищая в этом смысле акварели Дюрера. Ученым удалось отыскать даже место, которое изобразил Леонардо в своем рисунке, по долине реки Арно, с пизанскими горами в глубине. Рисунок поражает огромной изобразительной силой, которую Леонардо сумел вложить в простые штрихи пером (например, движение воды), и ясным распределением планов. Штудируя пейзаж с натуры, Леонардо не выхватывает из нее изолированные, индивидуальные мотивы, а стремится обобщить свои наблюдения, типизировать их. Но вместе с тем в рисунке сильно сказываются следы концепции кватроченто. Леонардо еще не освободился от множественности горизонтов. Так, например, замок на горе слева взят со слишком высокой точки зрения и потому, несмотря на отсутствие стаффажа, даже производит такое впечатление, как будто он служит фоном, задней кулисой, к чему-то расположенному на переднем плане. Природа без человека еще не представляется Леонардо цельным организмом.
Существенное значение для биографии Леонардо имеет также другой подлинный рисунок, датированный 1479 годом и хранящийся в музее Байонны. За год перед этим произошел заговор Пацци, инспирированный из Рима, видимо, не без согласия папы Сикста IV. Жертвой заговора пал Джулиано Медичи, тогда как Лоренцо посчастливилось спастись. Заговорщики были схвачены и повешены на окнах Палаццо Веккьо, кроме одного, того самого Бернардо Бандини, который нанес смертельный удар Джулиано и который бежал в Константинополь. Но влияние Лоренцо Великолепного в те годы было так велико, что ему удалось добиться у султана выдачи заговорщика, и Бернардо Бандини при огромном стечении народа был повешен на площади Синьории. Леонардо присутствовал при казни и не только зарисовал повешенного, но и с протокольной точностью отметил на полях материю и цвет одежды. На память невольно приходят зарисовки повешенных у Пизанелло. Это совпадение не случайно. Любознательность Леонардо, направленная на ужасы и аномалии жизни, сохраняет еще некоторые средневековые черты.
В литературных источниках мы находим многочисленные указания на то, что в конце семидесятых годов Леонардо занимала тема мадонны с младенцем. Вазари, между прочим, упоминает картину «Мадонна», где был изображен графин с цветами, причем впечатление отпотевшего от холода воды стекла, говорит Вазари, было абсолютно точным. Среди рисунков Леонардо, относящихся к этому времени, действительно встречается ряд композиционных набросков, варьирующих самым различным образом тему мадонны и младенца. Напомню один из таких набросков, парой уверенных штрихов передающий композиционный замысел мастера. На основании этого рисунка большинство исследователей творчества Леонардо считает возможным приписать ему «Мадонну», находящуюся в Эрмитаже и носящую название «Мадонна Бенуа». Действительно, композиционное сходство очень велико; в рисунке намечено даже полукруглое завершение рамы. Разница только в том, что на рисунке фигура мадонны видна полностью, тогда как на картине обрезана несколько ниже колен. Что в «Мадонне Бенуа» убедительно говорит за авторство Леонардо — это изумительная духовная и пластическая концентрация главного мотива, полная погруженность матери и ребенка во взаимную игру с цветком. Сам по себе мотив не нов; его не раз использовали живописцы кватроченто. Но у них цельность мотива всегда раздробляется благодаря меланхолическому взгляду богоматери в пространство или, наоборот, радостному переглядыванию со зрителем. У Леонардо группа богоматери и младенца и внешне и внутренне замкнута в себе, все линии ведут к главному центру — к сплетению трех рук вокруг цветка. Вторым чисто леонардовским признаком в «Мадонне Бенуа» является смелая композиционная разработка группы. Ни один кватрочентист не осмелился бы так сопоставить две фигуры, каждую в три четверти поворота, так вписать тело младенца по диагонали в пространство. Есть в «Мадонне Бенуа» и еще ряд моментов, в значительной мере предвосхищающих живописный стиль зрелого Леонардо. Например, та мягкость, с которой светлые формы постепенно выделяются из темного фона и какой мы не найдем ни у одного из предшественников Леонардо да Винчи; или подбор красок из любимых сочетаний Леонардо — синего, фиолетового, желтого. И если тип богоматери сохранил полудетские черты, свойственные идеалу кватроченто, например Верроккьо, то в улыбке мадонны уже чудится оттенок той загадочной женственности, которая присуща позднейшим образам Леонардо.
Анализ произведений, с помощью которых исследователи Леонардо восстанавливают картину его ранней художественной деятельности, должен быть завершен «Женским портретом» в Национальной галерее Вашингтона. Сомнения и споры по поводу этой картины лишь недавно улеглись окончательно. И действительно, всякого, кто подойдет к этому портрету после знакомства со знаменитым портретом «Моны Лизы», невольно оттолкнет некоторая сухость линий, мелочный рисунок волос, гладко, до лощености, полированная поверхность. Но не нужно забывать, что портрет «Моны Лизы» принадлежит к самому зениту творчества Леонардо, тогда как здесь мы имеем перед собой начинающего мастера, наполовину еще кватрочентиста, притом сильно связанного жесткими рисовальными приемами своего учителя. Но кто, кроме Леонардо, мог написать подобный портрет в семидесятых годах XV века? Черты лица с широкими скулами В узким разрезом глаз не могут быть названы красивыми. Но автор портрета отнюдь не стремился подчеркнуть эти индивидуальные приметы, как сделал бы любой типичный кватрочентист, а, напротив, смягчил их, типизировал и углубил тончайшей психологической характеристикой. Что особенно поражает в вашингтонском портрете — это его духовная недоступность, его интеллектуальная обособленность и загадочность, которая более всего говорит за авторство Леонардо. Причем загадочность вашингтонского портрета заложена именно не в эмоциональной, а в интеллектуальной его насыщенности. Портрет, безусловно, холодный и в то же время волнующий своей острой задумчивостью.
Тут мы подходим ко второму моменту портрета, пожалуй, еще сильнее свидетельствующему об авторстве Леонардо, — к пейзажу. Такая психологическая и формальная слитность пейзажного фона с портретом опять-таки была недоступна живописцам кватроченто. Эти сумерки, этот заснувший пруд, эта широкая, темная масса можжевельника с тонким узором игл по краям находятся в абсолютном созвучии с духовным и физическим обликом портрета.
Только одно серьезное возражение может быть сделано против вашингтонского портрета как произведения Леонардо. Жесткий срез тела нижней рамой решительно противоречит удивительному ритмическому, музыкальному чутью Леонардо, которое проявляется во всех подлинных произведениях мастера. Глядя на вашингтонский портрет и сравнивая его с «Моной Лизой», невольно вспоминаешь слова самого Леонардо из его «Трактата о живописи», где Леонардо советует писать портреты с руками, так как руки не менее красноречиво характеризуют человека, чем лицо, причем руки, говорит Леонардо, «лучше всего располагать так, чтобы одна покоилась на другой». Странно в таком случае, что в вашингтонском портрете Леонардо как будто не следует своим собственным советам. Однако это на первый взгляд столь веское возражение оказывается мнимым. Не подлежит никакому сомнению, что доска, на которой написан вашингтонский портрет, сильно обрезана снизу и что в своем первоначальном виде портрет безусловно включал руки модели. На это указывает прежде всего рисунок серебряным карандашом, хранящийся в Виндзорском замке и относящийся как раз к тому периоду деятельности Леонардо, когда мог быть написан наш портрет, к концу семидесятых годов. Этот рисунок женских рук, по своим пропорциям и структуре поразительно соответствующих модели вашингтонского портрета, несомненно, является подготовительным этюдом к нашему портрету и позволяет примерно восстановить первоначальный вид портрета в необрезанном состоянии. Но еще более убедительное доказательство того, что портрет снизу обрезан, дает обратная сторона доски. Здесь изображено нечто вроде эмблемы модели. В центре — кустик можжевельника, который слева обрамляет лавровая, а справа пальмовая ветка. Совершенно очевидно, что ветки лавра и пальмы первоначально образовывали венок. Если мысленно дополнить не хватающую для полного круга часть эмблемы, то на передней стороне доски она дает как раз достаточное для изображения рук пространство. Но эмблема на обратной стороне вашингтонского портрета позволяет сделать еще более верное заключение. Целый ряд литературных источников, в том числе Вазари, называют среди произведений Леонардо да Винчи портрет флорентийской дамы, некой Джиневры Бенчи. Архивные изыскания выяснили, что Джиневра Бенчи родилась в 1456 году. Следовательно, к моменту написания портрета ей было около двадцати — двадцати двух лет, что вполне соответствует облику модели на вашингтонском портрете. Но можжевельник по-итальянски — ginepra. Не может быть случайностью то обстоятельство, что фоном для портрета, как и главным мотивом эмблемы Джиневры, избрана ginepra — то есть можжевельник. Перед нами бесспорный портрет Джиневры Бенчи, писанный Леонардо в конце семидесятых годов.
Здесь заканчивается ранний, туманный, почти легендарный период деятельности Леонардо. Мы видим молодого мастера в оппозиции к идеалам кватроченто, к концепции представителей «второй готики», видим смелость его подхода к натуре и чрезвычайную уверенность в постановке и разрешении живописных проблем. Но составить себе из разрозненных, наполовину апокрифических произведений этого периода вполне ясное представление о художественных целях мастера, о сущности его живописного стиля еще невозможно. Только в следующие два десятилетия окончательно складывается художественное мировоззрение Леонардо.
Художественные идеи Леонардо да Винчи, а вместе с тем и главные основы классического стиля окончательно складываюся в течение восьмидесятых и девяностых годов XV века. К самому началу этого периода относятся два крупных произведения мастера — «Святой Иероним» в Ватиканской пинакотеке и «Поклонение волхвов» в Уффици. Оба они не закончены, работа остановилась в самой начальной стадии. И незаконченность эта, столь характерная для Леонардо, может быть объяснена как внешними, так и внутренними, психологическими причинами.
Судьба «Святого Иеронима» крайне своеобразна. В начале XIX века кардинал Феш нашел у одного римского антиквара ящик, крышкой которого служила эта картина; но у Иеронима не было головы. Через некоторое время счастливый случай привел кардинала к сапожнику, у которого оказался кусок картины с недостающей головой. Картина почти не вышла из стадии первоначального подмалевка бурой краской, которую обычно применял Леонардо. Больше всего разработаны голова и тело Иеронима на фоне темной скалы-пещеры. На переднем плане — лев, показанный только плоским светлым силуэтом. Слева, в глубине, — чуть намечены очертания церковного фасада, очень напоминающие фасад флорентийской церкви Санта Мария Новелла. Эта последняя деталь указывает, что картина не могла быть начата раньше 1477 года, когда была закончена реставрация церкви. Основная структура картины, которая ясна даже в незаконченном состоянии, обладает всеми признаками классического стиля. Фигура Иеронима уверенно поставлена в пространстве, на известном расстоянии от передней плоскости картины и под углом к ней — любимый прием классического стиля. При всем богатстве пластических контрастов, тело Иеронима вписано в пространство замкнутым силуэтом. Главную композиционную канву дает диагональ правой руки Иеронима, получающая свой отзвук и опору в направлении тела льва. Но в двух моментах по преимуществу сказался дух классического искусства. Во-первых, в выборе позы — низкой, тяготеющей к земле, распространяющейся больше в ширину, чем в вышину. Во-вторых, в монологической трактовке темы. Самый тип изможденного аскезом, потрясенного религиозным экстазом Иеронима не нов — мы уже встречали его прототип в одной из картин Андреа дель Кастаньо. Но в эпоху кватроченто только размышляющий монах — Иероним, а не Иероним — экстатический отшельник изображался в одиночестве. В живописи кватроченто всякая эмоция нуждалась в резонансе, всякое действие — в нескольких участниках. Леонардо изобразил святого Иеронима в пустынном одиночестве дикого пейзажа, замкнутого в себе, в своих мистических переживаниях, изолированного от всякого сочувствия и сопереживания зрителя, и только раскрытая пасть ревущего льва отражает его возбуждение. Эта психическая изолированность картины от зрителя составляет один из важнейших признаков классического стиля. Картина осталась незаконченной. Почему? Некоторые исследователи видят причину в отъезде Леонардо из Флоренции, который последовал в конце 1482 года. Но этот отъезд, как мы увидим, не был вызван внешними обстоятельствами, не был необходимостью для мастера и произошел по его собственной воле. Скорее здесь следует искать более глубоких внутренних причин. Набрасывая остов композиции «Иеронима», Леонардо нашел основные элементы нового стиля. Но, возможно, задача однофигурной композиции показалась ему слишком простой, и он потерял интерес к ее завершению.
В 1481 году Леонардо получил заказ от монахов монастыря Сан Донато на алтарную картину с изображением «Поклонения волхвов». Договор требовал сдачи заказа в тридцатимесячный срок. Но и эта картина, теперь находящаяся в Уффици, осталась незаконченной, и спустя пятнадцать лет монахи передали заказ Филиппино Липпи, с соответствующим произведением которого мы уже познакомились.
Задача, по-видимому, чрезвычайно заинтересовала Леонардо, и он с большим рвением принялся за ее разработку. Существует целый ряд предварительных набросков к общей композиции и к отдельным фигурам «Поклонения». По-видимому, первоначальную идею композиции надо видеть в рисунке, который приобретен Лувром из частного собрания. Основное ядро композиции уже намечено здесь в своих главных частях. На переднем плане — самый момент поклонения, с большинством фигур и поз, которые впоследствии вошли в окончательную редакцию. Следует отметить, что почти все главные фигуры изображены обнаженными. Леонардо первым систематически стал применять этот излюбленный прием классического искусства, к которому особенно охотно прибегал Рафаэль: движения главных действующих лиц сначала намечались и изучались на обнаженных моделях, чтобы полнее уяснить себе их органические функции, а потом уже фиксировались на одетых моделях. Фоном для главной фигурной композиции служит руина какого-то большого здания с арками и полуразрушившейся крышей. С правой стороны к руинам примыкает сложная постройка не совсем ясного назначения, тоже с арками и двумя рядами широких лестниц. Возможно, что здесь Леонардо имел в виду развалины амфитеатра.
Второй подготовительный рисунок из Уффици дает дальнейшую более подробную разработку фона. Теперь руины дворца отодвинуты на задний план; но своды и ступени амфитеатра мастер сохранил, только перенес их с правой стороны композиции на левую. Это композиционное перемещение свидетельствует о глубокой продуманности леонардовского творчества. По первому импульсу левши ему удобнее и легче было набросать перспективные линии постройки с правой стороны композиции. Но, продумывая композицию до конца, он увидел, что в таком случае композиция получит какой-то слишком специфический акцент, слишком отклонится от привычных норм восприятия, — и переместил руины справа налево.
Окончательная версия «Поклонения», как и картина «Святой Иероним», остановилась на стадии первоначального подмалевка бурой краской. Но и в этом фрагментарном состоянии произведение Леонардо доставляет внимательному наблюдателю огромное наслаждение возможностью проникнуть в процесс леонардовского творчества, который самого мастера увлекал гораздо больше, чем окончательные результаты. От руин Леонардо почти отказывается и переносит действие на лоно природы. Два дерева, лестницы амфитеатра и скалистые холмы в глубине намечают пространственную перспективу и подчеркивают акценты главной группы. Мадонна сидит в центре, но не в глубине, как у Боттичелли, а на переднем плане, и со всех сторон окружена поклоняющейся толпой. Леонардо заимствовал у живописцев конца кватроченто контраст спокойной позы мадонны и бурного движения поклоняющихся, всю эмоциональную насыщенность этой волнующейся толпы, но ввел ее восторженный экстаз в границы объективной геометрической системы, обобщил его и изолировал от зрителя. И как это сделано, как глубоко продумано и вместе с тем словно непреднамеренно — в этой демонстрации художественного синтеза проявляется все несравнимое мастерство Леонардо. То, что никогда не удавалось ни одному кватрочентисту, Леонардо достиг с поразительной легкостью: мадонна выделена из толпы, безраздельно над ней господствует. И это несмотря на то, что она — отнюдь не самая крупная фигура композиции и не помещена выше остальных фигур. Как это достигнуто? Тем, во-первых, что на ней сосредоточена наибольшая сила света, тем более что мадонна является единственной фигурой композиции, помещенной фронтально, и единственной, кроме того, движения которой развернуты во всей полноте; тем, наконец, что вокруг нее образовалось свободное пространство, особенно отмечающее ее недоступность и защищающее ее от бушующих страстей, от стремительного темпа периферии. И этот спокойный, светлый образ мадонны с магнетической силой привлекает к себе все помыслы, все движения окружающей толпы. Нет буквально ни одного тела, ни одной головы, ни одного движения рук, которые не направлялись бы к этому центру. Где только ни гнется колено, где ни высовывается лицо, ни поднимается рука — все живет одним импульсом, все сердца обращены к мадонне и младенцу! Голова мадонны находится как раз в центре пересечения диагоналей композиции. Вместе с тем голова мадонны образует вершину равнобедренного треугольника, стороны которого составляются из двух коленопреклоненных волхвов. На твердом фундаменте этой геометрической схемы строится все богатство композиции. Кажущийся беспорядок на самом деле оборачивается непреложным законом. Но наряду с этим геометрическим закреплением композиции на плоскости Леонардо стремится закрепить ее геометрически и в пространстве. Наперерез главному треугольнику помещен второй треугольник, образуемый головами склонившегося к земле старика Иосифа, высовывающегося из-за мадонны и третьего старика, защищающего глаза рукой от света. Этот второй треугольник, обращенный в глубину, устанавливает положение мадонны в пространстве. Наконец, вся остальная масса поклоняющихся вписана в очертание полукруга и, как арка на столбы, опирается на две прямо стоящие фигуры по краям композиции.
Если мы возьмем композицию Леонардо как целое, то не трудно видеть, что по своему конструктивному замыслу она гораздо ближе к живописи начала, нежели конца кватроченто, к Мазаччо, чем к Боттичелли. Но есть и огромное различие, внесенное как раз промежуточными достижениями живописцев «второй готики». У Мазаччо единство композиции достигалось ценою полной остановки движения, у Леонардо же — концентрацией движения при сохранении всей его силы и темпа. Статическое равновесие Мазаччо превратилось у Леонардо в динамическое равновесие.
Как ни огромны были достижения Леонардо в композиции «Поклонения», самого мастера они не удовлетворили. Картина выходила по-кватрочентистски слишком пестрой и шумной и главное — была лишена светового единства. А именно эта проблема света, как основного фактора пластического единства, как средства органического слияния фигур с пространством, теперь приобрела для Леонардо первенствующее значение. И, полный жажды приступить к разработке этой новой проблемы, Леонардо охладевает к «Поклонению». Это охлаждение усугублялось тем, что тогдашняя Флоренция не давала возможности развиться его разносторонним творческим силам. Все более феодализировавшийся двор Лоренцо Медичи, утонченный гедонизм, идеалистическая философия с мистическим оттенком — чужды Леонардо. С другой стороны, его интеллектуальное искусство и его научные интересы не находят отклика у Лоренцо. Щедрый меценат, чуткий ценитель художественных талантов, Лоренцо Великолепный находился, однако, всецело под обаянием линейного и эмоционального искусства своих готизирующих современников, Боттичелли и Поллайоло; и потому не нужно удивляться, что он, так сказать, «прозевал» гений Леонардо. Не имея соответствующих своему творческому размаху заказов во Флоренции, Леонардо нащупывает почву в Риме. Но и там господствуют представители «второй готики». И при распределении работ по украшению Сикстинской капеллы Леонардо был опять обойден в угоду консервативным мастерам. Все эти обстоятельства заставили Леонардо обратить свои взоры на Северную Италию, где как раз в это время, миланский кондотьер Лодовико иль Моро начал свою беззастенчивую борьбу за завоевание политического могущества. Военные и дипломатические успехи Лодовико пробудили в нем столь свойственную тиранам Ренессанса страсть к роскоши, к зрелищам, к широкому поощрению искусства. Благодаря щедрому меценатству Лодовико Моро Милан за несколько лет превратился в один из самых блестящих художественных центров Италии. Леонардо решил испытать свое счастье и написал Лодовико Моро большое письмо с предложением своих услуг. Сокращенная копия этого письма хранится теперь в библиотеке Амброзиана в Милане, входя в состав так называемого Codex Atlanticus, содержащего главное литературное наследие Леонардо да Винчи. В письме Леонардо предлагает свои услуги главным образом в качестве инженера, строителя мостов и укреплений и изготовителя боевых снарядов, только мимоходом упоминая о своих качествах скульптора и живописца. Письмо произвело на Лодовико желаемое впечатление, и в 1482 году Леонардо отправляется в Милан, везя с собой драгоценную лютню, им изготовленную, которая имела форму лошадиной головы и была сделана почти целиком из серебра. Как пишет Вазари, Леонардо превзошел всех музыкантов и импровизаторов, прибывших в Милан с целью показать свои способности. Герцог пленился талантом Леонардо и был очарован удивительными речами молодого флорентийского художника.
Деятельность Леонардо в Милане (1482–1499) сразу же развертывается очень широко. Помимо многочисленных работ, которые мастер делает для герцога, он получает и ряд частных заказов. Так, уже весной 1483 года Леонардо заключает договор об изготовлении алтарной иконы для церкви Сан Франческо в Милане. Эта так называемая «Мадонна в скалах» находится теперь в Лувре. Картина имеет совершенно исключительное значение в истории итальянского Ренессанса. Прежде всего как самое раннее, дошедшее до нас, вполне законченное достоверное произведение Леонардо. Ведь до сих пор мы имели дело только или с неоконченными, или с предполагаемыми произведениями кисти мастера. «Мадонну в скалах» можно рассматривать как последнюю границу и вместе с тем как последнее связующее звено между стилями кватроченто и чинквеченто. Кроме того, картина интересна и как первое проявление североитальянского влияния в живописи Леонардо. К флорентийской конструктивной логике и острому пластическому чутью примешивается здесь ломбардская лирика и мягкая живописность. По условию Леонардо должен был исполнить композицию с большим количеством фигур, как этого требовали местные традиции. Но Леонардо нарушил договор и ограничился только четырьмя фигурами. Действие происходит в полусумерках на темном фоне фантастических базальтовых скал, с небольшими просветами на далекий пейзаж. С той интимной тщательностью, которая свойственна североевропейской живописи, Леонардо изобразил растения и цветы: фиалки, ирисы и анемоны, растущие среди скал. Богоматерь правой рукой обнимает маленького Крестителя, склонившего колено перед младенцем Христом, а левую держит над головой Христа, охраняя его и благословляя. Ангел смотрит из картины на зрителя и указывает пальцем на Иоанна, как бы вовлекая зрителя в духовное общение со святой семьей. Подобная тема многократно изображалась живописцами кватроченто. Но Леонардо дает ей совершенно новое психологическое истолкование. Здесь речь идет не о том пассивном молитвенном настроении, которое излучают все аналогичного характера картины кватроченто, но о некотором духовном событии, которое активно и индивидуально переживается всеми его участниками. Духовная связь между двумя младенцами, материнские заботы мадонны, соединяющиеся с возвышенным моментом благословения, — все это различные ступени некоего духовного происшествия, слияние которого в высшее единство предоставлено сознанию зрителя. Эта психическая (не только физическая, как в искусстве кватроченто) активность образов Леонардо, с одной стороны, и перевес интеллекта над эмоциями (опять-таки в полный противовес искусству кватроченто), с другой, составляют главное завоевание Леонардо в его борьбе за создание классического стиля. Картины Леонардо апеллируют не к чувствам, а к сознанию зрителя, они требуют активного размышления, способности интеллектуального синтеза.
Само собой разумеется, что эта новая психологическая установка обусловливает и новые формальные приемы. Уже в «Поклонении волхвов» Леонардо стремился к синтезированию, нормированию композиции путем введения ее в отвлеченную, геометрическую схему. Здесь Леонардо идет по этому пути еще дальше, еще последовательнее. Композиция «Мадонна в скалах» построена на системе треугольников, составляющих отдельные элементы фигурной группы и вместе с тем объединяющих всю группу в целом в геометрические границы пирамиды. Эта пирамидальная композиция принадлежит отныне к основным приемам классического искусства. Коренная разница с «Поклонением волхвов» заключается в том, что там Леонардо оперировал именно треугольниками, то есть плоскостями, тогда как в «Мадонне в скалах» он вписывает композицию в пирамиду, то есть в пространственное тело. Планиметрия живописи кватроченто превращается в классическом стиле в стереометрию. Этот исключительный по историческому значению творческий шаг Леонардо можно сформулировать и иначе. В живописи кварточенто всегда существовала двойственность, разногласие между фигурами, которые, независимо от окружающего их пространства, рисовались на плоскости в виде рельефной полосы, и самим перспективно построенным пространством. Другими словами, живописная концепция кватрочентистов состояла из фигур и пространства. Леонардо первому удалось преодолеть этот разрыв и сделать из фигур пространственные ценности. Его живописная концепция имеет дело уже не с противоречием двух независимых элементов (фигур и пространства), но с абсолютным единством фигур в пространстве.
Главным средством живописи Леонардо для достижения этого единства является светотень, знаменитое леонардовское сфумато. Вазари в порыве увлечения называет Леонардо даже изобретателем светотени. Это, разумеется, неправильно, так как приемы моделировки колорита были знакомы уже Перуджино, Синьорелли и живописцам Северной Италии. Но Леонардо нашел для светотени другое применение: из вспомогательного средства он превратил светотень в главный стержень живописной концепции. В рукописях Леонардо несколько раз подчеркивается его руководящий тезис: «Моделировка есть душа живописи». «Мадонна в скалах» впервые красноречиво демонстрирует эту идею Леонардо. Светотень теперь не только служит пластической лепке формы, но она как бы составляет и содержание, сущность окружающего фигуры пространства. Светотень и пространство в концепции Леонардо становятся однозначными. Отныне пространство не только видимо, но и осязаемо, так сказать, измеримо в кубических мерах. Именно поэтому Леонардо, во-первых, уничтожает всякую остроту линий, свойственную живописи кватроченто. Контуров больше нет, есть только бесконечно мягкие, неуловимые переходы от света к тени — такова тайна леонардовского сфумато (в буквальном переводе «сфумато» означает — испарение, дымка). Вместе с тем Леонардо переносит центр тяжести со света на тень. Для Леонардо тень есть первоначальный элемент пространства, его естество, его жизнь. Вечный солнечный день, который, казалось, господствовал на картинах кватроченто и который делал все предметы и краски такими отчетливыми и жесткими, неожиданно сменился густыми, таинственными сумерками, смягчающими очертания и краски и вибрирующими в волшебной игре рефлексов и полутеней.
Но леонардовское сфумато есть нечто большее, чем внешняя среда; оно словно пронизывает тело насквозь, согревает его своей живительной силой, заставляет теплую кровь заиграть под кожей. С помощью сфумато Леонардо хочет проникнуть во внутреннюю жизнь предмета, раскрыть его душу, узнать тайну его божественной красоты. Леонардовское сфумато, таким образом, служит не только формальным живописным целям, но и духовному воздействию на зрителя. Другими словами, светотень Леонардо отнюдь не вытекает из реальных наблюдений над природой, но, напротив, является абстрактным, синтетическим принципом, наподобие леонардовской же пирамидальной композиции. Отсюда естественно вытекают и положительные и отрицательные результаты изобретения Леонардо. Положительные результаты заключались в том, что Леонардо нашел в светотени универсальное средство для создания в картине оптического единства, для слияния фигур с пространством и красок со светом. Но отрицательные результаты оказались более важными и, так сказать, более роковыми. Дело в том, что леонардовское сфумато надолго приостановило колористическое развитие итальянской живописи, оттеснив на задний план все те проблемы пленэра, дневного света, чистых спектральных красок, которые еще в середине XV века выдвинул Пьеро делла Франческа. Сфумато поглотило чистую звучность краски, тень сделалась сильнее света, предметы — дороже пространства. Леонардо да Винчи смело можно назвать отцом тенебризма, той темной, тональной живописи, которая почти безраздельно господствовала в Европе в течение едва ли не двух столетий.
Луврская «Мадонна в скалах» интересна еще в одном отношении. Дело в том, что в лондонской Национальной галерее хранится картина, за небольшими изменениями соответствующая луврской. Как же понимать это сходство? Имеем ли мы в обеих картинах оригиналы Леонардо или одна из них есть оригинал, а другая копия? И какая, в таком случае, является оригиналом? Вокруг этой проблемы разгорелся жестокий спор ученых (есть горячие сторонники и у лондонской и у луврской картин; есть и примирительные точки зрения). Знаменитый в свое время директор берлинских музеев Боде признавал оригиналом Леонардо только лондонскую картину, не менее известный знаток итальянского Ренессанса, Вельфлин, с такой же решительностью высказывался за луврскую картину. Теперь этот спор постепенно затихает. Обнаружились новые документальные данные, благодаря которым проблему можно считать окончательно выясненной. Присмотримся внимательно к обеим картинам. Между ними есть несколько чисто внешних отличий, которые стараются истолковать в свою пользу сторонники противоположных теорий. Так, на луврской картине отсутствуют нимбы, у ангела нет крыльев, у Иоанна Крестителя — креста — одним словом, отсутствуют традиционные церковные атрибуты. Анализируя картины еще внимательнее, можно заметить и внутренние различия. Можно сказать, что луврская картина в целом одухотвореннее, глубже, сердечнее: как дети устремляются друг к Другу, как маленький Христос благословляет, наклоняясь вперед всем тельцем, как рука мадонны словно охраняет младенца, — в каждом жесте луврской картины больше выразительности, больше концентрации. Но значит ли это, что луврская «Мадонна» — оригинал, а лондонская — копия? Ведь луврская картина не только одухотвореннее, но она и старше по стилю, архаичнее, примитивнее. Если ее мастер стоял на пороге Ренессанса, то автор лондонской «Мадонны» уже давно этот порог переступил. В самом деле, взгляните, например, на этот указательный перст ангела. Подобный жест еще вполне принадлежит репертуару кварточенто; мастера же классического стиля решительно избегали таких наивных приемов. Далее — на лондонской картине все действующие лица как будто старше, развитее, потеряли тот детски-наивный облик, который присущ образам луврской картины, — опять-таки признак классического стиля. То же самое относится и к формальным приемам. Рисунок на луврской картине линейнее, отчетливее и жестче. Обратите внимание, например, на плечо ангела, на правую ногу Крестителя (на луврской картине она видна целиком, тогда как на лондонской картине прячется в тени), на то, как выписана каждая травка, каждый цветочек. Напротив, в лондонской картине все переходы смягчены и тени гораздо гуще. Аналогичный контраст можно наблюдать и в колорите. Даже одноцветная репродукция позволяет видеть, что колорит луврской картины пестрый, что там сильно выделяются локальные краски (например, бросаются в глаза три красочных оттенка в одежде мадонны). Напротив, в лондонской картине явно преобладает общий тон, заглушающий голоса отдельных красок. Этот колористический контраст между луврской и лондонской картинами указывает не только на историческую эволюцию от раннего к Высокому Ренессансу, но и на не менее важное различие местных школ. Флорентийская школа даже и в эпоху классического стиля продолжает культивировать локальный колорит, тогда как в живописи миланской школы обнаруживается сильная тенденция к тональному колориту. Наконец, следует отметить важное отличие в трактовке пейзажного фона. В основных чертах контуры сталактитовой пещеры одинаковы в обеих картинах. Но в то время как луврская картина заканчивается сверху небом, на лондонской картине темная скала поднимается до самой верхней рамы. Это композиционное изменение имеет очень существенное последствие — благодаря ему пещера на лондонской картине кажется больше и ближе. Если от луврской картины мы получаем такое впечатление, как будто фигуры находятся перед скалой, что скала есть только фон, то на лондонской картине фигуры охвачены скалами со всех сторон, они — внутри пещеры.
Итак, результаты нашего беспристрастного анализа могут быть сформулированы следующим образом. Луврская «Мадонна» есть безусловно оригинал Леонардо, относящийся к началу его миланского пребывания, когда в его творчестве еще не были до конца преодолены пережитки стиля кватроченто и когда флорентийские живописные приемы еще сильно давали себя чувствовать. Лондонская картина написана значительно позже, в духе развитого классического стиля с преобладанием чисто ломбардских живописных приемов. Причем некоторая вялость форм, отсутствие абсолютной духовной концентрации заставляют предполагать рядом с Леонардо участие кого-либо из его учеников. Эти результаты стилистического анализа вполне подтверждаются данными вновь обнаруженных документов. Так, от 1494 года сохранилось письмо Леонардо к герцогу Лодовико, в котором мастер указывает, что цена, назначенная братством, заказавшим «Мадонну в скалах», слишком низка, и просит герцога быть посредником. Не известно, в чем выразилось это посредничество. В дальнейшем картина была приобретена Франциском I, была в Фонтенбло, Версале, откуда она и попала в Лувр. Недовольное этим исходом дела братство потребовало от Леонардо вторую картину взамен первой. Был заключен новый договор, на этот раз предполагавший совместное участие Леонардо и его ученика Амброджо де Предис. Выполнение этой второй картины, теперь находящейся в Лондоне, сильно затянулось и было закончено, видимо, не раньше 1508 года уже в отсутствие Леонардо.
Почти непосредственно после окончания луврской «Мадонны в скалах» Леонардо получил новый заказ, от доминиканских монахов, — написать «Тайную вечерю» для трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. Монастырь был выстроен в готическом стиле, но по предложению герцога Лодовико его решено было преобразовать в духе новых архитектурных форм, распространявшихся из Тосканы, и это задание было поручено Браманте в 1492 году. Одновременно было начато обновление внутреннего убранства трапезной. В 1495 году живописец старой ломбардской школы Джованни Донато Монторфано закончил на одной из стен трапезной большую фреску «Распятие». Этот год следует рассматривать как начальную дату, когда Леонардо приступил к «Тайной вечере», предназначенной для другой стены трапезной. В 1498 году «Тайная вечеря» была закончена.
Леонардо с чрезвычайным рвением и огромной тщательностью взялся за работу. Миланский новеллист Банделло рассказывает, что он, будучи молодым монахом, наблюдал за Леонардо во время работ над «Тайной вечерей». Мастер очень любил такие посещения и требовал от своих друзей и учеников, чтобы они откровенно высказывали свое мнение о картине. Бывали дни, говорит Банделло, когда Леонардо работал с раннего утра до позднего вечера, не выпуская из рук кисти, забывая об еде и питье. И затем бывали дни, когда он совсем не прикасался к картине. Но тогда он проводил несколько часов перед картиной в молчаливом раздумье, сравнивая, изучая и оценивая то, что уже сделано. А бывало и так, что, находясь где-нибудь в замке за другой работой, Леонардо вдруг срывался с места, бежал в трапезную монастыря, взбирался на помост, делал несколько ударов кистью и снова уходил[9]. Как экспериментатор по природе, Леонардо и в технике хотел создать нечто новое и неслыханное. Вместо того чтобы обратиться к традиционной технике фрески, Леонардо отважился писать на стене им самим изобретенной смесью темперы и масляной краски. Выбор подобной техники был, по-видимому, продиктован мастеру, во-первых, его специфически медленными приемами работы, желанием постоянно вносить поправки и перерабатывать уже готовые части картины, чего не допускала фресковая техника; а во-вторых, стремлением добиться большей яркости красок и большего богатства оттенков и переходов. И действительно, как свидетельствуют современники, эффект живописи Леонардо, когда картина была готова, оказался поразительный, из ряда вон выходящий. Но пагубные результаты технического новшества не замедлили очень скоро сказаться. Уже через двадцать лет после окончания «Тайной вечери» краски стали отставать от грунта и осыпаться. В XVII веке в стене трапезной была пробита дверь, уничтожившая часть картины. Дым от кухни, помещавшейся рядом с трапезной, еще усиливал порчу. В XVIII веке помещение трапезной превратили в склад сена, а затем начались мудрствования реставраторов, калечивших картину до тех пор, пока, наконец, в 1908 году картина не была зафиксирована и предохранена от дальнейших разрушений. Не удивительно, что в наши дни «Тайная вечеря» Леонардо представляет собой только слабую тень своего первоначального облика[10].
«Тайная вечеря» Леонардо — это краеугольный камень, евангелие классического искусства. Идеальная программа Высокого Ренессанса полностью осуществлена в картине Леонардо. Глядя на нее, кажется, что иначе это священное событие и не могло бы быть рассказано, а между тем сколько поколений должно было подготовить путь для Леонардо, какая сила синтетической мысли нужна была для того, чтобы свести к единству все разрозненные достижения итальянского искусства! В композиции своей картины Леонардо очень мало отступает от традиционной иконографической схемы; и тем не менее рядом с леонардовской любая другая композиция «Тайной вечери» покажется случайной, невыразительной, недодуманной. «Тайная вечеря» Леонардо воздействует именно своей абсолютной продуманностью, согласованностью частей и целого, силой своей формальной и духовной концентрации. Взглянем прежде всего на само пространство, в которое помещена сцена «Тайной вечери». Из пышной, пестро и богато разукрашенной залы, отвечавшей вкусам кватроченто, Леонардо делает скромную комнату, своими простыми линиями и плоскостями составляющую незаметный и гармоничный фон для главного действия. Для того чтобы еще более заглушить фон и выделить фигуры, Леонардо применяет перспективный прием, до сих пор незнакомый итальянским живописцам. Как вы помните, живописцы кватроченто всегда изображали пространство комнаты полностью, часто даже в обрамлении наружных стен. Леонардо же, напротив, срезывает пространство комнаты сверху и с боков, изображая, таким образом, только заднюю ее часть. Благодаря этому приему фигуры всецело господствуют над фоном, не создавая в то же время впечатления тесноты. Но в целях концентрации Леонардо идет еще дальше. Взгляните на размеры стола, сопоставьте их с количеством фигур, и вы убедитесь, что стол несоразмерно мал, что все апостолы не смогли бы за ним усесться. Таков закон классического искусства — во имя высшей правды реальная действительность должна быть принесена в жертву.
Вглядываемся дальше. Христос занимает геометрически точное, центральное положение в картине. Мало того, его глаза находятся на уровне горизонта, и таким образом все перспективные линии сходятся к его голове. Для того чтобы еще более выделить господствующее положение Христа, Леонардо помещает его темный силуэт на светлом фоне окна и отделяет его от других, тесно сомкнутых, фигур цезурами свободного пространства. Христос абсолютно спокоен, кругом него — бурное смятение мыслей, чувств и движений.
В самой трактовке темы Леонардо на первый взгляд как будто вполне примыкает к сложившимся в Италии традициям. Подобно Джотто, фра Анджелико, Андреа дель Кастаньо и Гирландайо, Леонардо также избирает самый драматический момент рассказа, когда Христос произносит роковые слова: «Один из вас предаст меня». Но достаточно сравнить картину Леонардо с любой «Тайной вечерей» эпохи кватроченто, чтобы убедиться, как глубоко принципиальное расхождение Леонардо с его предшественниками. Кватрочентисты изображали самый момент произнесения слов и одновременно — отражение этих слов на лицах апостолов. То есть и причину и следствие вместе. Леонардо же изображает момент, когда роковые слова уже произнесены. Христос молчит, но его молчание полно высшего драматического напряжения. Иначе говоря, концепция Леонардо симультанна. Он не смешивает причину со следствием. Причину мы знаем, но видим — только следствие. И это придает картине Леонардо такую неслыханную психическую концентрацию.
Есть еще два пункта, в которых Леонардо незаметно отступает от традиций. Прежде Иоанн изображался возлежащим на груди Христа. Чтобы изолировать фигуру Христа, Леонардо присоединяет Иоанна к группе апостолов. Прежде Иуда одиноко сидел на противоположной стороне стола, и этим наивным приемом уничтожался весь драматизм положения: предатель был виден сразу и зрителю и всем апостолам. Леонардо сажает Иуду среди других апостолов, как бы соблюдая его инкогнито, — и только сторонний зритель способен угадать злодея, потому что лицо Иуды — единственное, находящее в тени, особенно в соседстве со светлой головой апостола Петра. Леонардо распределяет колористические акценты композиции, стремясь придерживаться того принципа «полярной симметрии», который выработали еще, как мы знаем, живописцы позднего кватроченто. В основу колористической композиции «Тайной вечери» положен контраст красного и синего, теплого и холодного, светлого и темного. Так, Христос одет в светлую, красную одежду и темно-синий плащ. По краям же композиции дано обратное сочетание: темно-синему Варфоломею слева противопоставлен светло-красный Симон справа. Тот же принцип проведен и в групповом сочетании фигур. Апостолы симметрично распределены на четыре группы по три человека в каждой. Эта симметрия как будто еще подчеркнута тем, что обе внутренние группы между собой сближаются, а обе внешние — расходятся. Кроме того, в левой половине композиции линия голов падает (достигая низшей точки в голове Иуды), на правой половине, напротив, эта линия поднимается (до высшей точки — в голове апостола Филиппа). С изумительным мастерством Леонардо подчеркивает этот контраст игрою рук. Обратите внимание, как движение апостолов перебрасывается от одного к другому по непрерывной цепи рук, причем в правой части картины эта цепь вытягивается перед фигурами (от Симона к Филиппу, к поднятому пальцу Фомы), тогда как в левой части — позади фигур.
Этот анализ мог бы быть до бесконечности продолжен. В характеристике каждой группы, в каждом сопоставлении смежных фигур Леонардо обнаруживает огромный дар драматического синтеза и композиционной логики. Но вместе с тем нужно признать, что глубокое наслаждение, даваемое созерцанием «Тайной вечери», имеет исключительно интеллектуальный характер. В глубине души зритель остается чуждым и холодным к этому миру идеальных существ и абсолютной гармонии. «Тайная вечеря» Леонардо посвящена человеку, человеческим характерам и переживаниям. Но не любовь к человеку, а страстный интерес к законам органической натуры направляет творчество Леонардо. В период работы над «Тайной вечерей» Леонардо увлекается физиономикой. Существует большое количество рисунков мастера, относящихся к этой эпохе, в которых Леонардо штудирует физическую и психическую структуру человеческой головы и лица. Один из миланских последователей и биографов Леонардо, Ломаццо, рассказывает, что мастера чрезвычайно занимала проблема смеха. Однажды он встретил на улице двух крестьян, заинтересовавших его своими физиономиями, зазвал их к себе, накормил и напоил и во время трапезы рассказывал им такие забавные вещи, что они стали хохотать во все горло, а мастер незаметно зарисовал их мимику и жесты[11]. В таком подходе к натуре заложены уже зародыши карикатуры; а карикатура всегда сопровождала развитие искусства в те периоды, когда художественное творчество основывалось главным образом на интеллектуальных предпосылках. И действительно, среди рисунков Леонардо, возникших в девяностых годах, большое место занимают такие, которые должны быть причислены к области карикатуры. Таков, например, рисунок Виндзорского собрания с пятью мужскими головами. Сущность карикатуры заключается в подчеркивании или преувеличении физических и психических недостатков человеческой головы, тела, ситуации; причем, однако, это преувеличение должно иметь не эмоциональное, а интеллектуальное оправдание (иначе мы станем говорить не о карикатуре, а о стилизации). Карикатура апеллирует не к наглядным представлениям зрителя, а к его знаниям, к его разуму. Так, темой данной карикатуры Леонардо являются аномалии рта, то раскрытого, то беззубого, то с выпяченной нижней губой.
Параллельно с работой над «Мадонной в скалах» и «Тайной вечерей» Леонардо был занят в Милане и еще одним крупным заказом. Герцог Лодовико поручил ему отлить из бронзы статую Франческо Сфорца, основателя миланской династии тиранов. Как большинству работ Леонардо, так и этой статуе Сфорца не суждено было осуществиться. Леонардо то с рвением брался за разработку проекта, то снова его бросал, так что у герцога являлась даже мысль передать заказ какому-нибудь другому художнику. Наконец, после более чем десятилетней подготовительной работы модель была готова и выставлена для публичного осмотра. Но к этому времени политическое положение Лодовико настолько пошатнулось, что он уже не мог решиться на большие затраты по отливке статуи в бронзе. А затем наступила катастрофа. Вовлеченный в войну с Францией, Лодовико должен был бежать из Милана; французские войска вступили в город, и модель статуи Сфорца сделалась жертвой французских стрелков, избравших ее мишенью. Таким образом, от всех грандиозных планов уцелели, собственно, только подготовительные наброски к статуе. Но мы их рассмотрим позднее, так как к проблеме конной статуи Леонардо пришлось вернуться еще раз, во время его вторичного пребывания в Милане, когда ему была поручена статуя маршала Тривульцио.
В 1499 году, предвидя скорое падение Лодовико иль Моро, Леонардо покинул Милан; для него характерно полное безучастие к политическим событиям (как и к злодеяниям Борджа), стремление «убегать от бури». После кратковременного пребывания в Мантуе и Венеции художник вернулся во Флоренцию. Этот третий период деятельности Леонардо да Винчи охватывает примерно годы от 1500-го до 1506-го. Классический стиль Леонардо достигает теперь абсолютной зрелости. Масштаб фигур сильно увеличивается по сравнению с плоскостью картины. Контраст света и тени усиливается, и в особенности тени становятся более густыми, так что создается впечатление или вечерних сумерек, или лунного освещения. Вместе с тем границы форм все неуловимее растворяются в мягком тумане сфумато.
Три большие работы Леонардо характеризуют этот период его деятельности. Прежде всего — алтарная картина, предназначенная для церкви Сантиссима Аннунциата, с изображением святой Анны, Марии и младенца Христа. Первоначально заказ был поручен Филиппино Липпи, но когда Леонардо, услыхав об этом, выразил желание написать картину, Филиппино отказался от заказа и уступил его Леонардо. Так, по меньшей мере, утверждает Вазари. Однако Леонардо долго не приступал к работе и только после настойчивых просьб наконец выполнил подготовительный картон. Когда этот картон был выставлен в церкви, то, по словам Вазари, он вызвал небывалое доселе скопление народа, жаждущего видеть чудо искусства. Впоследствии картон был утерян. Однако дальше картона дело не пошло, и только много позднее, во время вторичного пребывания в Милане, Леонардо приступил к разработке темы в картине, которая была затем закончена его учениками и теперь находится в Лувре. Представление о первоначальном замысле Леонардо дает картон, хранящийся теперь в лондонской Национальной галерее. В лондонском картоне окончательное решение еще не найдено. Группа лишена неопровержимой пластической цельности, еще слишком развертывается на плоскости. Нет еще господствующего центра: мадонна и святая Анна сидят почти рядом, как два равноценных элемента композиции. В окончательной редакции Луврской картины Леонардо полностью достиг своей цели. Богоматерь сидит на коленях святой Анны, младенец Христос тянется к Иоанну Крестителю, держащему на руках ягненка. Леонардо поставил себе задачей соединить несколько тел в одно существо, в одну компактную пластическую массу. Теперь это действительно одно тело, одна округлая пластическая масса, одно духовно неразделимое существо. На минимальной пространственной базе сосредоточен максимум поворотов, движений и пластических контрастов. Подобно «Поклонению волхвов», «Мадонне в скалах», и здесь контуры группы замкнуты в излюбленной Леонардо пирамидальной схеме. Движение развертывается сетью параллельных и пересекающихся диагоналей на строгом вертикальном остове, который дает господствующая над группой фигура святой Анны (заметьте, что голова и правая нога святой Анны находятся на одной вертикальной оси, разбивающей картину на две половины). Из пейзажа исчезли все натуралистические детали. Дан только обобщенный кончает темного переднего плана и светлой, тающей в воздушной дымке, фантастической дали. В луврской картине «Святая Анна» Леонардо достигает высшей степени той типизации, той идеальной вневременности, к которой его стиль стремился, начиная с ангела на Верроккьевом «Крещении». Вместе с тем стиль Леонардо начинает застывать в идеализированной ситуации, типах и приемах (например, сфумато, съедающее колорит). Он открыл в лице «душевное состояние», «оживил» лицо, одухотворил его (знаменитая леонардовская улыбка), но одновременно в чем-то и упростил задачи для многочисленных учеников и последователей, которым грозили односторонность, штамп, норма и нечто статическое (в отличие от непрерывного психологического «потока» Рембрандта).
Если луврская картина «Святая Анна», законченная учениками Леонардо, позволяет судить только об общем композиционном замысле мастера, то непосредственное воздействие самой живописи Леонардо мы получим от второй его флорентийской работы, от знаменитого портрета «Мона Лиза», тоже хранящегося в Лувре. Картина имеет славу высшего создания европейской портретной живописи, быть может, самого совершенного художественного создания вообще. О «Моне Лизе» писано бесчисленное количество исследований и романов, ее похищали и вновь находили, от любви к ней сходили с ума, ей поклонялись и ее ненавидели. Поэтому всякая попытка подойти к этой картине без предубеждения заранее обречена на неудачу. Внешняя история портрета такова. Она изображает молодую флорентийку Мону Лизу, жену видного флорентийского гражданина Франческо Джокондо (откуда ее прозвище — Джоконда). В 1503 году, когда портрет был закончен, Моне Лизе было двадцать четыре года. По словам Вазари, Леонардо писал портрет в течение четырех лет и устраивал таким образом, чтобы во время работы всегда присутствовал кто-нибудь, кто пел, играл или шутил, чтобы Мона Лиза не теряла веселого выражения лица и не начала скучать. Согласно другим источникам, Леонардо настолько сжился с портретом, что не отдал его заказчикам, а увез с собой в Милан и позднее подарил французскому королю.
В лице Моны Лизы заметны следы моды кватроченто: у нее выбриты брови и волосы на верхушке лба, что, быть может, невольно усиливает странную загадочность в выражении ее лица. Но своей одеждой с небольшим вырезом на груди и с рукавами в свободных складках, точно так же как прямой позой, легким поворотом тела и мягким жестом рук Мона Лиза всецело принадлежит эпохе классического стиля. Если мы спросим себя, в чем заключается великая притягательная сила «Моны Лизы», ее действительно ни с чем не сравнимое гипнотическое воздействие, то ответ может быть только один — в ее одухотворенности. В улыбку «Джоконды» вкладывали самые хитроумные и самые противоположные интерпретации. В ней хотели читать гордость и нежность, чувственность и кокетство, жестокость и скромность. Ошибка заключалась, во-первых, в том, что искали во что бы то ни стало индивидуальных, субъективных душевных свойств в образе Моны Лизы, тогда как несомненно, что Леонардо добивался именно типической одухотворенности. Во-вторых, — и это, пожалуй, еще важнее — одухотворенности Моны Лизы пытались приписать эмоциональное содержание, между тем как на самом деле она имеет интеллектуальные корни. Чудо Моны Лизы заключается именно в том, что она мыслит; что, находясь перед пожелтевшей, потрескавшейся доской, мы непреоборимо ощущаем присутствие существа, наделенного разумом, существа, с которым можно говорить и от которого можно ждать ответа. Если мы задаем себе другой вопрос — какими средствами достигнута эта одухотворенность, эта неумирающая искра сознания в образе Моны Лизы, то следует назвать два главных средства. Одно — это чудесное леонардовское сфумато. Недаром Леонардо любил говорить, что «моделировка — душа живописи». Именно сфумато создает влажный взгляд Джоконды, легкую, как ветер, ее улыбку, ни с чем не сравнимую ласкающую мягкость прикосновения рук. Второе средство — это отношение между фигурой и фоном. Фантастический, скалистый, словно увиденный сквозь морскую воду пейзаж на портрете Моны Лизы обладает какой-то другой реальностью, чем сама ее фигура. У Моны Лизы — реальность жизни, у пейзажа — реальность сна. Благодаря этому контрасту Мона Лиза кажется такой невероятно близкой и ощутимой, а пейзаж мы воспринимаем как излучение ее собственной мечты.
Мы остановились на эпохе второго пребывания Леонардо во Флоренции, в самом начале XVI века. Портрет «Мона Лиза» и картон «Святая Анна» составляют только малую долю его тогдашних духовных интересов. Как обычно, голова мастера полна грандиозных планов, одновременно он занят самыми разнообразными проблемами. Он сецирует трупы и изучает геометрию. Ему не сидится на месте. То он осушает болота в окрестностях Флоренции, то изобретает стенобитные орудия, то завязывает связи с Чезаре Борджа и разрабатывает для него проекты крепостей. Наконец, флорентийцам удалось найти для Леонардо художественную задачу, которая, по-видимому, действительно увлекла мастера и, казалось, надолго должна была привязать его к месту работы. Флорентийская Синьория, заботясь о поддержании патриотических настроений горожан, задумала украсить стены зала Большого совета Палаццо Веккьо фресками, в которых прославлялись бы героические подвиги флорентийцев. Разумеется, Леонардо был первым, к кому обратилась Синьория с предложением написать одну из этих картин. Леонардо согласился и в октябре 1503 года приступил к работе. Темой для картины была избрана битва при Ангиари, происшедшая в 1440 году, в которой флорентийцы, несмотря на свою малочисленность, одержали блестящую победу над войсками миланского герцога. Задача чрезвычайно заинтересовала мастера; с большой тщательностью он принялся за подготовительные работы. Прежде всего подробно ознакомился со всеми обстоятельствами битвы по хроникам и другим свидетельствам и составил на этом основании докладную записку Синьории. Эта докладная записка, к сожалению, не сохранилась, но в «Трактате о живописи» есть одно место, которое имеет непосредственное отношение к тогдашним замыслам мастера и из которого видно, как Леонардо представлял себе тогда изображение битвы. Ему рисуются широкие просторы, большое количество фигур с главными и второстепенными эпизодами, клубок тел, динамика которого усиливается вспышками огня, клубами дыма и пыли и мерцанием оружия под яркими лучами солнечного света. Когда читаешь описание Леонардо, перед глазами невольно возникает бурная картина битв, как их изображали живописцы барокко — Бургиньоне или Сальватор Роза. Мысленно, в теории, Леонардо уже предвидел живописные проблемы и эффекты искусства барокко. Но на практике, как мы сейчас увидим, он оказался всецело под влиянием пластических и синтетических принципов Ренессанса. По своему обыкновению, Леонардо приготовил сначала тщательно проработанный картон для будущей композиции. Этот картон был выставлен для публичного обозрения и вызвал восторженное одобрение художников. Скульптор Бенвенуто Челлини, которому еще посчастливилось видеть этот картон в молодости, говорит о нем не иначе, как о «всемирной школе для художников». Зафиксировав в картоне свою концепцию темы, Леонардо потерял дальнейший интерес к работе. Этому охлаждению способствовало и другое обстоятельство: заказ на вторую картину цикла Синьория передала Микеланджело. Соревнование с художником молодого поколения, но уже прославленным и притом враждебно к нему настроенным, было очень неприятно Леонардо. Только упорные настояния гонфалоньера Флорентийской республики Содерини принудили Леонардо приступить к картине. К сожалению, мастер снова не устоял перед соблазном эксперимента. На этот раз его увлекла проблема живописи восковыми красками, в духе античной энкаустики. Однако опыты не удались, мастер попытался перейти на масляные краски и еще более ухудшил положение. Разочарованный неудачами, в 1506 году Леонардо просит у Синьории отпуск для поездки в Милан, с очевидным намерением больше уже не возвращаться к злосчастной картине. Во второй половине XVI века остатки живописи Леонардо были закрыты фресковой росписью Вазари.
По счастливой случайности мы имеем все же возможность составить себе некоторое представление о замысле Леонардо. Сохранился рисунок Рубенса, исполненный им во время пребывания в Италии и передающий композицию Леонардо. Имел ли Рубенс в своем распоряжении утерянный теперь подготовительный картон Леонардо или он воспользовался какой-нибудь копией с самой картины Леонардо, сказать трудно, во всяком случае, рисунок Рубенса в точности соответствует тем описаниям «Битвы при Ангиари», которые оставили Вазари и другие очевидцы. Рисунок Рубенса показывает, что в окончательной версии «Битвы» Леонардо отказался от тех живописных фантазий, которые представлялись ему в теории, и целиком остался в рамках классического стиля. Нет ни дыма, ни пыли, ни далеких просторов, ни необъятной толпы всадников. Композиция Леонардо дает очень небольшое количество фигур в абстрактном пространстве и в замкнутой, пластической обработке. Цель Леонардо остается, по существу, той же, какой она была в «Поклонении волхвов», в «Тайной вечере» и «Святой Анне», — абсолютная физическая и психическая концентрация, максимум пластической силы при минимальной затрате пространства. Только в «Битве при Ангиари» эта цель еще усложняется запутанностью ситуации и стремительностью темпа. В картине Леонардо изображен момент борьбы за знамя. Справа два всадника бросаются в натиск и уже ухватились руками за древко знамени. Один из противников в причудливой формы шлеме старается не выпускать знамя, весь согнувшись в неловкой позе, тогда как другой бешено замахивается кривой саблей на атакующих. В круговорот битвы вовлечены и лошади — они сплелись ногами и грызут друг друга. Даже под копытами лошадей продолжается бой. И вот в этот хаос сплетенных тел, гримас, хриплых криков, в эту оргию страстей надо было внести гармонию, смятение превратить в высшую закономерность. Задача эта решена Леонардо его обычными средствами, но доведена здесь до еще большей степени точности и совершенства. То, что на первый взгляд кажется хаосом, произвольной импровизацией случая, при более внимательном рассмотрении оказывается введенным в строжайшие границы геометрической схемы. Главная группа всадников вписана в геометрическую фигуру, подобную ромбу; прямая вертикальная линия разделяет композицию на две математически равные части, причем эта линия проходит сначала через скрещение двух сабель, а потом через скрещение лошадиных ног. При всей своей математической точности эта схема так мудро скрыта, что уже в следующий момент зритель забывает о ней, захваченный драматической насыщенностью сцены. Этой драматической концентрацией, страстной напряженностью Леонардо безусловно превосходит Микеланджело. Но он равнодушен к человеческой морали, к героизму во имя идеи — у него человек в битве изображен в животном, первобытном бешенстве, почти человеконенавистнически. Микеланджело, который соревновался с Леонардо, был пламенным патриотом, республиканцем; его картон согрет глубоким гуманизмом; здесь есть тревога, смятение, но это героизм без ужасов битвы и привкуса смерти.
«Битвой при Ангиари» обыкновенно заканчивают характеристику творчества Леонардо. Действительно, после 1506 года Леонардо не создал ни одного произведения, которое по своему абсолютному художественному значению могло бы равняться с «Тайной вечерей» или с «Моной Лизой». Тем не менее и для психологии самого Леонардо и с точки зрения общей эволюции классического стиля последний период деятельности Леонардо да Винчи представляет исключительный интерес.
Внешняя канва биографии Леонардо такова. Бросив испорченную картину «Битва при Ангиари», Леонардо отправляется в Милан. Поводом к этой поездке, по-видимому, был заказ, полученный им от французского короля Людовика XII на конную статую фельдмаршала Тривульцио, победителя Лодовико иль Моро. В 1513 году Леонардо посещает Рим в связи с празднествами, устроенными по случаю избрания нового папы Льва X. Как это ни странно, но Рим, тогдашний главный очаг Высокого Ренессанса, встретил создателя классического стиля очень недружелюбно. Очевидно, стиль Леонардо казался римлянам в ту пору слишком простым, скромным; гедонистическое патрицианское общество вокруг Льва X предпочитало или grandezza Рафаэля, или terribilita Микеланджело. Ни у папы, ни у других крупных римских меценатов не нашлось для Леонардо ни одного настоящего, серьезного заказа. Для очистки совести папа предложил Леонардо написать маленькую картинку, изображающую младенца Христа, но даже и из этой безделицы ничего не вышло. Вазари рассказывает, что, получив заказ, Леонардо тотчас же принялся перегонять разные сорта масла и всякие травы, чтобы изготовить лак для картины. Услышав об этом, папа воскликнул: «Увы, этот человек ничего не сделает, ибо он думает о конце прежде, чем приступить к началу». Разочарованный, Леонардо возвратился в Милан. Здесь ему представился случай проявить свои разносторонние дарования при торжественной встрече молодого французского короля Франциска I. Между прочим, он сконструировал льва, который во время королевской аудиенции прошел через весь зал и остановился перед королем, его грудь раскрылась, и из нее посыпались лилии, символ герба королей рода Валуа. Французский король взял Леонардо к себе на службу, во время своей поездки по Италии постоянно пользовался советами мастера в художественных и технических вопросах и, покидая Италию в 1516 году, захватил Леонардо с собой. В замке Клу, близ Амбуаза, мастер прожил последние годы своей жизни, окруженный заботливым вниманием короля. Но к живописи он более уже не возвращался. Леонардо умер 2 мая 1519 года.
Составить себе представление о художественных идеях Леонардо в последний период его жизни мы можем главным образом по трем его произведениям. Первое из них — картина «Иоанн Креститель», находящаяся в Лувре. Авторство Леонардо удостоверено рядом документальных свидетельств, и время возникновения картины может быть определено 1508–1512 годами[12]. Тем не менее многие из биографов Леонардо упорно отказываются внести картину в список оригинальных произведений мастера. Это предубеждение до некоторой степени понятно. При всем огромном живописном мастерстве картина не захватывает так бесповоротно, как другие подлинные произведения Леонардо. А между тем луврский «Креститель» возник в результате вполне последовательного развития постоянных проблем Леонардо — его мягкого, тающего сфумато, его обворожительной улыбки, его любимого жеста указательным перстом. И только в фантазии Леонардо могло родиться это удивительное созвучие расходящихся диагоналей головы и руки. Какое же именно свойство картины расхолаживает зрителя? Я определил бы его словом «чересчур». Чересчур демонстративен указательный жест руки Иоанна Крестителя, чересчур обворожительна его улыбка, чересчур мягки и расплывчаты переходы сфумато, делающие поверхность обнаженного тела почти ватно-рыхлой. Из сфумато, то есть отвлеченной и пластически-обобщенной системы света и теней, получилось здесь нечто вроде искусственного света, вроде ночной мглы, пронизанной лунным или факельным сиянием. Из мягкости контуров и касаний, столь характерной для «Моны Лизы», получилась уже какая-то изнеженность, которая весь образ Иоанна Крестителя делает неприятно женственным.
Но такова уж судьба классического стиля — его равновесие немыслимо удержать надолго. Последовательно доведенные до конца принципы классического стиля вырождаются или в мертвую схему (то есть псевдоклассицизм), или в отрицание самих основ классического стиля (в то, что называется маньеризмом). То, что в классическом искусстве было только средством, незаметно становится целью. То, что в классическом искусстве было пассивным орудием изображения, теперь становится активным источником выражения. Таким образом, Леонардо да Винчи, великий создатель классического стиля, сам же первый разочаровался в его идеалах и первый переступил его границы. Как художник непрерывных творческих исканий, Леонардо не мог, разумеется, пойти по пути мертвой, псевдоклассической схемы и избрал второй путь, путь деформации самих принципов классического стиля. В этом смысле Леонардо является одним из первых инициаторов маньеризма и, как сейчас увидим, одним из первых в эпоху Высокого Ренессанса провозвестников барокко.
Еще определеннее, чем в «Иоанне Крестителе», Леонардо порывает с классическим стилем в композиции «Леда». К сожалению, оригинал этой композиции не сохранился до наших дней. Но мы можем составить себе довольно полное представление о замысле Леонардо по копиям его утерянной картины, исполненным его учениками и последователями. По-видимому, впервые идея «Леды» зародилась в фантазии Леонардо в бытность его во Флоренции, во время работы над «Битвой при Ангиари», так как на одном из подготовительних рисунков к «Битве» появляется и первый набросок «Леды». В рисунке из Веймарского собрания Леонардо разрабатывает композицию «Леды» более подробно[13]. Леда изображена склоняющей колени среди камышей; справа к ней приближается Зевс под видом лебедя, тогда как слева видим потомство Леды — маленьких Диоскуров, согласно легенде, вылупившихся из яйца. По формальной концепции эта первая версия «Леды» еще сильно проникнута духом классического стиля. Леонардо избирает характерную для классического искусства полусидящую позу, с преобладанием горизонтальных и диагональных направлений, с могучими формами тела, с сильными контрастами (резко противоположно движение нижней и верхней частей тела). Но уже в этой первой версии заметно некоторое неопределенное преувеличение поворотов и изгибов, увлечение чисто орнаментальной эластичностью линий.
В дальнейшей разработке композиции, вероятно, уже после отъезда из Флоренции, Леонардо все дальше отходит от основ классического стиля. С окончательной версией «Леды» знакомит нас ряд копий, исполненных миланскими учениками Леонардо. По-видимому, ближе всего оригинал Леонардо воспроизводит копия «Леды», находящаяся теперь в галерее Боргезе в Риме. Копия жестка по живописи и слишком мелочна в деталях, но вполне добросовестно передает композиционный замысел Леонардо. И этот замысел уже очень далек от чистых классических идеалов. Прежде всего — сама тема. С одной стороны, она отличается той аллегорической сложностью, тем смешением причины и следствия, которые так характерны для периода, предшествующего Высокому Ренессансу, в особенности у Боттичелли. С другой стороны, в ней есть несомненный привкус эротики, опять-таки совершенно чуждый классическому искусству и, напротив, очень типичный для фантазии маньеристов, например для Корреджо. То же самое относится и к формальной разработке темы. Не случайно Леонардо отказывается теперь от коленопреклоненной позы Леды и изображает ее во весь рост. В этой перемене основного мотива определенно сказались архаизирующие тенденции, возвращение к концепции Боттичелли. Вертикальное устремление и линейность снова начинают одерживать верх над классической статикой и пластикой. В позе и движениях Леды дано чрезвычайное богатство контрапостов. Но они уже не имеют того логического оправдания, как в классических произведениях Леонардо. В контрапостах «Леды» есть несомненный произвол, потребность движения во что бы то ни стало, во имя самого ритма гибких линий и круглящихся поверхностей (обратите внимание хотя бы на крутую линию бедра Леды, обрамленную крылом лебедя). В позе Леды Леонардо создал прообраз излюбленного приема маньеристов, так называемой figura serpentinata (то есть змеевидной фигуры), как бы извивающейся в непрерывном вращении вокруг своей оси.
Насколько эта орнаментальная мелодика линий, столь чуждая классическому периоду творчества Леонардо, увлекает теперь мастера, показывает ряд его рисунков, исполненных при подготовке композиции «Леда» или одновременно с нею, например этюд к голове Леды и к ее головному убору (Виндзор). Как далека теперь фантазия Леонардо от тех простых обобщенных силуэтов, в которых он трактовал головы в «Моне Лизе» или «Святой Анне»! Сложный узор заплетенных кос, тонкий орнамент развевающихся локонов более всего напоминают экспрессивную игру линий на картинах Боттичелли или Пьеро ди Козимо. И разве не Боттичеллиев хоровод граций напоминает рисунок танцующих девушек из Венецианской академии? Конечно, формы тела у Леонардо полновеснее, богаче жизненными соками, движения органичней, но им руководит здесь тоже радость динамической линии, он стремится к такому же произволу декоративного завитка. Но нигде тенденция Леонардо к эмоциональной символике линий, к ее динамике и экспрессии не проявляется с такой силой, как в замечательном рисунке Виндзорского собрания, изображающем «Потоп»[14]. Поистине автора этого рисунка можно назвать «экспрессионистом». Беспредметность этой фантазии бросает вызов всем принципам классического стиля. Воздействие рисунка Леонардо основано не на изобразительной логике, так как здесь даже нельзя говорить о каких-либо объективных признаках натуры, а исключительно на субъективном гипнозе экспрессивной линии. Таким образом, Леонардо подготовляет путь для мировоззрения так называемых маньеристов.
Но Леонардо не только подготовляет поворот от классического стиля к маньеризму, его творческое прозрение идет еще дальше и предвосхищает концепцию барокко. Об этом свидетельствуют его работы над проблемой конной статуи. Напомню, что еще во время своего первого пребывания в Милане Леонардо был занят подготовкой модели для конной статуи Франческо Сфорца. По возвращении в Милан мастер получает аналогичный заказ на конную статую фельдмаршала Тривульцио. Многочисленные собственноручные рисунки знакомят нас как с его первыми опытами, так и с дальнейшими вариациями композиционного замысла. На одной из стадий этих поисков Леонардо приходит к совершенно новой концепции, незнакомой Ренессансу, но пользующейся исключительной популярностью в эпоху барокко, — к мотиву лошади, вставшей на дыбы. Сначала Леонардо зарисовывает эту позу в момент галопа, или лошади, готовой к прыжку. Но затем мотив обогащается новыми подробностями, оправдывающими движение лошади, например павшим врагом. Так естественно заполняется пустой треугольник под копытами лошади, и получается столь любимая Леонардо геометрическая схема двух пересекающихся диагоналей. Соответственно этому замыслу складывается и композиция постамента. Это целое архитектурное сооружение, очевидно, раскрытое со всех четырех сторон, с колоннами и арками и — что особенно следует отметить — со статуями юношей-атлантов, сгибающихся под тяжестью своей ноши[15]. И по грандиозности постамента и по динамике самой статуарной группы памятник Джакомо Тривульцио порывает с традициями классического стиля и вступает в сферу мировоззрения барокко.
Насколько художественная концепция старого Леонардо действительно проникнута была пафосом и живописной динамикой барокко, показывает небольшая бронзовая статуэтка всадника в Художественном музее Будапешта, замысел которой соответствует окончательной версии памятника Тривульцио. Если эта статуэтка отлита в бронзе и не самим Леонардо, то, во всяком случае, она восходит к модели мастера. Но смелостью пластического замысла, бурностью движения, живописной обобщенностью форм будапештская статуэтка кажется принадлежащей не началу XVI, а концу XVII века.
Творческий путь Леонардо, как он нам теперь рисуется, когда мы подошли к самому его концу, в высшей степени показателен для всей проблемы Ренессанса и классического стиля приблизительно до 1498 года, до окончания «Тайной вечери». Затем следует короткая полоса времени, каких-нибудь пять, шесть лет, посвященная утверждению классического стиля; затем длительный период поисков нового идеала, и наконец молчание.
XXIV
ПОСЛЕ ЛЕОНАРДО наше изложение естественно должно обратиться к Рафаэлю. Леонардо да Винчи создал классический стиль, Рафаэль его утвердил, популяризировал и завершил. Характеристика творчества Рафаэля принадлежит, с одной стороны, к самым благодарным, с другой стороны, к самым трудным задачам историка искусства. Благодарна она потому, что искусство Рафаэля всегда кристально-чисто, всегда законченно, всегда ясно по своим средствам и целям. Именно эти черты искусства Рафаэля делают такой трудной его характеристику. В творчестве Рафаэля почти нет тех специфических признаков, которые помогли бы дать ему краткое, исчерпывающее определение. Конечно, Леонардо превосходит Рафаэля глубиной интеллекта; конечно, Микеланджело могущественнее его, Джорджоне — мелодичнее и поэтичнее, Корреджо — изящней, а Тициан — красочней, великолепней. Но дело-то в том, что у Рафаэля есть и большая сила интеллекта, и могучая фантазия, и изящество. Искусство Рафаэля часто определяют поэтому как «золотую середину». Такое определение, пожалуй, и подходило бы к нему, если бы он не был гением, то есть именно не выдавался бы в такой мере над «золотой серединой». Если же мы все-таки будем добиваться более точного определения гениальности Рафаэля, то должны будем назвать ее теми двумя свойствами, которые составляют сущность классического искусства — то есть инвенция и композиция. Фантазия Рафаэля не имеет себе равной по своей оптической наглядности и духовной убедительности. Точно так же и композиция Рафаэля безусловно превосходит все, что было создано и до и после Рафаэля в европейской живописи, своей абсолютной гармонией пропорций и исключительным чутьем пространства. Предпосылки, которые в этом направлении дала живопись Перуджино, Рафаэль развил до высшего совершенства. Как Леонардо может быть назван мастером светотени, Тициан — мастером колорита, так Рафаэль — мастером композиции, художником монументальносинтетического стиля. Вообще Рафаэль обладал исключительным даром синтеза: сочетанием реализма и идеализации[16], синтезом гуманистических идей Ренессанса и традиций античности с идеями христианства. Его следует считать создателем римской школы искусства.
Рафаэлло Санти родился в 1483 году в Урбино. Его отец, Джованни Санти, был незначительным художником, немного ювелиром, немного живописцем; очевидно, у него маленький Рафаэль и получил первые уроки живописи. Если верить литературным свидетельствам, Рафаэль далеко не отличался свойствами вундеркинда, напротив, учение давалось ему с трудом, и художественный талант его развивался очень медленно. Но вместе с тем Рафаэль отличался чрезвычайной восприимчивостью и приспособляемостью к чужим влияниям. Никто из мастеров итальянского Ренессанса не учился так много и упорно, как Рафаэль, и притом у столь различных мастеров, и никто не умел в такой мере, как Рафаэль, перерабатывать чужие воздействия для своих художественных целей. Родителей Рафаэль потерял очень рано (отца на двенадцатом году жизни). Для продолжения своего художественного образования Рафаэль поступил в мастерскую Тимотео Вити, типичного среднего представителя умбрийской школы. Однако Тимотео Вити вряд ли мог много дать своему жаждущему новых знаний ученику, и в 1500 году Рафаэль переселяется в Перуджу, чтобы поступить в обучение к тогдашнему прославленному умбрийскому мастеру, Пьетро Перуджино. Пребывание в мастерской Перуджино оказало сильнейшее влияние на художественную концепцию Рафаэля, и какие-то следы этого влияния сохранились в течение всей жизни мастера. Молодой Рафаэль в такой мере впитал в себя живописные приемы и дух творчества Перуджино, что некоторые произведения учителя и ученика почти невозможно отличить одни от других. Около 1500 года появляются первые самостоятельные работы Рафаэля.
Возможно, что так называемый «Сон рыцаря» в лондонской Национальной галерее относится еще ко времени пребывания Рафаэля в мастерской Тимотео Вити. В этой маленькой картинке с тонким умбрийским деревцем в центре и с робкими, грациозными, симметрично расположенными женскими фигурами есть какое-то особое обаяние. Характерно для наивной концепции юного Рафаэля, что порок воплощен в таком же благонравном облике, как и добродетель. Зато совершенно явные следы пребывания в мастерской Перуджино носит «Распятие» из той же Национальной галереи в Лондоне. Трудно представить себе большую способность «вчувствования» в дух и стиль своего учителя, чем та, которую проявляет Рафаэль в этой картине. Пейзаж, типы, позы, «голубиный взгляд», развевающиеся ленты ангелов — все до такой степени перуджиновское, что, не будь подписи, узнать авторство Рафаэля не было бы никакой возможности. Но уже некоторую самостоятельность Рафаэль проявляет в ряде мадонн, написанных им в бытность его в Перудже. Лучшая из них, так называемая «Мадонна Конестабиле», находится в Эрмитаже. Конечно, и здесь еще много робости и наивности. По-прежнему типы, меланхолическое настроение, заснувший умбрийский пейзаж целиком заимствованы у Перуджино. Однако Рафаэль уже начинает перерастать учителя, чувствуется легкое веяние классического стиля в том, как фигурная композиция согласована с круглой рамой тондо, как уверенно выделено несколько главных диагоналей (наклоненная голова мадонны, тельце младенца, книга), как намечаются блестящие данные Рафаэля-рисовальшика — ритмизированная линия (особенно в силуэте), певучесть.
К концу своего пребывания в мастерской Перуджино Рафаэль преодолевает гипноз учителя и осмеливается вступить с ним в своего рода соревнование. Чрезвычайно поучительно в этом смысле «Обручение Марии» (так называемое «Sposalizio»), которое Рафаэль написал в 1504 году, непосредственно после того, как Перуджино закончил алтарную картину на аналогичную тему. Сравнение этих двух картин с удивительной ясностью демонстрирует как раз те качества Рафаэля, которые составляют главную силу его художественной концепции — мастерство пространственной фантазии и абсолютная ясность оптических представлений. У Перуджино (картина находится теперь в музее в Кане) в центре — первосвященник, налево Иосиф, из головы которого словно вырастает зацветший посох, направо, симметрично, — дева Мария. Все фигуры силуэтно распластаны в узкой полосе переднего плана. Позади высится здание центрического плана, со срезанным рамой куполом; его легкие портики противоречат общей тяжелой массе. Бросаются в глаза почти комические своей изощренностью головные уборы и отверженный жених, неловко ломающий свой посох на бедре. А затем вспомним картину Рафаэля (она находится теперь в миланской галерее Брера). На первый взгляд Рафаэль использовал буквально все элементы композиции учителя: формат картины, круглое здание в глубине, количество и распределение фигур. И однако же почти незаметной переменой он внес совершенно новый пластический смысл в главную группу. Обратите внимание, что Иосиф и Мария поменялись местами: теперь богоматерь находится слева, а Иосиф справа. И в результате вся церемония обручения, с надеванием кольца, приобрела удивительную наглядность и пластическую выразительность. У Перуджино кольцо было скрыто рукой Иосифа, теперь мы его видим, и видим, как оно вот-вот будет надето на палец Марии. Все остальные изменения, внесенные в композицию Рафаэлем, имеют такой же характер оптической логики и наглядности. Отвергнутый жених теперь на самом переднем плане, он ломает посох о колено естественным, сильным движением. Фигур осталось столько же, сколько у Перуджино, но они не жмутся к переднему плану картины, а свободно размещены в пространстве. Круглое здание отодвинуто дальше в глубину, поэтому видно целиком и не давит фигуры своей тяжестью.
Картина показывает, что Рафаэль нашел себя, осознал свои силы и свое тяготение к классическим идеалам. Но для того чтобы сделаться полноправным представителем классического стиля, ему еще многого не хватает. Его фигуры еще отличаются той хрупкостью форм, темн танцующими движениями, которые характерны для позднего кватроченто. Ему не хватает драматической силы и пластической полновесности. Нет сомнения, что и в Перуджу проникли к тому времени вести о тех художественных проблемах, которые разрабатывались во Флоренции, и о новых славных именах мастеров, проповедовавших принципы классического стиля, Леонардо и Микеланджело. В душе Рафаэля пробуждается непреодолимое желание попасть во Флоренцию, чтобы пройти классическую школу у самих ее основателей. В 1504 году Рафаэль покидает мастерскую Перуджино и отправляется во Флоренцию.
По приезде во Флоренцию Рафаэль, по-видимому, не вступает ни в какую местную мастерскую, а посвящает свои силы изучению различных мастеров и самостоятельно штудирует новые художественные проблемы. Сохранившиеся в большом количестве рисунки флорентийского периода свидетельствуют об огромной трудоспособности Рафаэля и чрезвычайной методичности его работы. Прежде всего Рафаэль приступает к тому, о чем в мастерской Перуджино было мало речи, — к штудированию человеческой фигуры; причем усваивает прием Леонардо, изучая движение фигур сначала на обнаженной модели. Характерно, что постепенно меняется сама его рисовальная техника: вместо излюбленного в Умбрии металлического штифта и пера Рафаэль теперь все чаще обращается к популярному во Флоренции мелу. Наиболее сильное впечатление на него производит, конечно, Леонардо, как раз в то время работавший над «Битвой при Ангиари». Однако к этим впечатлениям все более начинает примешиваться бурное воздействие Микеланджело. Микеланджело в это время только что окончил статую Давида и работал над картоном «Битвы при Кашине». Мягко-лирическую умбрийскую душу Рафаэля смущают и подавляют его гигантские пропорции, его могучие тела, его страстные порывы. И на короткое время стилистическое развитие Рафаэля приходит как бы в замешательство, его талант сбивается с прямого методического пути в стремлении следовать и за Леонардо и за Микеланджело.
Свидетельством этого короткого замешательства Рафаэля служит картина «Положение во гроб», теперь находящаяся в галерее Боргезе, в Риме. Заказ на эту картину Рафаэль получил от Аталанты Бальоне из Перуджи, потерявшей своего сына в одном из столь характерных для Перуджи кровавых побоищ. Заказчица ожидала собственно не «Положение во гроб», а «Плач над телом Христа», в том меланхолическом духе, как подобные композиции писал Перуджино и другие умбрийцы: с распростертым в красивой позе телом Христа и с обступившими его со всех сторон фигурами, олицетворяющими тихую скорбь. Как показывают подготовительные рисунки, и сам Рафаэль первоначально намечал аналогичную декоративно-сентиментальную композицию. Но знакомство с искусством Микеланджело внезапно направило его искания в совершенно другую сторону — к могучим формам и страстному драматизму. В результате получилось самое беспокойное, самое насильственное из произведений Рафаэля и, пожалуй, единственное — действительно негармоничное. Во всяком случае, непосредственно после нежной лирики «Обручения Марии» — «Положение во гроб» поражает своим спутанным драматизмом и композиционными диссонансами. Разумеется, следы изучения искусства Микеланджело прежде всего обращают на себя внимание. Одна из Марий, та, которая сидит на земле и неестественно обернулась назад, чтобы поддержать тело богоматери, повторяет мотив микеланджеловской «Мадонны Дони». Рафаэль стремится к сильным контрастам и к интенсивности духовного выражения, но еще не в силах справиться со своей задачей. Бросается в глаза беспокойная путаница ног, неудачное повторение одного и того же мотива (например, голова одного из несущих тело Христа буквально повторена в том же положении, что и голова Христа); многие движения не ясны (например, что делает правая рука юноши, поддерживающего ноги Христа); группа женщин словно насильственно затиснута в узкий промежуток пространства. Наконец, самый выбор формата должен быть признан неудачным. Впоследствии мы увидим, как Тициан разрешит аналогичную проблему: для того чтобы выделить влачащийся, тяжелый ритм медленно двигающейся процессии, он избирает продолговатый формат. Напротив, Караваджо и Рубенс предпочитают вертикальный формат, чтобы подчеркнуть движение вниз — снимания с креста или опускания тела в могилу. У Рафаэля формат картины почти квадратный, благодаря чему ни одно из направлений не получает перевеса.
Рафаэль, видимо, сам сознавал свою неудачу. Он отказывается на время от многофигурных композиций и со свойственной ему методической тщательностью начинает изучать законы композиции, исходя из простейших сочетаний и переходя ко все более сложным. Особенно характерную для Рафаэля картину методического развития дают многочисленные мадонны, написанные им в период пребывания во Флоренции и примыкающие к нему римские годы. Как живописец мадонн, Рафаэль по преимуществу приобрел популярность. И действительно, никто не умел извлечь из этой темы столько духовного очарования. Но немногие отдают себе отчет в том, что это духовное воздействие мадонн Рафаэля базируется на удивительной ясности оптических представлений и на тончайшей работе художественной мысли. Подлинное наслаждение творчество Рафаэля дает только тому, кто шаг за шагом попытается проследить развитие формальных проблем, которые последовательно ставит себе Рафаэль.
Рафаэль начинает с простейшей полуфигурной композиции в так называемой «Мадонне дель Грандука» (из галереи Питти во Флоренции). Традиции умбрийского кватроченто еще очень сильно сказываются в лирической мягкости настроения. В образе мадонны подчеркнута почти монашеская кротость — в ее опущенных глазах, в некоторой робости жеста, которым она держит младенца. Этому перуджиновскому настроению вполне соответствует композиционная структура картины — с простыми параллельными вертикалями фигур мадонны и младенца, однообразие которых лишь чуть нарушено легким наклоном головы мадонны. Только в одном отношении Рафаэль отдает дань тогдашним флорентийским требованиям — в темном фоне, из которого мягко лепится группа мадонны с младенцем. Очевидно, Рафаэль здесь мечтал об эффекте леонардовского сфумато, но добиться той сумеречной дымки, которая так поразила его на картинах Леонардо, Рафаэлю не удалось. Вообще же таинственность Леонардовского полумрака не соответствует природе Рафаэля, и в большинстве последующих мадонн он переходит на пейзажные фоны и к ясным пластическим очертаниям дневного света. С другой стороны, для Флоренции не годилась лирическая пассивность «Мадонны дель Грандука», там требовали больше свободы, больше движения. И вот в так называемой «Мадонне Темпи» (в Мюнхене) Рафаэль, отваживается на более активную ситуацию. Здесь мадонна уже вышла из состояния пассивной кротости, она крепко обхватила младенца, ласкает и прижимает его к себе. Вместо архаической фронтальности «Мадонны Грандука» мы видим смелый поворот в три четверти, формы крепко, пластично выделяются на фоне светлого пейзажа.
Дальнейшего обогащения композиции Рафаэль достигает тем, что изображает мадонну уже не стоящей, а сидящей, она поворачивается и нагибается в различных позах, тогда как младенец то сидит, то лежит на ее коленях. Эту стадию представляет так называемая «Орлеанская мадонна» (Шантильи, музей Конде). Младенец полулежит на коленях богоматери, и благодаря тому, что богоматерь наклоняется к нему, получается более сплоченная группировка фигур. Здесь Рафаэль впервые пробует свои силы в излюбленных Леонардо диагоналях, но еще не способен преодолеть сухой параллелизм направлений. Тот же самый мотив уже гораздо смелей и свободней разработан в «Мадонне Колонна» (из берлинских музеев). Группа богаче движением и пластическими контрастами. Младенец протягивает руку к груди матери и в то же время оборачивается к зрителю. То же двойное движение в фигуре богоматери — ее взгляд направлен влево вниз, ее рука с книгой указывает вправо вверх.
Параллельно Рафаэль разрабатывает тему мадонны в трехфигурной композиции во весь рост. Первую, наполовину умбрийскую, стадию развития иллюстрирует «Мадонна Террануова» (в Берлине). В картине господствует еще умбрийское пассивно-сентиментальное настроение. Связь между фигурами лишена всякой активности и поддерживается условным мотивом ленты. Группа развертывается на плоскости и построена симметрично (причем для достижения симметрии пришлось насильственным образом ввести третьего младенца (согласно «Legenda aurea», олицетворяющего, вероятно, Христова брата). Но эта симметрия чисто орнаментальная, базирующаяся на внутренней композиционной логике в духе Леонардо; тот же внешне орнаментальный характер имеет и прием деления тондо на две равные половины с помощью балюстрады. Тем временем Рафаэль успел познакомиться с пирамидальной композицией Леонардо и с его трактовкой фигурной группы в виде компактной пластической массы (например, в картине «Святая Анна»). И в трех своих наиболее популярных флорентийских мадоннах Рафаэль подвергает методическому изучению проблему пирамидальной композиции. В так называемой «Мадонне со щегленком» (в галерее Уффици) пирамидальная схема дана несколько чересчур сухо и геометрично. Мадонна сидит фронтально; Христос и Иоанн дополняют друг друга по обеим сторонам ее колена. Но какая ясность оптической концепции! С какой гибкостью движения Христа и Крестителя описывают кольцо вокруг колена богоматери, с каким композиционным тактом использована складка плаща на плече богоматери, чтобы подготовить выступ книги. Христос и Креститель теперь активно связаны между собой — изображен, очевидно, апокрифический мотив глиняной птички, которую оживил младенец Христос (но никакой церковности нет и следа!). «Мадонна в зелени» (из венского Художественно-исторического музея) дает второй вариант. Мадонна сидит ниже и в профиль, дети перенесены на одну сторону композиции, пирамидальная схема выдержана строго. По сравнению с предшествующей «Мадонной» здесь больше движения, но зато фигурная группа имеет более плоский характер. В этом смысле наиболее совершенна по композиции третья из мадонн этого цикла, находящаяся в Лувре и носящая название «La belle jardiniere» («Прекрасная садовница»). Мадонна сидит еще ниже, вследствие чего группа становится прочнее, разрастаясь в ширину. Вместе с тем отдельные фигуры и вся группа в целом сильно увеличились в объеме по сравнению с плоскостью картины. Пластических контрастов еще больше; сменой взглядов все три фигуры теснее связаны между собой. Последнее разрешение проблемы трехфигурной группы Рафаэль дает в так называемой «Мадонне Альба», написанной около 1511 года (картина находится в вашингтонской Национальной галерее). Теперь фигурная композиция вписана в круглую раму тондо. Мадонна уже не возвышается над фигурками ребят, но полусидя, полулежа находится с ними на одном уровне. Геометрическая схема пирамиды искусно скрыта и сильно усложнена, скорее можно говорить о нескольких пирамидах — прямой, с вершиной в голове мадонны, и опрокинутой, с вершиной в кончике левой ноги мадонны. К этой пирамидальной схеме присоединяется круг, вращательное движение богоматери, вместе с Крестителем описывающее кольцо вокруг младенца. Здесь классический стиль Рафаэля мы застаем уже в полном расцвете. Все прежние, жизнерадостные или сентиментальные эпизоды, всякий налет умбрийской лирики отсутствуют теперь в замысле Рафаэля. Если в предшествующих мадоннах Рафаэль находился более под влиянием мягкой и интимной концепции Леонардо, то в «Мадонне Альба» преобладает героический, монументальный дух Микеланджело.
Но создание «Мадонны Альба» падает уже на третий, самый замечательный период деятельности Рафаэля. Осенью 1508 года Рафаэль получает от своего земляка Браманте, архитектора, играющего очень важную роль при папском дворе, приглашение приехать в Рим. Папа Юлий II задумал украсить фресками некоторые из зал Ватиканского дворца, и Браманте рекомендовал ему для этой цели молодого Рафаэля. Перспектива работать в Риме, для самого папы, показалась Рафаэлю настолько заманчивой, что он немедленно двинулся в путь, несмотря на обилие заказов, которые его ожидали во Флоренции. Незадолго до этого Леонардо окончательно покинул Флоренцию, а Микеланджело перенес свою деятельность в Рим. С этого момента Флоренция сразу теряет свое господство в итальянской художественной жизни и Рим, римская школа, становится главным центром классического стиля. Это и есть так называемый «золотой век» Ренессанса, продолжавшийся вряд ли более десяти лет.
Когда Рафаэль приехал в Рим, оказалось, что роспись ватиканских зал уже началась, что Перуджино и Содома исполнили там несколько фресок на плафонах. Предстояло расписать три смежные залы ватиканского дворца, так называемые станцы, представляющие собой такое же замкнутое целое, как апартаменты Борджа, расписанные Пинтуриккьо. Папа предложил Рафаэлю написать несколько фресок в одной из этих трех зал, так называемой Станце делла Сеньятура (от segnatura — подпись, так как в этой зале папа подписывал свои документы). Темой росписи были избраны четыре духовные силы, так сказать, четыре «факультета», на которых зиждется христианская культура — теология, философия, поэзия и юриспруденция. Таким образом, роспись станц должна была явиться плодом строго продуманной программы, посвященной прославлению церкви. Если в Станце делла Сеньятура должна была быть выделена культурная роль церкви, то в росписи других зал следовало подчеркнуть мистическое и историческое значение христианства. Однако этой самой общей программой и ограничивается идейная сторона росписи. Обычная ошибка зрителя, вступающего под своды станц, заключается в том, что он ищет в цикле Рафаэля каких-то особенно тонких культурно-философских построений и сопоставлений, пытается узнавать имена всех изображенных персон и по выражению их лиц, по их действиям восстановить глубокомысленную концепцию Рафаэля. На самом деле значение рафаэлевского цикла — чисто декоративное: в абсолютном соответствии между архитектурой и росписью, в непередаваемом чувстве ритма и свободы дыхания, которое овладевает всяким, кто становится перед «Афинской школой» или «Изгнанием Илиодора». Чудо живописи Рафаэля заключается в том, что из сравнительно небольших и довольно темных комнат он сделал пространство, полное светлого простора, населенное образами величественных, прекрасных, мудрых людей; создал отра-, жение всей культуры Ренессанса, ощущение всего мироздания. Позднейший почитатель Рафаэля Энгр отозвался об этом так: «Рафаэль писал людей добрыми, все его персонажи имеют вид честных людей»[17].
Ватиканский цикл Рафаэля начинается с фрески, носящей название «Диспута». Собственно говоря, спора никакого нет, картина является олицетворением неоспоримого догмата христианской церкви — таинства евхаристии. Но Рафаэль изображает не пассивное собрание святых и верующих, подобно тому как трактовала бы живопись треченто, а как некоторое событие, активно объединяющее всех его участников. Мастерство, с которым отдельные элементы композиции подчинены целому, и составляет главную ценность фрески Рафаэля. Не в психологических тонкостях деталей, не в драматических переживаниях — сила Рафаэля. В этом отношении его, безусловно, превосходит не только Леонардо, но и многие кватрочентисты. Но кто до него умел так владеть человеческой толпой, глубиной пространства, ритмом движений? Композиция делится на небесную и земную часть. Каждая из них расположена дугой, повторяя в пространстве полукруглое обрамление арки. Колорит построен на двух главных акцентах, синего и желтого, более интенсивных в земной части, более легких в небесной. Характерно для Рафаэля, что духовный центр композиции помещен в глубине сцены, но при этом так выделен, что глаз зрителя прежде всего и непреодолимо к нему увлекается. Мы видим здесь излюбленный прием классического искусства. Как в «Тайной вечере» Леонардо глаза Христа, так здесь дарохранительница — символ евхаристии — является духовным центром события и вместе с тем — точкой схода всех параллельных линий. Дарохранительница стоит на простом алтаре, поднятом на несколько ступеней. Вокруг алтаря четыре отца церкви — Иероним, Григорий, Амвросий, Августин. К этой цели всех упований христианской церкви с двух сторон устремляются верующие. Портреты чередуются с идеальными образами, исторические личности с безымянными фигурами, торжественные позы с полужанровыми группами. Причем, хотя алтарь делит композицию на две равные половины, неуловимо подчеркнуто нарастание движение слева, соответственно движению самого зрителя, входящего в Станцу делла Сеньятура из соседней залы.
В контраст теологии на противоположной стене представлен триумф философии, во фреске, носящей название «Афинская школа». Между композициями «Диспута» и «Афинской школы» есть несомненное соответствие: и там и здесь проведено деление на верхнюю и нижнюю части, и там и здесь выделяется декоративный мотив полукруга. Но в основной своей структуре композиция «Афинской школы» гораздо свободнее. В «Диспуте» все элементы, все части непреодолимо устремляются к одному центру. В «Афинской школе» дана, скорее, сумма отдельных, самостоятельных групп, как и подобает самому характеру независимой философской мысли, в отличие от соподчинения теологической иерархии. Поэтому в «Афинской школе» отдельные мотивы и группы резче характеризованы, типы и жесты индивидуальней, выразительней. Главная группировка дана двумя ярусами. На вершине лестницы — представители чисто спекулятивной мысли во главе с Платоном и Аристотелем. Платон указывает перстом наверх, на небо; Аристотель простирает руку над землей. У подножия лестницы — естествоиспытатели, представители практических дисциплин: справа — геометрия и астрономия, слева — грамматика, арифметика, музыка. Диоген, возлежащий на ступенях, и два юноши, устремляющиеся на верхнюю террасу, гибко связывают верхнюю и нижнюю группы между собой. Вместе с тем диагональная поза Диогена восстанавливает равновесие, которое как будто потеряно в двух передних группах: левая группа гораздо ближе продвинулась к центру, чем правая. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что, избегая сухой симметрии, Рафаэль уравновешивает правую и левую половины картины не горизонтально, а накрест. Так, замкнутой группе направо внизу (вокруг Евклида) соответствует замкнутая же группа налево наверху (вокруг Сократа), а накрест им сопоставлены две более раздробленные группировки. Поразительная легкость всех групп и фигур, простор и величавая высота пространства являются первым впечатлением от этой грандиозной композиции. И это впечатление легкости и простора тем более удивительно, когда отдаешь себе отчет в том, что на фреске изображено свыше пятидесяти фигур. Эта легкость достигается, конечно, благодаря безупречному чувству пропорций и ритма. Но еще более дивному ощущению свободы содействует мастерство, с которым главная группа Платона и Аристотеля помещена в глубине и все же безраздельно господствует над всей композицией. Как это достигнуто? Тем, во-первых, что находящиеся как раз под ней фигуры Диогена и задумавшегося математика показаны в сильном сокращении, тогда как Платон и Аристотель стоят прямо во весь рост. И тем, далее, что фигуры Платона и Аристотеля единственные вырисовываются на светлом фоне голубого неба и трижды увенчаны торжественным полукругом сводов. Можно ли самом в античном искусстве найти столь совершенное оптическое воплощение торжествующей мысли? Если Леонардо побеждает нас интеллектуальной и волевой силой своих героев, то у Рафаэля, кажется, само пространство, сами стены и воздух насыщены величием человеческого духа.
Помимо двух больших стен, на которых написаны «Диспута» и «Афинская школа», в распоряжении Рафаэля осталась еще третья стена, для аллегорического изображения поэзии. Окно, которое пробито в этой стене, Рафаэлю пришлось использовать как постамент для вершины Парнаса. В центре изображен Аполлон, играющий на виоле и окруженный музами. Налево — слепой Гомер, в момент снизошедшего на него вдохновения; справа его уравновешивает фигура музы, повернувшейся спиной к зрителю. По склонам Парнаса в свободных группах расположились поэты, знаменитые и безымянные, вплоть до двух сидящих фигур внизу: слева — Сафо, имя которой Рафаэль зафиксировал в надписи, справа — неизвестный поэт, указывающий рукою из картины. Не трудно видеть, что и здесь в основу композиции положена система разомкнутых спереди кругов — одного, меньшего, вокруг Аполлона, и другого, более широкого, образуемого группами поэтов. Однако той внутренней закономерности и концентрации, которая достигнута в предшествующих фресках, во фреске «Парнас» не получилось. Вина в этой неудаче только отчасти падает на невыгодную форму самого поля изображения. Мы увидим, как в следующей зале Рафаэль мастерски сумел использовать оконную раму для своих композиционных целей. Объяснение недостатков «Парнаса» надо искать в более глубоких внутренних причинах. Мы имеем здесь дело с одной из важнейших особенностей искусства Рафаэля и всего классического стиля. Искусство Рафаэля бессильно, если оно сталкивается с проблемой эмоционального выражения, если в самой теме нет той интеллектуальной, волевой концентрации, которая дала бы возможность развернуться его композиционному гению. Именно такой драматический центр отсутствует в теме «Парнас»: каждый поэт переживает свою собственную, индивидуальную инспирацию. И поэтому те же самые средства композиционных ритмов и равновесий, которые достигали таких чудес в «Диспуте» и в «Афинской школе», оказываются здесь бесплодными. Это чувствует и сам Рафаэль, и, чтобы внести жизнь в композицию «Парнаса», он решается даже на декоративный эффект, противоречащий принципам классического стиля: фигуры Сафо и старого поэта пересекают раму окна и как бы выходят за пределы плоскости фрески.
В 1511 году роспись Станцы делла Сеньятура была закончена. Удовлетворенный достигнутым (как своего рода подпись под работой), Рафаэль изображает в правом углу «Афинской школы» самого себя и своего предшественника Содому. Теперь следовало приступить к росписи второй залы, называемой по имени главной украшающей ее фрески — Станца д’Элиодоро. Напомню, что параллельно с работами Рафаэля в Станцах Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы. Фресковый стиль Микеланджело произвел огромное впечатление на Рафаэля и способствовал изменению его живописной концепции.
Прежде всего Рафаэль изменяет сам тематический подбор сцен. По программе, роспись Станцы д’Элиодоро должна была демонстрировать те моменты из истории церкви, когда она выходила невредимой из угрожающих ей опасностей, а папа Юлий II хотел здесь видеть воплощенными свои военные и дипломатические успехи. Но на этот раз Рафаэль отказывается от всяких отвлеченных аллегорий и изображает события, драматические коллизии. Вместе с тем сам стиль его приобретает большую пластическую силу, большую динамику. Благодаря более рельефной трактовке обрамлений, более сильным контрастам света и тени, фрески Станцы д’Элиодоро теряют тот плоскостной характер, который они имели в Станце делла Сеньятура, и кажутся похожими на глубокие отверстия, пробитые в стене.
Главная фреска залы — «Изгнание Илиодора из храма». Тема заимствована из второй книги Маккавеев. Там рассказано, что сирийский полководец Илиодор ворвался в иерусалимский храм, чтобы похитить деньги вдов и сирот, хранящиеся в сокровищнице. Но по молитве первосвященника является небесный всадник в золотом вооружении и изгоняет похитителя из храма. Папа Юлий II хотел видеть в этой теме намек на изгнание французов из Италии и потребовал от Рафаэля, чтобы тот изобразил его во фреске. Рафаэль с исключительным мастерством сумел использовать требование папы для своей композиции. С первого же взгляда бросаются в глаза изменения живописной композиции Рафаэля, вызванные воздействием Микеланджело. Нейтральное освещение сменилось сильными контрастами света и тени. Пространство не так просторно, но зато эффект третьего измерения гораздо резче выражен. Фигур меньше, но их динамика передается по всем направлениям. В центре, в глубине, изображен молящийся первосвященник, справа происходит изгнание Илиодора, слева — смятение волнующейся толпы, и на самом переднем плане — торжественное явление папы, которого вносят на носилках. Рафаэль по-прежнему поместил главную в духовном смысле фигуру первосвященника в самой глубине, по-прежнему симметрично уравновесил композицию по обеим сторонам средней вертикальной оси; но вместе с тем он решился на прием, который с точки зрения чистого классического стиля был явным диссонансом и в котором сказалось первое у Рафаэля предчувствие барокко, — сцену изгнания Илиодора, самую драматическую и динамическую, он бросает на край фрески, в самый угол. Глаз зрителя встречает прежде всего пустоту и затем уже, из глубины, направляется по диагонали в сторону, вследствие чего вся композиция приобретает характер стремительности и незаконченности. Соответственно и сама сцена изгнания трактована как незаконченное событие. Не сам момент наказания Илиодора представил Рафаэль, а только его подготовку, ожидание. Конь небесного всадника готовится подмять Илиодора своими копытами, и юноши с розгами только-только подлетают к нему по воздуху. Это перенесение движения на воздух, на полет, точно так же выходит за пределы статического равновесия Ренессанса. Чтобы придать диагонали всадника еще большее устремление вперед и вниз, Рафаэль с другой стороны заставляет двух мальчиков в испуге карабкаться на колонну — как чаша весов тем быстрее взлетает кверху, чем больше тяжесть, положенная на другую чашу. Следует отметить также колористическое построение композиции. По своему обыкновению, Рафаэль подчеркивает главные композиционные акценты одинаковыми красочными сочетаниями. Так, синее и желтое преобладает в фигуре Илиодора и всадника, первосвященника и женщины, выделяющейся из толпы. Это господство холодной гаммы уравновешено слева теплыми красными тонами в группе папы.
В росписи двух смежных с «Изгнанием Илиодора» стен Рафаэль опять столкнулся с трудностью, которую ему уже пришлось преодолеть в «Парнасе», — с глубокими нишами окон, врезающимися в стену с полукруглым завершением. Но на этот раз Рафаэль с таким блистательным мастерством разрешил композиционную задачу, как будто окна были для него не препятствиями, а необходимыми предпосылками. «Освобождение Петра из темницы» принадлежит вообще к величайшим живописным достижениям Рафаэля, в котором живописный замысел построен главным образом на световых эффектах, — опять-таки как явный предвестник барокко. Ученых часто занимал вопрос: кто мог вдохновить Рафаэля на подобную колористическую задачу? Ни у Микеланджело, ни во Флоренции Рафаэль не мог получить воздействий в этом направлении Вряд ли также справедливо предполагать влияние на Рафаэля североевропейской живописи, которая больше не оставила никаких следов в творчестве Рафаэля. Скорее, следует думать, что первоисточником для световой композиции Рафаэля был Пьеро делла Франческа, автор уже знакомого нам, замечательного «Сна Константина» с аналогичным эффектом ночного освещения. Ведь в те времена в Ватикане находились алтари и, может быть, даже росписи Пьеро делла Франческа. Благодаря оконной нише поле фрески как бы естественно разбивается на три части, на три последовательных эпизода рассказа. В центре изображена темница; видны силуэты заснувших стражей, прислонившихся к стене; является ангел в ореоле сияния и дотрагивается до плеча спящего Петра. С большим тактом Рафаэль помещает над окном не стену, а сквозную решетку темницы. Сцена поразительна по своей простоте, но нужен был Рафаэль, чтобы рассказать ее с такой, само собой разумеющейся, наглядной убедительностью. Справа ангел выводит Петра из темницы, мимо заснувших на лестнице стражей. Светлая, гибкая фигура ангела с легкой поступью чрезвычайно удалась Рафаэлю, особенно благодаря контрасту с темным силуэтом Петра, медленно двигающегося, как во сне. Наконец, налево — пробуждение и тревога стражей. Четыре, даже пять источников света скрещивают свои лучи в этой удивительной картине: желтое сияние ангела смешивается с бледно-голубым лунным светом, с розовым светом пробуждающейся зари и с красноватыми отблесками факела; причем наибольшая яркость сосредоточена в центре картины и смягчается к краям. И в этой композиции, как в «Изгнании Илиодора», Рафаэль предвосхищает барочный прием диагонального развития движения, но на этот раз оно идет с края к центру и снизу вверх, начинаясь в руке стража и продолжаясь в руках ангела. Какой-то особенной сказочной легкостью и простотой веет от этого «триптиха».
На противоположной «Освобождению Петра» стене, тоже пробитой окном, Рафаэль написал «Мессу в Больсене». Трудность композиционной проблемы усугублялась здесь тем, что окно пробито не в середине стены. Но и из этого испытания Рафаэль вышел блистательным победителем. «Месса в Больсене» изображает чудо, которое якобы произошло в XIII веке. Один немецкий священник отказывался поверить в таинство перевоплощения. Но однажды, когда он совершал обедню в Больсене, плат, покрывавший гостию, на его глазах окрасился кровью. Папа Юлий и на этот раз потребовал от Рафаэля своего участия в картине. Рафаэль распределил композицию следующим образом. Над оконной нишей и как бы позади нее он помещает церковный хор, к которому с двух сторон ведут ступени. В самом центре фрески — алтарный стол, у которого стоит на коленях неверующий священник, в изумлении созерцающий окровавленную гостию. Его изумление и волнение передаются мальчикам-клиросникам и еще более нарастают в толпе, собравшейся у подножия лестницы. Этой драматической и активной половине фрески Рафаэль противопоставляет другую — абсолютно спокойную и пассивную часть: как бесстрастный свидетель, как воплощение церковной истины, молится папа, за ним — кардиналы, и у подножия лестницы — швейцарская гвардия с папскими носилками. Этот контраст двух половин композиции в обратном смысле уравновешен колоритом. Направо преобладают яркие, сочные красочные сочетания — красное с зеленым, черное с золотом; в левой половине, напротив, господствуют нежные, преломленные краски: розово-фиолетовые, голубые, бледно-зеленые, бледно-желтые и палевые.
90. РАФАЭЛЬ. ОБРУЧЕНИЕ МАРИИ. 1504. МИЛАН, ГАЛЕРЕЯ БРЕРА.
91. РАФАЭЛЬ. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. 1507. РИМ, ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ.
92. РАФАЭЛЬ. МАДОННА ГРАНДУКА. 1505. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.
93. РАФАЭЛЬ. МАДОННА В ЗЕЛЕНИ. 1505. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
94. РАФАЭЛЬ. СТАНЦА ДЕЛЛА СЕНЬЯТУРА. 1509–1511. РИМ, ВАТИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ.
95. РАФАЭЛЬ. ДИСПУТ. ФРЕСКА СТАНЦЫ ДЕЛЛА СЕНЬЯТУРА. 1509–1511.
96. РАФАЭЛЬ. АФИНСКАЯ ШКОЛА. ФРЕСКА СТАНЦЫ ДЕЛЛА СЕНЬЯТУРА. 1509–1511.
97. РАФАЭЛЬ. АФИНСКАЯ ШКОЛА. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.
98. РАФАЭЛЬ. ИЗГНАНИЕ ИЛИОДОРА. ФРЕСКА СТАНЦЫ Д’ЭЛИОДОРО. 1511–1514. РИМ, ВАТИКАНСКИМ ДВОРЕЦ.
99. РАФАЭЛЬ. ИЗВЕДЕНИЕ ПЕТРА ИЗ ТЕМНИЦЫ. ФРЕСКА СТАНЦЫ Д'ЭЛИОДОРО. 1511–1514.
100. РАФАЭЛЬ. MECCA В БОЛЬСЕНЕ. ФРЕСКА СТАНЦЫ Д'ЭЛИОДОРО. 1511–1514.
101. РАФАЭЛЬ. МЕССА В БОЛЬСЕНЕ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.
102. РАФАЭЛЬ. ПОЖАР В БОРГО. ФРЕСКА СТАНЦЫ ДЕЛЬ ИНЧЕНДИО. РИМ. ВАТИКАНСКИЙ ДВОРЕЦ. 1514–1517.
103. РАФАЭЛЬ. ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ. КАРТОН ДЛЯ ШПАЛЕРЫ. 1515–1516. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
104. РАФАЭЛЬ И МАСТЕРСКАЯ. ВЕНЕРА И АМУРЫ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ВИЛЛЫ ФАРНЕЗИНА В РИМЕ. 1514–1518.
105. РАФАЭЛЬ. ПОРТРЕТ ПАПЫ ЛЬВА X С КАРДИНАЛАМИ ЛОДОВИКО ДЕИ РОССИ И ДЖУЛИО ДЕИ МЕДИЧИ. ОК. 1518 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
106. РАФАЭЛЬ И ДЖУЛИО РОМАНО. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. 1519–1520. ВАТИКАН, ПИНАКОТЕКА.
107. РАФАЭЛЬ. СИКСТИНСКАЯ МАДОННА. 1515–1519. ДРЕЗДЕН, КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
108. РАФАЭЛЬ. МАДОННА В КРЕСЛЕ. 1516. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.
109. РАФАЭЛЬ. ПОРТРЕТ БАЛЬДАССАРЕ КАСТИЛЬОНЕ. 1515–1516. ПАРИЖ, ЛУВР.
С какой тонкостью Рафаэль исправил дефект окна, нарушающего среднюю ось фрески, тем, что отодвинул фигуру папы дальше от центра, чем фигуру священника, и тем, что перерезал оконной рамой левую часть фрески, создавая иллюзию скрытого рамой пространства. Таким образом, точка зрения зрителя, вопреки оконной нише, твердо зафиксирована перед самым центром фрески. Несмотря, однако, на поистине гениальное композиционное мастерство, «Месса в Больсене» производит значительно менее сильное впечатление, чем «Изгнание Илиодора» и «Освобождение Петра». Объяснение надо искать в тех же причинах, которые вызвали неудачу «Парнаса». Тема «Мессы» имеет эмоциональный характер, она лишена активного драматизма, и поэтому классическое оружие Рафаэля перед ней бессильно. Для этой темы нужен мастер выражения, а Рафаэль был величайшим в европейской живописи мастером изображения.
В 1514 году фрески Станцы д’Элиодоро были закончены. Уже в росписи этой залы Рафаэль привлекал своих многочисленных учеников для выполнения на фресках второстепенных деталей. В решении третьей залы, так называемой Станцы дель Инчендио (то есть Комнаты пожара), участие учеников принимает гораздо более широкие размеры. Теперь Рафаэль дает только эскизы для композиций, так что в руках учеников, во главе с Джулио Романо и Франческо Пенни, находится и изготовление картонов и выполнение самих фресок. Поэтому фрески Станцы дель Инчендио следует рассматривать только как косвенное отражение искусства Рафаэля. Наиболее близкой к духу Рафаэля является главная фреска — «Пожар в Борго», давшая зале наименование. Событие, о котором рассказывает фреска, произошло в IX веке. В Борго, тесно заселенном римском квартале, примыкающем к Ватикану, разгорелся жестокий пожар; но он потух немедленно, как только папа явился в окне своего дворца и сотворил крестное знамение. В композиционном смысле мы имеем здесь, несомненно, продолжение и развитие идей Рафаэля, но доведенных до чрезмерной крайности. Наиболее сильное движение сосредоточено по краям; центр фрески свободен, и главное действующее лицо — благословляющий крестом папа — помещено в самой глубине пространства, но на этот раз чересчур далеко, так что теряет свое господствующее значение. Такое же преувеличение бросается в глаза и в отдельных фигурах. В некоторых из них, как, например, в женщине, несущей на голове кувшин с водой, чувствуется непосредственная инспирация Рафаэля, но уже лишенная чувства меры мастера. Происходит определенное перерождение классического силя в маньеризм — в эффектную позу, ложный пафос, в увлечение наготой, с движениями и силой как самоцелью, в ущерб духовной цельности концепции. Особенно яркой иллюстрацией этого перелома классического стиля является геркулесовски сложенный обнаженный юноша, напрягающий всю энергию своего мощного тела только для того, чтобы спрыгнуть с невысокой стены, которую он проще всего мог бы обойти. Это момент, чрезвычайно важный для уяснения психологии классического стиля. Мы видим, что на протяжении каких-нибудь пяти-шести лет, в пределах одной и той же художественной задачи, классический стиль уже успел себя изжить.
Передача дальнейшей росписи ватиканских Станц ученикам Рафаэля объясняется отнюдь не охлаждением мастера к задаче, но полной невозможностью единолично с ней справиться. Рафаэль обладал совсем другим характером и художественным темпераментом, чем Леонардо да Винчи. Леонардо брался только за те задачи, которые его действительно увлекали, и бросал их, как только увлечение остывало. Рафаэль, по мягкости своего характера, не в силах был отклонить ни один обращенный к нему заказ или поручение и считал себя обязанным заканчивать их к сроку. А между тем вместе с ростом славы нарастает и количество обязательств, взятых на себя Рафаэлем, и к концу росписи Станцы д’Элиодоро достигает таких размеров, что лично справиться с работой Рафаэль не мог бы и наполовину. Этим объясняется, с одной стороны, непомерное расширение деятельности мастерской Рафаэля, которая включает теперь несколько десятков учеников (по тому времени количество небывалое), и, с другой стороны, сгущение враждебной атмосферы вокруг Рафаэля. Новый папа, Лев X, доверяет Рафаэлю и не может без него обойтись. Все более или менее крупные римские заказы неизбежно проходят через руки Рафаэля, порождая зависть в кругах обойденных художников. Характерным примером может служить история с Себастьяно дель Пьомбо. Этот живописец прибыл в Рим из Венеции в 1511 году и первое время примкнул к Рафаэлю, стремясь усвоить его композиционные приемы и в свою очередь посвятив Рафаэля в некоторые достижения венецианского колорита. Но честолюбие Себастьяно дель Пьомбо не было удовлетворено ролью помощника Рафаэля, и спустя некоторое время он перекинулся к партии Микеланджело и превратился в жестокого врага Рафаэля. Его письма, адресованные Микеланджело во Флоренцию, прямо-таки дышат злобой и ненавистью к кроткому Рафаэлю. Так, в одном письме он пишет по поводу новой картины Рафаэля: «Жаль, что вас нет в Риме и вы не можете лицезреть две картины, написанные для Франции нашим верховным правителем синагоги (насмешливое прозвище Рафаэля). Я уверен, что вы не можете представить себе ничего более противного вашим представлениям. Достаточно сказать, что фигуры кажутся словно копченными в дыме и сделанными из жести …
Помимо напряженной деятельности в качестве живописца, помимо крупных декоративных заказов и бесчисленных алтарных икон и портретов Рафаэлю приходится теперь выступать и в качестве архитектора и в качестве археолога. Вскоре после смерти Браманте папа назначает Рафаэля руководителем постройки собора святого Петра. Архитектурные заказы Рафаэль получает и в самом Риме и из других городов. На него работает мастерская граверов во главе с Маркантонио Раймонди, которая размножает в гравюрах на меди картины и рисунки мастера. Мало того, папа поручает Рафаэлю надзор за всеми римскими древностями, заставляет его производить обмеры античных памятников и чертить планы Древнего Рима. В конце концов Рафаэль превратился в какого-то интенданта над всеми археологическими и художественными памятниками Рима. Нечего удивляться, что в результате этой непомерно разросшейся сферы деятельности не только творческие силы Рафаэля начинают иссякать, но и само здоровье его, от природы некрепкое, не в состоянии выдержать нагрузку. В марте 1520 года его схватывает жестокая горячка, а шестого апреля мастера не стало.
Чтобы легче ориентироваться в последнем периоде деятельности Рафаэля, мы рассмотрим его творчество по главным группам произведений. Прежде всего продолжим анализ декоративных работ Рафаэля, в которых только основная композиционная идея принадлежит самому мастеру, а выполнение должно быть отнесено за счет учеников и помощников.
Быть может, еще более неограниченный успех, чем ватиканские станцы, имели ковры Сикстинской капеллы. Во всяком случае, именно они, размноженные в гравюрах, разнесли славу Рафаэля и принципы классического искусства по всей Европе. Следует, однако, иметь в виду, что если в росписи двух первых ватиканских станц Рафаэль находился на высшем уровне чистого классического стиля (бесстрастное классическое спокойствие, возвышенный язык, выражающий[18] великие гуманистические идеалы Ренессанса), то композиции ковров представляют собой шаг к разложению классического стиля — отчасти в сторону псевдоклассицизма, в сторону рассудочной схемы, сухого интеллекта, отчасти же в сторону динамики и пафоса барокко. Заказ на ковры Рафаэль получил немедленно после окончания Станцы д’Элиодоро. Ковры должны были изображать жизнь апостолов Петра и Павла и украшать нижнюю часть стен Сикстинской капеллы, под фресками кватрочентистов. Уже в 1516 году картоны к коврам при непосредственном участии Рафаэля были закончены (теперь они хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне). Изготовить по этим картонам ковры было заказано мастерской Питера ван Альста в Брюсселе, и в 1519 году семь из десяти ковров были торжественно вывешены в Сикстинской капелле. Впоследствии ковры Испытали большие мытарства, сильно пострадали и теперь хранятся в Ватикане. Ввиду плохой сохранности и ковров и картонов мы знакомимся с композициями Рафаэля главным образом по гравюрным репродукциям.
Первая и, несомненно, самая совершенная композиция изображает „Чудесный улов“. После того как Петр и его товарищи бесплодно закидывали сети, Иисус приказывает им закинуть еще раз, и теперь обе лодки прямо-таки ломятся от обилия рыбы. Задача, стоявшая перед Рафаэлем, была аналогична той, которую Леонардо разрешил в своей „Тайной вечере“: Христос — пассивный, молчаливый свидетель драматической сцены, бурного проявления чувств, и в то же время именно он должен быть духовным и физическим центром события. Леонардо разрешил проблему в духе чистого классического стиля тем, что поместил Христа в середине композиции. Решение, данное Рафаэлем, во многих отношениях ближе к барокко, чем к Ренессансу, — Христос находится на самом краю картины, почти спиной к зрителю, и тем не менее является магнитом, стягивающим к себе все элементы композиции. Но эта барочная цель достигнута в картоне Рафаэля еще классическими средствами. Во-первых, тем, что фигурам дано абсолютное господство над окружающим — даже лодки Рафаэль делает разительно маленькими, чтобы лучше выделить фигуры. Далее, тем, что все духовное содержание картины сосредоточено в первой лодке, где сидит Христос, вторая лодка служит только фоном, демонстрирующим физическую сторону события. Наконец, — и это самое главное — замечательной логикой композиционной линии. Она охватывает сначала всех рыбаков второй лодки, по их спинам поднимается до высшего пункта, до головы апостола Андрея, и затем внезапно падает, чтобы от Петра опять подняться к Иисусу. И точно так же к Христу ведет линия переднего берега и падающий контур холмов в глубине.
Аналогичный замысел Рафаэль дает и во второй композиции цикла — в „Передаче ключей апостолу Петру“. И здесь заметно предвестие искусства барокко, но осуществленное классическими средствами. Мы знаем, как ту же тему трактовал Перуджино во фреске Сикстинской капеллы: Христос и Петр в середине картины, по обеим сторонам симметрично расположены апостолы. У Рафаэля Христос остановился у самого края картины (только на мгновение, как кажется, чтобы отдать ключи апостолу Петру, и сейчас он исчезнет); при этом одна фигура Христа уравновешивает всю толпу апостолов — опять замысел, далеко выходящий за пределы классической схемы. Но как он осуществлен — постепенным нарастанием движения среди апостолов, поднимающейся линией холма, ударом света в лицо Христа, тогда как лица апостолов по большей части погружены в тень, — во всех этих приемах Рафаэль прочно стоит на почве Ренессанса.
В дальнейших композициях к коврам происходит, с одной стороны, усиление пафоса, нарастание силы мимики и движения, с другой стороны, несомненно усиливается также искусственность, рассудочность композиционной схемы. Ковер „Исцеление хромого“ интересен не столько распределением фигур, сколько явным уклоном Рафаэля в сторону барокко в его архитектурной концепции. Витые колонны, между которыми разыгрывается сцена „Исцеления“, являются совершенно неприемлемым для Ренессанса и, напротив, очень популярным в эпоху барокко декоративным приемом. Наибольший успех у последователей Рафаэля и особенно у классицистов XVII и XVIII веков имела композиция „Смерть Анании“. А между тем именно в ней элементы академического застывания классических приемов резко выражены. На заднем плане сцены слева происходит сбор пожертвований, справа — их раздача. На возвышении, в центре композиции, собрался весь хор апостолов. Как судья, произносящий приговор, апостол Петр протягивает вперед руку, тогда как апостол Павел указывает на небо. На переднем плане Анания лежит в предсмертных корчах, а кругом него — случайные свидетели, отскакивающие в ужасе. Этот круг свидетелей очерчен таким образом, что упавший Анания как бы разрывает кольцо, делает в нем отверстие. В результате создается резкий диссонанс в абсолютно геометрически правильном построении. Во всей композиции есть чуждый чистому классическому стилю оттенок театральной постановки, режиссерской выдумки „под занавес“, точно так же как в облике действующих лиц подчеркнуты не живые индивидуальные характеры, а отвлеченные экспрессивные маски. Классицизм Рафаэля все более начинает перерождаться в псевдоклассицизм.
Если в картонах к коврам Сикстинской капеллы можно предполагать непосредственное участие Рафаэля, то в последующих декоративных работах, связанных с именем Рафаэля, самому мастеру в лучшем случае принадлежит общая декоративная идея. Сюда относится, во-первых, роспись загородной виллы, впоследствии получившей название виллы Фарнезины, которую мастерская Рафаэля исполнила по заказу крупнейшего римского банкира Агостино Киджи. Темой для декорации послужила сказка Апулея об Амуре и Психее. Гирлянды в парусах на потолке выполнил наиболее даровитый из учеников Рафаэля по части орнамента, Джованни да Удине, тогда как вся фигурная декорация принадлежит кисти Джулио Романо и Пенни. Общий замысел, однако, несомненно восходит к Рафаэлю. Этот замысел очень интересен как явная попытка нарушить декоративные принципы классического стиля. Как выше уже говорилось, принципы эти заключались в следующем. Потолок рассматривался как реальная непроницаемая плоскость. Декорация может расчленять эту плоскость, накладываться на нее, но не смеет ее пробивать, не смеет создавать иллюзию, что изображение находится позади плоскости потолка.
Опыт Мелоццо да Форли наполнить потолок иллюзией воображаемого пространства был решительно отвергнут классическим стилем. Теперь Рафаэль понемногу начинает освобождаться от этой старой тектонической концепции, но не сразу, а осторожно, путем компромисса. Прежде всего тем, что для украшения люнет он подбирает исключительно те эпизоды легенды, которые происходят на небе, где герои сидят на облаках или летают; и хотя сами изображения в люнетах имеют чисто пластический характер, все же у зрителя получается впечатление воздушных сфер, открывающихся позади обрамления гирлянд. Что касается самого потолка, то здесь Рафаэль прибегает к такому остроумному, но компромиссному приему. Две главные сцены декорации — „Совет богов на Олимпе“ и „Свадьба Амура и Психеи“ — представлены таким образом, как будто они изображены на коврах, подвешенных к потолку. Иными словами, с одной стороны, удовлетворено требование классического стиля — все фигуры изображены параллельно плоскости потолка, без всяких ракурсов disotto in su, с другой же стороны, самого потолка как непроницаемой плоскости уже нет, его заменяет легкий, висящий в воздухе ковер, за которым можно предполагать неограниченно глубокое пространство. Эта декоративная концепция очень характерна для консервативной натуры Рафаэля. В отличие от Микеланджело, способного на резкий разрыв с традицией, Рафаэль всегда идет путем примирения крайностей, путем лояльной переработки традиций.
Еще меньше личное участие Рафаэля надо предполагать в росписи так называемых лоджий Ватикана. Характерно, что не сохранилось собственноручных набросков Рафаэля к декорациям лоджий. Очень возможно поэтому, что и общая композиционная схема для лоджий была разработана его учениками, Джулио Романо, Франческо Пенни, Джованни да Удине, Пьерино дель Вага, и самому Рафаэлю принадлежит только главная идея и административное руководство. Пятьдесят две фигурные композиции на сводах с изображением событий из Ветхого и Нового завета — так называемая „Библия Рафаэля“ — и гротески на столбах составляют главное украшение лоджий. Более чем какой-либо другой декоративный цикл Рафаэля роспись ватиканских лоджий отражает воздействие античных образцов — как в орнаментальных мотивах, так и в сокращенной, импрессионистической манере письма. Источники декоративных мотивов лоджий, как теперь выяснено, в высшей степени разнообразны и стилистически противоречивы. Тут есть заимствования из древнеримского декоративного репертуара (например, из терм Тита и Золотого дома Нерона), использованы античные рельефы, саркофаги, геммы, но также мотивы средневековых скульптур и мозаик и даже рельефы Якопо делла Кверча. Таким образом, тот эклектизм, который широко распространился в итальянском искусстве после Ренессанса, несомненно получил свой первый толчок от классического стиля и именно из круга Рафаэля.
Наряду с широко разветвленной деятельностью декоратора Рафаэль сравнительно мало времени мог посвятить станковой картине. Тем не менее римские портреты занимают очень важное место и в творчестве Рафаэля и в общей картине классического стиля. Как ни трудно этого ожидать от специалиста декоративных ансамблей и монументальных, многофигурных композиций, Рафаэль был замечательным портретистом, одним из самых великих портретистов во всей истории европейской живописи. Но портреты Рафаэля представляют собой особенную, специфическую разновидность портретного искусства. Для того чтобы лучше понять портретную концепцию Рафаэля, стоит вспомнить, как к проблеме портрета подходили живописцы кватроченто. Помимо воображаемых, стилизованных портретов Боттичелли портреты кватроченто принадлежат к одному определенному типу. В них всегда есть тенденция к несколько наивной фиксации физического сходства. Художники кватроченто не стремятся найти какое-нибудь определенное выражение у модели, подчеркнуть ее характер или мимолетное настроение, но придерживаются ее, так сказать, постоянных, незыблемых физических свойств. Это пассивное следование действительности придает многим портретам кватроченто чрезвычайную непосредственность, но вместе с тем и застылось впечатления. В своем портретном искусстве Рафаэль руководствуется иными намерениями. Если портретный стиль кватроченто можно назвать описательным, то задача Рафаэля — драматизировать портрет. В каждый портрет Рафаэль непременно вносит энергию, активность, подчеркивает в человеке волевое или интеллектуальное начало. Если портреты кватроченто были немы, то портреты Рафаэля говорят. Если портреты кватроченто находились как бы вне времени, то портретам Рафаэля всегда присуща определенная ситуация. Но эта ситуация портретов Рафаэля имеет чисто идеальный характер. Всякому человеку Рафаэль стремится придать значительность и возвышенность. Подобно его фрескам в ватиканских станцах, и портреты Рафаэля представляют собой своего рода исторические картины. В его портретах мы имеем дело не с обыкновенными людьми, а с героическими личностями, с существами высшего порядка, свободными от чувств и обладающими только разумом и волей.
С формальной точки зрения портреты Рафаэля можно разбить на две группы. Для первой группы характерным примером может служить портрет Балдассаре Кастильоне, писателя-гуманиста, автора знаменитого трактата „II Cortegiano“, рисующего качества идеального кавалера и рыцаря. В этой группе портретов Рафаэль примыкает к схеме, созданной Леонардо да Винчи в „Моне Лизе“, — полуфигура, голова обращена прямо на зрителя, тело повернуто в три четверти, видны руки. Но Рафаэль решительно избегает как леонардовского сфумато, так и глубоких фонов. Его портреты ясны, отчетливы, как при дневном свете, и пластически крепко выделяются на нейтральном фоне. Кроме того, портреты Рафаэля никогда не улыбаются, никогда не делают случайных, преходящих жестов. Главным достоинством кавалера Кастильоне считал скромность. Эту черту Рафаэль подчеркивает в жесте рук, отчасти в позе модели (но есть и гордость и прямодушие). Но в портретах Рафаэля было бы ошибкой искать определенного индивидуального выражения в мимике и жестах. Рафаэль характеризует свои портреты не выражением лица, а композиционной и колористической структурой. Так и здесь благородную, мягкую натуру Балдассаре Кастильоне Рафаэль выделяет свободной одеждой, широким силуэтом его берета и в особенности изысканной цветовой гаммой. Еще более строго построен портрет „Неизвестного кардинала“ (в мадридской галерее Прадо). Здесь эта жестко тектоническая, почти стереометрическая структура картины вполне соответствует и самому типу модели, с крепко высеченными, остро граненными чертами лица. Следует отметить, что и руку кардинала Рафаэль кладет таким образом, что не видны пальцы и, следовательно, подчеркнута чисто абстрактная функция руки, как постамента, как горизонтального завершения.
Характерно для рафаэлевского тектонически-сурового подхода к человеку, что среди его портретов почти отсутствуют женские. К римскому периоду деятельности Рафаэля с полной достоверностью можно отнести только один женский портрет — так называемую „Donna velata“ („Дама в покрывале“ из флорентийской галереи Питти), в которой хотят видеть модель для „Сикстинской мадонны“. И действительно, портретный стиль Рафаэля слишком абстрактен, слишком суров и лаконичен, слишком волевой для передачи женской натуры. Не случайно, что на портрете „donna velata“ кажется значительно старше и более резко выраженной брюнеткой, чем в качестве „Сикстинской мадонны“, написанной в том же самом году. Рафаэль как будто сам почувствовал некоторую жесткость портрета и попытался ее смягчить робким жестом руки, высовывающейся из-за покрывала.
Не менее интересна и вторая группа Рафаэлевых портретов, в которой мастер вводит новый для Италии тип поколенного изображения. Выдающимися памятниками этой второй группы являются портреты двух пап, Юлия II и Льва X. К портрету папы Юлия II в особенности хочется применить наименование исторической картины. Папа не смотрит на зрителя. В его позе и жестах нет специфически индивидуальных примет, в его лице нет преходящего выражения. Но Рафаэлю удалось создать впечатление исторически значительной ситуации. Чуть наклоненной позой, массивной моделировкой лба и затененными глазами Рафаэль придает облику папы максимум интеллектуальной и волевой силы. Мы чувствуем, что перед нами не обыкновенный человек, но личность, делающая историю. В портрете папы Льва X проблема была гораздо труднее. В облике папы не было ни властности, ни силы, ни значительности. У него было одутловатое, жирное лицо, с желтыми пятнами на коже, и маленькие близорукие глаза. Для того чтобы придать портрету историческую значительность, Рафаэль использовал другие моменты. Во-первых, Рафаэль выдвинул роль папы как покровителя искусств, как просвещенного мецената. Папа только что рассматривал книгу с миниатюрами. Теперь он отложил лорнет и задумался — быть может, в его голове зреют какие-нибудь новые грандиозные художественные проекты. Во-вторых, Рафаэль поставил в фоне две сопроводительные, но явно подчиненные папе фигуры. Мастерски Рафаэль сумел выделить именно это господство папы над окружающим. Папа сидит широко, занимая больше половины картины; несмотря на то, что он сидит, а его спутники стоят, голова папы достигает почти такого же уровня; один из свиты смотрит на зрителя, другой — на папу, как бы в ожидании приказаний, взор же папы блуждает в недосягаемых далях.
Для завершения характеристики Рафаэля нам остается познакомиться с его алтарными картинами римского периода. Очень немногие из них от начала до конца исполнены самим мастером, большинство закончено его учениками. Тему мадонны Рафаэль редко трактует теперь в полуфигурах и так интимно, как в годы флорентийского пребывания. Как продолжение и завершение флорентийских тенденций можно рассматривать только так называемую „Мадонну делла Седиа“ (в галерее Питти во Флоренции). Римский стиль требует суровости и возвышенности. Поэтому исчез пейзаж, он заменен темным нейтральным фоном; отпали жанровые подробности детской игры между Христом и Крестителем; стушевалась улыбка, и глаза богоматери и младенца не ишут друг друга — с меланхолической грустью они устремлены в неопределенную даль. Характерно, что и возраст мадонны и ребят стал как будто старше; не случайно, что и волосы мадонны потемнели. Вместе с тем формы чрезвычайно выиграли в богатстве контрастов, и гармоническое согласование композиции с круглой рамой тондо достигло предельного мастерства. „Мадонна делла Седиа“ является наиболее совершенным образцом для главного девиза классического стиля — максимум пластической силы и движения на минимальной протяженности.
Для римского периода Рафаэля более типичны мадонны во весь рост, в виде святого семейства в окружении святых. Еще к концу флорентийского периода относится так называемая „Мадонна Каниджани“ (в Мюнхене), с чересчур последовательным, геометрически точным проведением пирамидальной композиции и с несколько плоскостным характером фигурной группы. В дальнейшем развитии композиционная схема становится все более сложной и скрытой и обогащается рядом пластических контрастов. Вместе с тем в поздних римских картинах Рафаэля обнаруживается и еще одна тенденция, весьма характерная для развития его стиля, — тенденция отделиться от земли, перенести место действия в небесные сферы, из стоящих фигур сделать парящие в воздухе. В этой тенденции безусловно проявляется процесс разложения классического стиля. Тяготение к небесным сферам, к сверхъестественным явлениям, к видениям и полетам противоречит и рационализму и статике классического стиля и, напротив, в высокой мере свойственно эмоциональной концепции как маньеризма, так и барокко.
Переходную стадию в этом тяготении Рафаэля от земли занимает так называемая „Мадонна ди Фолиньо“ (теперь в Ватикане). Здесь небесная сфера еще объединена с земной. Подобную тему — „Мадонна во славе“ — можно встретить и в живописи кватроченто. Там мадонна обыкновенно окружена ореолом или мандролой, святые же симметричными группами расположены на земле, по большей части во фронтальных позах. Пережитки этой схемы еще заметны в композиции „Мадонны ди Фолиньо“, но Рафаэль стремится внести в нее ряд поправок. Ореол мадонны наполовину уже растворился в облаках, группы святых теснее связаны, и формально и духовно, с видением мадонны, стоящие фигуры чередуются с коленопреклоненными. Неизбежное в композициях кватроченто пустое пространство между двумя группами святых Рафаэль заполняет ангелочком, который держит в руках табличку.
Дальнейший подъем в небесные высоты знаменует маленькая картинка „Видение Иезекииля“ (в галерее Питти)[19][20]. Несмотря на свои крошечные размеры, картинка эта обладает поистине гигантской силой внушения. Она служит лучшим аргументом против тех, кто склонен упрекать Рафаэля в слабости, женственной мягкости; и вместе с тем демонстрирует изумительное рафаэлевское чутье пространства. Бог-отец, подобный Зевсу, является в окружении евангелических символов. Он восседает на орле, его ноги касаются льва и быка, и Матфеев ангел сопровождает его полет. Как удалось Рафаэлю достигнуть впечатления полета и каким образом он сумел довести масштаб этого видения до столь грандиозной мощности? Этот масштаб дает прежде всего вершина могучего дерева на горе — единственное, что видно от земли. Как винт, она поднимает кверху образ бога и заставляет зрителя поверить, что он сам поднялся над землей и витает в заоблачной выси. Кроме того, иллюзию полета усиливают два ангелочка, поддерживающие руки Саваофа и придающие его благословляющему жесту сверхчеловеческую широту размаха.
Окончательный отрыв от земли фантазия Рафаэля совершает в знаменитой „Сикстинской мадонне“. Картина эта была написана в 1516 году для бенедиктинского монастыря Сан Систо в Пьяченце и теперь находится в Дрездене как постоянная цель паломничества ценителей итальянского искусства». Картина изображает как бы мимолетное сверхъестественное видение: занавес отдернут и зритель видит богоматерь, теперь уже не сидящую, а шествующую по облакам в сопровождении святой Варвары и папы Сикста II. К «Сикстинской мадонне» Рафаэля почти так же трудно подойти беспристрастно, как к «Моне Лизе» Леонардо. Для одних она является мерилом самого прекрасного, что вообще способно дать искусство; другие избрали ее мишенью для самых яростных нападок. Попробуем отдать себе отчет, на чем покоится сила воздействия этой картины. Несомненно, на изумительно легкой поступи мадонны, на чудесном впечатлении ее витания в безграничном пространстве. Как это впечатление достигнуто? Во-первых, контрастами ее чистого, ясного силуэта, слева очерченного непрерывным контуром, справа изгибающегося тремя взлетами плаща. Затем самой невесомостью ее маленьких ног, чуть касающихся облаков. То обстоятельство, что ноги мадонны находятся в тени, тогда как облако, ее несущее, пронизано светом, еще более подчеркивает мягкость поступи. Но особенно содействует впечатлению воздушного витания мадонны контраст с окружающими фигурами. И святая Варвара и папа Сикст не стоят на облаках, но как бы проваливаются в их мягкой массе, отчего образ мадонны кажется еще выше, еще мягче, еще невесомей. Это впечатление усиливается благодаря двум ангелочкам у нижней рамы. Мы не видим их тел, но догадываемся, что они висят в воздухе, и их взгляды, направленные кверху, невольно поднимают мадонну. Обратите внимание, что у левого ангелочка только одно крыло. Такая вольность совершенно в духе классического стиля — Рафаэль хотел избежать всякой тяжести в нижнем завершении картины. Второй решающий момент «Сикстинской мадонны» — в духовной концепции богоматери и младенца. Богоматерь легка и чудесна, но она выступает здесь только в качестве опоры, в качестве носительницы. Бог — это дитя на ее руках. Его несут не потому, что он не может ходить, а именно потому, что он — высшее существо. И в пропорциях тела младенца, и в его позе Рафаэль подчеркивает героическое. Его волосы, как у пророка, подняты и спутаны. Его взгляд не по-детски тверд и суров.
Но чем дольше мы смотрим на «Сикстинскую мадонну», тем яснее нам открывается ее основной недостаток. Главной целью Рафаэля была легкость полета, мимолетность видения. Чтобы добиться этой легкости и божественности центральной группы, Рафаэль выделяет ее контрастом с тяжестью и реальностью окружающего. Но в конечном итоге это чрезмерное, если так можно сказать, режиссерство дает себя очень заметно чувствовать. Статическое, неподвижное в картине одерживает верх над легким и переменчивым. Реальность палки, на которой висит занавес, тиара папы, поставленная в угол на перила, своей чрезмерной несомненностью останавливают духовное излучение картины, точно так же как чересчур продуманный контраст папы и святой Варвары — он смотрит вверх и вглубь, она вниз и вперед. Мы не верим ни усердию папы, ни робости святой Варвары. И то, что казалось нам сначала необъяснимым чудом, обнаруживается как совершенство логического механизма.
«Сикстинская мадонна» с чрезвычайной наглядностью демонстрирует нам трагедию Высокого Ренессанса. Римские патриции думали только о наслаждении жизнью и не заметили, что жизнь давно прошла мимо. Сущность классического стиля лучше всего можно было бы характеризовать словами Фауста: «Остановись мгновение, ты прекрасно». Но именно благодаря остановке мгновение теряет всю свою красоту. Классический стиль пришел к сознанию симультанного, одновременного восприятия, то есть другими словами — к сознанию быстротечности настоящего мгновения. Но для передачи этого мгновения в его распоряжении были только статические средства, только неподвижное пространство. Это глубокое противоречие объясняет недолговечность классического стиля. Как только симультанное впечатление было окончательно зафиксировано, оно перестало быть мгновением. Отсюда понятна и жестокая, длительная реакция после короткого расцвета классического стиля и новое тяготение к готике, к эмоциям, к выражению, к сукцессивным представлениям.
Главное противоречие Высокого Ренессанса (богатство, изысканность и особенно величие на обломках полуразрушенной, проданной иноземным войскам и капиталам страны) не могло укрыться и от созидателей классического стиля. Мы видели, как Леонардо да Винчи в последние годы своей деятельности борется с каноном классического стиля, добивается его разложения. Аналогичный стилистический процесс совершается и в творчестве Рафаэля. Об остроте разочарования в классических идеалах свидетельствует последнее его произведение, прерванное смертью мастера. «Преображение» (теперь в Ватиканской галерее) было заказано Рафаэлю в 1517 году Джулио Медичи и после смерти мастера закончено Джулио Романо. Таким образом, во всяком случае композиционный замысел восходит к Рафаэлю. Но именно этот замысел чрезвычайно поучителен для перелома его стиля. Картина «Преображение» распадается на две части. Верхняя часть напоминает идею «Сикстинской мадонны»; но теперь божественное видение дополняется драматической сценой, происходящей на земле. Но вот одновременно с моментом преображения Рафаэль показывает сцену исцеления бесноватого мальчика. Зачем он это сделал? Разумеется, для того чтобы нарушить непогрешимую статику классического стиля, чтобы раздробить ее динамикой, сильными аффектами, чтобы вывести зрителя из равновесия, потрясти. По контрасту со спокойной, геометрически правильной верхней частью, с ее плоским кольцом Рафаэль дает внизу смятение толпы, резкое нарастание масштабов, динамику двух диагоналей, раскалывающих единство группы. И так же двоится духовное содержание картины: к волнению, вызванному чудесным исцелением, примешивается восторженное изумление перед тем, что происходит на горе. Два момента в замысле Рафаэля следует особенно подчеркнуть. Во-первых, то, что в его картине использованы два сюжета и даны, таким образом, два духовных центра. И, во-вторых, то, что саму тему преображения Рафаэль трактует не как объективное событие, а как субъективное преломление в чувствах зрителей. И в том и в другом моменте проявляется явное стремление выйти за пределы Ренессанса, вступить на новый путь субъективного, эмоционального творчества. Как Леонардо, Рафаэль заканчивает свой путь предвестником маньеризма и барокко.
Таким образом, исторические роли Леонардо и Рафаэля почти одинаковы. Они создали классический стиль, и они же сделали первые шаги к его разрушению. Третий великий мастер Высокого Ренессанса, Микеланджело, идет еще дальше. Он действительно разрушает канон классического стиля и находит предпосылки для нового художественного миропонимания.
XXV
ВЕЛИЧАЙШИЙ МАСТЕР итальянского Возрождения, его подлинная вершина — Микеланджело был вместе с тем художником, в творчестве которого обозначилось крушение стиля Ренессанса и наметились зародыши нового художественного миропонимания. Необычайно разносторонний гений — великий скульптор, живописец, архитектор, крупный поэт, он в то же время был односторонним художником. Художественное мировоззрение Микеланджело потрясает и своей глубиной и своей односторонностью. Микеланджело воспринимает мир только пластически. Во всех областях искусства он — прежде всего скульптор. Только тело человека кажется ему достойным изображения. Но не всякого индивидуального человека. Его мир — это особая, могучая, героическая порода людей; каждый поворот сустава, каждый сгиб у его героев полон скрытой силы. Вместе с Микеланджело в искусство Ренессанса вступают горечь и диссонанс. Зато он достигает невероятной насыщенности формы, напряжения художественных средств до последней возможности: самое незначительное, казалось бы, движение производит у него впечатление непостижимой мощи. В творчестве Микеланджело совершается и необыкновенное обогащение искусства и одновременно ограничение его, поскольку художник не питает интереса к простому, ясному, обыденному, жизнерадостному.
Огромная сила воздействия Микеланджело связана с тем, что он — в отличие от других мастеров Высокого Ренессанса (особенно Леонардо) — был страстным политическим борцом, защитником свободы, передовых идей, убежденным республиканцем. Его можно назвать подлинно народным художником. Он отразил в своем творчестве самые широкие, самые значительные идеи времени, лучшие идеи гуманизма, воплотил веру в человека. Искусство Микеланджело посвящено прославлению человека, человека-гражданина прежде всего (образ Давида), его героической деятельности, его страданиям. Он создал глубокие и одухотворенные образы, не имеющие себе равных даже в эпоху Возрождения. Его искусству свойственны гигантомания, титаническое начало. Это — искусство площадей, общественных сооружений, искусство для народа.
Основная тема Микеланджело, своего рода лейтмотив его творчества — конфликт воли и чувств, раздумья и деятельности, скованная, порабощенная, но не примиренная сила и воля. Эти руководящие моменты в творчестве художника находят себе объяснение как в личности Микеланджело, так и в причинах общественного порядка. Трагедия его жизни заключается прежде всего в разладе, конфликте между героическим, могучим гением и свойствами человека со слабой волей, боязливого, нерешительного. Можно было бы сказать еще сильнее: Микеланджело был жертвой своего собственного гения. Его телу и душе была чужда эта гениальность, которая обрушилась на него как опустошительная болезнь, как тиран. Его жизнь была жизнью обреченного на каторгу. В его письмах часто повторяется один и тот же припев: «У меня не хватает времени на то, чтобы поесть …», «Я сплю только два часа в сутки». В продолжение своей долгой жизни Микеланджело почти непрерывно хворал: у него болели то глаза, то сердце, то голова. Во время работы падал с лесов. Сон был для него пыткой. Вообще тревога была постоянным спутником его жизни. К тому же он был нестерпимо одинок. Будучи богатым, жил бедняком. Чаще ненавидел, чем любил, но близок ни к кому не был. Такой могучий в линиях своих героев, Микеланджело был нерешителен во всех своих поступках и даже мыслях. Он не мог решиться на выбор одного из двух произведений или двух планов. Он не умел ни доводить до конца свои обязательства, ни нарушать их. Не успевал он остановить на чем-либо свой выбор, как его начинали одолевать сомнения. В результате ни одна его крупная работа (кроме потолка Сикстинской капеллы, навязанного ему волей папы Юлия II, которого он временами ненавидел) не была доведена до конца: достаточно назвать памятник Юлию II и гробницу Медичи.
Очень трудной оказалась для Микеланджело сама историческая обстановка, в которой ему приходилось работать. Он часто вынужден был делать совсем не то, что хотел. Ему приходилось против воли изменять свои планы в связи с меняющимися задачами заказов (трагедия гробницы Юлия II). При его жизни сменялись один за другим папы — его крупнейшие заказчики. Но важнее всего, что Микеланджело пережил глубокий кризис самих идей Ренессанса, кризис ренессансного гуманизма, наступивший в атмосфере контрреформации. Поборник социальных сил, которые создали Возрождение в Италии, сторонник ренессансного индивидуализма, он наблюдал и глубокое разочарование в гуманизме, крушение ренессансной гармонии. При нем совершилось падение Флорентийской республики, пал Рим, наступило порабощение Италии, начался гнет реакции, восторжествовало все то, что связывало, сковывало свободную личность. Естественно поэтому, что в творчестве Микеланджело нашли свое воплощение и сами идеи Ренессанса и борьба за них в обстановке кризиса ренессансного гуманизма. Микеланджело прожил необычайно долгую жизнь, почти девяносто лет. При нем сменились три стилевые системы. Он начал свою художественную карьеру как современник Боттичелли и питомец Лоренцо Медичи, иначе говоря, как поздний представитель кватроченто. Своим «Давидом» и фресками потолка Сикстинской капеллы он нанес последний решающий удар стилю кватроченто и вышел на дорогу классического стиля. Но уже в капелле Медичи он сказал надгробное слово Ренессансу и дал толчок новым течениям. А в своих последних работах старик Микеланджело, верный идеям Ренессанса, становится уже за пределами его стиля и предает также анафеме современный ему маньеризм.
Микеланджело — гвельф по происхождению, представитель древнего, благородного рода Буонарроти. По его письмам мы знаем, как гордился он, что происходит из старинной флорентийской аристократии — «скажи, чтобы он мне больше не писал: Микельаньоло скульптору, потому что меня здесь знают только как Микельаньоло Буонарроти». «Я никогда не был ни живописцем, ни скульптором, как те, кто держит для этого мастерскую. Я всегда этого остерегался ради чести своего отца и моих братьев»[21]. Родился Микеланджело 6 марта 1475 года в маленьком городке Капрезе (Тоскана), на склонах Апеннин. Его отец — подеста (городской голова) в Капрезе и Кьюзи, потом таможенный чиновник во Флоренции. Кормилицей Микеланджело была жена каменотеса. Позднее он однажды сказал Вазари, что «все хорошее в моем таланте получено мною от мягкого климата родного вашего Ареццо, а из молока кормилицы извлек я резец и молот, которыми создаю свои статуи». Способности Микеланджело были замечены уже в детстве. Когда его отдали в латинскую школу во Флоренции, он только и делал что рисовал. За это его часто и жестоко били отец и братья отца: они считали для себя позором иметь художника в своей старинной аристократической семье. Однако Микеланджело переупрямил отца. Тринадцати лет он, благодаря знакомству с учеником Гирландайо, Франческо Граначчи, поступил на три года в мастерскую Доменико Гирландайо, самого крупного тогда из флорентийских мастеров фрески. Уже в то время Микеланджело был блестящим рисовальщиком с непогрешимо верным глазом. Вазари довелось видеть тогдашние рисунки Микеланджело, и он восхищался его новой линейной манерой. Но живопись мало удовлетворяла Микеланджело. Уже через год (1489) он уходит из мастерской Гирландайо и посещает так называемые «сады Лоренцо Великолепного» (то есть художественный музей и школу при монастыре Сан Марко). Лоренцо Великолепный хотел в этих садах возродить идею греческой гимнасии и в таком духе воспитывать молодые таланты. Рядом с Микеланджело здесь выросли дарования Торриджано и Андреа Сансовино. Ученики изучали памятники и фрагменты античной мраморной скульптуры и часто навещали «колыбель Ренессанса» церковь Кармине, где копировали фрески Мазаччо. Микеланджело, острый и злой на язык, любил издеваться над товарищами, менее искусными, чем он сам. Однажды он поглумился над тщеславным Торриджано, и тот в гневе ударил его кулаком по лицу. Позднее Торриджано любил хвастать тем, «как нос Микеланджело раздробился под его рукой, словно облатка». Так Микеланджело был отмечен на всю жизнь.
Лоренцо Медичи заинтересовался мальчиком. Он отвел ему помещение во дворце, сажал его за один стол со своими сыновьями. Юный Микеланджело очутился в самом центре итальянского Возрождения, среди античных коллекций, в духовной атмосфере гуманизма, в окружении знаменитых платоников Марсилио Фичино и Анджело Полициано. Он впитывал идеи неоплатонизма, слушал, как Кристофоро Ландино объяснял Данте.
Там, в садах монастыря святого Марка, Микеланджело попадает в родную стихию, создает глиняные статуэтки, голову фавна из мрамора, рисунок тритона. Здесь кое в чем чувствуется влияние Поллайоло, его жесткого, напряженного стиля («Битва обнаженных»). Вместе с тем у Микеланджело все более проступает интерес к античности, а в рисунках пером намечается переход к более монументальному стилю Джотто и Мазаччо и в то же время заметны влияния северных граверов (перекрестная штриховка) и стремление охватить предмет со всех сторон, как бы в рисованной скульптуре. Ранний пластический опыт Микеланджело, голова фавна, скопирован, вероятно, с античной геммы.
В своих юношеских работах Микеланджело стремится преодолеть кватроченто. Это относится прежде всего к «Битве кентавров» (ок. 1492). Кажется почти невероятным, что этот полный движения и пластической смелости рельеф исполнил восемнадцатилетний юноша. Идею рельефа мог дать Полициано. Художественный же толчок Микеланджело получил от рельефа «Битва всадников» скульптора Бертольдо. Но как раз сравнение между двумя рельефами показывает, как далеко Микеланджело ушел от пестроты, беспокойства и угловатой линейности кватроченто. Микеланджело хочет возродить античный пластический рельеф, который в XV веке уступил место живописному рельефу Донателло и Гиберти. Его занимает только человеческое тело; ни пейзажа, ни пространства вокруг фигур он не показывает. В основе композиции лежит треугольник: слева Геракл, угрожающей каменной глыбой, справа ему соответствует лапиф, уносящий на спине раненого; всю группу венчает кентавр, на всем скаку обернувшийся к Гераклу и замахивающийся правой рукой. В рельефе есть неровности, изобличающие неопытность мастера: только передние фигуры разработаны во весь рост, для других в тесноте не хватило места, и на заднем плане движение показано только поворотами голов. Но все искупается необычайной силой пластической фантазии. Микеланджело не зарисовывает, подобно Бертольдо, фигуры с одной точки зрения, но как бы ощупывает всю их пластическую массу, развертывает во всем их богатстве. Уже здесь проявляется неслыханная способность Микеланджело охватывать фигуру со всех сторон одновременно, которую можно наблюдать в его рисунках. Микеланджело достаточно увидеть фигуру с одной точки зрения, чтобы немедленно представить ее себе в другом повороте, в другом освещении, сразу со всех сторон. Здесь же у Микеланджело утверждаются свои приемы разработки рельефа из глыбы (контуры намечены дырами бурава). И что ценнее всего, в рельефе, хотя это и незаконченный эскиз, с большой энергией передано настроение — пафос борьбы, восторг перед бесстрашием и силой человека.
Другая юношеская работа Микеланджело, так называемая «Мадонна у лестницы», — маленькая его работа, вероятно, предназначенная для домашнего алтаря. После высокого, пластического рельефа «Кентавры» рельеф «Мадонна» поражает нежной, мягкой обработкой поверхности. Такой рельеф, построенный на еле уловимых нюансах выпуклостей, назывался в Италии schiacciato, и величайшим его представителем считался Донателло. Вместе с тем Микеланджело здесь — еще неопытный мастер, его рисунок не всегда уверен: он сознательно спрятал младенца, в его Марии есть застылость, складки ее одежды вялы, маловыразительны. Мадонна сидит в чистом профиле — может быть, здесь сказалось влияние античных гемм — на каменной скамье, пряча младенца у своей груди, тогда как у барьера лестницы играют путти. В преувеличенно-геркулесовских пропорциях этих мальчиков, в титанических формах младенца, так же как в длинных руках богоматери легко узнать будущего героического Микеланджело. По сравнению с «Битвой кентавров» Микеланджело решает здесь две новых проблемы. Во-первых, что всего важнее, проблему душевного движения. Под его резцом жанровая фигура матери, присевшей отдохнуть, приобретает нотки трагизма, оказывается овеянной тенью одиночества и меланхолии. Этот оттенок трагической обреченности больше уже не покидает творчество Микеланджело. Во-вторых, художник решает проблему драпировки, причем некоторая неопытность юного мастера сказывается в запутанных мотивах вялых складок.
В 1492 году умирает Лоренцо Медичи, и Микеланджело лишается могущественного покровителя. Старший сын Лоренцо — Пьеро Медичи, пустой и надменный, привлекает Микеланджело, чтобы вылепить статую из снега, хвалится в равной мере заслугами Микеланджело и — испанца-скорохода, обнаруживая полное непонимание личности художника. Микеланджело работает в это время в доме отца. К сожалению, исполненная им тогда большая статуя Геракла не сохранилась.
Между тем к 1494 году политическая атмосфера во Флоренции сгущается. Савонарола мечет с амвона громы и молнии против папы и замахивается на Италию «кровавым мечом божиим». Проповеди Савонаролы оказывают большое влияние, под их внушением усиливается протест против тиранов, против роскоши, рождаются настроения настороженности, неуверенности, страха. Предчувствуя падение Медичи, Микеланджело бежит в 1494 году на время в Венецию.
Здесь следует любопытное интермеццо в жизни и творчестве Микеланджело. На обратном пути во Флоренцию Микеланджело задерживается в Болонье. В неблагополучном по части политической безопасности городе его приютил видный горожанин Джанфранческо Альдовранди. Он принимает Микеланджело в свою семью и даже раздобывает ему заказ. Задача была не из благодарных, но, как мы знаем, Микеланджело не умел отказываться от несимпатичных ему заказов. Для гробницы святого Доминика в одноименной церкви надо было исполнить статуи святого Прокла, святого Петрония и ангела со светильником в пару к другому ангелу, исполненному в свое время скульптором Никколо дель Арка. Приступая к выполнению заказа, Микеланджело невольно должен был испытать впечатления, которые чрезвычайно ярко отразились в дальнейшем ходе его художественного развития: в тридцатых годах XV века в местной церкви Сан Петронио работал один из крупнейших мастеров раннего Ренессанса — Якопо делла Кверча. Он исполнил на портале церкви ряд рельефов из жизни прародителей и в люнете портала статую святого Петрония. Могучий, патетический стиль Кверча, представляющий собой своеобразное соединение готической спирали с мощной, почти классической лепкой фигур, глубоко запал в душу Микеланджело, и позднее в своих фресках потолка Сикстинской капеллы он еще раз вернулся к этим юношеским впечатлениям и во всеоружии своих средств использовал уроки Кверча. Теперь же в Болонье знакомство с работами Кверча как будто совсем сбило юного скульптора с пути. Под влиянием Кверча фигуры Микеланджело приобретают неуклюжесть и неповоротливость. Болонские статуи Микеланджело принадлежат к самому неубедительному, почти, хотелось бы сказать, безотрадному из всего, что создано мастером. Святой Прокл с его непомерно большой квадратной головой, словно косящими глазами и тяжелым плащом, который волочится по земле, напоминает своей примитивностью древнехристианскую скульптуру. Также невыгодно для Микеланджело и сравнение его ангела с ангелом Никколо дель Арка. Нежное создание мастера кватроченто, благоговейно несущее светильник, такое простое и строгое в архитектурном построении линий, в трактовке Микеланджело обратилось в нескладного крестьянского паренька. Линии и формы потеряли ясность, детали складок словно измятой одежды тяжелят и без того слишком массивный силуэт. То же самое нужно сказать и о святом Петронии, который представляет собой не что иное, как близкую вариацию на тему, данную Кверча. Правда, Микеланджело избавился от чисто готического изгиба тела в виде буквы S, присущего всем статуям Кверча, правда, атрибут Петрония — модель города — крепче и естественней связан у Микеланджело с фигурой святого, охватившего модель обеими руками. Но, приобретая в реализме позы и жеста, статуя Микеланджело потеряла вместе с тем всю прелесть текучего ритма, всю возвышенность образа.
Чем объясняется это художественное затруднение Микеланджело? Многие исследователи, которые не хотят допустить и мысли о какой-либо неудаче Микеланджело — гений не может ошибаться! — и которые в то же время бессильны исключить документально удостоверенные болонские статуи из списка произведений Микеланджело, прибегают к несколько искусственным объяснениям. Одни говорят о недовольстве Микеланджело заказом и вытекающей отсюда небрежности, забывая, что этим предположением они наносят гораздо больший ущерб творческому облику мастера. Другие идут еще дальше и говорят о сознательном пренебрежении Микеланджело к заказу, о презрении сына вольной Флоренции к ничтожным провинциалам. Они склонны заподозрить Микеланджело почти в пародии, в сатирическом выпаде юного гения против болонской посредственности, заставляя его подменять ангела неотесанным подмастерьем и патрона города — случайным бродягой. Думается, однако, что объяснений не надо искать так далеко. Они заложены в самом творческом развитии мастера. Чуткий ко всяким внешним влияниям, неуравновешенный в темпераменте, Микеланджело еще не нашел своего стиля: он мечется от Бертольдо к Донателло, от Донателло к Кверча, он изучает то рельеф, то круглую статую, то обнаженное тело, то проблему драпировки, он еще не может найти нужного ему равновесия между кватроченто и классикой, между пластической формой и реальностью. Подтверждением этого может служить следующий по времени эпизод из биографии Микеланджело. Весной 1495 года юный мастер возращается во Флоренцию. Медичи изгнаны, и Савонарола безумствует в религиозном фанатизме своих пламенных речей и пылающих костров. Из своих прежних покровителей Микеланджело находит только Лоренцо, двоюродного брата Лоренцо Великолепного, удалившегося в добровольное одиночество своей виллы Кастелло. Лоренцо Медичи принадлежит к породе эстетов, каких выдвинуло несколько манерное поколение позднего кватроченто; тонко образованный, чувствительный, он живет в мире грациозно-изломанных созданий Боттичелли. Стены его виллы украшают «Весна» и «Рождение Венеры»; по его заказу Боттичелли исполнил свои бестелесные иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Верный биограф Микеланджело Кондини рассказывает такую историю. Лоренцо ди Пьерфранческо Медичи увидел у мастера статуэтку «Спящий Амур», которая оказалась настолько искусно сделанной, что ее немыслимо было отличить от античного оригинала. Микеланджело даже покрыл ее искусственными пятнами — «под старину» и решил пустить ее в продажу как подлинник. Через одного продувного антиквара она была предложена в Риме известному знатоку и собирателю древностей, кардиналу Риарио, и тот без колебаний заплатил за нее двести дукатов. Но истина скоро раскрылась, и полурассерженный, полузаинтересованный Риарио вызвал Микеланджело к себе в Рим. Эта поездка, отвечавшая самым несбыточным мечтам мастера, решила всю его дальнейшую судьбу.
Микеланджело в Риме! Он проводит там годы с 1496 по 1501-й. Это было беспокойное время, отмеченное смутами и преступлениями: весь Рим дрожал от страха перед дьявольской тиранией Борджа. Микеланджело старался не вмешиваться в опасную политическую игру.
Вместе с тем в Риме происходили художественные события первостепенного значения. Недавно были открыты подлинные античные скульптуры: Аполлон Бельведерский, Лаокоон, Бельведерский торс, Спящая Ариадна. Все эти памятники относились к поздней античности, к эпохе эллинизма, они отличались крупными размерами, резкими контурами, драматизмом, патетикой. Письма Микеланджело мало говорят о впечатлениях молодого художника в «Вечном городе». Но не подлежит никакому сомнению, что в этих впечатлениях античный Рим занял первое место и что впечатления были потрясающи: из подающего надежды юноши Рим сразу сделал гениального мастера. Но у Микеланджело все неожиданно: кто мог бы ожидать, что встреча с подлинным античным искусством пробудит в нем жажду натуры! Свидетельством служит первая римская статуя Микеланджело — мраморный «Вакх», исполненный по заказу банкира Якопо Галли. Бесспорно, что «Вакх» — это самая близкая античности работа Микеланджело (недаром в римских кругах рассказывали анекдот, что сам Рафаэль ошибся и принял статую за античный оригинал). Влияние античного искусства сказалось прежде всего в выборе материала и в характере техники. Во второй половине XV века с легкой руки Донателло излюбленным материалом флорентийских скульпторов сделалась бронза. Бронза в гораздо большей степени, чем мрамор, рассчитана на силуэт, на острое ведение линии. Лучшие же скульпторы позднего кватроченто, как Верроккьо и Поллайоло, были великолепными рисовальщиками. Кроме того, бронза более пригодна для изображения резкого, бурного движения, для разорванной композиции, к которой тяготело поколение Боттичелли. Микеланджело, напротив, с самой ранней юности оказывает предпочтение замкнутой массе, не столько контуру, сколько объему. Вот почему его влечет к мрамору, и после «Вакха» мрамор делается единственным материалом его скульптурных воплощений. Скульптуру, то есть искусство высекания из камня, Микеланджело всегда охотно противопоставлял пластике, то есть искусству лепки из мягкого материала. Нужно, однако, иметь в виду, говоря об античных элементах в творчестве Микеланджело, что дух классической Греции его вовсе не коснулся. Микеланджело мог черпать свое вдохновение только в памятникам поздней античности, в искусстве римско-эллинистическом. Это сказалось особенно на его технике обработки мрамора, на склонности к гладкой, блестящей полировке поверхности и на усиленном применении бурава (например, волосы, виноград и т. д.).
С другой стороны, также несомненно, что «Вакх» — это самое реалистически-бытовое, можно сказать, предельно реалистическое произведение Микеланджело. Мастер понял бога вина буквально — он низвел его с мифического пьедестала, лишил Диониса всякой мистики. Его Вакх — это вялый, почти женоподобный юноша, с дряблыми мускулами и жирными бедрами, в сильном подпитии. В его чересчур маленькой голове с низким лбом поразительно схвачено выражение хмельного дурмана. Пошатываясь на непрочных ногах, он отыскивает потерянное равновесие: его корпус откинулся назад, голова нагибается вперед навстречу чаше, которую нетвердая рука подносит ко рту, в то время как другая рука ищет временной опоры в плаще, наброшенном на ствол дерева. Но похоже, что и этой шаткой опоры он должен будет лишиться: маленький сатир, прячущийся за стволом дерева, лакомится его виноградом и предательски выдергивает из-под руки Вакха кончик плаща. Насмешливая гримаса сатира-ребенка еще больше очеловечивает Вакха и подчеркивает реальность его опьянения. «Вакх» — единственное произведение Микеланджело, где он позволил себе снизойти до юмора. Но Микеланджело не умел по-настоящему быть ни веселым, ни юным. Статуя Вакха представляет собой исключение в творчестве Микеланджело еще и в другом смысле. Фигуры Вакха и сатира противопоставлены друг другу под прямым углом. Благодаря этому группа не имеет общей единой точки зрения: ее приходится воспринимать с угла. Между тем во всех своих позднейших скульптурах Микеланджело неуклонно стремился к тому, чтобы все богатство пластической формы было сведено к единству передней плоскости.
Уже в своей следующей по времени работе Микеланджело сделал эту важную поправку. Если «Вакха» мы назвали самой реалистически-бытовой работой мастера, то «Пьета» — богоматерь, оплакивающая тело Христа, — представляет собой, несомненно, первое глубокое создание его резца. Предполагают, что оно навеяно смертью Савонаролы, является как бы ответом на его сожжение, которое глубоко потрясло художника. Микеланджело еще не исполнилось двадцати пяти лет, когда он получил этот заказ от французского кардинала Жана Билэра через посредство того же Галли. Группа первоначально была предназначена для капеллы французского короля при соборе святого Петра и только в середине XVIII века была перенесена на свое теперешнее крайне невыгодное место в первой северной капелле собора. Огромные размеры капеллы и высокое расположение группы лишают ее настоящей монументальности. Произведение Микеланджело можно рассматривать как первую статуарную группу нового европейского искусства. Сам Микеланджело отметил грандиозность своего достижения: «Пьета»-единственная из работ мастера, которую он сопроводил собственноручной надписью (на ленте, пересекающей грудь богоматери). Вместе с тем «Пьета» — первое чистое воплощение духа зрелого Ренессанса, открывающее новый период итальянского искусства, классику чинквеченто. Микеланджело задумал свою группу в решительном контрасте со всеми предшествующими традициями, почти как протест против искажений и гримас позднего кватроченто. Вместо истерзанной страданиями Mater dolorosa Донателло и Боттичелли, вместо изможденной страдающей старухи, вместо обмороков, искривленных рыданиями ртов, рвущих волосы рук, Микеланджело дает скорбь тихую и беззвучную. Чистый белый лоб богоматери, молодой прекрасной женщины, не изборожден морщинами, ее голова застыла в неподвижном отчаянии, и лишь опущенные веки и робкий жест левой раскрытой руки дают выход ее чувствам. На такую потрясающую в своей простоте выразительность способно только искусство чинквеченто. Вся группа проникнута человечностью, неутешным материнским горем. Христос — не искаженное судорогой смерти тело, не труп; его тело распростерто как тело уснувшего, оно мягко изгибается.
Перед Микеланджело стояла труднейшая задача — изобразить тело взрослого мужчины на коленях сидящей женщины, объединить два тела в одно целое. Он блестяще справился с этой задачей: немного уменьшил пропорции Христа, усилил складки одежды Марии. Худое тело Христа кажется еще легче, еще беспомощней благодаря запрокинутой голове и приподнятому плечу. Впечатление страдальческого бессилия еще увеличивается положением тела, словно готового скатиться с коленей богоматери. Напротив, широкие волны одежды с обилием складок заставляют хрупкие колени мадонны расшириться и вырасти до пределов могучей опоры, на которой усопший покоится как ребенок. Линии тела Христа как бы следуют мягко и естественно за движением Марии и складками ее одеяния.
Пожалуй, можно лишь упрекнуть Микеланджело, что он слишком увлекся контрастом мягкого тела и острых складок и преувеличил их обилие; что, под влиянием позднеантичной скульптуры, слишком отполировал мрамор (дающий в силу этого резкие блики). И, наконец, еще в том, что у него торжествует чисто рельефное восприятие скульптурной группы, рассчитанное для одной точки зрения.
Летом 1501 года Микеланджело снова на родине. Что заставило его вернуться во Флоренцию — желание ли повидать родных или получить почетный заказ в родном городе после блестящих римских успехов, — мы точно не знаем. Во всяком случае, Микеланджело вернулся во Флоренцию признанным мастером и остался там до 1505 года, переживая период творческого подъема.
После того как Савонарола погиб на костре, власть по-прежнему находилась в руках Большого совета, но в нем шла борьба между «оптиматами» (самыми богатыми рантье, землевладельцами) и купцами, промышленниками. В 1502 году победу одержали купцы, предприниматели, и тогда Пьетро Содерини был избран пожизненным гонфалоньером республики. Несмотря на внутренние раздоры, войну с Пизой, происки папской курии, Флоренция переживала подъем культурной жизни. Несомненным отражением этого подъема была, в частности, идея микеланджеловского «Давида». Художник отнесся к ней с особым энтузиазмом, а его статуя сделалась особенно популярной в народе.
В мастерской каменотесов, работавших на флорентийский собор, долгие годы лежал без всякого употребления блок мрамора длиной около пяти метров. Когда же скульптору Агостино ди Дуччо было поручено высечь из этой глыбы колоссальную статую, Агостино неловко принялся за дело, неудачно рассек глыбу и отказался от дальнейшей работы. Позднее Донателло осматривал глыбу и нашел ее окончательно испорченной и для статуи непригодной (Леонардо будто бы тоже отказался от нее). Теперь у флорентийской Синьории вновь явилась мысль использовать этот блок мрамора для колоссальной статуи, символизирующей освобождение Флоренции от тиранов. Микеланджело взялся за труднейшую, неблагодарнейшую задачу — и в результате явилась статуя Давида. Презрение к трудностям и к мнению других всегда составляло отличительную особенность характера Микеланджело.
Художнику предложили создать статую Давида как общественный памятник, символ республики, победы над тиранами. И он взялся за это с восторгом. Обращение к Микеланджело (16 августа 1501 года) гласило: «Уважаемые господа старосты цеха шерстяных ткачей и господа рабочие, собравшись на совещание этого сообщества, избирают мастера Микеланджело, сына Лодовико Буонарроти, флорентийского гражданина, изваять и совершенно закончить начатую мраморную статую под названием „Гигант“, вышиной в девять рук [локтей], принадлежащую упомянутой корпорации и когда-то неудачно начатую мастером Августом Великим из Флоренции[22]. Названная работа должна быть закончена приблизительно через два года, ценою за все по шесть флоринов золотом в месяц. Когда эта статуя будет закончена, старосты и рабочие, выбранные к этому времени, обсудят, надо ли повысить цену, и постановят должное по своей совести»[23]. Через полгода заказчики явились посмотреть — пришли в восторг и постановили увеличить цену больше чем втрое. Микеланджело работал еще два года и закончил статую в 1504 году.
В «Давиде» Микеланджело можно видеть и последний взрыв реализма кватроченто, но и классические тенденции и особую, новую, отныне свойственную художнику напряженность, взволнованность. В подходе к своему герою Микеланджело разошелся с предшественниками. Давид Донателло — это сильный, гибкий, но несколько мечтательный мальчик. Верроккьо делает Давида еще более юным, хрупким и изящным. Притом оба мастера кватроченто изображают Давида в момент после триумфа, как увенчанного славой победителя. Микеланджело выбирает гораздо более драматический момент, предшествующий поединку, момент величайшего напряжения воли, концентрации сил перед взрывом. Соответственно этому и тип Давида иной. Перед нами великаноподобный юноша в переходном возрасте, не мальчик, но и не взрослый мужчина, в том периоде, когда тело вытягивается, когда громадные руки и ноги бывают несоразмерны, могучий, упругий, но в то же время безбородый. Левая рука держит петлю пращи, сама праща с военной хитростью спрятана за спиной, и правая рука держит ее кончик. Еще момент — и смертоносный камень вонзится в лоб Голиафа. Движения Давида угловаты, торс мал по сравнению с головой и конечностями. Не красота линий важна здесь, а натура, упругость мышц, terribilita (устрашающая сила), уверенность в себе, тревожная напряженность. Есть даже некоторое несоответствие между головой и телом Давида. Голова проработана выразительней: в грозно нахмуренных бровях, в упрямо сжатом рте, в расширенных ноздрях, в фиксирующем взгляде собрано все напряжение энергии. Микеланджело отказался от традиционных атрибутов (нет головы Голиафа). Концентрируя все внимание на обнаженной фигуре, он добился максимальной выразительности, сумел воплотить идею гражданственности и мужества, превратить библейского Давида в стража Флорентийской республики, в символ свободы, понятный всякому флорентийцу. Народность идеи соединилась здесь с реализмом искусства.
И все же, несмотря на чрезвычайную популярность «Давида» не только во Флоренции (где его дружески называют просто «Гигантом»), но и во всем мире, статуя эта не принадлежит к числу самых совершенных достижений мастера. Разумеется, при оценке ее приходится считаться с трудностями задачи; испорченная глыба ставила художнику ряд непреодолимых препятствий. Неприятный треугольник между ногами, повисшая правая рука, слишком плоская спина — все это было почти предписано формой каменного блока. «Давиду» не хватает еще настоящей пластической компактности, подлинного богатства движения. Он слишком плоек, в нем нет глубины, его движение развертывается мимо зрителя, у него нет профиля. Статуя чрезвычайно выиграла бы, если бы была поставлена в нишу или между двух колонн, мешающих к ней подойти сбоку. Так ее первоначально и предполагалось поставить, если бы не помешал своевольный характер Микеланджело. После изготовления статуи была позвана комиссия художников, куда входили, между прочим, Боттичелли и Леонардо да Винчи, для совещания о том, где лучше всего поставить «Давида». Статую в итоге поставили у портала Палаццо Веккьо. Здесь в сутолоке площади, задавленный огромным массивом Палаццо, «Давид» чрезвычайно проигрывал и, кроме того, был подвержен действию непогоды. Поэтому в конце XIX века его перенесли в еще менее подходящее место — в зал Академии художеств, где он совершенно задыхался в тесноте, а на прежнем месте поставили копию.
Со времени торжественного водружения «Давида» на самой почетной площади города заказы буквально засыпают Микеланджело; многого, за что он брался, он был не в состоянии выполнить. Деятельность его во Флоренции за эти четыре года характеризуется прежде всего необычайным разнообразием тем и задач, которые ставит себе мастер, широтой диапазона его фантазии и его техники. Словно предугадывая свою дальнейшую судьбу, художник готовится к грандиозным проблемам, которые его ждут впереди. Здесь и круглая статуя, и рельеф, и картина, и фреска; и общественный монумент, и икона, и драматическое повествование. При этом Микеланджело выдерживает большую борьбу как с самим собой, так и с влияниями других мастеров (Донателло, Леонардо и т. д.), продвигаясь к величавости и равновесию классического стиля.
Начнем наш обзор с так называемой «Мадонны из Брюгге». Эта статуя была продана наследникам фламандских купцов Мускрон, а те подарили ее собору в Брюгге, где она находится и теперь. Микеланджело проявил необычайную чуткость, которую за ним часто склонны отрицать, отказавшись для этой «Мадонны» от установленных в Италии традиций и воспользовавшись чисто северным, нидерландским мотивом, как его чаще всего можно видеть в алтарных иконах Квентина Массейса: мадонна, как царица, сидит на троне, представляя младенца Христа, стоящего перед ней, народу, словно вассалам — будущего наследника трона; младенец же несмело вытягивает вперед ножку, как бы для поцелуя. «Мадонна из Брюгге» — единственное создание Микеланджело, задуманное как объект поклонения, его единственная икона. Отсюда все ее своеобразные черты, настолько отступающие от всего созданного Микеланджело, что ее даже пытались отнять у мастера. «Мадонну из Брюгге» упрекали в сухости, в холодности, в застылости. Но присмотритесь к ней ближе, и вы увидите, что Микеланджело совершенно сознательно использовал эти свойства, чтобы добиться основного впечатления — торжественной недоступности. Микеланджело хотел создать именно икону — образ, говорящий не чувствам, не разуму, но вере. И для достижения этой цели он воспользовался приемами примитивного искусства. Вряд ли во всем искусстве классического Возрождения мы найдем другой пример такой строгой вертикальной схемы, какую Микеланджело провел в статуе «Мадонна»: абсолютно прямо сидящая фигура, вертикальная складка головного убора, длинный прямой нос, прямые складки на груди и на той же вертикальной оси вытянутая вперед ножка младенца. Но необходимо обратить внимание и на другой, поразительно остроумно примененный Микеланджело прием примитивного искусства — своеволие пропорций. Младенец слишком велик для своего возраста по сравнению с мадонной, но особенно велика его голова. И это, конечно, не случайно. Статуя рассчитана на рассмотрение снизу: это видно по направлению глаз Марии и младенца. Сделай мастер тело и головку ребенка натуральной величины, они бы совершенно пропали, затерялись в сокращении пространства; теперь же голова Христа-младенца безраздельно господствует над всем окружающим. В образе Марии показана торжественная сосредоточенность: эта женщина — существо, живущее богатой духовной жизнью. Как бы в раздумье, со строгой нежностью держит она ручонку младенца — не просто мать, кормящая и ласкающая, а мать — воспитательница и наставница. Такая мадонна отрешена от зрителей, с ней нельзя заговорить.
Одновременно с брюггской «Мадонной» Микеланджело начал два рельефа по заказу Таддео Таддеи и Бартоломео Питти, двух видных флорентийских граждан. Хотя оба рельефа различны по своим размерам, но задуманы они, вероятно, вместе, как дополнение один к другому. Оба принадлежат к типу так называемых тондо. И оба остались в одинаковой стадии незаконченности, главные части почти выработаны, конечности и фон только слегка намечены смелыми, широкими ударами. По внутреннему же своему характеру, они почти противоположны. Лондонское тондо дает, по-видимому, более раннюю редакцию. На это указывают небольшие сравнительно размеры фигур и система заполнения круглой рамы по краям с пустым центром, как это было принято в XV веке, например, в кругу Боттичелли. Сюжет почти жанровый. Маленький Иоанн Креститель для забавы принес птичку, которая трепыхается в его руках; но младенец испугался и ищет прибежища на коленях матери, в то время как мадонна слегка отталкивает Иоанна Крестителя. Лондонское тондо безусловно самое грациозное, юное и нежное из всего созданного мастером. Его жизнерадостный рассказ согрет последними воспоминаниями о кватроченто. Флорентийское тондо (оно хранится в Национальном музее Барджелло), напротив, целиком принадлежит Высокому Ренессансу. Фигуры выросли, почти перерастают раму; мадонна в центре господствует над круглой рамой, подчеркивая строгую вертикальность композиции. Содержание стало серьезным и возвышенным. Каждая фигура живет в своем собственном мире: нет больше места ни для интимных объятий, ни для веселых шуток — каждый из героев как бы застыл в грустном предчувствии грядущих страданий. Здесь Микеланджело в первый раз нашел выражение для нового типа женщины, нового идеала героини — того самого идеала, о котором повествует монах Фиренцуола в своем трактате «О женской красоте» и который глядит на нас со стен ватиканских станц и с потолка Сикстинской капеллы. На место худощавой, бледной, с острыми изломанными движениями грации Боттичелли выступила virago чинквеченто — могучая женщина с большими руками, открытой мускулистой шеей и прямым носом.
К концу этого пребывания Микеланджело во Флоренции относятся и его опыты в области живописи. Мы минуем при этом лондонские «Мадонну с ангелами» и «Положение во гроб» — две неоконченные картины, о которых нет ни малейшего упоминания в литературных источниках и которые до сих пор не удалось с полной достоверностью приписать мастеру. Тем большее наше внимание должно привлечь знаменитое тондо со святым семейством («Мадонна Дони») и «Картон купающихся». Почему вообще Микеланджело обратился к живописи, о которой он позднее отзывался с таким презрением как о женской или детской забаве?
Одно из возможных объяснений — борьба с Леонардо да Винчи, внутренняя и внешняя. Трудно сказать, за что он так ненавидел всеобъемлющего в своих знаниях, изысканного и приветливого автора «Тайной вечери» — за самую его приветливость, за свободу его духа, за скептицизм? Но только Микеланджело никогда не упускал случая засвидетельствовать свою ненависть Леонардо. Правда, встреч у них было немного. Одна из них произошла в 1504 году, когда Леонардо вернулся во Флоренцию из Милана, где он работал над бронзовой статуей миланского тирана Сфорца. Леонардо бродил со своим приятелем по улицам Флоренции. Перед церковью стояли несколько горожан и оживленно обменивались мнениями об одной песне «Комедии» Данте. Завидев Леонардо, они окликнули его и попросили разъяснить им темные для них места. В это мгновение показался на площади Микеланджело, и Леонардо, указывая на него, сказал: «Микеланджело вам объяснит это место». Микеланджело, вообразив, что Леонардо смеется над ним, горько ответил: «Разъясни это ты сам, который сделал набросок коня для того, чтобы потом отлить его из бронзы, и не смог отлить его и со стыдом бросил это дело». С этими словами он повернулся и пошел дальше. Леонардо стоял молча, весь красный от его слов[24].
К тому времени, когда картон Леонардо с богоматерью и святой Анной произвел сильнейшее впечатление на флорентийцев, относятся рисунки Микеланджело на ту же тему. Скрытое соревнование с Леонардо, вероятно, побудило Микеланджело создать «Мадонну Дони». И, наконец, в росписи Палаццо Веккьо оба мастера столкнулись в открытом соревновании. Сохранился рисунок Микеланджело к «Давиду» с непонятной подписью: «Давид с пращой. Я с луком. Микеланьоло» — и строка из Петрарки: «Повергнута высокая колонна и зеленый лавр». Считал ли он себя победителем в борьбе с Леонардо (поверг «высокую колонну»)?
Картон Леонардо со святой Анной поразил современников совершенно новыми принципами пирамидальной композиции и неожиданным эффектом светотени. Леонардо впервые применил здесь свое знаменитое сфумато — мягкую светотень, словно дымкой обволакивающую светлые, вырастающие из полумглы фигуры. Словно в виде протеста скульптора против мягкой живописности Леонардо, Микеланджело принял заказ флорентийского купца Аньоло Дони (Рафаэль писал портрет его и жены) на тондо со святым семейством. Какое важное значение придавал Микеланджело своему опыту, видно из необычайно тщательной отделки картины. Результат, однако, не вполне оправдал ожидание художника. Заказчика, по словам Вазари, картина не удовлетворила, и он пытался даже понизить цену, назначенную им самим при договоре. И действительно, не легко найти настоящий подход к этому произведению Микеланджело, особенно если держать в памяти чудесный по чувству картон Леонардо. Что собственно хотел сказать Микеланджело своей картиной? Мадонна, мужеподобная, с обнаженными руками и ступнями, поджав ноги, сидит на земле и через плечо принимает ребенка у сидящего сзади лысого Иосифа. Это не Мария-девушка, не Мария-мать или царица, но героиня, почти вроде античной Геры. На среднем плане — юный Креститель. Сзади — пять юношеских обнаженных фигур. Какая связь между ними и главной группой? Очевидно, художник не только не искал этой связи, но сознательно ею пренебрегал. Перед нами — решение определенной творческой проблемы, доведенной до последней степени интенсивности. Проблема, по-видимому, состояла в том, чтобы на возможно меньшем пространстве развить возможно большее движение, концентрировать пластическое и духовное содержание, как можно теснее сгруппировать фигуры, избежав в то же время неясности и сдавленности. Чтобы преодолеть Леонардо, Микеланджело обращается за помощью к Синьорелли: так нарочито жестки и скупы его краски! Сущность картины — в наивысшем впечатлении пластичности. Рисунок и лепка отточены так, как если б они были отлиты из металла. Это нарисованная пластика. Здесь нет никаких божественных атрибутов — одни атлеты. Картина задумана как пластическая группа, как клубок тел, который при всем богатстве поворотов мог бы уместиться в пределах одной каменной глыбы. Тогда понятными становятся и загадочные фигуры заднего плана. Они подчеркивают, усиливают железную логику этого движения. Закройте Крестителя, и вы почувствуете, как фигура мадонны потеряет силу вращения влево. Закройте обнаженных юношей, и вы увидите, как движение мадонны, вместо того чтобы устремляться в глубину, застынет на передней плоскости. Но какая красота и выразительность жеста! Что может сравниться с лапидарной насыщенностью обнаженной до плеча руки Марии! Каждое движение здесь полно живости, значения, мощи. Мадонна выступает как новый тип женщины, как героиня. И движения и переживания (например, внимание и забота в повороте и глазах Марии) направлены вовнутрь, а не наружу, как у кватрочентистов, у Поллайоло. Видно, что человек уже освобожден от оков религии; единственным содержанием искусства становятся мысли и чувства героического человека.
Своим тондо Микеланджело словно хотел сказать, что живопись — это тоже пластика; ее преимущество заключается в том, что она изображает не одни тела, но тела вместе со всем их окружающим, тела в пространстве.
Идея соревнования между двумя величайшими мастерами своего времени восхитила флорентийцев, и, по инициативе предприимчивого гонфалоньера республики Содерини, флорентийская Синьория предложила сначала Леонардо, а потом Микеланджело исполнить по одной фреске для украшения залы Большого совета в Палаццо Веккьо. Тема для фресок была выбрана из истории славных побед флорентийских войск. Леонардо должен был написать победу флорентийцев над миланцами при Ангиари; Микеланджело — эпизод из битвы при Кашине, где Флоренция одержала победу над Пизой. Леонардо начал работу весной 1504 года. Микеланджело приступил к ней в августе. Странно сказать, но это был единственный случай в истории Ренессанса, когда два величайших гения итальянского искусства работали бок о бок над одинаковой задачей. Больше уже ни Леонардо, ни Микеланджело, ни Рафаэль, ни Тициан не встречались вместе на почве искусства. И судьбе не угодно было сохранить плоды этой встречи до наших дней. Леонардо, правда, не ограничился одним картоном и стал писать фреску. Но, погрузившись, как уже говорилось, в дебри химических изысканий в поисках нового состава красок, он совершенно испортил свою работу, и уже в середине XVI века фреска окончательно погибла. Микеланджело дальше картона не пошел. Картон был выставлен для обозрения художников и имел неслыханный успех. Ни одно произведение Микеланджело не оказало такого влияния на последующее поколение. В течение почти целого века картон, точнее, копии с него служили для молодых художников настоящей школой большого стиля (gran disegno, как тогда говорили художники). Но сам картон исчез бесследно. Составить представление о том, как картон первоначально выглядел, мы можем лишь на основании подготовительных набросков мастера, гравюр Маркантонио Раймонди и Агостино Венециано, передающих части композиции, и приблизительной копии всего картона (в гризайли), принадлежащей лорду Лестеру.
Леонардо и Микеланджело подошли к своей задаче очень различно. Леонардо избрал своей темой схватку всадников, драматическую сцену, достигающую своего высшего напряжения в борьбе за знамя. Как живописца, его увлекал водоворот битвы, бешеное сплетение тел, окутанных облаками пыли и дыма. Леонардо хотел дать кульминационный момент драмы, объединив случайность движения в объективную гармонию своей композиции. Картон Микеланджело задуман почти как протест против композиции соперника. Никакого драматического, возвышенного содержания. Почти тривиальная, бытовая сцена: солдаты, купающиеся в реке, внезапно получают известие о приближении врага. Они карабкаются на берег, цепляются, выпрямляются, вооружаются, поспешно одеваются, зовут друг друга, бегут в атаку. Леонардо превзошел своего соперника концентрацией действия, насыщенным драматизмом, живописностью. Но он изобразил битву как животное исступление, как дьявольское наваждение. Микеланджело гораздо непосредственней трактовал исторический жанр, согрел его гуманизмом, показав героизм, мужество, ловкость защитников республики — но без ужасов бойни. В то же время бытовая сцена у Микеланджело рассказана без всяких жанровых деталей, как будто она происходит вне времени и пространства. Как в тондо со святым семейством, Микеланджело хотел сказать, что сюжет, назначение картины должно отступать перед творческой проблемой мастера, перед чисто художественным содержанием. Таким чисто художественным содержанием «Картона купающихся» является движение обнаженного человеческого тела, словно в скульптуре. Ему в жертву принесено все остальное: реальная природа, пейзаж, пространство, краски, для того чтобы достигнуть небывалой насыщенности движения и пластической силы формы. Посмотрите на этого, натягивающего штаны на мокрое тело! Рядом с ним все изображения обнаженных людей у прославленных рисовальщиков кватроченто покажутся механическими куклами, анатомическими препаратами. Там мускулы и суставы только показаны. Здесь тела приобрели тяжесть материи, наполнились несокрушимой волей к действию.
Такое же отличие от Леонардо чувствуется и во всей композиции в целом. У Леонардо композиция концентрируется в главной группе со знаменем. У Микеланджело нет центра, нет главных и второстепенных фигур, бешеный темп с одинаковой силой развертывается в каждом уголке картона. У Леонардо вся композиция подчинена объективной геометрической норме: пирамида или круг определяет закономерность построения. Для Микеланджело нет никакой объективной нормы, нет другого закона, кроме того, который ему подсказан его собственной индивидуальной концепцией мира. Вот в этом смысле мы можем назвать Микеланджело первым индивидуалистом нового европейского искусства. Именно это свойство картона и создало ему беспримерный успех, затмивший славу Леонардо да Винчи и словно наэлектризовавший молодых художников. Отныне искусству открылась совсем новая, неведомая раньше область: мир внутренней, духовной жизни художника, мир субъективной красоты.
Окончательный итог раннему стилю Микеланджело подводит статуя апостола Матфея. Мастеру была заказана серия двенадцати апостолов, назначенных для украшения Флорентийского собора. Из всей этой серии Микеланджело успел грубо обтесать статую апостола Матфея. Эта незаконченная статуя чрезвычайно интересна как потому, что она намечает в высшей степени важный поворот в творчестве Микеланджело, так в особенности потому, что она позволяет нам заглянуть в мастерскую художника, познакомиться с самым процессом и приемами его работы. Принципом Микеланджело становится признание неприкосновенности, цельности каменной глыбы. Когда-то в Древнем Египте, а затем и в средневековой Европе скульптура тоже рассматривалась как монолит. В средние века этот культ монолита даже проявлялся в особой церемонии: если каменотес неправильным ударом испортил глыбу, то ее несли хоронить неподалеку от мастерской в торжественной процессии: камень лежал на носилках, как «жертва несчастного случая», за ним шли виновник и его товарищи. По возвращении незадачливый каменотес получал основательное поучение. Художники Ренессанса не были столь чувствительны в этом смысле; зато Микеланджело особенно высоко ценил замкнутость композиции и единство глыбы. Мастер считал, что задача скульптора состоит в том, чтобы освободить из мрамора заложенный в нем образ[25]. Современники приписывали Микеланджело мысль о том, что каждая статуя должна быть так задумана, чтобы ее можно было пустить с горы и ни один кусочек не откололся.
Для архаической скульптуры характерна работа с четырех сторон, от четырех плоскостей; классический метод предполагает охват скульптуры кругом. Микеланджело же шел в своей работе по слоям — спереди в глубину. Вазари рассказывает нам о таком приеме Микеланджело. Изготовив маленькую модель будущей статуи из воска или глины, он помещал ее в ящик, наполненный водой. По мере того как вода убывала из ящика через небольшое отверстие, Микеланджело работал над каменной глыбой, стараясь последовательно высечь из нее те части фигуры, которые обнажились на глиняной модели. В процессе работы в мраморе таким образом Микеланджело не обходил статую со всех четырех сторон, а постепенно углублялся спереди вглубь. Этим объясняется и чрезвычайная замкнутость силуэта у всех статуй Микеланджело и его умение сосредоточить главные пластические признаки фигуры на передней плоскости, показать их с одной, главной точки зрения. Этот процесс работы чрезвычайно наглядно и красноречиво можно наблюдать на незаконченной статуе Матфея. Его фигура еще дремлет в глыбе, только слабо из нее высвобождаясь, как модель, погруженная в воду: сначала наметилось левое колено и пальцы левой руки, держащей книгу, потом — выдвинутое вперед правое плечо, в то время как голова и правое бедро еще сливаются с глыбой. Почему Микеланджело бросил неоконченную статую Матфея, мы не знаем. Во всяком случае, она хранит все следы глубокой взволнованности мастера, работавшего словно в бешеном припадке, в пароксизме: ученым удалось проследить на поверхности статуи удары резцом, направленные левой рукой. Но к помощи левой руки Микеланджело прибегал только в случаях крайнего творческого возбуждения.
Это возбуждение передалось и самой статуе. Матфей, сборщик податей, изображен в тот момент, когда Христос, увидев его за работой, сказал ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Как гипнотическая непреодолимая сила действует призыв Христа на апостола. Он поворачивает голову не в силах оторвать взор свой от повелителя, и против воли его ноги спускаются с лестницы и идут навстречу призыву. Раздвоение психики связано и с раздвоением контура статуи. Так в творчестве Микеланджело чувство впервые вступает в конфликт с волей, дух борется с телом, с сырой, бренной материей. Этот новый, открытый Микеланджело пластический мотив не только чрезвычайно обогащает движение статуи. Обратите внимание на резкую игру контрапостов: противоположение правой и левой части тела; ноги двигаются влево, торс и плечо вправо, голова опять влево. Но вместе с тем и само движение приобретает какой-то совсем другой характер. До сих пор Микеланджело был увлечен главным образом физическим проявлением движения: битва кентавров, опьянение Вакха, мощь Давида и бессилие усопшего Христа. Теперь его целью делается движение внутреннее, духовное — вопль скованной души, пронизывающий каждый сустав тела словно могучими конвульсиями. Отсюда та специфическая, только Микеланджело присущая форма движения, которое можно было бы назвать стесненным, скованным движением. Отсюда — подчеркивание нечеловеческой муки страданий, переживаемых героями Микеланджело.
В марте 1505 года происходит резкий перелом в жизни и творчестве Микеланджело. Папа Юлий II вызывает его в Рим. Брошены все флорентийские работы мастера. Начинается героический период в жизни Микеланджело. Сначала у него в Риме нет определенного дела. Папа Юлий II — умный, энергичный и бешеный старик — полон светских интересов, забот об увеличении и возвеличивании папского государства. Его планы грандиозны. Папа и Микеланджело были оба людьми громадного размаха, неукротимого темперамента и жестокого упрямства. Они понимали друг друга с полуслова, втайне друг друга высоко ценили, но время от времени яростно сталкивались. Несомненно, что Микеланджело многим обязан папе; это был тот самый меценат, о котором он мечтал с юности, единственный, кто мог следовать за грандиозным полетом фантазии мастера. Но вместе с тем папа был злым роком Микеланджело. Он именно принудил Микеланджело к мучительной росписи потолка Сикстинской капеллы; он связал Микеланджело почти на всю жизнь соблазнительным и невыполнимым проектом своей гробницы. Можно с уверенностью сказать, что упрямство воинственного папы лишило мир многих созданий гениального флорентийского мастера, которых он не успел выполнить, постоянно прикованный к идее злополучной гробницы («трагедия памятника», как прозвали этот замысел в литературе с легкой руки Кондиви).
История этой гробницы начинается с первой же встречи папы и Микеланджело. Идея гробницы, по-видимому, была внушена папе архитектором Джулиано да Сангалло, верным почитателем Микеланджело. Идея увлекла и папу и скульптора. Микеланджело набросал грандиозный проект, хорошо известный по описаниям Вазари и Кондиви, сделанным почти под диктовку мастера. По сюжетному замыслу, этот проект открытого со всех сторон монумента примыкал к аллегорическим стихотворениям гуманистов (так называемые trionfi). Было предположено создать свыше сорока статуй и бронзовый рельеф. Памятник должен был включать в себя ниши и гермы с изображениями пленников (провинций, покоренных папой), добродетелей, свободных искусств и воплощений жизни деятельной и жизни созерцательной. Кверху должно было идти постепенное сужение ступенями, и все это увенчивалось саркофагом. Папа пришел от этого проекта в восторг и отправил Микеланджело в каррарские каменоломни, чтобы добыть оттуда весь необходимый материал. Микеланджело больше восьми месяцев пробыл в горах (где питался, по собственным словам, одним хлебом), все время находясь в невероятном творческом возбуждении. Изобилие мрамора, горы, морские просторы — все это рождало творческий энтузиазм мастера. Идеи гуманистов, неоплатоников, Данте, библейский пафос Савонаролы облекались в образы христианской и языческой мифологии. Однажды, объезжая местность верхом, Микеланджело увидел высоко поднимавшуюся над берегом гору, и у него явилось желание тотчас использовать ее целиком, превратить ее в один колосс, который был бы издалека виден мореплавателям. В декабре Микеланджело вернулся в Рим, куда стали прибывать огромные глыбы выбранного им мрамора. Папа был в восторге и часто прибегал смотреть на работу скульптора.
Но эта идиллия продолжалась недолго. Благодаря неуживчивому характеру Микеланджело очень скоро приобрел много врагов, во главе которых стал придворный архитектор папы и друг Рафаэля — Браманте из Урбино. Стремясь занять господствующее положение в Риме, Браманте боялся, что гробница отвлечет внимание папы от постройки собора святого Петра. Трезвый и настойчивый политик, Браманте начал систематическую травлю Микеланджело. Он уверил папу, что гробница, строящаяся при жизни человека, приносит ему несчастье и что папа вернее увековечит себя постройкой нового собора святого Петра. Папа сразу охладел к гробнице, приостановил все работы, отказался оплатить расходы по мрамору и в конце концов велел прогнать пришедшего к нему для переговоров мастера. Оскорбленный Микеланджело в тот же день уехал во Флоренцию. Папа послал людей вслед, но тщетно. Примирение Микеланджело с папой состоялось в Болонье, которую воинственный папа только что взял приступом. Мир между ними был закреплен новой нелепой выдумкой папы. Теперь Юлий II задумал воздвигнуть себе колоссальную статую из бронзы, несмотря на то, что, как уверял сам Микеланджело, он ничего не понимал в отливке и ненавидел технику лепки и литья. Результат этой долгой, ненавистной и мучительной для Микеланджело работы был поистине жалким. Статуя, воздвигнутая на фасаде церкви святого Петрония, простояла там всего три года, была разрушена противниками Юлия II, и феррарский герцог отлил из ее обломков пушку. На этом примере лишний раз видно, что меценатство Ренессанса имело свои теневые стороны. Правда, меценаты Возрождения верили в силы своих художников, вдохновляли их творческую фантазию своими заказами, но взамен они хотели владеть и их телом и их душой.
В 1508 году Микеланджело вернулся в Рим. Теперь папа возложил на мастера еще более трудную и ответственную, еще менее соответствовавшую наклонностям художника работу — роспись потолка Сикстинской капеллы. По-видимому, и здесь не обошлось без интриг Браманте, который надеялся окончательно погубить славу Микеланджело. Роспись огромного потолка однообразной продолговатой капеллы представляла великие трудности. Микеланджело же не имел понятия о фресковой технике; между тем в том же 1508 году Рафаэль, друг Браманте, начал с неслыханным успехом свой фресковый цикл в станцах Ватикана. Микеланджело делал все, что мог, чтобы отклонить от себя эту честь, таившую в себе угрозу. Но папа стоял на своем, и мастеру пришлось покориться его воле. Микеланджело сконструировал леса, флорентийских помощников он допускал лишь к второстепенным работам. Так началась исполинская, легендарная работа — мрачные, но и возвышенные годы в жизни Микеланджело! Он испытывал творческий экстаз, план его разрастался — вместо предположенных немногих появились целые полчища фигур — более трехсот. Всю работу Микеланджело исполнил, лежа на спине, окончательно подорвав свое здоровье и испортив зрение. Первый слой штукатурки не держался; надо было искать новую смесь. Едва Микеланджело кончил писать сцену «Потоп», как потолок стал затягиваться плесенью, она грозила погубить всю работу; но папа неумолимо требовал продолжения. У Микеланджело едва хватало времени на еду. Папа все мешал ему, все хотел смотреть. Легенда утверждает, что Микеланджело однажды сбросил с лесов доски на взбешенного папу. Вдобавок вся семья мастера, во главе с отцом, самым назойливым образом его эксплуатировала, выжимая из него последние деньги. И все же потолок был закончен в день всех святых, в октябре 1512 года.
Сикстинская капелла была основана папой Сикстом IV в 1473 году. Она отличалась скучной архитектурой, с гладкими, голыми, без всякого членения стенами и почти плоским потолком. Эта скупость архитектурной оболочки была избрана сознательно, чтобы тем эффектней ее оттенить великолепием живописной декорации. Сначала было приступлено к росписи стен; самые выдающиеся живописцы позднего кватроченто, в том числе Сандро Боттичелли, Гирландайо и Перуджино, исполнили 15 больших фресковых картин, обходящих в один ряд все стены капеллы, и 28 портретов пап между окнами. Большинство из этих фресок стоит на самом высоком уровне искусства кватроченто. Лучшая из них — «Передача ключей апостолу Петру» — принадлежит, как мы знаем, кисти Пьетро Перуджино, учителя Рафаэля. Фреска Перуджино отличается от других ясной построенностью композиции, монументальным рисунком фигур и широкой обозримостью пространства. Но рядом с потолком Микеланджело даже она кажется робким, несвязным лепетом ребенка, жидким, плоским узором. Микеланджело задавил этих милых рассказчиков кватроченто могучими, исполинскими героями своего плафона, как позднее он сам разрушил весь эффект своего потолка еще более громадной фреской «Страшного суда».
Никогда и нигде не было ничего подобного замыслу Микеланджело — по размаху, цельности, своеобразию. Он оставил голым архитектурный остов капеллы, не применил никакого орнамента: его интересовал только человек. На потолке Сикстинской капеллы он создал гимн во славу героического человечества. Его герои — живые люди со всей своей страстностью, мудростью, волей, жаждой жизни. В них нет ничего сверхъестественного — это не мученики, не святые. Но вместе с тем это титанические личности, прекрасные, могучие, интеллектуально совершенные.
Если нужно говорить о первоисточниках Микеланджело, то они — в античности, в римских триумфальных арках, в рельефах Кверча в Сан Петронио, в искусстве Мазаччо, даже, быть может, в раннехристианских фресках. Но здесь может идти речь только о тенденциях, о чертах соприкосновения в тематике или в манере. В целом же Сикстинский потолок совершенно оригинален и не имеет себе равных.
Первоначальный план росписи, известный из наброска (Британский музей в Лондоне), находится еще вполне в рамках декоративных традиций кватроченто. Судя по этому рисунку, Микеланджело предполагал расчленить потолок плоской, орнаментальной декорацией: чередованием кругов в квадратных рамах и квадратов, поставленных на угол, тогда как паруса должны были заполняться апостолами на тронах; мощные спинки тронов создавали переход к потолку. Но этот проект, одобренный папой, не удовлетворил самого мастера. На смену ему пришел сначала второй проект, а затем тот план, который осуществлен в окончательной росписи: гладкий фон стены, сплошные ряды звеньев, только прямые линии. Вместо плоского расчленения потолка Микеланджело дает теперь пластическую, фигурную декорацию: воображаемая архитектура отодвигает в глубину, заменяет реальные стены. Так зарождается совершенно новое понимание архитектурного пространства — как живого, двигающегося, динамического. Основной стержень художественной реформы Микеланджело заключался в том, что весь потолок, со всеми сводами и люнетами, он берет как нечто целое, как воображаемый героический мир, стелющийся над головами зрителей. Он одновременно и утверждает реальную архитектуру, и дает ее рельефное истолкование, и расширяет ее, и ограничивает.
В люнетах и сферических треугольниках, как на базе всей росписи, размещены «предки Христовы» — тихие, интимно-жанровые сцены, полные, однако, глубокого смысла. В парусах вырастают мощные фигуры пророков и сивилл; их троны вступают со своим обрамлением в архитектурный ансамбль потолка. Пятью гуртами (поясами) потолок разбит на девять полей, заполненных событиями ветхозаветной истории. Меньшие по размеру поля обрамлены «бронзовыми» медальонами, которые на лентах придерживаются обнаженными фигурами юношей, знаменитых «рабов» или ignudi, как называли их в XVI веке.
При распределении фигур Микеланджело не стремится к единству перспективы. Напротив. Именно разнообразие пропорций создает необычную красоту и неисчерпаемое богатство росписи: рядом с огромными пророками и сивиллами — маленькие путти, а дальше опять новые пропорции — в люнетах: в фигурах юношей, в действующих лицах «историй». И все же это разнообразие масштабов нисколько не производит впечатления беспорядка и неясности. Микеланджело достиг единства контрастов, во-первых, чрезвычайно тонко проведенным различием между чисто декоративными фигурами и действующими лицами картин (человеческие фигуры и населяют архитектуру и образуют как бы ее составную часть): реальность пророков и сивилл совсем другая, чем реальность, скажем, Адама и Евы, реальность и масштаб юношей — не те, что у пророков. Одни фигуры даны в ракурсе, другие — без ракурса. Далее Микеланджело прибег к контрасту направлений: одновременно рассматривать пророков и картины нельзя, но и разделить их нельзя, так как часть одной группы всегда примешивается к другой и напрягает фантазию. Наконец, мастер использовал контраст света и тени: светлых и темных красок. Второстепенные пространства он выделяет темным: медальоны — лиловым, вырезы тронов — зеленым, благодаря чему ярче выступают светлые главные части и выразительный переход от середины к сторонам.
Роспись Сикстинской капеллы необходимо смотреть в исторической последовательности ее возникновения, то есть обратно хронологическим событиям, игнорируя на время все последующие ее этапы. Тогда, восходя от стен к потолку и по потолку двигаясь взором по ступеням восхождения к основам мироздания, можно по настоящему почувствовать то безумное ускорение темпа, то фантастическое нарастание силы, которое испытывало творчество Микеланджело в процессе работы над фресками.
Микеланджело начал свою роспись со стороны, противоположной алтарю и «Страшному суду», то есть с картины «Осмеяние Ноя», закончил же «Первым днем творения». Другими словами, мастер как будто начал свою работу с конца. Присматриваясь к пропорциям фигур на потолке, не трудно заметить, что они все возрастают в размере. История «Потопа» и две сопровождающих ее картины написаны мелко, как бы для рассмотрения вблизи. Очевидно, Микеланджело, рассматривая картины снизу, нашел размеры фигур недостаточными. Увидев, что многофигурные композиции дают слишком мелкие фигуры, он коренным образом изменил трактовку фигур; начиная с «Грехопадения» он стал их делать больше — для рассмотрения издали. Но в композиции потолка замечается еще один шов, непосредственно после середины. Совершенно неожиданно обнаруживается новое увеличение размеров. Все большей становится массивность, тяжесть фигур. Пророки и юноши вырастают одновременно с фигурами картин, вплоть до огромного Ионы, который своим могучим движением разрывает архитектурные рамки композиции. Одновременно усиливается свет, изменяется характер колорита. Ранние истории пестры, небо в них голубое, луга зеленые, краски исключительно светлые и тени легкие. В более поздних все становится тусклее, небо — серое, одежды — бесцветные, и тени приобретают больше значения. «Сотворение мира» показано как грандиозное явление, как движение титанической силы, мощь творческого созидания.
Основная сюжетная идея, общий тематический смысл всей росписи отличаются чрезвычайной простотой и наглядностью, совершенно непохожей на сложную символику и скрытые намеки кватроченто. Пусть правы те ученые, которые усматривают в Сикстинском потолке следы изучения Данте и попытку в сочетании обнаженных юношей с образами Ветхого завета объединить платоновскую философию с идеями христианства. Основной стержень содержания остается незыблем. Если мастера кватроченто иллюстрировали на стенах капеллы различные эпизоды церковного предания, то Микеланджело хотел представить на потолке судьбы человечества до искупления. Его интересовали не внешние события и действия, но то внутреннее духовное напряжение, которое в фигурах пророков поднимается до грандиозного ветхозаветного пафоса.
Рассмотрим теперь в отдельности некоторые группы и эпизоды сикстинского цикла. В исторических картинах, как мы указывали выше, Микеланджело проходит три этапа своего развития. Конец первого знаменуется изображением «Потопа», то есть первой большой драматической композиции в творчестве Микеланджело. В отличие от кватроченто, Микеланджело присваивает себе право рассказывать с помощью одних только нагих фигур. Детали сведены к минимуму: построек, костюмов, утвари, всего великолепия, которым изобилуют фрески Гоццоли, Гирландайо, нет и следа. Пейзажа почти нет. В «Потопе» Микеланджело действует не отдельными фигурами, но целыми группами, комплексами фигур. Таков обобщенный стиль Высокого Возрождения. В четыре главные группы объединены могучие представители этой героической породы людей. Два совершенно неведомых раньше приема применяет здесь Микеланджело. Один из них — развертывание композиции по диагонали: группа переднего плана двигается по диагонали холма, на втором плане ей соответствует диагональ трех других групп. Другой прием — движение из глубины картины, причем фигуры скрыты наполовину горой и воображение невольно увеличивает их число. Оба приема предвещают композицию барокко, тогда как искусству Ренессанса они не знакомы. Ренессанс знает симметричное построение группы и то движение, которое развертывается параллельно плоскости картины.
Однако самого Микеланджело композиция «Потопа», видимо, не удовлетворила. Он хотел еще большей простоты и лапидарности. И в следующих картинах сжатость его речи возрастает одновременно с мощью размаха.
«Грехопадение»: райский пейзаж показан волнистой линией почвы и стволом дерева — настоящий пейзаж скульптора. Навсегда запоминается отодвинутая к самому краю группа изгнанных и поразительная линия, которая ведет к ним от лежащей Евы через руку искусителя и меч ангела. Чего стоит это зловещее зияние пустоты между деревом и изгнанным Адамом!
«Создание Евы»: бог-отец впервые выступает на сцену; он огромен и должен согнуться в тесной раме. Он не хватает Еву за локоть, не тащит ее к себе, как любили изображать ранние мастера. Спокойным жестом он только говорит ей: встань. У Евы удивление, радость жизни переходят в благодарное поклонение. Здесь торжествует чувственная красота в духе Высокого римского Ренессанса: формы массивные, тяжелые.
Дальше жест сотворения повторяется еще четыре раза, всякий раз с новой, все возрастающей силой. Во-первых, в «Сотворении Адама». В бешеном вихре, как болид, как сила, собранная плащом, в сонме ангелов подлетает бог к недвижному Адаму; их вытянутые пальцы почти соприкасаются, и, подобно электрической искре, дух жизни проникает в тело Адама. В Адаме неслыханное соединение таящейся силы с полным бессилием. Он еще не в силах встать, он может только повернуть голову. И в то же время — какая мощь! Необыкновенно выразителен контраст двух контуров: кривого — по вытянутой ноге и вдоль торса и прямого — плеч. Безжизненность на глазах превращается в энергию.
«Сотворение светил и растений»: бог летит, словно среди раскатов грома, на мгновение останавливается … напряжение — Солнце и Луна созданы. Мы видим его в ракурсе, видим его взор, обе руки его творят одновременно, но в правой — больше силы и выразительности. Бог здесь изображен дважды. Второй раз он виден со спины, как вихрь, улетающий в глубину: довольно мановения руки — и мир растений создан. Повторение одной и той же фигуры не есть возвращение к примитивным приемам рассказа, это — желание динамики движения (закройте половину картины, и вы почувствуете, насколько выигрывает сила движения от дважды повторенного полета). Последняя картина цикла — «Отделение света от тьмы» — изображает уже не человеческие фигуры, а стихии природы, элементарные силы энергии. В вихре бог как бы сам себя выделяет из хаоса вселенной, из тьмы в свет. Эта картина не принадлежит к самым ярким и убедительным образам мастера. Микеланджело хотел еще большего fortissimo, но это ему не удалось. Тем не менее она очень интересна в эволюционном отношении. В сложной позе бога Саваофа, одновременно устремляющегося вверх и вниз, вправо и влево, Микеланджело впервые создает прообраз того вращательного движения, так называемой figura serpentinata (фигуры, извивающейся, как змея), которая затем составит главную основу марьеризма.
Если уже в историях обнаруживается необыкновенный творческий размах Микеланджело, то своей предельной глубины, как это естественно у скульптора, мастер достигает в отдельных фигурах пророков и сивилл. Здесь гений Микеланджело не считается ни с какими традициями и создает совершенно новую породу людей и неведомые прежде возможности художественного выражения. Раньше изображения пророков отличались только именами и атрибутами. Микеланджело характеризует их по возрастам, по свойствам пророческого дара, воплощая то само вдохновение, то безмолвное размышление, то экстаз прорицания. Его герои почти столь же сильно отличаются от античного идеала, как и от идеала средневекового. В античном искусстве центр тяжести покоился на телесной гармонии; средние века перенесли акцент на чисто духовную абстракцию; в образах же Микеланджело подчеркнута неразрывность телесного и духовного.
Микеланджело начинает со спокойных фигур. Эритрейская сивилла полна благородной и спокойной торжественности. Она сидит в профиль, готовая перелистать книгу, в то время как путто зажигает лампу. Здесь только подготовка к деятельности. На той же стороне немного дальше — персидская сивилла. Старуха сидит боком, придвигая книгу близко к глазам и поворачивая ее на свет, как близорукая. Она словно пожирает текст книги — источник ее вдохновения. Исайя слушает, Иезекииль вопрошает. Глаза Дельфики раскрыты в испуге. Но вот темп усиливается, пассивная подготовка сменилась активной деятельностью. Юный Даниил держит на коленях раскрытую книгу. Он что-то прочел в ней, а теперь, резко отвернувшись, быстро записывает на маленьком пульте. Резкий свет падает на его лоб и грудь, плащ скомкан, волосы взъерошены, это — горящий творческим огнем мыслитель. К концу потолка движение становится еще напряженней. Как контрасты друг другу противопоставлены ливийская сивилла и Иеремия. Сивилла вся построена на внешнем движении. Она изогнулась в необычайно резком повороте, так что мы одновременно видим и ее лицо и ее спину. Эта внешняя напряженность позы еще более подчеркнута фантастикой туалета: сочетанием сложных тяжелых складок, закрывающих тело, и полного обнажения. Даже путти изумлены и шепчутся, указывая на африканскую пророчицу. Напротив, Иеремия потрясает именно своей простотой, как могучая темная глыба, застывшая в трагическом отчаянии. Ни жеста, ни слезы, ни рыдания — левая рука бессильно повисла, правая — закрыла рот печатью молчания. Только тени скорбящих женщин в глубине — одно из самых красивых созданий Микеланджело — дают выход великому горю. Наконец, как завершение цикла — Иона. Единственный из пророков, который обходится без свитка или книги. Микеланджело изображает его в могучем движении, для которого тесны преграды трона и которое служит последним оглушительным аккордом для всего фрескового цикла. Что означает это откинутое назад тело, этот обличающий жест рук, отчего так испуганы сопровождающие Иону путти? Пророческий ли это экстаз, оповещающий о пришествии искупителя или великий спор с богом о судьбе Ниневии?
Остается еще сказать несколько слов об обнаженных юношах. Биографы Микеланджело называли из просто ignudi, то есть обнаженные. Их назначение заключается в том, чтобы венчать колонны тронов и обрамлять «истории», но эту свою декоративную роль они маскируют, обвивая бронзовые медальоны фруктовыми гирляндами. Это прекрасные мускулистые юноши, глаз и рука мастера отдыхали на них от напряженного пафоса «историй» и пророков. В них нет ничего рабского в буквальном смысле слова (а их иногда называли «рабами»), ничего низменного. И все-таки они — пленники, занятые подневольной работой и не смеющие сдвинуться со своих кубов. Они — рабы духа, подобно своему гениальному создателю. Микеланджело был здесь в своей стихии. Он снова вернулся в ту область, в которую вступил впервые в картоне «Купающиеся солдаты», и, конечно, можно себе представить, что работе над этой частью потолка он отдался душой и телом. Как в пророках, так и в юношах не трудно видеть постепенное нарастание темпа. Оно сказывается не только в большем богатстве движения, не только в смелости ракурсов, но главным образом в том, что ранние фигуры соблюдают известную симметрию, стремятся к равновесию, тогда как более поздние построены на абсолютных контрастах. Сравним двух юношей начала работы (над Иоилем) и двух написанных под конец (над Иеремией). В первом случае они скромно сидят в профиль, их движения умеренны, спокойны и почти симметричны. Во втором случае в двух телах нет ничего общего ни в росте, ни в движениях, ни в освещении; везде контрасты, взаимно усиливающие впечатление: один — плавно покоящийся олимпиец и другой — согнутый и изгибающийся под тяжестью огромной гирлянды. Эволюция от простоты к сложности соединяется и с движением от физического к духовному, от равнодушия к радости и грусти. Лениво сидящий юноша последней группы — бесспорно прекраснейшее создание всей росписи. Фигура его совершенно спокойна, но какая грандиозность в контрастах направлений; каждое его движение необычайно. В то же время вся масса сомкнута и может быть вписана в правильную геометрическую фигуру. Центр тяжести расположен высоко вверху; отсюда невиданная легкость фигуры (несмотря на геркулесовское сложение), отсюда впечатление меланхолии.
Какие идеи и настроения отражает роспись Сикстинского потолка? Какое содержание вложено в эти ветхозаветные «истории» и образы христианской мифологии? Несомненно, Микеланджело воплотил здесь идеалы ренессансного гуманизма, стремился показать благородство, красоту, достоинство человека, воспеть гимн творческой силе, стремлению к мысли, к действию, к совершенствованию. Каждый образ в этом смысле не оставляет сомнений. Но какова тогда концепция целого? Микеланджело дает здесь, в сущности, свое истолкование основ мироздания — не в библейско-историческом или мифологическом только аспекте, но и в современном ему философском, гуманистическом. Он показывает, на чем держится мир, — с гуманистической точки зрения. Отсюда этот пафос созидающей, творческой силы, отнюдь не мистической, не отвлеченной: подобно тому как сам мастер оживляет мраморную глыбу, высекая из нее фигуру человека, так бог-отец вдохнул жизнь в Адама своим прикосновением. Отсюда этот гимн творческой мысли, пытливости, вдохновению, даже сомнениям и исканиям человека. Отсюда, наконец, признание красоты действия, движения, физической силы.
В процессе работы у мастера, однако, все больше проступал тон пессимизма, подавленности, связанности. Это чувствуется в фигурах поздних пророков, отчасти «рабов», но особенно об этом говорят изображения в распалубках и люнетах, обычно объединяемые под названием «предков Христа». В отличие от потолка тут изображены жанровые сцены, проникнутые не физической и волевой, а эмоциональной энергией. Какими же событиями, мыслями, переживаниями они навеяны?
Микеланджело не мог быть равнодушен к трагедии итальянской земли. Италия испытывала тяготы испанской (на юге) и французской (миланское герцогство) оккупации. В 1508 году всесильная Камбрейская лига действовала против Венеции.
110. МИКЕЛАНДЖЕЛО. БИТВА КЕНТАВРОВ. OK. 1492 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, ДОМ БУОНАРРОТИ.
111. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ВАКХ. OK. 1496–1497 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.
112. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПЬЕТА. OK. 1497–1498 ГГ. РИМ. СОБОР СВ. ПЕТРА.
113. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ДАВИД. 1501–1504. ФЛОРЕНЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
114. МИКЕЛАНДЖЕЛО. МАДОННА ИЗ БРЮГГЕ. ОК. 1500 Г. ДЕТАЛЬ. БРЮГГЕ, СОБОР.
115. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО («МАДОННА ДОНИ»). 1504–1505. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
116. МИКЕЛАНДЖЕЛО. БИТВА ПРИ КАШИНЕ. 1504–1506. КОПИЯ С КАРТОНА. ХОЛКАМ-ХОЛЛ, СОБРАНИЕ ЛОРДА ЛЕСТЕРА.
117. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ. МЕЖДУ 1503–1505 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
118. СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА В ВАТИКАНЕ. ОБЩИЙ ВИД.
119. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ФРЕСКИ ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
120. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СОТВОРЕНИЕ АДАМА. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
121. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПОТОП. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
122. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СОТВОРЕНИЕ СВЕТИЛ И РАСТЕНИЙ. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
123. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ЛИВИЙСКАЯ СИВИЛЛА. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
124. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПРОРОК ИЕРЕМИЯ. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
125. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ОБНАЖЕННЫЙ ЮНОША. ФРЕСКА ПЛАФОНА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
126. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ФРЕСКА ЛЮНЕТА СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ. 1508–1512.
127. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ГРОБНИЦА ПАПЫ ЮЛИЯ И. 1505–1545 (С ПЕРЕРЫВАМИ). РИМ. ЦЕРКОВЬ САН ПЬЕТРО ИН ВИНКОЛИ.
128. МИКЕЛАНДЖЕЛО. МОИСЕЙ. СТАТУЯ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ПАПЫ ЮЛИЯ II. 1515–1516. РИМ, ЦЕРКОВЬ САН ПЬЕТРО ИН ВИНКОЛИ.
129. МИКЕЛАНДЖЕЛО. УМИРАЮЩИЙ РАБ. СТАТУЯ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ПАПЫ ЮЛИЯ II. 1513–1516. ПАРИЖ, ЛУВР.
130. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КАПЕЛЛА МЕДИЧИ ЦЕРКВИ САН ЛОРЕНЦО ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1520–1534. ИНТЕРЬЕР.
131. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КАПЕЛЛА МЕДИЧИ. ГРОБНИЦА ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ. 1520–1534.
132. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КАПЕЛЛА МЕДИЧИ. ГРОБНИЦА ДЖУЛИАНО МЕДИЧИ. 1520–1534.
133. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КАПЕЛЛА МЕДИЧИ. НОЧЬ. ДЕТАЛЬ ГРОБНИЦЫ ДЖУЛИАНО МЕДИЧИ. 1520–1534.
134. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КАПЕЛЛА МЕДИЧИ. МАДОННА МЕДИЧИ. 1524–1531.
135. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПОБЕДА. 1532–1534. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАЛАЦЦО ВЕККЬО.
136. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ВЕСТИБЮЛЬ И ЛЕСТНИЦА БИБЛИОТЕКИ ЛАУРЕНЦИАНА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1559–1568.
137. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СТРАШНЫЙ СУД. ФРЕСКА АЛТАРНОЙ СТЕНЫ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ В ВАТИКАНЕ. 1536–1541.
138. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ОБРАЩЕНИЕ ПАВЛА. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ КАПЕЛЛЫ ПАОЛИНА В ВАТИКАНЕ. 1542–1550.
139. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. ОК. 1550–1555 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, СОБОР САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ.
140. БРАМАНТЕ. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ПРЕССО САН САТИРО В МИЛАНЕ. 1479–1499.
141. БРАМАНТЕ. ТЕМПЬЕТТО. КАПЕЛЛА ВО ДВОРЕ МОНАСТЫРЯ САН ПЬЕТРО ИН МОНТОРИО В РИМЕ. 1500–1502.
142. МИКЕЛАНДЖЕЛО. СОБОР СВ. ПЕТРА В РИМЕ. ВИД С ВОСТОКА. 1546–1564.
143. МИКЕЛАНДЖЕЛО. КУПОЛ СОБОРА СВ. ПЕТРА В РИМЕ.
144. МИКЕЛАНДЖЕЛО. ПЛОЩАДЬ КАПИТОЛИЯ В РИМЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАТО В КОНЦЕ 1530-Х ГГ. ОБЩИЙ ВИД.
Как раз на 1511–1512 годы приходятся кровавые погромы в Брешии и Прато, резня при вторжениях французских и швейцарских войск, проявления свирепости, жадности; в итоге — разорение и голод. Республике во Флоренции приходит конец: она открывает ворота перед Медичи.
Люнеты Микеланджело внушены пробуждением гражданских чувств, протестом против беззакония и насилия. Они проникнуты человеколюбием, симпатией к простым людям, испытывающим горести и тяготы. Прекрасная молодая женщина расчесывает длинные светлые волосы, и тихая грусть заключена в ее позе, в лице. Мужчина застыл в оцепенении, словно не может отделаться от кошмарного видения. Образы изгнанников: женщина с ребенком приткнулась у стены; старик с посохом сгорблен под тяжестью мешка, и ветер треплет ему бороду; беременная женщина; мужчина в позе величайшего отчаяния. По идее — это простые люди (предки Христовы), принявшие на себя страдания мира. По существу же — это обвинительный акт (хотя и приглушенный) против зла, в котором повинны и Медичи, и папа, и французы, и испанцы. Так, создавая идеальную концепцию мира в духе гуманизма, Микеланджело одновременно приоткрыл и темные стороны современной ему действительности. В этом идеологический, общественный смысл Сикстинского плафона.
Если мы отвлечемся от подавляющего, чисто духовного воздействия Сикстинского потолка и в заключение спросим себя, каковы же формальные завоевания гигантского плафона, какие перспективы открывает он в этом смысле итальянскому искусству, то должны будем отметить два главных момента. Любопытно, что оба они относятся к области архитектуры. И нас не должно поэтому удивлять, что со времен Сикстинского потолка Микеланджело начинает все большее внимание уделять архитектурным проблемам, к которым он до сих пор был совершенно равнодушен: большинство последующих работ Микеланджело принадлежит или чистому строительству (библиотека Лауренциана, собор святого Петра, палаццо Фарнезе), или соединению архитектуры и скульптуры в смешанной области декоративной пластики (гробница Юлия II, капелла Медичи).
Один из этих моментов — новое понимание архитектурного пространства. В архитектуре классического Ренессанса (у Брунеллески, у Браманте) стена означает границу пространства. Стена мыслится как непроницаемая, неподвижная преграда, и декорация — все равно, живописная или пластическая — существует на стене. В росписи Сикстинской капеллы Микеланджело приходит к чрезвычайно важному открытию: стена и потолок приобретают силу движения, они перестают быть непроницаемыми, они выдвигаются вперед и отступают назад. И одним из главных орудий этой динамической стены делается декорация, которая может «отодвигать» стену или «пробивать» ее. Другими словами, отныне декорация живет перед стеной или позади стены. Именно это открытие Микеланджело привело позднее к блестящим триумфам декоративного искусства барокко.
Не менее существенно и другое открытие Микеланджело, которое начинает собой совершенно новый период в истории архитектуры. В Сикстинском потолке Микеланджело его только угадал, в своих дальнейших произведениях он нашел ему яркое выражение. Вся архитектура, которая предшествует Микеланджело, — античная и средневековая — строится на чисто конструктивных функциях: на отношениях опоры и тяжести, давления и противодействия. В античной архитектуре между этими борющимися функциями устанавливается равновесие, в готике сила противодействия оказывается сильней давления и вырывается кверху. Со времени Микеланджело чисто конструктивные функции в архитектуре начинают осложняться и переплетаться с духовными, психическими энергиями. Микеланджело открывает собой эпоху чувствующей, думающей и желающей архитектуры. В «юношах», в амурах Сикстинского потолка, «играющих в архитектуру», в колонны, карнизы, Микеланджело первый раз предугадал грядущие перемены европейской архитектуры.
Из росписи потолка Сикстинской капеллы, как из гигантской борьбы, Микеланджело вышел бесспорным победителем. Но эта победа ему дорого стоила. Работа на спине, с запрокинутой головой, испортила его зрение, так что долго потом он в состоянии был читать, только держа книгу высоко над головой. Вообще он покинул Сикстинскую капеллу совсем больным. В одном из своих сонетов он сам издевается над своими недугами:
«Я получил за труд лишь зоб, хворобу (Так пучит кошек мутная вода, В Ломбардии — нередких мест беда!) Да подбородком вклинился в утробу; Грудь, как у гарпий; череп мне на злобу, Полез к горбу; и дыбом борода, А с кисти на лицо течет бурда, Рядя меня в парчу, подобно гробу…».Перевод А. Эфроса[26]
Микеланджело жестоко страдал от своего безобразия. И его горечь была тем острее, что всю жизнь его терзала любовь, которая, по-видимому, была безответной.
После окончания Сикстинского плафона в творчестве Микеланджело наступает период наиболее беспокойный, пестрый, наименее продуктивный. Вот в этот-то период духовного и физического изнеможения ему и пришлось выполнять грандиозный и ставший для него роковым заказ — гробницу папы Юлия II. Сикстинский потолок был вершиной стиля Возрождения в живописи Микеланджело. Такой же вершиной в его скульптуре была бы гробница папы Юлия II, если б она была закончена. Как уже говорилось, работа над гробницей была отставлена в связи с новыми планами росписи Сикстинской капеллы. После смерти Юлия II его наследники, видя, что работа не подвигается, заключили с мастером новый контракт (1513). Проект был сокращен. Вместо свободно стоящей, открытой с четырех сторон архитектурной громады была предусмотрена более скромная гробница, приставленная к стене; вместо сорока больших статуй — вдвое меньше. Еще через три года пришлось прибегнуть к новому договору и новому сокращению. Сохранившаяся копия со второго по счету проекта Микеланджело знакомит нас в общих чертах с его планами. Если бы этот проект был осуществлен, мы имели бы такое же чистое создание стиля Ренессанса в скульптуре, каким в живописи является потолок Сикстинской капеллы. Гробница делится на два главных яруса. Нижний из них расчленен нишами, в которых помещены статуи побед, пилястрами же служат фигуры связанных обнаженных рабов. Второй ярус украшен двумя колоссальными сидящими статуями. Одна из них должна была представлять собой Моисея. Между ними — саркофаг, два ангела опускают тело папы на ложе. Всю группу венчает статуя богоматери в овальной нише, так называемой мандорле.
Но и этому сокращенному проекту не суждено было осуществиться. Микеланджело успел сделать только Моисея и две не вполне оконченные статуи рабов. Поэтому в 1532 году произошло новое сокращение и была установлена окончательная редакция гробницы, как ее можно и теперь наблюдать, но уже не в соборе святого Петра, а в небольшой церкви Сан Пьетро ин Винколи. В этой редакции почти ничего не осталось от первоначальных гордых замыслов мастера. Ему принадлежат только самые общие указания, статуя Моисея (1515–1516) и, может быть, статуи Лии и Рахили. Рабы попали в Лувр. Фигуры мадонны, пророка и сивиллы исполнил ученик Микеланджело — Рафаэлло да Монтелупо, а почти комическую статую папы, напоминающую статуи умерших на этрусских саркофагах, — слабый скульптор Томмазо Босколи. От грандиозной мечты остался жалкий осколок.
Всех, кто соприкасался ближе с жизнью и творчеством Микеланджело, всегда волновал вопрос: почему гробницу Юлия II постигла такая трагическая судьба, где причины, кто виновник этого рокового провала? Конечно, для объяснения можно найти много внешних, случайных помех. Работа над гробницей все время перебивалась другими неотложными заказами: то Сикстинский потолок, то поручение нового папы, Льва X, — фасад церкви Сан Лоренцо во Флоренции, то, позднее, капелла Медичи. К этому присоединялись трудности по добыванию мрамора, постоянные ссоры с каменотесами, неудачи с перевозом. Но этих внешних причин недостаточно. Неменьшие трудности сопровождали роспись Сикстинского потолка. Тем не менее все же Микеланджело их преодолел. Отчего же он не справился с ними, когда дело шло о гробнице папы? По-видимому, объяснение нужно искать во внутренних причинах. Микеланджело не любил гробницу Юлия II, хотя, может быть, сам не хотел себе в этом сознаться. Двадцатые годы XVI века представляют собой известный перелом после Высокого Ренессанса, и Микеланджело был первым, кто бросил лозунг нового стиля, кто ввел диссонанс в гармонию классики. Памятник же Юлию II был им задуман в самом зените Ренессанса. Не удивительно, что мастер его разлюбил, как только почувствовал в себе жажду новых художественных форм, как только стало меняться его художественное мировоззрение. Так гробница папы Юлия II невольно сделалась могилой стиля Высокого Возрождения.
Все три оставшиеся нам от гробницы Юлия статуи пользуются заслуженной славой классических произведений Микеланджело. И все же, отдавая должное глубокой продуманности целого и мастерству деталей, нельзя закрывать глаза на то, что ни в «Моисее», ни в «Рабах» дух Микеланджело не нашел своего полного выражения; нет в них той особой терпкой прелести, которая присуща юному Микеланджело, и той предельной остроты духовного напряжения, которой владел старый мастер. В них больше Ренессанса вообще, чем личности Микеланджело. Внутренняя тема всех трех статуй по существу одна и та же: борьба духа и материи, конфликт воли и чувства. «Моисей» прекрасно задуман как тип вождя, учителя, ведущего народ, наделенного огромной волей и силой мышления. Моисей изображен со скрижалями. Он в гневе, он видит поклонение золотому тельцу и готов вскочить. Это кипящее спокойствие, сдержанность перед взрывом. Что победит — гнев или благоразумие? Если молодой Микеланджело нашел бы выход силам в действии, а старый — в чувствах, во внутренней борьбе, в пластическом выражении, то здесь выход дан скорее внешний — в том, как Моисей подавляет, ломает узкие рамки архитектуры, в надувшихся жилах руки, в пальцах, перебирающих бороду, в глубоких вырезах, обилии складок, чрезмерной полировке[27]. Гордость и гнев задуманы, но не воплощены полностью.
В фигурах «Рабов» (или «Пленников») конфликт духа и материи подчеркнут символикой оков, которые пленники силятся разорвать. «Скованный раб» слишком могуч для поражения: в нем — огромная сила, напряженность, но чисто физические, которым не соответствует жалоба его запрокинутой головы. Наиболее интересен «Умирающий раб». Образ его противоречив. Кто он — умирающий или пробуждающийся? Что это — последнее дыхание или глубокий вздох перед пробуждением? Левая половина тела как будто говорит о пробуждении, она скользит и оживает, тогда как правая съеживается и умирает. В движении руки за голову, в упоре ноги воплощено страстное желание пробудиться, разбить оковы сна, жить, но запрокинутая голова, рука, прижатая к груди, излом в бедрах — все это влечет вниз. Противоречие не разрешено. Намечается мотив, столь увлекающий затем старого мастера, — скованная, порабощенная, но не примиренная сила; однако в воплощении его нет выхода, «пластического потока», эмоциональной силы.
Третий период творчества Микеланджело — классический или героический — заканчивается статуей Христа в церкви Санта Мария сопра Минерва в Риме, изваянной в 1520 году, в год смерти Рафаэля. Сам мастер не успел работу довести до полного окончания, и один второстепенный скульптор ретушировал голову, руки и ноги. Это — единственное произведение Микеланджело, которое смело могло бы быть вычеркнуто из списка его работ. Странный замысел: Христос в триумфе, но со знаком своего унижения — крестом; немотивированная бравурность позы и в то же время вялость характеристики. Напоминаю эту статую как последнюю, безнадежную попытку мастера удержать равновесие Ренессанса, которое он сам уже начал разрушать.
В 1520-х годах происходит постепенный перелом в мировоззрении и стиле Микеланджело. Он сказывается в работе над капеллой Медичи, над вестибюлем и лестницей библиотеки Лауренциана во Флоренции и в других работах мастера. Чем же вызван этот перелом?
Новый, четвертый период деятельности Микеланджело — самый своеобразный и самый разнообразный — опять переносит нас во Флоренцию. С горьким сознанием многих потерянных лет, разбитых надежд и приближения старости вернулся Микеланджело в родной город. Он чувствовал себя невыносимо одиноким: все друзья его молодости умерли, а семейные неурядицы предельно осложнились (отец мастера, придирчивый и озлобленный старик, отравлял ему жизнь). Вдобавок во Флоренции начались гонения на сторонников республики — лучших, передовых людей эпохи, среди которых едва ли не убежденнейшим был Микеланджело. Италия вообще переживала трудное время. Тучи сгустились над страной. В 1527 году испанские войска Карла V заняли и разгромили Рим (знаменитый Sacco di Roma). В следующем году поднялось народное восстание во Флоренции, и Медичи были свергнуты. Тогда же в городе разразилась чума. Папа Климент VII (из рода Медичи) в союзе с германским императором организовал поход на Флоренцию. Флорентийские республиканцы героически сражались против превосходящих сил противника.
Микеланджело был в первых рядах восставшего народа и облечен его высшим доверием: его назначили главным начальником над укреплениями Флоренции. Кто бился тогда вместе с ним за Флорентийскую республику? Прежде всего в борьбе приняли участие низы бюргерства, младшие цехи ремесленников, нецеховые рабочие. Их называли arrabiati — то есть бешеные — так велика была их ярость. Лишь единичные представители крупной буржуазии и интеллигенции примкнули к ним. Микеланджело был непреклонно предан республике и питал глубокое отвращение к деспотии. Все тираны, по его словам, лишены естественного чувства любви, которую каждый человек питает к ближнему своему; они лишены естественных человеческих стремлений. Это не люди, а звери. А то, что им чужда любовь к ближнему, не требует доказательств: иначе они не могли бы присвоить себе то, что принадлежит другим, и не могли бы стать тиранами, топча других ногами[28].
Микеланджело строил укрепления, конструировал машины для обороны города, ездил в Феррару изучать ее знаменитую систему военных укреплений. Скоро, однако, для Микеланджело стало ясно, что город неминуемо будет сдан, так как во главе войск стоял предатель Малатеста Бальоне. Считается, что о своих подозрениях Микеланджело сообщил Синьории, которая его высмеяла. Но о донесении Микеланджело узнал Малатеста, человек, способный на все. Тогда Микеланджело охватил один из свойственных ему приступов безумного страха. Он решил немедленно бежать. Возбуждение его было так велико, что он миновал Феррару, где герцог разумно предлагал ему гостеприимство, и бежал дальше, в Венецию. Но и это убежище казалось ему ненадежным. Страх гнал его все дальше и дальше, и он начинает полную отчаяния и тоски переписку, которая подготовила бы ему бегство во Францию. Французский король предлагает ему жалованье и дом. Но так же внезапно, как страх охватил Микеланджело, его охватывает чувство стыда за свой страх. Микеланджело узнает, что Синьория готова дать ему помилование, и возвращается во Флоренцию, которую он любил больше всего на свете. Он искренне верил, что во Флоренции наступит «золотой век», и не сомневался в торжестве идеи справедливости. Однако ему не пришлось увидеть свободной Флоренцию, о которой он так страстно мечтал. Малатеста Бальоне предал Флоренцию. В 1530 году Флоренция капитулировала, и император сдал город папскому комиссару, мстительному и жестокому Баччо Валори. В городе начались массовые казни, погибли новые друзья и сподвижники Микеланджело. Сам Микеланджело спрятался на колокольне церкви Сан Николо. Папа готов помиловать мастера, если он продолжит работу над гробницей Медичи. С 1530 года Флоренция навсегда утратила свое буржуазно-республиканское устройство и позже превратилось в «великое герцогство Тосканское». Микеланджело переживал это болезненно. Насколько страстным республиканцем он был, свидетельствует его обращение к Франциску I с мольбой восстановить свободную Флоренцию и с обещанием воздвигнуть его конную статую на площади Синьории. Между тем Микеланджело должен был испить чашу унижения до дна, приняв даже заказ от Валори, казнившего его лучших друзей, и изваяв для него «Давида», или «Аполлона с колчаном».
Вот в эти годы разорения Рима и падения Флоренции, в период великого унижения Италии, Микеланджело и создал гробницу Медичи, работу, которую ему не суждено было довести до конца и которая тем не менее принадлежит к наиболее потрясающему из всего, созданного мастером. Заказ на эту гробницу Микеланджело получил в 1520 году от кардинала Джулио Медичи, провозглашенного позднее папой под именем Климента VII. Гробница должна была быть помещена в церкви Сан Лоренцо, в так называемой Новой сакристии, задуманной в пару Старой сакристии, которую в начале XV века выстроил Брунеллески. Сначала предполагались четыре гробницы наиболее прославленных членов семьи Медичи: Лоренцо Великолепного, его брата Джулиано — отца папы, Джулиано, герцога Немурского, и Лоренцо, герцога Урбинского. Микеланджело набросал проект свободно стоящей постройки с четырьмя гробницами по четырем сторонам. Затем он оставляет этот план и задумывает две двойные гробницы, прислоненные к боковым сторонам капеллы. Существуют собственноручные наброски мастера, которые знакомят нас с неистощимым богатством его фантазии. Тем временем постройка капеллы готова. Начинают прибывать мраморные блоки, и Микеланджело приступает к высеканию статуй. На одном рисунке можно видеть проект двойной гробницы для младших Медичи с центральной фигурой мадонны в нише. Она должна была быть помещена у входной стороны капеллы. Другой рисунок передает набросок одной из двух отдельных гробниц для старших Медичи с двумя лежащими на саркофаге аллегорическими фигурами. Во время дальнейшей работы над мрамором в планах мастера происходит новое перемещение: теперь для старших Медичи он планирует общую двойную гробницу у входа, гробницы же младших Лоренцо и Джулиано предполагает разместить по двум боковым стенам. Это положение дел совпадает с отъездом Микеланджело из Флоренции. Несмотря на все усилия Вазари вновь привлечь внимание мастера к работам над гробницей, Микеланджело не обнаруживает больше никакого интереса к этой задаче. Таким образом, Вазари не остается ничего другого, как расположить приготовленные уже мастером статуи соответственно последним планам Микеланджело (1534). В этом именно виде и дошла до нас Новая сакристия в Сан Лоренцо. Ее украшение помимо чисто архитектурного членения темными пилястрами, карнизами и арками состоит из гробниц младших Лоренцо и Джулиано по боковым стенам капеллы и статуи мадонны у третьей стены.
Может показаться несколько странным, почему Микеланджело пренебрег именно наиболее знаменитыми представителями дома Медичи и предоставил столь почетное место в капелле малозначительным потомкам. По-видимому, это произошло не случайно. В Новой сакристии Микеланджело хотел зафиксировать трагическое крушение семьи Медичи, с судьбой которых тесно была переплетена судьба его самого и всей Италии. Почти одновременно с постройкой капеллы Медичи Макиавелли начал писать свой труд о государе, в котором проводил старинную мечту Данте об освободителе, который изгонит варваров и восстановит былую мощь Италии. Этот трактат «11 Principe» был посвящен сначала младшему Джулиано, а после его смерти племяннику последнего, Лоренцо. На герцоге Урбинском Лоренцо одно время покоились надежды флорентийцев. Надеждам этим не суждено было сбыться: герцог преждевременно скончался.
Микеланджело не хотел давать реальных портретов. Когда его упрекали в том, что в его статуях мало сходства с Лоренцо и Джулиано, он возражал: «Кого это будет интересовать через несколько столетий». Его занимала только общая идея. Он мыслил образы Лоренцо и Джулиано обобщенно, представляя их к тому же в неразрывной связи с выразительным ансамблем всей капеллы.
Здесь мы подошли к одной из самых важных причин необыкновенного воздействия капеллы Медичи. Впервые в истории итальянского искусства статуи задуманы в неразрывном единстве друг с другом, с архитектурой, с окружающим пространством, с источником света. При входе в капеллу зритель испытывает впечатление словно острой боли, какого-то необъяснимо сковывающего чувства печали, которое, как атмосфера, разлито во всей капелле. Это происходит потому, что вся капелла объединена единым пространством, единым светом. Нужно обратить внимание, как ложится тень, как она падает именно там, где этого требуют акценты общего замысла: на лицо задумчивого Лоренцо («II Pensieroso», как прозвали его) и на лицо «Ночи». Впервые в истории ренессансной скульптуры мы видим статуи, в которых средством выражения является не только пластическая форма, но и элемент чисто живописный — свет и тени. Открывается еще один путь для нового стиля, и скульптура эпохи барокко впоследствии широко использует его в своей «живописной пластике».
Фигуры распределены группами по двум противоположным стенам капеллы: по одной стене — Лоренцо, «Вечер» и «Утро»; по другой — Джулиано, «День» и «Ночь». Лоренцо, в шлеме, в доспехах, полон печального раздумья, он тяжело подпирает голову рукой, лицо погружено в тень. Фигура, поза, лицо — все здесь воплощает образ мыслителя. Джулиано сидит с непокрытой головой, с жезлом на коленях, как полководец, но его маршальский жезл вяло опускается в руках: больше некому и не для чего отдавать приказаний. Однако образы отнюдь не противопоставлены один другому по принципу простого контраста: две темы — раздумье и деятельность перекликаются в каждом из них. Мы видим у «Мыслителя» — красоту, силу, почти воинственность; у «Воина», который должен бы воплощать «жизнь деятельную», — задумчивость, мечтательность, рассеянное движение рук, ускользающий взгляд.
Своеобразные противоречия, перерастающие в конфликт воли и чувства, характерны для аллегорических фигур капеллы — особенно для «Ночи» и «Дня». В Сикстинском потолке Микеланджело как будто исчерпал все экспрессивные возможности сидящей обнаженной фигуры. Теперь он хочет вдохнуть жизнь в лежащую и находит для нее новые мотивы и формы движения — потенциального, подавленного, бессознательного, противоречивого. Каждый элемент тела как будто бы в движении или готовится к движению, а все тело замкнуто в покое. Это невольно оказывает возбуждающее воздействие на зрителя.
«Ночь» поворачивается к зрителю, «День» отворачивается к стене. Не трудно видеть, что, в соответствии с нарастанием физической мощи, в этих огромных, тяжелых телах нарастает и сила чувства, готового прорваться настоящим вулканом. В «Ночи» воля жаждет сна — на это указывают атрибуты: сова, маска. Но сны беспокойны, и она вся трепещет от мучительного, трагического волнения.
Присматриваясь ближе к удивительной фигуре «Ночи», мы замечаем, что она полна какого-то особого движения, которое можно было бы назвать вращательным: фигура вращается вокруг своей оси таким образом, что отдельные члены тела находятся в постоянном движении, но все тело ее при этом не сдвигается с места — движение частей, спокойствие целого. Это новый принцип, который мы тщетно искали бы у Леонардо да Винчи или Рафаэля, потому что он не известен Ренессансу.
Фигура «Ночи» — одно из самых гениальных созданий мастера. Она вызвала в свое время обмен сонетами. Поэт Джованни Строцци написал: «Ночь, что так сладко пред тобою спит, / То ангелом одушевленный камень: / Он недвижим, но в нем есть жизни пламень, / Лишь разбуди — и он заговорит» (пер. А. М. Эфроса). Микеланджело ответил ему знаменитым сонетом: «Мне сладко спать, а пуще камнем быть, / Когда кругом позор и преступленье: / Не чувствовать, не видеть — облегченье. / Умолкни ж, друг, к чему меня будить?»[29]. Быть может, вправе спросить мы, Микеланджело поэтому не вполне закончил «День»: образ наступающего дня, будущего Флоренции мастер еще не видел или не хотел видеть?
В гробнице Лоренцо Медичи все контрасты мягче, напряжения меньше. Чувство одерживает победу над волей. Могучие мускулы «Вечера» («II Crepuscolo», сумерки) мягко расправляются; это усталость, успокоение, задумчивость, но сна нет. «Утро» (Аврора) воплощает томительное, тяжелое пробуждение, борьбу со сном; на лице еще бродят скорбные тени сновидений, левая рука не то цепляется за платок, не то хочет его скинуть…
Проследим теперь в деталях композицию отдельных элементов капеллы на примере гробницы Джулиано Медичи. Сам кондотьер сидит в нише, перед стеной — саркофаг, крышку которого украшают аллегорические фигуры «Ночи» и «Дня». Прежде всего бросается в глаза, что фигуры Джулиано и аллегорий помещены в двух разных пространствах (аллегории — в реальном пространстве капеллы, Джулиано — в условном пространстве ниши), но объединены в одно целое. Если подойти к ним слишком близко, то передние фигуры заслоняют нишу. Следовательно, всю группу надо рассматривать издали. Другими словами, статуи рассчитаны не на осязание, не на ощупывание их пластических форм, а на чисто зрительное восприятие. Это, повторяю, — принцип живописный, Микеланджело подготовляет «живописную пластику» Бернини. Дальше: фигуры аллегорий слишком велики для крышек саркофага, а крышки поставлены слишком покато, так что фигуры собственно должны были бы скатиться с них. Вдобавок фигуры аллегорий самым бесцеремонным образом перерезают карнизы ниши. Пластика становится в резкое противоречие с архитектурой; получается диссонанс. Этот диссонанс был бы нестерпим, если бы не находил себе разрешения. Разрешается же он благодаря третьей главной фигуре, которая венчает всю пирамидальную композицию, как бы связывает ее узлом. Введение диссонанса в композицию — это тоже принцип стиля барокко, который предвидит Микеланджело. И заметьте, как тонко мастер разрешает этот диссонанс: статуя Медичи помещена в нише без всяких украшений, напротив, боковые ниши не имеют статуй, зато увенчаны фронтонами на консолях. Так, взаимно уравновешивая друг друга, элементы композиции разрешают диссонанс в гармонию.
Статуя «Мадонна Медичи» заканчивает этот гениальнейший из когда-либо созданных скульптурных циклов. Даже и не вполне завершенная, она показывает нам зрелый стиль Микеланджело во всем его великом совершенстве. Возможно, «Мадонна» должна была украшать третью, двойную гробницу, помещенную у входной стены. Замысел, по-видимому, таков: Джулиано Медичи обращает к ней свою голову, как бы моля о заступничестве, но тщетны его просьбы, нет опоры, нет надежды — взор Марии устремлен вниз, и младенец Христос прячет свое лицо у нее на груди. Безнадежны и жестоки веления судьбы — этим настроением овеяны все фигуры капеллы. Удивительна в этой группе простота и объединенность целого в связи с необычайным многообразием и сложностью отдельных движений. Что может быть противоречивей и многообразней движений богоматери и младенца? У Марии одна рука выдается вперед, другая прячется назад; голова повернута вправо, нога, закинутая на ногу, — влево; тогда как спирально вращающееся тело ребенка объединяет в себе все движения — наверх и вниз, вперед и назад, вправо и влево. И в то же время вся группа вписана в суровые, нетронутые границы каменной глыбы!
В целом капелла не столько является памятником династии Медичи, сколько пгмятником старой славной Флоренции, которую сгубили разорение и позор, памятником ее идеалам человека и горестям, переживаемым ее народом. Как созданная им «Ночь», Микеланджело не хочет более видеть тягостного настоящего своей родины. Он едет в Рим. Но он не потерял веру в человека и в свое искусство: капелла Медичи — высшее творческое достижение Микеланджело.
Однако дальнейший путь мастера показывает, что от капеллы Медичи возможно двигаться в разных направлениях. Скульптуры капеллы содержат в себе высшее напряжение форм, поразительное накопление контрастов. В сложной противоречивости движений мастер доходит до тех пределов, за которыми уже начинается излом и искажение. В капелле Медичи Микеланджело этой границы не перешел — вращательное движение «Ночи» или «Мадонны» оправдано внутренним, духовным порывом. Но одновременно мастера начинает интересовать чисто формальное разрешение проблемы, движение ради движения, богатство форм во имя самого богатства. Для самого Микеланджело — это только один из многочисленных этапов его гигантского творческого развития, переход к новому углублению. Для его младших современников, лишенных гениального полета фантазии мастера, — это страшный соблазн. Они с головой бросаются в сети этого заманчивого художественного эксперимента, которые, сам того не сознавая, расставил им Микеланджело. Несколько пластических работ, исполненных Микеланджело в двадцатые и начале тридцатых годов, имеют характер поисков и свидетельствуют об этом переломе в его творчестве.
Сюда относятся неоконченный «Давид» (раньше называли «Аполлон с колчаном») для Баччо Валори, «Мальчик на корточках» и «Победа». Эти три статуи представляют собой едва ли не самые сложные, пластически выразительные, но и бесстрастные произведения резца Микеланджело. Давид правой, выдвинутой вперед ногой опирается на возвышение почвы, в то время как левая рука закинута назад, через плечо. Движение, мягкое и легкое, исключительно богатое и ясное, сжато волнистыми контурами каменного блока. Статуя полна жизни и замкнута. Изумительны мягкость ее формы, текучесть линий и сила! Но каким внутренним переживаниям отвечают эти сложные повороты и изгибы тела? Их нет; лицо равнодушно и бесстрастно, мотив движения неоправдан: немая экспрессия! Недаром некоторые ученые сомневались в том, кого именно изображает статуя. В этой статуе Микеланджело как бы сознательно забыл о душе. Его занимала только формальная проблема — максимум поворотов при единстве пластического силуэта.
Мальчик присел на корточки и охватил руками правую ногу. Что он делает? Вынимает занозу, отыскивает рану, моет ноги? Для Микеланджело это было так же безразлично, как выражение лица, совершенно скрытого тенью. Ему важно было дать величайшую концентрацию движения, напряжение всех мускулов и суставов в одном жесте, максимум пластической энергии в минимуме пластической массы.
Особенно поучительна в этом смысле группа «Победа», полная пессимизма, диссонанса и какой-то незаконченности. Обнаженный юноша с очень длинными ногами и маленькой головой придавил коленом бородатого старика со связанными на спине руками, скорчившегося на земле. Лицо побежденного старика благородно, но в общем равнодушно, а у победителя нет радости, он мечтательно, грустно смотрит вдаль. Многие исследователи пытались оправдать группу, вкладывая в нее символический или аллегорический смысл. Одни усматривали в «Победе» герцога Алессандро Медичи, торжествующего над поверженной в прах Флоренцией, другие узнавали в бородатом старике черты самого Микеланджело, а победителя называли Эросом и истолковывали смысл группы как победу любви над старостью. Но эти толкования явно искусственны. Совершенно ясно, что Микеланджело не вкладывал в свою группу никакого иного смысла, кроме чисто пластического. Иначе он проявил бы чем-нибудь свою симпатию или к победителю, или к побежденному. Объединение двух фигур в одно тело, контраст свободы и связанности, спиральность движения, которая заставляет зрителя обходить группу кругом, повинуясь неистощимому вихрю поворотов, — вот задачи, которые ставил себе мастер. Микеланджело уловил здесь важный нерв своего времени; недаром статуя пользовалась исключительной популярностью у скульпторов второй половины XVI века — в ней видели программу, манифест нового пластического стиля.
В течение многих лет работы над росписью Сикстинской капеллы и над капеллой Медичи Микеланджело вплотную сталкивался с проблемами архитектуры и, как мы видели, вторгался в них необычайной смелостью своих замыслов.
К 1520-1530-м годам относится первое чисто архитектурное произведение Микеланджело — читальный зал и вестибюль библиотеки Лауренциана, замечательного собрания рукописей во Флоренции. Эта работа была начата мастером одновременно с капеллой Медичи, закончена же гораздо позже — лестница была выполнена лишь в 1559–1568 годах. Концепция ее менялась. В этом вестибюле и лестнице новые художественные намерения Микеланджело воплощены с поразительной силой и ясностью. Работая над росписью потолка Сикстинской капеллы, Микеланджело уже предвидел и открыл новые задачи в архитектуре. В Лауренциане он их осуществил. Лауренциана начинает собой чрезвычайно важный раскол в истории европейской архитектуры. Пути «выразительной» и «функциональной» архитектуры отныне резко расходятся. Что это означает? Архитектура есть искусство неподвижных, не имеющих своего органического движения масс. Следовательно, она не может, как скульптура или живопись, непосредственно изображать ни физического движения, ни психического переживания. Она способна только давать нам представление о тех силах, которые дремлют в сыром материале, которые объединяют отдельные ее элементы. Весь вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в эти силы. Эти силы могут означать то, что они есть на самом деле, то есть тектонические функции: они несут, сопротивляются, давят, отделяют и т. д. Так понимает свою задачу тектоническая архитектура, такой характер носила архитектура античности, средних веков и Ренессанса. Но мы можем истолковывать эти силы и иначе, мы можем вкладывать в них духовное содержание, «вчувствовать» в них нашу волю, наши переживания. В таком случае архитектура не только функционирует, но и выражает. Вот этой выразительной архитектуре Микеланджело и открыл путь своей Лауренцианой.
Присмотримся внимательней к особенностям вестибюля. Прежде всего обращает на себя внимание расчленение стены. Не будет преувеличением сказать, что с точки зрения тектонической архитектуры оно кажется почти пародией, почти издевательством. Возьмем, например, колонны. Их назначение издавна было нести опору, поддерживать, Микеланджело их удваивает — значит, им предстоит исполнить особенно тяжелую работу. На самом же деле они не только ничего не несут, но запрятаны в ящики стены и опираются не на пол, а на легкие, витающие в воздухе консоли. Дальше, назначение карнизов — отделять этажи и завершать стену: здесь они разбиты, расщеплены на мелкие куски выступами стены. Наконец, окна призваны служить отверстиями, здесь они закрыты. Или, может быть, это ниши: но в них нет ни статуй, ни рельефов. Что же означают в таком случае эти вырванные из своей стихии элементы? Они означают борьбу, жизнь; стена превратилась в живое существо, борющееся с окружающим ее пространством. В этой борьбе идет речь не о тектонических функциях, но о духовных энергиях: стена выскакивает вперед, отступает, крошится, выбрасывает излишки своей энергии как живое существо, страдающее под напором каких-то стихийных сил. Еще сильней мы почувствуем эту динамику архитектурной энергии, если обратимся к самой лестнице, для которой вестибюль служит только ареной деятельности. В свое время Буркгардт, горячий поклонник классического Ренессанса, высказался об этой лестнице очень сурово, говоря, что она годится только для желающих сломать себе шею. Напротив, Вазари восторгался ее текучестью, плавностью. Все зависит от того, какие к ней предъявлять требования. С точки зрения старой тектоники лестница почти нелепа. По краям, где в этом есть необходимость, перил нет; зато они поставлены в середине лестницы, но чересчур низкие. Ступени резко закругляются и оставляют по бокам ненужные отрезки. Но если подойти к этой лестнице с требованиями выражения, то она поразит грандиозностью своего замысла. Это первая динамическая лестница, которая сама сбегает вниз. Архитектура и здесь насыщена движением, в инертную массу влилась жизнь. Лестница низвергается из дверей библиотеки, как поток, она разбивается на русла, все стремительнее растекаясь и сбегая вниз. Этот диссонанс в конечном счете все же разрешается: вестибюль связан с залом — после беспокойной лестницы широкий зал со стройными пилястрами и далекой перспективой внушает чувства свободы, покоя, торжественности.
С 1534 года начинается последний, римский период творчества Микеланджело.
У многих великих мастеров этот предсмертный период, этот старческий стиль не только не обнаруживает никакого упадка сил, никакого одряхления, но, напротив, поднимает их искусство до недосягаемых высот творческого прозрения. Таков старый Рембрандт, написавший незадолго до смерти свои самые глубокие, освещенные внутренним светом картины — «Блудный сын» и так называемую «Еврейскую невесту». Таков почти девяностолетний Тициан; его живопись, такая пышная и чувственная, делается к этому времени почти бестелесной и одухотворенной. Таков же и почти ослепший, глухой старик Гойя: страшные гримасы его юности, мрачный пессимизм его зрелых лет уступили место восторженным, красочным песнопениям, предвещающим воздушную живопись импрессионистов. Но никогда этот старческий стиль не достигал такой чистоты и строгости, такой глубокой человечности, как в искусстве Микеланджело.
Переходом к этому последнему стилю Микеланджело, к его ultima maniera, как говорили тогда в Италии, служит фреска «Страшного суда» на алтарной стене Сикстинской капеллы. Судьба творчества Микеланджело неразрывно связана с папскими заказами. После Юлия И, Льва X и Климента VII теперь была очередь за папой Павлом III связать Микеланджело каким-нибудь новым грандиозным заказом. Едва вступив на престол, он послал за Микеланджело и предложил ему заказ на роспись алтарной стены Сикстинской капеллы. Художник отговаривался, ссылаясь на работу над гробницей Юлия II. Папа настаивал, замечая: «Уже тридцать лет имею я такое желание, неужели же, став папою, его не исполню?»[30]. Гробница была отстранена. Особым декретом папа назначил Микеланджело главным архитектором, скульптором и живописцем Апостолического двора с очень большим окладом, определил ему пожизненную ренту в тысячу двести дукатов и освободил его от всех обязательств по отношению к наследникам делла Ровере и Медичи. Для того чтобы очистить место для «Страшного суда», пришлось уничтожить фреску Перуджино, ранее украшавшую алтарную стену капеллы. Как и во время росписи потолка, Микеланджело отклонил участие помощников и всю громадную работу исполнил исключительно собственными силами.
Осенью 1541 года фреска была открыта. Она вызвала одновременно и бурю восторгов и сильные нападки, главным образом со стороны церковных кругов. Ревнителей католической веры возмущало прежде всего обилие наготы в священном изображении — все святые представлены были у Микеланджело обнаженными. Но резкий отпор вызвала и общая почти языческая идея фрески, в которой Христос был изображен не милосердным судией, но гневным мстителем. Особенно резкую полемику против «Страшного суда» поднял Пьетро Аретино, сатирик и пасквилянт, острого и блестящего пера которого боялись властители всей тогдашней Европы. Сам — воплощенное отсутствие совести и безбожник, он яростно нападал на Микеланджело за якобы его склонность к протестантизму. Его усилия не пропали даром. Правда, Павлу III удалось защитить своего любимца. Но когда на папский престол взошел Павел IV Караффа, ревностный деятель контрреформации и основатель инквизиционных трибуналов в Италии, нападки начались снова. Сначала папа хотел просто уничтожить фреску; потом несколько смягчился и потребовал, чтобы наиболее вызывающие места Микеланджело записал одеждами. Микеланджело наотрез отказался: «Скажите папе, что это — дело маленькое и уладить его легко, пусть он мир приведет в пристойный вид, а картины привести в него можно очень быстро». В конце концов один из учеников Микеланджело — Даниеле да Вольтерра согласился «одеть» святых «Страшного суда», что ему и удалось сделать с большим тактом.
Во фреске «Страшного суда» буйный темперамент Микеланджело в последний раз развернулся с небывалой силой. Своими огромными размерами, полным отсутствием рамы и бешеным вихрем движения картина подавляет все стены капеллы и ослабляет эффект потолочной росписи. Композиция построена в виде огромной дуги, вращающейся вокруг своей оси, вершину которой занимает фигура Христа. Слева взлетают кверху группы воскресших праведников; справа низвергаются в бездну грешники, которых поджидает черная лодка Харона. В двух люнетах наверху, составляющих переход к плафону, — группы ангелов с символами мучений — крестом и колонной. Возле Христа — маленькая богоматерь, единственная одетая фигура всей фрески. Рядом с ней мощная, гордая фигура Христа, больше похожего на разгневанного Аполлона, кажется еще огромней, а его жест проклятия, которым он посылает грешников на муки, благодаря отступающему в глубину профилю мадонны, приобретает поистине фатальную силу. Налево — группа патриархов во главе с Адамом, направо — апостолы во главе с Петром; и дальше — несметные полчища сивилл, пророков и мучеников, надвигающихся со всех сторон с орудиями своих пыток.
В истолковании своей темы Микеланджело далеко отошел от теологических преданий. Его вдохновителем был Данте — недаром Микеланджело считался в свое время лучшим знатоком «Божественной комедии». Микеланджело заимствовал у Данте и целый ряд отдельных сцен, как, например, Харона и Миноса, любовную пару Паоло и Франчески, образ Беатриче и общую схему построения. Но эта близость к идеям Данте не исчерпывает главного содержания сикстинской фрески. Микеланджело сумел наполнить этот клубок тел не поддающейся описанию страстностью, кипением чувств и превратить свою собственную жажду обличения и отмщения в извергающуюся, словно из вулкана, лавину гнева божия. Его тема — это тема возмездия, наказания. Он яростно обличает и казнит пороки современного общества — измену, клевету, разврат. Присмотритесь к святым и мученикам. Разве похожи они на посредников всепрощения? Они кипят ненавистью и жаждой отмщения; дрожа от возбуждения, затаив дыхание, они ждут рокового вердикта владыки. Здесь нет места благостному милосердию. Это вихрь взорвавшихся страстей.
Таким образом, рационалистическому идеалу Ренессанса, его гармонии и объективным нормам Микеланджело противополагает искусство страстных чувств и субъективных переживаний. Новое художественное мировоззрение Микеланджело сказалось не только в характеристике героев, в духовном выражении композиции, но привело и к совершенно новым формальным приемам. Где происходит действие «Страшного суда»? Живописцы Ренессанса (типичным примером могут служить фрески Рафаэля в Ватиканских станцах) всегда стремились точно определить время действия, систематически измерить пространство и построить прочную плоскость почвы. Рассматривая «Афинскую школу» Рафаэля можно, кажется, с точностью указать, на каком расстоянии от плоскости картины находится та или иная фигура. У Микеланджело, напротив, действие происходит вне времени и пространства, в каких-то бездонных, бесконечных сферах. Кроме узкой полоски земли и клубящихся облаков художник не дает нам никаких указаний на арену действия. Это впечатление иррационального, не поддающегося объективной оценке события еще усиливается произвольностью пропорций. Микеланджело не соблюдает перспективной относительности масштабов: фигуры уменьшаются и увеличиваются совершенно независимо от их положения в пространстве, от их расстояния к передней плоскости. Для зрителя, находящегося внизу, создается впечатление какой-то сферической фигуры, нечто вроде гигантского шара: ближайшими его точками к зрителю являются фигуры Христа, Адама и Петра, а затем идет удаление его сферической поверхности в сторону ангелов с трубами и ангелов с колонной и крестом. И этот выпуклый шар тел уничтожает ощущение плоскости картины. Такое сознание пространства, такое построение мира было совершенно невиданным в истории европейского искусства! Обобщая его в краткой формулировке, можно сказать, что планиметрическому миру Ренессанса Микеланджело противопоставил мир сферический, прямой плоскости — конкавную поверхность. Это открытие Микеланджело произвело захватывающее впечатление на современных ему молодых художников.
Композиция «Страшного суда» была действительно последней вспышкой буйного темперамента мастера. Ведь ему было уже шестьдесят шесть лет, когда он закончил этот исполинский труд. Теперь наступает не то резиньяция, успокоение бурного темперамента, не то внутреннее опустошение. Незнакомые нам до сих пор у Микеланджело черты мягкой человечности и просветленной тишины все отчетливей проступают в его облике, его письмах, его произведениях. Он испытывает все большее одиночество, стремится уйти от реальности в сторону отвлеченных идей и аскетизма. Его религиозные искания окрашиваются в мистические тона, а в мироощущении усиливается трагичность. Живопись и скульптура уже не в состоянии удовлетворить его — поэтому Микеланджело обращается главным образом к поэзии и архитектуре.
Огромное влияние на этот перелом в душе Микеланджело оказала неожиданно пришедшая к нему, одинокому, светлая, нежная дружба женщины — поэтессы Виттории Колонна, вдовы знаменитого полководца, победителя при Павии. Виттория Колонна, по матери своей принадлежавшая к знаменитому роду урбинских герцогов Монтефельтре, семнадцатилетней девушкой вышла замуж за маркиза Ферранте ди Пескара. Она не была красива и не была создана для того, чтобы быть любимой блестящим и чувственным маркизом. Тем не менее она любила маркиза и жестоко страдала от неверности мужа, который ее обманывал в собственном ее доме. Когда маркиз умер, она вела затворническую жизнь, переписывалась с великими писателями Италии — с Кастильоне, который ей отдал для ознакомления рукопись своего «Cortegiano», с Ариосто, воспевшим ее в «OrIando». Ее сонеты стали известны по всей Италии, она завоевала себе ими исключительную славу среди женщин своей эпохи. Общалась она преимущественно с людьми, которые хотели оздоровить римскую церковь, не выходя из ее лона (основатели коллегии по исправлению церкви), — Гаспаро Контарини, Садолетом, знаменитым проповедником Оккино. Многие из них погибли на костре, другие бежали. Виттория Колонна находилась под наблюдением инквизиции. С Микеланджело она познакомилась в 1536 году, в те дни, когда всецело была захвачена свободным мистицизмом Вальдеса и Оккино. Этой женщине, постоянно терзаемой своими горестями, нужен был человек еще слабее и несчастнее ее, на которого она могла бы изливать свою любовь, наполнявшую ее сердце. Таким человеком оказался Микеланджело. Виттории Колонна было сорок шесть лет, Микеланджело шестьдесят один год, когда их знакомство перешло в тесную дружбу. Они встречались каждый день, вместе читали, посвящали друг другу сонеты и вели нескончаемые беседы о религии, поэзии, искусстве. Португальский художник Франсиско де Ольянда сохранил для потомства воспоминание об этих беседах в своих четырех «Диалогах о живописи». Микеланджело выполнил для Виттории Колонна рисунки на темы «Распятия» в необычной для него манере (мягкий итальянский карандаш, характер туманного облака, общий дух возвышенности и покорности).
После смерти Виттории Колонна в 1547 году Микеланджело испытывает чувство полного одиночества. Он пишет племяннику: «Я всегда один, и я ни с кем не разговариваю».
Главное внимание Микеланджело направлено теперь на архитектурные работы. После фрески «Страшный суд» появились у него только единичные произведения в области живописи и скульптуры. Прощание Микеланджело с живописью произошло в капелле Паолина в Ватикане, где престарелый мастер работал с 1542 по 1550 год. Для этой капеллы Микеланджело написал две большие фрески: «Обращение Павла» и «Распятие апостола Петра на кресте». Обе картины принадлежат к самым глубоким созданиям мастера. С формальной стороны они построены так же, как «Страшный суд», — в бездонном пространстве, почти без указаний на арену действия, в совершенно своевольных пропорциях. Подобно «Страшному суду», тяжелые массы нагромождены рядом с зияющими пустотами. Пространство не столько развертывается в глубину, сколько неудержимо скатывается, падает сверху вниз. Диссонанс подчеркнут резкой диагональной линией композиции. В «Обращении Павла» — это быстрое как молния движение лошади навстречу падающему с неба Христу, разрезывающее картину на две неравные части. Христос появляется как раз над головой Павла и поражает его лучом. Невозможно более проникновенным образом написать обращение Павла. Микеланджело очень хорошо знал, что он делал, когда писал Христа над Павлом, за его спиной, так что тот не мог Христа видеть. Когда Павел поднимает голову и прислушивается, то мы действительно видим перед собой ослепленного человека, которому слышится голос с неба. В «Распятии Петра» диагональ креста идет в обратном направлении и также режет картину пронизывающим диссонансом. Эта вторая картина, если можно так сказать, еще одухотворенней. Она лишена какого бы то ни было действия — все застыло в мертвой гримасе скорби; слева фигуры воинов, как будто не смеющие переступить роковой черты, справа в нижнем углу — четыре женщины, сжавшиеся в раздирающий душу комочек горести. Невозможно забыть головы апостола, с укором обернувшегося к зрителям, и фигуры юноши в центре картины, словно говорящего: «Что вы наделали?» Между этими двумя фресками и стилем Ренессанса уже мало общего. Искусство Ренессанса стремилось к объективной правдоподобности, объясняя действие единством места и времени. Микеланджело ставит рядом совершенно разрозненные во времени и пространстве моменты. На место внешней правды он выдвигает внутреннюю правду, правду своего субъективного переживания.
Великим торжеством этой внутренней правды является одна из последних скульптурных работ Микеланджело — «Положение во гроб», начатое в 1550 году. В эти годы Микеланджело жил на форуме Траяна, где у него был свой домик с небольшим садом. Комната его была мрачна как могила; пауки раскидывали в ней тысячу сетей. Работал Микеланджело почти исключительно по ночам. Он смастерил себе каску из картона и носил ее на голове с зажженной свечой, которая, не занимая рук, таким образом освещала его работу. По мере того как он старел, он все больше уходил в одиночество: ночная работа в безмолвии старого Рима стала для него необходимостью. «Тишина была для него благодеянием и ночь подругой». Тишиной веет и от последней скульптуры Микеланджело.
Микеланджело не закончил «Положение во гроб». Когда работа продвинулась до теперешнего состояния группы, неожиданно обнаружились незаметные до тех пор дефекты камня. Тогда несколькими ударами молотка Микеланджело разбил всю группу. Его ученик Тиберио Кальканьи соединил осколки снова и чуть заретушировал. В этом виде группа и хранится в одной из капелл флорентийского собора. Никодим тихо опускает в могилу тело Христа, которое с одной стороны поддерживает богоматерь, с другой — Мария Магдалина. В лице Никодима не трудно узнать черты самого Микеланджело, как будто вместе с телом Христа он провожает в могилу все чаяния своей жизни. Неописуем по выразительности беспощадный зигзаг правой ноги Христа. Некоторые ученые предполагали здесь промах, который и привел к разрушению группы — для левой ноги как будто бы нет места. Я думаю, что это сознательное умолчание. Душераздирающей беспомощности тела Христа Микеланджело достиг именно этим красноречивым монологом одной правой ноги. Наряду с умолчанием в группе «Положение во гроб» есть и еще один прием последнего стиля Микеланджело — своеволие пропорций. Подобно «Страшному суду», пропорции растут снизу вверх и с краев к середине. Фигуры богоматери и в особенности Магдалины неестественно малы, напротив, голова и плечи Никодима непомерно возрастают. Благодаря этой нереальности масштабов вся группа совершенно отрывается от окружающего ее действительного пространства и вступает в нездешний мир чисто духовных отношений. Медленное опускание, погружение всех форм вниз, мы воспринимаем не как физическую тяжесть, а как давление неутешной скорби.
После «Положения во гроб» и за исключением начерно начатой и оставшейся в самой первоначальной стадии переработки «Пьета» Ронданини Микеланджело более к скульптуре не возвращался[31].
В 1546 году папа Павел III назначил Микеланджело главным архитектором собора святого Петра, то есть поставил его во главе колоссальной стройки. Это была ответственная и тяжелая должность. Тем не менее Микеланджело принял это назначение, так как видел в нем свой долг, божественную миссию, и сохранил его до самой своей смерти. Постройка собора святого Петра завершает творческий путь Микеланджело.
До середины XV века на месте будущего собора стояла старая базилика святого Петра — одна из первых построек древнехристианской архитектуры. Первый папа-гуманист, Николай V, нашел эту старую церковь несовместимой с достоинством папского престола и потребовал ее снесения. На месте старой базилики архитектору Бернардо Росселлино было поручено начать постройку новой, более грандиозной базилики. Но Росселлино успел построить только алтарную часть. Когда папский престол занял Юлий II, идея базилики не соответствовала вкусам классического Ренессанса, и вот по приказанию папы Браманте, самый выдающийся архитектор классического Возрождения, составляет проект грандиозного собора центрического плана.
* * *
Здесь необходимо сделать некоторое отступление для характеристики Браманте и классического стиля в итальянской архитектуре. Из нашего анализа искусства Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело можно видеть, что классический стиль в развитии этих мастеров занимает относительно небольшой промежуток времени. Если в эволюции итальянской живописи и скульптуры длительность классического стиля очень невелика, то в архитектуре она вообще почти неуловима. Можно назвать наперечет несколько зданий, которые выполнены в чистом стиле Высокого Ренессанса за период от 1500 до 1510 года. Все эти немногочисленные здания выстроены в Риме и его окрестностях, и автором их проектов является, в сущности, один только мастер — Браманте. Таким образом, смело можно утверждать, что чистый классический стиль в итальянской архитектуре представляет собой дело рук только одного мастера и что он ограничен пределами одной римской школы. При этом необходимо подчеркнуть, что сам Браманте пришел к идеальной концепции Высокого Ренессанса только на склоне своих лет, когда ему было уже за пятьдесят.
Донато Браманте родился в Урбино в 1444 году и воспитался на строгих архитектурных традициях Лучано Лаураны и Леоне Баттиста Альберти. Впрочем, в первый период своей самостоятельной деятельности Браманте выступает исключительно как живописец. В качестве живописца же он получает приглашение в Милан, ко двору Лодовико иль Моро. И только в 1479 году Браманте впервые вступает на архитектурное поприще, начав постройку церкви Сан Сатиро. Маленькая сакристия — настоящий архитектурный перл, однако еще очень далека от принципов чистого классического стиля. Флорентийские и античные элементы смешиваются здесь с североитальянской романикой и готикой. Сакристия Сан Сатиро — это здание центрического плана. Оно представляет собой восьмиугольное, двухэтажное пространство, крытое восьмигранным же куполом. Нижний этаж расчленен пилястрами, между которыми стены вперемежку разбиты полукруглыми и плоскими нишами. Во втором этаже пилястры продолжены, но нишам соответствует в каждом пролете по две арки. Таким образом, ритмы нижнего и верхнего этажа не совпадают — на середину ниши во втором этаже приходится столб. Другими словами, если в нижнем этаже мы видим характерный для Ренессанса трехосный ритм, то в верхнем этаже он перебивается двухосным готическим ритмом. Известной готичности впечатления от сакристии способствует также очень большая высота пространства сакристии по сравнению с чрезвычайно узким ее основанием (всего семь метров в диаметре). Наконец, совершенно антиклассическим элементом в концепции Браманте является пестрая красочность пластических украшений, выполненных по ломбардскому обычаю из разных материалов — бронзы, мрамора и терракоты. Тот же декоративнодинамический стиль господствует и в других миланских постройках Браманте, например в церкви Санта Мария делле Грацие, в рефектории которой Леонардо написал свою «Тайную вечерю».
Крушение тирании Лодовико Моро заставило и Браманте, как Леонардо да Винчи, покинуть Милан, и в 1499 году Браманте прибывает в Рим. Только здесь, на римской почве, архитектурный стиль Браманте приобрел абсолютную классическую чистоту, которую можно было бы поставить в параллель стилю Рафаэля из эпохи росписи станц. Мечтой всех итальянских архитекторов, начиная с Брунеллески, было сакральное здание центрического плана. Но только Браманте удалось идеальное осуществление этой мечты. В 1500 году Браманте получил заказ на строительстве свободно стоящей капеллы при церкви Сан Пьетро ин Монторио. Через два года маленький храмик, так называемый Темпьетто, был готов. Внутри Темпьетто имеет форму цилиндра, расчлененного пилястрами и полукруглыми нишами и крытого полукруглым куполом. Снаружи Темпьетто обведен периптером с шестнадцатью колоннами, увенчанными балюстрадой, и поставлен на возвышение нескольких ступеней. Таким образом, в плане Темпьетто представляет собой ряд концентрических кругов. Первоначальный проект Браманте предусматривал перенесение этой идеи концентрических колец и на окружение Темпьетто. Здание должно было быть окружено круглым двориком, который замыкался круглой же галереей на шестнадцати колоннах. Но этот проект не удалось осуществить, и теперь Темпьетто стоит очень невыгодно, сжатый на небольшом четырехугольном дворе высокими стенами. Трудно представить себе что-либо более замкнутое в себе, изолированное от окружающего мира, чем этот маленький круглый храмик, подобный гордой, независимой личности. Темпьетто является действительно совершенным разрешением проблемы центрического здания в том смысле, как его мыслили себе архитекторы Ренессанса: некая идеальная центральная точка, вокруг которой, как скорлупа вокруг ядра, нанизываются тектонические кольца в абсолютном равновесии своих пропорций. Не удивительно, что Темпьетто вызвал настоящий взрыв восторга у современников и что папа немедленно поручил Браманте разработку проекта собора святого Петра.
Однако если вдуматься в концепцию Браманте, то следует прийти к выводу, что, подобно станцам Рафаэля или «Битве при Ангиари» Леонардо, она не создает новых методов формопонимания, но, напротив, заводит архитектурные представления в какой-то своеобразный тупик. Прежде всего потому, что в основе концепции Браманте лежит чисто абстрактная, геометрическая схема. Браманте мыслит не пространствами и объемами, а линейной проекцией. Основу его архитектурных представлений составляет графическая проекция. План для него есть самоцель, геометрический орнамент, ценный уже в силу своих абстрактных, линейных отношений. В результате такой концепции Темпьетто Браманте оказывается в гораздо большей степени произведением пластики, чем архитектуры. Мы имеем здесь дело с идеально пропорционированным телом, вытесняющим пространство, подобно статуе. Вся активность сосредоточена именно в этой пластической массе, тогда как пространство является только пассивной пустотой, в которой тело развивает свою энергию. В этом именно смысле и можно назвать Темпьетто Браманте безвыходным тупиком, завершением. Раз было найдено идеальное равновесие, абсолютная статика центрического здания, дальше идти уже было некуда. Можно лишь варьировать на разные лады основную геометрическую схему. Так поступал сам Браманте и его последователи, например Кола ди Капрарола в маленькой церкви Санта Мария ди Консолационе в городе Тоди. В плане — греческий крест, увенчанный куполом и завершенный со всех четырех сторон полукруглыми экседрами, — столь же абстрактное воплощение идеи центрического здания, как и Темпьетто Браманте. Другой выход заключался в раздроблении того самого единства, которое только что было создано, в уничтожении абсолютного равновесия, в отказе от чистой идеи центрического здания. По этому пути пошла архитектура так называемого маньеризма.
Браманте уже не имел сил выйти из того заколдованного круга, который он сам себе начертил в плане Темпьетто. Его проект собора святого Петра есть не что иное, как перенесение той же самой геометрической, орнаментальной схемы в гигантский масштаб. В 1506 году был торжественно заложен первый камень в фундаменте собора. Смерть помешала Браманте довести до конца задуманную им постройку; он успел поставить только четыре массивных столба, поддерживающих купол, и определил таким образом диаметр купола и высоту перекрестных сводов. Едва Браманте умер, как снова возник вопрос, не отдать ли предпочтение традиционной продольной базилике. На протяжении короткого времени в должности папского архитектора поочередно сменялись Рафаэль, Антонио да Сангалло и Перуцци. И все они должны были приспособлять начатую Браманте постройку к идее продольной базилики. Затем почти на пятнадцать лет в постройке собора наступило затишье, вызванное политическими распрями и последствиями Sacco di Roma, пока, наконец, руководство работами не перешло в руки Микеланджело. Жгучий вопрос о том, быть ли базилике или центрическому зданию, Микеланджело категорически решил в пользу второго — только такой храм казался ему достойным Рима — и тотчас же приступил к возведению купола. По плану Микеланджело купол был закончен Джакомо делла Порта уже в 1593 году. Позднее архитекторы барокко опять вернулись к базилике: Мадерна дополнил купольное пространство Микеланджело длинной пристройкой спереди, а Бернини еще усилил эту продольную тенденцию своей знаменитой колоннадой.
Микеланджело и в архитектуре проявил себя как скульптор: он не только строит, но и лепит ее формы. Несмотря на связь с античностью, на традиции ренессансной гармонии, человечность замысла, Микеланджело именно в архитектуре дальше всего продвигается к барокко. Он борется, в сущности, против академизма, против культа Витрувия, классицистических правил — за субъективность концепции, ансамбль, идею целого при субординации частей. Так у него складываются и отдельные новые элементы архитектуры: «колоссальный ордер», удлинение опор, слепые окна, сужение опор окон, «разломленные» и сегментарные фронтоны.
Сопоставление планов собора святого Петра у Браманте и у Микеланджело показывает принципиальное их отличие. Какие же изменения внес Микеланджело в проект своего предшественника? Для Браманте главным было геометрическое благополучие плана. План Браманте представляет собой греческий крест, вписанный в квадрат, с куполом, венчающим средокрестие, и с четырьмя полукруглыми апсидами; в углах квадрата эта большая система повторяется четыре раза в уменьшенном размере — четыре маленьких купола, окруженных апсидами. На первый взгляд может показаться, что Микеланджело не произвел никаких коренных изменений в этом плане: тот же греческий крест, тот же большой купол с четырьмя маленькими. И однако же поправки, внесенные Микеланджело, коренным образом меняют саму сущность архитектурной концепции: Ренессанс неуловимо переходит в барокко. Фактически Микеланджело только увеличил массивность центральных столбов и наружных стен и отсек все придаточные, второстепенные части. По существу же, произошло то, что множество мелких пространств у Браманте сменилось одним гигантским пространством у Микеланджело, то есть изменилось художественное воздействие целого. У Браманте главный купол был только самой большой из равноценных частей (координация). У Микеланджело он сделался единственной, самодовлеющей ценностью, господствовавшей над целым (субординация). Здесь-то и заложено главное принципиальное различие между архитектурой Ренессанса и барокко. Композиция архитектурного пространства в эпоху Ренессанса состоит из соединения отдельных частей или звеньев в некоторое гармоническое целое. Причем каждое звено этого целого совершенно самостоятельно и законченно. Такой принцип архитектурного творчества можно назвать принципом additio — сложения частей. В противоположность ему принцип архитектуры барокко хотелось бы назвать принципом divisio — деления на части. Архитектор барокко берет сначала некоторое общее пространство, которое уже потом, с помощью внутренних делений, дробится на составные части; причем эти части или звенья никогда не имеют законченного, самостоятельного характера, а неуловимо сливаются и переплетаются между собой. Достаточно самого беглого взгляда на планы Браманте и Микеланджело, чтобы в этом убедиться. Браманте начинал со столбов, с помощью которых составлял правильные геометрические фигуры квадратов, кругов и восьмиугольников. У Микеланджело столбы производят такое впечатление, как будто они post factum вставлены в уже готовое пространство наружных стен.
Столь же резкий контраст обнаруживается и в наружном облике собора, как он был задуман Браманте и как выполнен Микеланджело. В проекте Браманте огромный массив собора состоит из множества мелких равноценных частей, из отдельных этажей и портиков. Купол хотя и велик, но не настолько, чтобы господствовать над всем зданием, и угловые башни устанавливают полное равновесие частей. Вместе с тем купол у Браманте — плоский, в духе античных куполов (например, Пантеона); вследствие чего собор лишен устремления кверху, и во всем здании сильно преобладают горизонтальные направления. Иное впечатление производит купол Микеланджело. У Микеланджело совершенно исчезло впечатление множественности частей, многоэтажности здания; у Микеланджело собор кажется одной сплошной массой, непрерывно устремляющейся к своей главной цели — недосягаемому по красоте куполу. Для достижения этой цели Микеланджело применяет так называемый большой ордер — то есть высокие пилястры, которые насквозь проходят несколько рядов окон и этим сохраняют единство стены. В тамбуре купола Микеланджело повторяет свой излюбленный прием — удвоенные колонны, движение которых продолжается в ребрах купола и создает незабываемо-прекрасное устремление всех линий кверху. Вот именно это устремление вверх и отличает коренным образом замысел Микеланджело от Браманте. Собор Браманте похож на прекрасное, гармонически согласованное тело. В соборе Микеланджело архитектоническая масса как бы дематериализуется, пронизывается духовными энергиями, которые свободно и легко несут купол, как бы сбрасывая с себя земную тяжесть. Микеланджело одухотворяет материализм Ренессанса и тем самым отчасти возвращается к принципам готического собора. Между барокко и готикой больше духовного родства, чем между барокко и Ренессансом.
Самый прекрасный купол в мире, воздвигнутый Микеланджело, был впоследствии подвергнут анализу и измерен во всех своих подробностях. Измерения показали, например, что пропорции барабана (тамбура) и купола равны, в то время как нам купол кажется выше; масса барабана как бы при зелена, а гурты купола увлекают взгляд вверх. Это оптическое впечатление достигнуто суммой уже указанных архитектурных элементов. Один французский математик измерил изгиб купола и нашел, что форма его, согласно законам равновесия, дает наибольшую устойчивость всему построению. Так Микеланджело гениальным творческим инстинктом разрешил задачу, которая в его эпоху еще не поддавалась математическому истолкованию, достигнув совершенной гармонии между пластикой и техникой.
Почти одновременно с работами над собором святого Петра Микеланджело получает еще одно чрезвычайно важное поручение — проект застройки Капитолийского холма, своего рода римского Акрополя. И снова с гениальным прозрением он открывает новые перспективы архитектурного творчества, на этот раз в области целого ансамбля зданий, раскрывая новые отношения здания и площади. Микеланджело начинает с того, что обнаруживает заброшенную в средние века статую римского императора Марка Аврелия и ставит ее в центре площади. Затем он приступает к перестройке палаццо Сенаторов, господствующего над площадью, и разрабатывает новый фасад с двойной лестницей. Наконец, по бокам площади он планирует палаццо Консерваторов (направо), выстроенное в основном еще при жизни мастера, и Капитолийский музей, который в XVII веке был закончен архитектором Райнальди. Таковы главные составные части этой композиции. Они создают вместе ансамбль, совершенно необычайный по широте и единству замысла. В чем же новизна и смелость этого замысла? Во-первых, Ренессанс рассматривал каждое здание в отдельности, мало заботясь о ближайшем соседстве. Микеланджело задумывает площадь как нечто целое, как непрерывное движение, в котором все элементы — лестницы, статуя, боковые фасады — неудержимо ведут к главной цели, господствующему над городом и площадью дворцу Сенаторов. Обратите внимание на чрезвычайно тонкий прием. Оси боковых палаццо несколько расходятся в стороны. Находящийся на площади зритель этого не чувствует и воспринимает площадь как правильный прямоугольник — благодаря этому размеры площади «увеличиваются», и она кажется больше и свободней, чем на самом деле. В этом можно убедиться, если взглянуть на перспективный вид площади. Во-вторых, площадь Ренессанса замкнута, закрыта со всех сторон, изолирована от всего окружающего. Микеланджело раскрывает углы площади, а одну ее сторону оставляет совершенно свободной, с широким видом на город. Благодаря этому площадь наполняется движением воздуха, сливается с окружающим пространством, делается живой частью всего городского пейзажа. Вот это слияние архитектуры с пейзажем, незнакомое архитекторам Возрождения, и составляет главное завоевание Микеланджело, блестяще развитое стилем барокко — в изумительных террасах генуэзских дворцов, в Версальском парке.
Необходимо сказать еще несколько слов о постановке статуи Марка Аврелия. Микеланджело и здесь делает первый, смелый опыт. Монументы Ренессанса словно боятся свободного пространства. Они не теряют связи с архитектурой и если не прислоняются к зданию в буквальном смысле слова, не стоят в его нишах и пролетах, то во всяком случае «не смеют» слишком отдалиться от его стен. Микеланджело отрывает монумент от архитектуры и впервые ставит его в самой середине площади. Но недостаточно поставить статую в математическом центре площади, надо ее там укрепить, надо ее сделать действительным властелином пространства. Микеланджело достигает этого тонко обдуманной композицией. Концентрические узоры разноцветных плит травертина, овальное кольцо ступеней, наконец, постепенное повышение уровня площади к подножию статуи — все это превращает Марка Аврелия в духовный центр архитектурного ансамбля. Когда турист входит на площадь по все расширяющимся ступеням лестницы, он видит статую Марка Аврелия на один момент в раме фасада; но уже в следующее мгновение статуя вырастает выше фасада и парит над площадью как символ императорского величия. В подобных эффектах звучит уже патетическая, торжественная речь стиля барокко. Таким образом, нет, кажется, ни одной области искусства, в которой Микеланджело не предвидел бы приближения нового стиля.
И все же мы не считаем Микеланджело представителем стиля барокко, понимая, как крепко он был связан в своем мировоззрении, в своих идеалах с эпохой Ренессанса. Разумеется, он не мог до конца жизни оставаться в рамках стиля Высокого Возрождения: это было бы противоестественно и фальшиво и для художника меньшего масштаба. Не забудем, что Микеланджело, умерший в феврале 1564 года, пережил Рафаэля на сорок четыре, а Леонардо — на сорок пять лет; так что крупнейшие представители Высокого Ренессанса скончались почти на полвека раньше него. За этот период, как мы видели, очень многое изменилось в судьбах Италии, давно закончилась эпоха Возрождения, и наступил подлинный кризис ренессансного гуманизма. Микеланджело на протяжении всей творческой жизни брался за труднейшие художественные задачи и создавал грандиозные концепции: «Основы мироздания» на Сикстинском плафоне, проникновенный реквием свободной Италии в капелле Медичи, гигантское обличение и возмездие «Страшного суда». При этом от высокой гармонии и подлинно ренессансного оптимизма он шел к диссонансу, к нарастающему трагизму мировосприятия. Это было неизбежно именно потому, что верность гуманистическим идеалам Возрождения, героический дух и свободолюбие Микеланджело вступали в неразрешимое противоречие с действительностью нового исторического периода. Творчество Микеланджело становилось все трагичнее и одухотвореннее, причем монументальные замыслы (собор святого Петра, «Страшный суд», ансамбль Капитолия) соединялись с более отвлеченными и обобщенными образами (поздние фрески, «Положение во гроб» и др.). Оставаясь на почве идей Ренессанса, Микеланджело разрушал его гармонию в своем стиле, заглядывал далеко в будущее. В этом — сила его гения и великая жизненность его искусства, которое развивалось вне отвлеченных норм и намного опережало их.
XXVI
ОСОБАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ страница Высокого Ренессанса вписана в историю искусства Венецией, где этот период продолжался всего позднее — до тридцатых-сороковых годов XVI века. Венецианская живопись Высокого Возрождения выражает собой восхищение жизнью, почти священный восторг от наслаждений и радостей, которые доставляют человеку его чувства, развитые и обостренные до последней степени. Не человеческая личность, не фигуры привлекают главное внимание живописца, а совокупность человека и природы. При этом для изображения характерны мягкость, слитность, особое восприятие воздушной среды — «освещенный воздух».
В Венеции развиваются два главных направления, которые отчасти идут параллельно, отчасти следуют друг за другом. Романтически-лирическое направление со склонностью к поэтизации жизни (и уходу от нее) представлено Джорджоне. Искусство чувственной красоты — так сказать, официальное направление венецианского чинквеченто — воплощено прежде всего Тицианом. Их объединяет колоризм, как общая тенденция венецианской живописи. Господствующие в Венеции художественные направления представляют полную противоположность концепции Микеланджело, который утверждал: «Я того мнения, что живопись, как мне кажется, считается лучше тогда, когда она больше склоняется к рельефу, и что рельеф считается лучше, когда он больше склоняется к живописи. И потому мне всегда кажется, что скульптура — светоч живописи и что между ними та же разница, что между солнцем и луной»[32]. В Венеции Высокого Возрождения, напротив, установилась полная автономия, полная самостоятельность живописи, основанной на цвете и тоне.
Джорджоне — несомненно одна из самых таинственных и самых притягательных личностей итальянского искусства. Есть художники, о которых мы в общем знаем много и которые тем не менее далеки от нас, мы не представляем их непосредственно. И есть художники, о которых мы почти ничего не знаем, но они непосредственно, полностью перед нами, они всецело выразили себя — в каждой картине таится частица их одухотворенности; процесс восприятия их произведений — как бы разговор с самим художником. К ним относится Джорджоне. И еще одно сопоставление: у Микеланджело в центре — гражданские чувства, мысли о родине, республиканские идеи; у Леонардо — научные проблемы, эксперимент; у Джорджоне — просто жизнь, ее непосредственное, чувственное дыхание.
Биография Джорджоне известна менее, чем кого-либо другого из мастеров Ренессанса. Неясен год его рождения. Джорджо или Цорцо (по венецианскому произношению) известен в итальянском искусстве под прозвищем Джорджоне — то есть большой Георгий. Джорджоне происходил из семьи Барбарелли. Родился он, вероятно, около 1477 года в маленьком городке Кастельфранко. Юношей он явился в Венецию и поступил в мастерскую Джованни Беллини. Оказал огромное влияние на сверстников и младшее поколение итальянских художников. Внушение Джорджоне испытали многие живописцы, вплоть до Караваджо, Ватто, даже Эдуарда Мане. Был Джорджоне очень красив, обаятельного нрава, склонен к любовным похождениям, «божественно» (по словам Вазари) играл на лютне и пел. Смерть его наступила рано и очень трагично: Джорджоне умер в 1510 году, заразившись чумой.
Вазари называет Джорджоне зачинателем венецианского «золотого века» в искусстве. Несомненно, Джорджоне был крупным реформатором, и его значение во многом подобно значению Леонардо. Но в отличие от других венецианцев, сугубо материальных, деловитых, для Джорджоне всего важнее в искусстве неуловимые веяния и впечатления; для него нет ничего низменного и обыденного — в нем всегда чувствуется «затаенный огонь». В отличие от пышного сенсуализма официального венецианского искусства у Джорджоне мы наблюдаем уход от внешней действительности в мир субъективных переживаний, в мир лиризма, интимных, идиллических настроений. Это искусство глубокое, насыщенное содержанием, человечное; оно полно мягкости, меланхолии и музыки.
Судьба обошлась очень немилостиво с произведениями кисти Джорджоне. Почти все документально удостоверенные его произведения, в том числе знаменитые фрески, украшавшие так называемый Фондако деи Тедески — «Немецкое подворье», то есть склады немецких купцов около моста Риальто, — безвозвратно погибли. Главным литературным источником для изучения Джорджоне являются записки венецианского патриция и знатока искусства Маркантонио Микиэля, известные под названием записок Anonimo Morelliano (так как их впервые издал, не зная имени автора, аббат Морелли). Современник Джорджоне, Микиэль видел много произведений мастера, некоторые из них украшали его собственную коллекцию, и поэтому его свидетельству можно безусловно доверять. Но, к сожалению, из списка произведений Джорджоне, приводимого Микиэлем, удалось найти только несколько картин. Все остальное наследие Джорджоне базируется исключительно на стилистических или филологических гипотезах ученых, и некоторые из них идут в своем увлечении атрибуцией так далеко, что облик Джорджоне теряет определенные очертания.
Нет никакого сомнения, что все перечисленные Микиэлем картины Джорджоне принадлежат к его зрелому стилю. Но как складывался этот стиль, какова была юность Джорджоне? Согласно Вазари, он испытал сильное влияние Леонардо (который около 1500 года был в Венеции), в особенности его сфумато.
По-видимому, одно из ранних произведений Джорджоне — «Юдифь» (Ленинград, Эрмитаж). В ней еще есть некоторый привкус кватроченто — в чуть ломкой линии рисунка, в непрочности позы. Но от всей картины в целом уже веет духом подлинного Джорджоне: тем томлением, той невысказанностью мыслей и чувств (потупленный взор), тем лирическим бездействием, которые излучаются произведениями зрелого Джорджоне. Главное же здесь — колорит, богатая палитра, горящие красные и синие тона, в контраст к зеленовато-оливковым далям. Картина знаменует отход от тяжелой, плотной живописи Беллини к легким, прозрачным, нежным цветовым слоям, к большой свободе и широте в понимании колорита.
Самым ранним вполне достоверным произведением Джорджоне нужно считать так называемую «Мадонну дель Кастельфранко», украшающую собор в родном городе Джорджоне, выполненную по заказу кондотьера Туцио Костанцо и датируемую 1504 годом. Композиция построена по традиционной схеме школы Беллини: фигуры святого Франциска и святого Либералия (может быть, Георгия) стоят по обеим сторонам трона. И вместе с тем в картине Джорджоне есть много такого, что сильно отличает ее от концепции Беллини, — совершенно новое мироощущение. Во-первых, величавый простор композиции, широкие паузы пространства, отделяющие одну фигуру от другой. Еще важней различие духовных концепций: при всей своей величавости картина Джорджоне совершенно свободна от всяких церковных традиций. Его мадонна — не религиозный символ, а прекрасное земное существо, и святые у подножия ее трона подобны рыцарям, защищающим избранницу своего сердца. При этом трон мадонны так высок, что она не может с него сойти; она словно пленница, и ее опущенные, затененные глаза полны печали (потупленные глаза здесь — не скромность, а загадка). Эта сладостная печаль разлита по всей картине. И фигуры, и пейзаж, и тяжелая парча застыли в немой настороженности, в тихом, завороженном ожидании. Эта завороженность картин Джорджоне сильно отличается от бездейственной задумчивости Беллини. У Беллини была какая-то пассивная, безличная атмосфера, сгустившаяся в картине. Живопись же Джорджоне проникнута острой субъективностью настроения, выходящей за пределы Ренессанса. Эта субъективность Джорджоне не укрылась и от его современников. Недаром сложилась легенда, что в образе мадонны Джорджоне увековечил черты своей возлюбленной Цецилии и что на оборотной стороне картины была надпись, сделанная, быть может, рукой самого художника, — сонет, посвященный любимой, который кончается словами: «Vieni, о Cecilia, vieni t’affretta, il tuo t’aspetta Giorgio» («Приди, о Цецилия, к тебе спешит, тебя ждет твой Джорджо»).
Субъективность концепций Джорджоне ищет выхода и в подборе особых тем. Художник уже не довольствуется традиционными религиозными, мифологическими или литературными темами, его фантазия создает собственные темы, собственные типы и положения. Но темы Джорджоне, еще в большей степени, чем у Карпаччо, отличаются «бессюжетным» характером. Джорджоне изображает не события, не истории, а значительные, одухотворенные моменты, конкретные мгновения (жест, взгляд, улыбку), в которых, словно в фокусе, слились мотивы, интересы, влияния долгой истории. Пересказать это нельзя, потому что темы Джорджоне проявляются не в событиях, а в обострении чувств, в созвучии человека с природой. Мотив воды (у него всюду вода) и слушания необычайно для него характерен. Недаром Джорджоне был музыкантом. Он и в живописи продолжал прислушиваться к голосам человеческой души и к эху, звучащему в окружающем мире.
В алтарной картине из Кастельфранко замысел Джорджоне еще не нашел совершенного воплощения: фигуры слишком очевидно расставлены, пейзаж служит для них только фоном. Большего единства между фигурами и пейзажем художник добивается уже в следующих своих произведениях. Картин у Джорджоне очень немного: очевидно, он долго их продумывал, вынашивал, обрабатывал. С каждой картиной сильней чувствуется у него слияние человека с природой, острота и нежность настроения.
В сравнении с «Мадонной дель Кастельфранко» одна из более поздних картин Джорджоне «Три философа» (Вена) несомненно свидетельствует об этом. Здесь также фигуры бездействуют и погружены в мечтательное созерцание. Идет ли в этой картине речь о магах или мифологических фигурах, об античной легенде (некоторые ученые хотят видеть в ней эпизод из «Энеиды» Вергилия) или, может быть, об изображении символов тайного общества, к которому принадлежал Джорджоне, — во всяком случае, художник не рассказывает никаких событий. Его цель — чисто лирическая: задумчивое настроение вечерних сумерек. Картину закончил Себастьяно дель Пьомбо. В ней есть еще некоторая резкость, примитивность. Но поразительна в то же время смелость композиционного замысла: и густая тень левой части в сочетании с хрупким деревцем, и простой, деревенский мотив пейзажа, и эффект заката — все это говорит об удивительном понимании взаимоотношения вещей. Поэзия Джорджоне заключается не в одном замысле, айв самом исполнении. Все здесь сплетается: сюжет действует не только на интеллект, форма — не только на глаз; возникает некое единство, обращающееся к «фантазирующему разуму». Впрочем, старые традиции еще мешают Джорджоне освободить путь к натуре: скала и деревья темной, почти сплошной стеной отделяют философов от пейзажа.
Полного освобождения в этом смысле Джорджоне достигает только в третьей своей достоверной картине, в так называемой «Грозе» (в Венецианской академии). Тщетны усилия ученых истолковать «Грозу» как автопортрет художника с семьей, или как фиванскую легенду об Адрасте и Гипсипиле, или как жанр «Солдат и цыганка» (Микиэль) — им не удается внести в картину логику событий. Главная роль в ней принадлежит пейзажу. Вместо традиционного составления пейзажа из отдельных «интересных» мотивов Джорджоне сделал попытку объединить пейзаж одним общим мотивом. Это не надвигающаяся или удаляющаяся гроза (как ее изображали до тех пор), а гроза надвинувшаяся. Молния прорезает темные грозовые тучи — этот мотив Джорджоне старается провести через всю картину: освещением, отражением в воде, напряженной застылостью душного дня. Отсюда странный жуткий тон, тусклый, блеклый свет и глубокие тени, сизые тучи и горизонт во мраке — все создает душную, тревожную атмосферу. Это же передается и фигурам. Но о чем они говорят? Кто этот мужчина в современном костюме с длинным посохом? Почему полуобнаженная женщина кормит грудью ребенка? Бесцельно и бессмысленно ждать здесь рассказа. Люди Джорджоне немы, но их чувства едины с природой, и пейзаж полон шума листвы, шепота ветра и говора водяных струй.
Не вполне закончена мастером наиболее известная его картина «Венера» (Дрезден, галерея): кисти Джорджоне принадлежит только сама фигура обнаженной богини. Очевидно, темная скала слева была намечена еще им, но правую часть пейзажа закончил Тициан (после смерти Джорджоне) — и не совсем так, как можно было бы ожидать у Джорджоне: слишком «земная», телесная живопись! Не только изумительная замкнутость силуэта, хочется сказать, музыкальность линии, мягкость формы, не только чудеса самой живописи приковывают наше внимание к «Венере» Джорджоне, но и неслыханная смелость концепции. Обнаженное тело Венеры изображали и живописцы кватроченто (вспомним, в частности, «Рождение Венеры» Боттичелли). Но они всегда, так сказать, отступали на почтительное расстояние мифа, изображая Венеру непременно стоящей и прикрывающейся античной драпировкой. Джорджоне показал Венеру без мифологии, без символики, без средневекового страха перед наготой — просто прекрасной женщиной и притом спящей (загадочность, печаль). Так близко, вплотную подойти к жизни никто из художников Ренессанса еще не осмеливался.
Самое гениальное достижение Джорджоне — «Сельский концерт» (Лувр); с удивительной гармонией передано здесь чувство единения человека и природы, нагота становится частью природы и «куском» живописи, а пейзаж отличается сочностью и широтой. Опять Джорджоне сознательно пренебрегает логикой событий. Опять полная безымянность и бездейственность героев «Концерта» подчеркнута сочетанием одетых мужчин и обнаженных женщин. Один юноша играет на лютне, другой, со спутанной копной рыжих волос, слушает, в то время как девушка поднимает к губам флейту, а другая наклоняется к колодцу, чтобы зачерпнуть воды в стеклянный кувшин. Но, кажется, никогда кувшин не наполнится водой и никогда флейта не коснется губ обнаженной пастушки. Что это — беседа или музицирование? Или просто одухотворенная радость жизни? Есть ли в картине автобиографический элемент? «Концерт» Джорджоне можно рассматривать как поворотный момент в эволюции европейской живописи. Во-первых, Джорджоне открыл чувство природы, которое до него не было в такой степени знакомо итальянским живописцам. Во-вторых, Джорджоне положил начало «бессюжетной» живописи — в смысле свободы от традиционных сюжетов и рассказа о событиях. Здесь его пророчество еще смелей. Впервые только через двести с лишком лет французские импрессионисты решатся на подобный же вызов: в картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве» точно так же расположились на лоне природы одетые мужчины рядом с обнаженными женщинами. Уже для Джорджоне обнаженное тело не есть «сюжет», а красочное пятно, игра рефлексов. Наконец, третий и не менее существенный момент — сама живопись Джорджоне: раньше, чем кто-либо в Европе, он отказался от гладкой, сплошной манеры письма, которой держались еще не только флорентийские маньеристы, но и Корреджо, и пришел к широкому, свободному ведению кисти, к красочному мазку.
Следует обратиться еще к двум произведениям Джорджоне. Одно из них — это та пятая, документально удостоверенная картина Джорджоне, которая стала известна только сравнительно недавно. Собственно говоря, она была известна и раньше, так как висела на стене всем доступного венского музея. Но ее никто не связывал с именем Джорджоне. Ее приписывали самым различным авторам, кроме единственно правильного. Только когда в целях реставрации картина была вынута из рамы, на обратной стороне обнаружилась надпись, составленная на венецианском диалекте и в почерке, характерном для начала XVI века. Надпись гласит, что картину исполнил мастер Zorzi из Кастельфранко по заказу некоего Messere Giacomo первого июня 1506 года. Картина изображает голову, очевидно портрет, по типу напоминающую голову женщины на картине «Гроза». Живописная сила этого портрета не поддается никакому описанию. Если уже у Антонелло да Мессина мы восхищались живостью и влажностью взгляда, то у Джорджоне глаза приобретают и то непостоянство, ту изменчивость, которые присущи взгляду живых глаз. Эти непостоянство, незаконченность, непрочность свойственны и всей концепции картины в целом. Взгляд мимо зрителя, открыта одна грудь, но движение рук, придерживающих одежду, несомненно и в то же время не видно, и, наконец, — лавровая ветвь, как фон, без начала и конца, не глубина и не плоскость.
Другой портрет, которым я хотел бы закончить характеристику Джорджоне, так же как луврский «Концерт», не закреплен авторитетом Микиэля, но вряд ли может быть оспариваем как произведение Джорджоне ввиду духовной и формальной близости к подлинным картинам мастера из Кастельфранко. Я имею в виду так называемый портрет поэта Антонио Броккардо, хранящийся в Будапештском музее. И здесь взгляд портрета не направлен на зрителя. Но он и не уходит вдаль, а, так сказать, остается в картине, замкнутый в себе самом. Голова наклонена и словно отворачивается от реального мира; и навстречу этому повороту головы, обратно движению глаз, рука приложена к груди — она как бы ощупывает какие-то внутренние, душевные струны, и чувствуется, что звуки, которые она извлекает, болезненны и печальны. Этот, если так можно выразиться, «духовный контрапост», данный в портрете Броккардо, показывает во всей полноте гениальную прозорливость творчества Джорджоне. Трудно даже представить себе, каких ценностей лишилось человечество из-за ранней смерти Джорджоне.
Промелькнувшее, как короткий сон, искусство Джорджоне не оставило в Венеции очень глубоких следов прежде всего потому, что венецианцы были слишком большими материалистами. «Настроения» Джорджоне скоро растаяли в пышных драпировках и огненном пурпуре Тициана. Но был короткий период в истории североитальянской живописи, когда ни один живописец не мог устоять перед искушениями «джорджонизма». У одних из этих художников «джорджонизм» был всепоглощающим увлечением молодых лет, других, как, например, Катену, он настиг в старости. Джорджонистами оказались в некоторых случаях люди совсем иного внутреннего склада, чем сам Джорджоне, как, например, Тициан или Пальма Веккьо, подчинившиеся; непосредственному очарованию кастельфранкского волшебника. В других «джорджонизм» воспламенял конгениальные его «изобретателю» индивидуальности, не имевшие, однако, прямого i общения с самим Джорджоне, как, например, в случае Доссо Досси или Лоренцо Лотто. Такие родственные натуры заражались «джорджонизмом», даже если действовали значительно позже и в иной артистической среде.
Искусство Джорджоне свидетельствует, что в начале XVI века в Венеции возникло стремление к свободному душевному опыту. Искусство захотело прислушаться к голосам человеческой души и к эху, звучащему в окружающем мире. Всем замыслам Джорджоне присуща магия бездейственного мгновения, длящегося вечно и отъединенного от всех других мгновений. Эпическое спокойствие исчезает, уступая место лирическим колебаниям и неудовлетворенности. Мир не дает покоя Джорджоне и тем его современникам, которые спешили собирать его картины ради какой-то сладостной печали, излучаемой ими. Но «джорджонизм» повествует также о том, как в Венеции наросла и широко разлилась волна музыкальности. Во дворцах венецианских патрициев, на водах лагуны зазвучали флейта и лютня. Сам Джорджоне, как рассказывает Вазари, играл и пел так хорошо, что его игра и пение почитались в те времена божественными, и потому благородные особы нередко пользовались его услугами на своих музыкальных и иных собраниях. Концерт сделался одной из излюбленных тем «джорджонизма», мелодия, рождавшаяся и исчезавшая, оказалась удержана на века в картинах Джорджоне и его последователей.
Не избежал очарования «джорджонизма» и величайший мастер венецианской живописи — Тициан. С Джорджоне он, по-видимому, столкнулся в мастерской Джованни Беллини, под руководством Джорджоне работал над росписью для Фондако деи Тедески и после внезапной смерти мастера заканчивал некоторые из его картин («Спящая Венера»).
Тициан — во всех отношениях исключительное явление. Уже Вазари отметил: «Более, чем кто-либо из равных ему, Тициан пользовался исключительным здоровьем и удачами, он от неба ничего не получил, кроме счастья и благополучия». Действительно, художник прожил очень долгую жизнь, полную здоровья, изобилия, удач. По автопортрету — у него был облик патриция с величественной, благородной осанкой. Он жил в собственном дворце, вдали от уличного шума, на берегу лагуны, в тенистом саду; существовал независимо — для искусства и для друзей. Князья, высокопоставленные лица, кардиналы, ученые, находясь в Венеции, считали долгом для себя посетить Тициана. Самые могущественные государи Европы осыпали его заказами и почестями, приглашали ко двору, писали льстивые письма (с обращанием «amico carissimo» — «дражайший друг»), давали княжескую свиту.
Тициан познал счастье согласия с самим собой и окружающим миром. До последних лет он не часто испытывал разлад с действительностью. Его не обуревали трагические страсти; он не знал сомнений, подобно Микеланджело; его не беспокоили страстные искания истины, подобно Леонардо да Винчи. Он часто брал чутьем, мужеством, энергичным чувством художника. Лишь поздний период был для него трудным.
В характеристике Тициана обычно подчеркивают, что у него (в отличие от других мастеров Высокого Ренессанса) было не рационалистическое, а чувственное мировосприятие. Вряд ли это верно. Рационализм весьма присущ и Тициану. Но его изобразительный талант посвящен главным образом чувственной природе, созиданию чувственных ритмов и гармоний, прославлению красивых тел и одежд, всего богатого и радостного; он — поэт чувств и ощущений больше, чем духовных энергий и психических переживаний.
Вполне естественно, что эта чувственная направленность творчества Тициана находит свое главное выражение в колорите, в краске. Он был одним из величайших колористов в истории европейской живописи. В большинстве живописцы мыслили и конструировали линией, светотенью; Тициан видел, и мыслил, и строил форму краской. Все остальные мыслили и строили отношением пропорций и объемов; Тициан — отношением тонов. Краска Тициана обладает огромной светосилой, она материальна, вещественна и вместе с тем полна декоративной звучности и эмоциональной насыщенности. Тициана можно назвать родоначальником живописного восприятия мира (часто говорят, что он плохой рисовальщик; это неверно — великолепный, но не в графическом или пластическом, а именно в живописном стиле). В этом смысле он стал учителем всех великих живописцев последующих веков — Гальса, Рубенса, Веласкеса, Пуссена, Рембрандта, Рейнольдса, Делакруа.
И еще одно замечание. Тициана нельзя представить себе юношей (как Джорджоне и отчасти Рафаэля), а только зрелым мужем и, еще лучше, — никогда не состарившимся стариком. Его развитие было поздним; он стал последним из чинквечентистов. У него преобладал интерес к величественному достоинству, к зрелой, сочной, распустившейся красоте. Он предпочитал изображать не весну, а пышную осень, вечерний час. Его привлекали не хрупкие девушки, а зрелые, могучие женщины.
Тициан не принадлежит к числу рано созревших гениев: могучий талант его развивался медленно и неравномерно. И хотя в последнее время исследователи склонны передвигать год рождения мастера с конца семидесятых на конец восьмидесятых годов XV века, все же остается несомненным, что Тициан вышел на вполне самостоятельный путь не ранее, чем к концу третьего десятилетия своей жизни.
Тициан родился в Пьеве ди Кадоре, местечке у подножия Альп, на торговом пути из Италии в Тироль. Его первые детские впечатления были связаны с суровой окружающей природой, дремучими лесами, крутыми скалами. Предки Тициана — горцы; его отец Грегорио Вечелли полжизни прослужил солдатом Венецианской республики и занимал ответственные должности в городской общине.
Ребенком Тициана отправили к родным в Венецию. Там он начал учиться сначала у второстепенного художника-мозаичиста Себастьяно Цуккати, потом в мастерской Джентиле и Джованни Беллини (вместе с ним учатся Пальма Веккьо, Джорджоне, Себастьяно дель Пьомбо). К сожалению, мы мало знаем о юности Тициана.
Первый период деятельности Тициана (примерно до 1518–1520 гг.) проходит под знаком сильнейшего воздействия искусства Джорджоне и все более настойчивых попыток его преодоления. В таких произведениях молодого Тициана, как «Святой Марк» (Санта Мария делла Салуте в Венеции), так называемая «Цыганская мадонна» (Вена), женские полуфигуры («Флора» в Уффици, «Саломея» в галерее Дориа в Риме и др.), в самых ранних портретах (некоторые до сих пор вызывают сомнения в их авторе — Джорджоне или Тициан?), например в так называемом Ариосто в Лондоне и других, теснейшая связь Тициана и Джорджоне проявляется с особенной очевидностью и не только в ряде внешних приемов, в типах и мотивах, но и в общем идиллически-созерцательном мировосприятии. Однако уже и в этих, наиболее проникнутых духом искусства Джорджоне работах Тициана довольно явственно проступает своеобразие его творческого метода, черты нового понимания действительности. С еще большей ясностью и последовательностью эти признаки преодоления «джорджонизма», новые черты художественного мировосприятия и творческого метода сказываются в произведениях Тициана, выполненных вскоре после 1515 года; это «Земная и небесная любовь» (галерея Боргезе в Риме), «Динарий кесаря» (Дрезден) и портреты: «Томмазо Мости» (галерея Питти во Флоренции) и «Юноша с перчаткой» (Лувр).
В этих картинах Тициана ясно ощущаются, правда еще в несколько статическом состоянии, первые проблески той полноты, многосторонности и лучезарности бытия, которые Тициан с такой мощью и блеском раскрывает на следующих этапах своей творческой деятельности. Здесь, особенно в таких произведениях, как «Юноша с перчаткой», начинает складываться новый образ человека; сохраняя оттенок некоторой неопределенности индивидуальной характеристики, как бы «анонимности», присущей портретам Джорджоне, образы Тициана приобретают черты большей активности, мужественности и уверенности и, что особенно важно, отличаются гораздо большим органическим единством физического и духовного облика человека. И все же Тициан в известной мере еще остается джорджонистом. На это указывает прежде всего его ранний портрет — так называемый «Юноша с перчаткой». Родство с Джорджоне обнаруживает характеристика портретируемого — задумчивая меланхолия лица и мечтательная игра руки с перчаткой. И опять «джорджонизм» смешивается с чисто тициановскими чертами — умением эффектно преподнести модель, извлечь из нее максимум величавости, парадности и благородства.
С Джорджоне связан еще и «Динарий кесаря». Первоисточник этой картины надо искать в двух- и трехфигурных портретах джорджонистов. Композиция построена на контрасте двух полуфигур, который еще подчеркнут красноречивым диалогом белой, нежной руки Христа и темного, грубого кулака фарисея. «Юноша с перчаткой» и «Динарий кесаря» показывают, как быстро расцвели чисто живописные качества Тициана. Нежно-эмалевая поверхность в лице и руках Христа контрастирует с широкими, свободными мазками в его одежде и резким, бурным сопоставлением светлых и темных пятен в фигуре фарисея.
Еще богаче эти живописные качества в другой картине этого времени — «Мадонне с четырьмя святыми» (Дрезден). Картина очень типична для венецианского вкуса с его чисто светским преломлением религиозных тем. Мадонна, как великолепная патрицианка, принимает визиты в своем палаццо — святой Павел и святой Иероним как бы представляют ей прекрасную Магдалину. Если бы не звериная шкура Ионна Крестителя и не атрибуты святых — не осталось бы никаких следов Священного писания. Не осталось в этой картине и почти ничего от «джорджонизма» — разве только некоторая таинственность в головах Иоанна и Павла, погруженных в тень. Суровую композиционную схему классического стиля Тициан смягчает легкой асимметрией: светлой мадонне справа соответствует темный Павел, темная голова Иоанна Крестителя уравновешивает светлую бороду Иеронима; для Магдалины же нет полного соответствия, и потому глаз зрителя невольно обращается к ее перламутровому платью и сиреневой повязке на рыжих волосах. С этого времени асимметрия делается одним из самых излюбленных приемов Тициана, и асимметричное уравновешивание композиции светлыми и темными пятнами превращается надолго чуть ли не в закон европейской живописи.
Тогда же Тициан впервые пробует свои силы в области тех мифологически-аллегорических композиций, которые главным образом создали его славу. Несомненно, что и в этом случае первый толчок он получил от Джорджоне. Самая ранняя его картина этого типа носит название «Три возраста» (Эдинбург). Группа обнаженного юноши и пастушки со свирелью навеяна «Сельским концертом» Джорджоне. Любопытно, однако, что фигуры поменялись ролями: Джорджоне обнажает женскую, Тициан — мужскую фигуру. В этом изменении красноречиво сказался контраст художественных натур Джорджоне и Тициана. Творчество Джорджоне основано на чувствах и настроениях, природа и человек сливаются у него в одну безымянную, бездейственную гармонию. Творчество Джорджоне музыкально, творчество Тициана более литературно и рассудочно. Джорджоне созерцает, Тициан размышляет и рассчитывает. Так и здесь, идиллия пастуха и пастушки есть только символический образ, подобно играющим амурам и старику с черепами, которые вместе должны иллюстрировать идею вечного круговорота жизни.
От последних остатков «джорджонизма» Тициан освобождается во второй мифологической картине этого периода, прославленной аллегории «Земной и небесной любви». Загадочной теме этой картины посвящена целая литература. Одни истолковывают обнаженную фигуру, как Венеру, убеждающую Елену следовать за Парисом. Другие предполагают Венеру и Медею. Быть может, имеет определенные основания догадка тех ученых, которые связывают картину с личными переживаниями мастера[33]. В эти годы Тициан домогается любви прекрасной Виоланты, дочери живописца Пальма Веккьо, и черты лица Виоланты, знакомые нам по другим картинам Тициана, легко узнать в облике «Земной любви». Возможно, что картина действительно изображает Венеру, убеждающую Виоланту внять любовным мольбам художника. Как бы то ни было, мечтательные настроения Джорджоне уступают здесь место рассудочной символике. Так же рассудочно продумана, с почти орнаментальной точностью, композиция картины. Широкий формат подчеркнут горизонтальной полосой саркофага; две диагонали как будто невзначай пересекаются в голове амура; ритмическая смена светлых и темных пятен восстанавливает равновесие, нарушенное отношениями фигур.
К этому же периоду творчества Тициана относится группа картин, которые свидетельствуют, что Тициан окончательно нашел самого себя, и которые вместе с тем чрезвычайно показательны вообще для венецианского художественного вкуса. Картины эти изображают женские полуфигуры, обнаженные или полуобнаженные, иногда в сопровождении еще одной второстепенной фигуры, и написаны с самых красивых моделей, которые могла дать тогдашняя Венеция, — с упомянутой уже Виоланты и с Лауры Дианти, возлюбленной феррарского герцога Альфонсо д’Эсте[34]. Красавица, например, расчесывает волосы, глядясь в зеркало, которое держит ее поклонник, в то время как вся сцена отражается в большом хрустальном шаре на заднем плане. Этот род полупортрета, полуаллегории, введенный Тицианом, приобрел чрезвычайную популярность в венецианской живописи и сделался главной специальностью мастеров, составляющих обширную свиту Тициана, как Пальма Веккьо и Парис Бордоне. Тициан, разумеется, далеко превосходил своих подражателей не только блестящими качествами живописи, но и благородством, тонкостью характеристики.
Здесь же, в этом периоде, закладываются некоторые основные особенности тициановского колорита — огромная светосила его краски, ее жизненная энергия, вещественность и вместе с тем драматическая насыщенность. Однако в этот период краска выступает в живописи Тициана еще самодовлеюще, без глубокого взаимодействия со светом и формой, причем главным носителем красочного звучания картины является не человеческое тело, как в колорите позднего Тициана, а одежда, цвет ткани.
Все отмеченные признаки нового художественного метода, отдельные поиски самостоятельного творческого пути завершаются резким скачком, решающим переломом в искусстве Тициана, падающим на конец второго десятилетия XVI века. С этого времени начинается новый период в творческом развитии художника, период героического пафоса и бурного движения, период повышенного чувства жизни и ее радостного утверждения, период, когда, отражая новое общественное сознание, Тициан создает новые типы станковых картин, а старым дает новую форму и наполняет их новым содержанием.
Двадцатые и тридцатые годы XVI века, когда во всей остальной Италии нарастают острые признаки кризиса культуры Возрождения, являются для Венеции временем наибольшего расцвета идеалов Высокого Возрождения. Развивая идеи Возрождения на новом этапе, в гораздо более сложной исторической обстановке, венецианская живопись сталкивается с целым рядом новых задач, выдвинутых временем, и прежде всего — с проблемами более непосредственного отражения реальной действительности и более глубокого, тесного взаимодействия человека с окружающей средой. Следует подчеркнуть, что в постановке и решении этой новой проблематики венецианская живопись двадцатых-тридцатых годов, и особенно Тициан, олицетворяющий ее вершину, прочно опирается на традиции Высокого Возрождения. К пониманию общественной среды Тициан приходит через раскрытие судьбы отдельной личности; однако эта могучая личность выступает не изолированно — в ней как бы воплощаются и сгущаются действующие в мире силы.
Открывается этот новый период в развитии искусства Тициана огромной картиной (около семи метров высоты) «Вознесение Марии» (так называемая «Ассунта»), исполненной для главного алтаря церкви францисканцев (Санта Мария деи Фрари) в 1518 году. Она рассчитана на восприятие широких масс монументальностью своих образов, страстностью своего порыва, могучими контрастами света и тени, красных и синих тонов, как бы воплощая патриотический подъем народа, его жизнеутверждающую силу. Видимая от самой входной двери, великолепно вписанная в архитектурное обрамление, «Ассунта» как бы вбирает в себя всю энергию широкого, свободного пространства и господствует над ним полнотой чувственного воплощения образа.
«Ассунта» произвела сильнейшее впечатление на современников, сознававших ее передовое значение, смелость и новизну ее замысла. Дипломат и хронист Венецианской республики Марино Сануто счел достойным занесения в свой дневник исторических событий факт обнародования этой картины. Напротив, монахи-заказчики, напуганные огромной жизненной силой образов, созданных Тицианом, первоначально хотели было отказаться от принятия заказа.
В следующей алтарной картине — «Положение во гроб» — Тициан избирает противоположный «Ассунте» поперечный, горизонтальный формат. Если в «Ассунте» все композиционные средства использованы для впечатления взлета вверх, то в «Погребении», напротив, господствует тяжелое, волочащееся движение, давление вниз. Все формы приобрели массивность, колорит сделался глубже, фактура — полновесней. Композиция построена на любимом принципе Тициана — на симметрии контрастов: светлая группа богоматери уравновешена темным силуэтом деревьев, темно-зеленому пятну Иосифа Аримафейского соответствует светло-красный Никодим, тело Христа находится наполовину в свету, наполовину в тени. Необычайное чутье того, что называют валером, то есть сила света в тоне, возрастает у Тициана буквально с каждой картиной (интересна, например, такая колористическая деталь: у темного Иосифа светлые отвороты рубашки, у светлого Никодима — темные рукава).
Не менее смелое, героически жизнеутверждающее, но более гармоническое и мягкое, лишенное бурного вызова и шумности «Ассунты» воплощение традиционной темы дает Тициан в так называемой «Мадонне семейства Пезаро» (Санта Мария деи Фрари), законченной в 1526 году по заказу Якопо Пезаро — крупного военачальника. Здесь старинный венецианский тип алтарной картины — Sacra conversazione приобретает совершенно новое, гораздо более жизненное и активное и вместе с тем величавое звучание. Введение группы заказчиков в действие картины, расположение его главных участников не симметрично вокруг центра картины и параллельно ее плоскости, а по диагонали вверх и в глубину, помещение главного смыслового центра — фигуры богоматери — сбоку справа, а пространственного центра — точки схода — слева внизу, за пределами рамы, наконец, мощные колонны, видимые снизу и вырастающие за верхние границы картины, — все это создает впечатление необычайной жизненности, динамичности, непосредственной близости зрителя к событию, являющемуся, при всей его величавой значительности, как бы лишь частицей необозримого мира. Мягкостью, текучестью, естественностью отличается и колорит «Мадонны семейства Пезаро», построенный, как большинство произведений этого периода, на простых, чистых и сильных тонах, но более богатый и тонкий в переходах и свободный от той несколько жесткой силуэтности красочных плоскостей, которая еще присуща «Ассунте».
Героический пафос, полнота бытия, активность человека — черты, с такой смелостью и силой воплощенные в «Ассунте», присущи большинству произведений Тициана двадцатых годов. Мастер обращается к самым различным жанрам и к многообразным тематическим задачам. Он пишет большие алтарные картины и мифологические композиции, он отдает дань и пейзажу и портрету и всюду открывает новые творческие пути, намечает новые принципы образного строя, создает новые типы картин.
В трех мифологических картинах, выполненных для феррарского герцога Альфонсо д’Эсте («Праздник Венеры», «Вакханалия» — обе в Прадо и «Вакх и Ариадна» — в Лондоне), Тициан обнаруживает совершенно новое отношение к наследию античного искусства, основанное не столько на заимствовании отдельных мотивов и приемов, сколько на проникновении в самое существо жизнеощущения, свойственного античному искусству, его здоровой чувственности, его ликующего и вместе с тем величавого ритма и на глубоком их перевоплощении в духе нового реалистического искусства.
Картина этого цикла «Праздник Венеры» обнаруживает еще известную жесткость и скованность композиции. Статуя Венеры и две восторженные менады у ее подножия сдвинуты к самому краю и не связаны с остальной композицией. Главный центр ее — шумный поток обнаженных ребят-амурчиков — задуман чрезвычайно смело для своего времени. Но Тициан разрешил свою задачу слишком орнаментально: обилие мелких мотивов не сливается в одну общую волнующую массу. В живописном смысле вторая картина цикла — «Вакханалия» — гораздо совершенней. Такие детали, например, как стеклянный сосуд, наполовину наполненный вином, красная одежда танцующего справа, облако, написаны с исключительным мастерством. Но, как целое, картина не вполне удалась мастеру. Вакханка на переднем плане не связана с остальными j фигурами. В движении вакхантов нет общего ритма, оно разбивается на ряд мотивов.
145. ДЖОРДЖОНЕ. ЮДИФЬ. OK. 1502 Г. ЛЕНИНГРАД, ЭРМИТАЖ.
146. ДЖОРДЖОНЕ. МАДОННА КАСТЕЛЬФРАНКО. OK. 1504 Г. КАСТЕЛЬФРАНКО, СОБОР.
147. ДЖОРДЖОНЕ. ТРИ ФИЛОСОФА. ОК. 1508 Г. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
148. ДЖОРДЖОНЕ. ГРОЗА. OK. 1506–1507 ГГ. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
149. ДЖОРДЖОНЕ. СПЯЩАЯ ВЕНЕРА. ОК. 1507–1508 ГГ. ДРЕЗДЕН, ГАЛЕРЕЯ.
150. ДЖОРДЖОНЕ. ЛАУРА. 1506. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
151. ДЖОРДЖОНЕ. ПОРТРЕТ АНТОНИО БРОККАРДО. БУДАПЕШТ, МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.
152. ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. ОК. 1508. ПАРИЖ, ЛУВР.
153. ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. ДЕТАЛЬ.
154. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ЮНОШИ С ПЕРЧАТКОЙ. ОК. 1520 Г. ПАРИЖ. ЛУВР.
155. ТИЦИАН. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ. ОК. 1515–1516 ГГ. РИМ, ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ.
156. ТИЦИАН. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ. ДЕТАЛЬ.
157. ТИЦИАН. ВОЗНЕСЕНИЕ БОГОМАТЕРИ («АССУНТА»). 1516–1518. ВЕНЕЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ГЛОРИОЗА ДЕИ ФРАРИ.
158. ТИЦИАН. МАДОННА ПЕЗАРО. 1526. ВЕНЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ГЛОРИОЗА ДЕИ ФРАРИ.
159. ТИЦИАН. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ. 1534–1538. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
160. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ФЕДЕРИГО ГОНЗАГА. 1570-Е ГГ. МАЛРИЛ. ПРАДО.
161. ТИЦИАН. ВАКХ И АРИАДНА. 1523. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
162. ТИЦИАН. ВЕНЕРА УРБИНСКАЯ. 1538. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
163. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ПАПЫ ПАВЛА III С АЛЕССАНДРО И ОТТАВИО ФА PH ЕЗЕ. ДЕТАЛЬ. 1545–1546. НЕАПОЛЬ, МУЗЕЙ КАПОДИМОНТЕ.
164. ТИЦИАН. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА. 1544. ВЕНЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА САЛЮТЕ.
165. ТИЦИАН. СЕ ЧЕЛОВЕК. 1543. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.
166. ТИЦИАН. КАРЛ V В КРЕСЛЕ. 1548. МЮНХЕН, СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА.
167. ТИЦИАН. ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 1550-Е ГГ. ВАШИНГТОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
168. ТИЦИАН. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ. ОК. 1570 Г. МЮНХЕН, СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА.
169. ТИЦИАН И ЯКОПО ПАЛЬМА МЛАДШИЙ. ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА. 1573–1576. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.
Этого единства Тициан вполне добивается в своей знаменитой третьей картине этого цикла — «Вакх и Ариадна». Здесь драматизм рассказа сливается с ритмом движения. Широкий размах Вакха подготовлен нарастающей волной его опьяненной свиты. Ариадна подхватывает это движение и как бы отражает его в глубину, к уплывающему облаку. В этой картине Тициан достигает очень большой динамики. Недаром Рубенс копировал «Вакха», а Ван Дейк ценил его выше всех произведений венецианского мастера.
Творчество Тициана двадцатых годов (несмотря на то, что художник и в это время, как и на протяжении всей своей деятельности, остается по преимуществу живописцем человека) знаменует собой новую веху в развитии пейзажа. В этот период Тициан не только пишет развернутые пейзажные фоны для своих религиозных и мифологических композиций (особенно своеобразны пейзажные фоны в алтарной картине анконского музея и в «Мадонне со святой Екатериной» в лондонской Национальной галерее), не только разрабатывает пейзажные мотивы в ряде рисунков, но и создает самостоятельные пейзажные картины («Пейзаж со святым Иеронимом» в Лувре, «Пейзаж со стадом» в Хемптон Корте в Лондоне[35]).
Пейзажи Тициана двадцатых годов решительно отличаются от всего, что было создано до этого времени в области пейзажа венецианской живописью и самим Тицианом, прежде всего тем, что в них природа воспринимается не в виде сочетания множества различных явлений и мотивов, а в повествовательном и эмоциональном сгущении одной господствующей темы. Не менее важное свойство пейзажей Тициана состоит в том, что, в отличие от пассивно-созерцательных, порою идиллических пейзажей Джорджоне и его последователей, пейзажи Тициана насыщены драматическим содержанием, активной жизнью и самой природы и населяющих ее живых существ, переживания которых созвучны жизни природы. Это по большей части вечерние или ночные пейзажи с мощными ветвистыми деревьями и скалистыми далями, с облачным небом и бурными эффектами освещения. Настоящим откровением этих пейзажей является пространственное и эмоциональное единство земли и неба, достигнутое не столько средствами рисунка и перспективы, сколько богатством и точностью красочных и световых отношений в картине. Новое восприятие природы, впервые воплощенное в живописи Тициана и нашедшее яркое отражение в современной литературе (сравните знаменитое письмо Аретино к Тициану с описанием красочных эффектов облачного неба), определило пути всего дальнейшего развития европейского пейзажа, явилось основой для методов пейзажной живописи как Рубенса, так и Пуссена.
Наконец, в двадцатых годах совершается важный перелом и в портретном искусстве Тициана. Именно в это время закладываются основы нового портретного стиля мастера. Портреты Тициана окончательно освобождаются от навеянного Джорджоне налета мечтательности и неопределенности, который сохранился еще в «Юноше с перчаткой», и приобретают гораздо большую остроту конкретной индивидуальной характеристики и вместе с тем величавость парадного портрета («Альфонсо д’Эсте», Нью-Йорк, музей Метрополитен; «Федериго Гонзага», Мадрид, Прадо; «Портрет мужчины с соколом», музей в Омахе, Невада, США).
Но парадные портреты Тициана глубоко отличаются от того типа парадного портрета, который складывался в эти годы в папском Риме и при княжеских дворах Центральной и Северной Италии (Себастьяно дель Пьомбо, Бронзино, Пармиджанино), отличаются и своей правдивостью, и активным восприятием человека, и внутренней целостностью и значительностью человеческого образа. Вместе с тем в портретах Тициана двадцатых и тридцатых годов еще нет того глубокого творческого проникновения в сущность человеческой личности, какое присуще портретам великого венецианского мастера сороковых годов. Его привлекает не анализ переживаний, не изображение определенного момента в биографии модели, а нечто постоянное в ее физическом и духовном облике, ее основной характер (черты грубоватого полководца в портрете Федериго Гонзага). В портретах Тициана этого периода главная выразительность образа сосредоточена не в лице и руках модели, а в ее повадке, повороте, в общем силуэте фигуры.
В героическом величии искусства Тициана двадцатых годов, насыщенного жизненной энергией, нашли свое отражение и первый могучий взлет творческого гения мастера, и подъем патриотического самосознания, и возрождение политической мощи венецианского государства, под оболочкой внешнего благополучия скрывавшего напряжение всех сил для борьбы за независимость. Венеция в ту пору была главным очагом национального объединения, центром противодействия феодальной реакции, единственным оплотом прогрессивных сил в Италии (недаром в Венецию устремились такие передовые деятели культуры и искусства, как Клеман Маро и Антонио Бручоли, как Аретино и Сансовино). Венеция была единственной итальянской республикой, сохранившей независимость от Испании. Правда, морское могущество Венеции было сильно поколеблено, ее экономика неуклонно падала. Но все же накопленные ею богатства были еще огромны. Центральная Европа, и особенно Германия, еще находилась в прежней торговой зависимости от Венеции; ее сельское хозяйство было поставлено выше, чем где-либо в Италии; ее развитое ремесленное производство (ювелирное и оружейное дело, стекло, бархат, кружева и т. д.) переживало блестящий подъем. По великолепию своего строительства, по пышности своих празднеств, по широкому государственному покровительству искусству Венеция не знала себе равных в Европе. Это красочное великолепие венецианской жизни нашло яркое воплощение в венецианской живописи, в произведениях Пальма Веккьо, Джованни Кариани, Бонифацио Веронезе, Париса Бордо не и многих других. Но лишь гений Тициана уловил за этой пышностью и внешним благополучием подъем народного самосознания, героический пафос и напряженность общественных сил, боевой дух человека Возрождения.
Вершины своего могучего размаха героико-драматический стиль Тициана достигает в «Убиении святого Петра мученика», большой алтарной картине, написанной в 1528–1530 годах для церкви Санти Джованни э Паоло после победы в конкурсном соревновании с Порденоне и Пальма Веккьо. Картина погибла в 1867 году во время пожара, но копия и гравюрные воспроизведения с нее, а также предварительные наброски Тициана дают представление о смелости и мощи композиционного замысла. Картина возникла из конкурса, в котором принимали участие упомянутые современники Тициана. Он одержал блестящую победу над ними. На этот раз Тициан обратился, очевидно под влиянием Микеланджело, к чуждой ему до тех пор области драматического рассказа и попытался достигнуть максимальной силы движения. Как и в «Мадонне Пезаро», композиция построена по диагонали, направленной из глубины на зрителя и пересеченной встречными направлениями (спутник Петра устремляется вверх, ангелочки с пальмовой ветвью — вниз). Пейзаж как бы отражает действие фигур: крайнее дерево слева повторяет движение беглеца, справа стволы деревьев переплелись между собой, как в борьбе. Замысел построен на активном единстве человека и природы, которая своей бурной динамикой созвучна человеческой драме и вместе с тем проникнута огромной жизнеутверждающей силой. Картина имела небывалый успех и окончательно утвердила славу Тициана как величайшего живописца Италии. Специальный декрет венецианской Синьории угрожал смертной казнью всякому, кто прикоснулся бы к этой картине.
С этого момента в творческом методе Тициана начинают намечаться существенные изменения. Для произведений тридцатых годов характерны ослабление драматического напряжения, отказ от героического пафоса, обращение от мира классики — обобщенных, идеальных образов — к впечатлениям действительности. Искусство Тициана становится более конкретным, интимным и сердечным, а вместе с тем и более тонким.
Народность искусства Тициана, которая в двадцатых годах проявлялась в воплощении больших общенародных идей и чувств, теперь сказывается в обращении мастера к конкретным образам простого народа и народной жизни (пастух со стадом и крестьянская хижина в лондонской и луврской «Мадонне», старуха с корзиной во «Введении во храм», нищий в «Святом Иоанне Милостивом» и т. п.). Не случайно также, что в этот период место больших алтарных картин занимают повествовательные композиции в духе старой венецианской школы, написанные для филантропических братств («Введение во храм», находящееся теперь в Венецианской академии, было исполнено в 1534–1538 годы для Скуола делла Карита[36]). Существенные изменения происходят также в колорите Тициана. Мастер отказывается от тех чистых, сильных, но несколько отвлеченных красочных звучаний, которые он так охотно использовал в предшествующий период, и обращается к более конкретным, но и более сложным и тонким оттенкам тонов, применяет сочетания сходных красок и стремится подчинить колорит каждой картины какому-нибудь одному главенствующему красочному аккорду (например, зелено-голубому с золотом в портрете «La Bella» или фиолетово-красному в портрете Ипполито Медичи и т. п.).
В портретах этого периода, еще более чем в портретах двадцатых годов, подчеркнуты неповторимые черты модели, которые теперь приобретают оттенок некоторой интимности и приватности — в чертах лица, в жесте, в окружении, в выборе костюма (венгерский костюм кардинала Ипполито Медичи, доспехи герцога Урбинского и т. п.).
Еще заметнее перемена в религиозных и мифологических композициях тридцатых годов («Введение во храм», «Мадонна с кроликом», «Венера Урбинская», «Венера из Пардо» и др.). Бросается в глаза не только отсутствие бурного размаха, столь характерного для монументальных композиций Тициана двадцатых годов, не только медленный повествовательный тон, обращение к тонко наблюденным деталям, многочастный строй рассказа, преобладание горизонтальных размеров, но и чуждое раньше Тициану стремление поставить человека в связь с окружающей средой — интерес к проблемам жанра, интерьера, пейзажа и натюрморта. Достаточно вспомнить длинную пологую лестницу, развернутую параллельно плоскости картины, и тщательную разработку узорной кладки стены во «Введении», цветы в руке «Венеры Урбинской», собачку у ее ног и эпизод со служанками у ларя в глубине интерьера, не говоря уже о самом образе Венеры, столь близком по мотиву к «Венере» Джорджоне и столь далеком от нее по замыслу. Искусство Тициана тридцатых годов становится богаче оттенками, шире по своему размаху — образный строй мастера охватывает теперь явления не только исключительные, прекрасные и возвышенные, но и обыденные, интимные, уютные — и вместе с тем, не лишаясь присущей Тициану в двадцатые годы величавости образов, приобретает незнакомый раньше мастеру оттенок теплоты и сердечности.
Эти черты теплоты и повествовательности, одновременно со снижением героического начала, эти элементы, с одной стороны, городского быта, а с другой — сельской идиллии несколько сближают творчество Тициана тридцатых годов, при всем огромном превосходстве мощного, жизнеутверждающего реализма Тициана, с мастерами террафермы (материковыми владениями Венеции), особенно с Савольдо, и с произведениями венецианских живописцев из круга Париса Бордоне и Бонифацио Веронезе.
Тридцатые годы XVI века в истории Венеции — это период внешнего благополучия, период успехов в политике равновесия, торжества дипломатии над стремлением к активной борьбе. На рубеже тридцатых-сороковых годов за этим коротким периодом успокоения на достигнутом следует резкий кризис политического и торгового могущества Венеции и венецианской культуры. Характеризуя в «Хронологических выписках» основные причины упадка Венеции, Маркс отмечает значение следующих моментов — рост мощи турок, образование больших (уже не феодальных) монархий и вытеснение венецианской торговли португальцами и испанцами[37].
Начало военным неудачам Венеции положила так называемая «Священная лига» против турок, организованная итальянскими герцогами в 1538 году. Венеция потерпела в этой войне ряд тяжелых поражений и вынуждена была принять унизительные условия мира (1540). С этого момента и вплоть до битвы при Лепанто Турция добивается неограниченного господства в Средиземном море. Венеция все более стушевывается в результате крупных столкновений на суше и на море, происходящих в сороковые и пятидесятые годы и заканчивающихся миром в Като-Камбрези (1559) и окончательным утверждением испанского владычества в Италии.
Вместе с тем в Венецию все сильнее проникают веяния католической реакции. В 1537 году там появляется Лойола и завязывает дружественные отношения с венецианскими государственными деятелями. В 1542 году Лойола выступает с проповедями в Сан Сальваторе. Но вскоре после этого венецианское правительство начинает вести борьбу против ордена и добивается его временного изгнания из пределов республики. Так даже в эти тяжелые годы кризиса Венеции удается отстоять свою политическую независимость, отразить прямое воздействие феодальнокатолической реакции и сохранить свой ореол защитницы национальных интересов. Разумеется, венецианская свобода была очень относительна. Как раз в условиях военных неудач, экономических затруднений и феодально-католической реакции в Венеции сильно обостряются классовые противоречия, нарастает недовольство народа, усиливается активность промышленной и ремесленной буржуазии, до этого времени совершенно отстраненной от участия в политической жизни. Чрезвычайно показательно для напряженных социальных отношений в Венеции на рубеже тридцатых и сороковых годов выступление в 1541 году патриция Бернардо Капелла, требовавшего права доступа в Большой совет представителям не только аристократических фамилий — права, уничтоженного еще в 1297 году постановлением о «Золотой книге» (перечень фамилий венецианских нобилей, пользующихся правом участия в Большом совете).
Такова была социально-политическая обстановка, определившая важные сдвиги в развитии венецианского искусства сороковых-пятидесятых годов. Вполне естественно, что та атмосфера неустойчивости и колебаний, которая господствовала в Венеции после третьей турецкой войны, оказалась весьма благоприятной для проникновения в замкнутую художественную жизнь Венеции из Центральной Италии и Эмилии тенденций придворно-аристократического стиля.
Характерно, что именно к рубежу тридцатых-сороковых годов относится усиленный приток в Венецию художников из Центральной Италии: в 1537 году в Венеции, по приглашению епископа Гримани, появляется Джованни да Удине, в 1539-м — Франческо Сальвиати и Джузеппе делла Порта, в 1541 году Венецию посещает Вазари, приносящие в город лагун культ Микеланджело и новые приемы римской декоративной живописи. Через посредство офорта, цветной гравюры на дереве (кьяроскуро) и рисунков в Венецию проникает влияние Пармиджанино, его приемов парадного портрета, его динамической светотени и своеобразной экспрессии «незаконченности», влияние, подкрепленное деятельностью обосновавшегося в Венеции последователя Пармиджанино — славянина из Зары Андреа Мелдолла (Медулича), по прозванию Скиавоне.
Одновременно в венецианском обществе обостряется интерес к проблемам эстетики и теории искусства и широко развивается деятельность художественных критиков.
На рубеже сороковых и пятидесятых годов появляется целый ряд трактатов и диалогов (Паоло Пино, М.-А. Бьондо, А.-Ф. Дони, Лодовико Дольче), выступающих в защиту того или иного художественного направления и обсуждающих проблемы эстетического вкуса, колорита, связи человека с окружением (ambiente), взаимоотношения эскизности и законченности и т. п. Именно в эту пору особенно усиливается воздействие Тициана, Сансовино и Аретино на эстетические вкусы венецианского общества. В этой борьбе течений, основанной на противопоставлении рисунка и колорита, живописи пластической и тональной, Микеланджело и Тициана, впервые складывается также идея существенного различия между искусством для народа и искусством для избранных.
Как ни сильна была волна нахлынувших в Венецию течений маньеризма, этот последний не мог пустить в Венеции таких глубоких корней, как в Риме, Флоренции или Парме. В Венеции не было двора, придворной культуры; там не мог сложиться такой тип художника, как Вазари, Бронзино или Челлини. Недаром Аретино, мечтавший о раскрепощении писателей и художников от двора и о более тесной связи искусства с народом, обосновался в Венеции. Тем не менее идеалы гуманизма переживают в Венеции сороковых-пятидесятых годов глубочайшие изменения. Исчезает характерная для Возрождения вера в человека, в силу его безграничных возможностей, теряет почву главный стержень гуманизма — борьба за свободу личности и достоинство человека. Вместе с тем все более укореняется сознание сложности, противоречивости, изменяемости жизни и неразрывной связи человека с окружающим миром, сознание враждебных человеку стихийных сил, управляющих миром, и трагичности человеческой судьбы.
Сороковые и пятидесятые годы XVI века знаменуют решающийперелом в развитии венецианской живописи. Однако кризис гуманизма, сопровождавшийся осознанием глубоких противоречий между идеалом и действительностью, получил совершенно различное отражение в творчестве ведущих венецианских живописцев второй половины XVI века. То единообразие, хотя в значительной мере искусственное, которое характеризовало венецианскую живопись в предшествующие десятилетия, теперь нарушено. Обострение классовой борьбы сопровождается резкими противоречиями в области художественной теории и практики, переходящими в принципиальную борьбу направлений. Наряду со старшим поколением живописцев Венеции и террафермы (Бонифацио, Бордоне, Кариани, Лотто, Савольдо, Моретто и другие), постепенно сходящим со сцены, все большее значение в венецианской художественной жизни приобретают молодые мастера во главе с Тинторетто, Веронезе и Якопо Бассано.
Основное направление венецианской живописи в середине века по-прежнему определяет творчество Тициана. В сороковых годах слава Тициана достигает своего зенита. К этому времени относятся знаменитые портреты императора Карла V, папы Павла III и других властителей судеб Италии — Альбы, Гранвеллы, дель Васто и т. д.
В 1545–1546 годах Тициан совершил свою триумфальную поездку в Рим, а несколько позднее ему воздавались большие почести при императорском дворе в Аугсбурге. И однако же именно в эти самые годы непререкаемый авторитет Тициана как главы венецианской живописи оказывается поколебленным. Безусловно, известную роль здесь сыграло длительное отсутствие Тициана. Когда же мастер возвратился на родину, он с горечью должен был констатировать, что крупные официальные заказы (во Дворце дожей, в Скуола ди Сан Рокко, в церкви Сан Себастьяно) передавались не ему, а его молодым соперникам.
Главная же причина этого заключалась, однако, в другом — в глубоком переломе, происходившем в те годы в общественной и художественной жизни Венеции и заметно отразившемся и в творчестве самого Тициана.
Первые признаки этого перелома проявляются, несомненно, уже в произведениях сороковых годов. Искусство Тициана становится глубже и сложнее, но вместе с тем лишается того непреодолимого, целеустремленного порыва, того радостного жизнеутверждения, которые присущи его творчеству в предшествующие десятилетия. Сквозь могучий пафос жизнеутверждения звучат резкие ноты мрачного протеста; взлеты ренессансной героики перемежаются моментами рефлексии и трагического разочарования.
Для творчества Тициана сороковых годов характерно более резкое, чем раньше, разобщение жанров (портрет, религиозная картина, «поэзии»), развивающихся каждый своим самостоятельным путем, а также значительно большее, чем раньше, можно сказать, господствующее место, которое художник в этот период уделяет портрету. Эта тяга Тициана к портрету явилась своеобразным выражением титанической борьбы мастера за утверждение идеалов Возрождения. Как человек Возрождения, Тициан воспринимает новые черты, открывающиеся ему в жизни, прежде всего через призму обогащенного и усложненного содержания человеческой личности. Однако это новое содержание человеческой личности, познавшей превратности исторических перемен, оторванной от своих идеалов и очутившейся в мире непримиримых противоречий действительности, полно глубочайших конфликтов. Основное в них — это конфликт личности с окружающей средой, трагическое страдание и унижение одинокого героя.
В сороковых годах, когда Тициан еще искал в окружающей его жизни непосредственного соответствия гуманистическим идеалам, он именно в портрете находил возможности для создания целостного образа значительной, волевой человеческой личности; именно в портрете ему удавалось сохранить гармонию индивидуального и типического, реального и возвышенно-героического. Позднее, в связи со все углубляющимся противоречием между идеалом и действительностью, со все более обостряющейся субъективной окраской мировосприятия мастера портрет перестает быть в центре его внимания (может быть, за исключением автопортрета), и свое главное выражение творческие замыслы Тициана находят в «поэзиях» и особенно в религиозных композициях.
Острота перелома художественного мировосприятия Тициана ясно ощущается в двух циклах, которые он выполнил в сороковых годах: один — на библейские сюжеты («Убийство Авеля», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Голиаф») для плафона церкви Санто Спирито (в настоящее время — в ризнице церкви Санта Мария делла Салуте), другой — с иллюстрациями античных мифов о божественном возмездии (сохранились две картины — «Сизиф» и «Титий» или «Прометей» — для замка в Бенше венгерской королевы Марии, ныне — в музее Прадо в Мадриде).
Здесь все говорит о какой-то напряженности художественного замысла, о потере творческой уверенности. Это сказывается прежде всего в самом обращении Тициана к совершенно чуждому ему специфически декоративному жанру. Несомненная напряженность чувствуется в осуществлении непривычной для Тициана композиции: резкие повороты тел, их преувеличенная мускулатура и подчеркнуто пластическая лепка — все проникнуто чуждой Тициану бравурной и внешней патетикой, все свидетельствует о том, что художник находится здесь как бы под властью каких-то извне идущих импульсов и вместе с тем — в борьбе с их воздействием. Источник этих импульсов совершенно очевиден. Это — Рим периода растущей католической реакции, это уже тот антиклассический стиль монументальной живописи, который сложился в кругу последователей Рафаэля и Микеланджело — Джулио Романо, Даниеле да Вольтерра, Франческо Сальвиати и других. Само стремление Тициана овладеть той областью искусства, которой он раньше всегда пренебрегал и которая считалась неотъемлемой привилегией римской школы, и вступить в борьбу с соперниками их же оружием свидетельствует о некоторой напряженности творческих исканий мастера.
Еще красноречивее об этом говорит сама тематика циклов, их идейное и эмоциональное содержание. В цикле Санто Спирито трижды повторяется тема убийства, грубой физической силы. Цикл замка венгерской королевы показывает четыре варианта жестоких, нечеловеческих мучений. При этом в обоих случаях тема наказаний и мучений переплетается с идеей божественного провидения и божественного возмездия, с напоминанием об адских муках и вечном наказании, столь характерным для католической реакции. Художник восхищается мощью человека, неукротимостью его воли, но он видит и теневые стороны этой мощи, лежащее в основе ее злое начало, ее воплощение в насилии и страданиях. Стремление к преодолению этого противоречия, в котором гуманистические идеалы Возрождения сталкиваются с новой, враждебной им действительностью, и приводит мастера к преувеличенной патетике, а в колорите — к потере той жизненной гармонии звучных цветовых отношений, которая была присуща ему раньше.
В сороковых годах колорит Тициана лишается прежней чистоты и ликующей ясности и становится пасмурным и тяжелым (стальным, оливковым, бурым), иногда почти грязноватым; отдельные яркие, несмешанные краски звучат с какой-то вызывающей решительностью, подчеркивая жестокость события и бессильное одиночество героя-жертвы; особенно наглядно это проявляется в луврском «Терновом венце» и большой картине венского музея «Се человек». Венская картина (1543) не менее, чем цикл для Санта Мария делла Салуте, характерна для перелома, переживаемого Тицианом в сороковых годах. Антитеза героя и стихийной враждебности мира воплощена в ней с какой-то подчеркнутой нарочитостью и вместе с тем с холодным равнодушием, почти издевкой. Необычайная осязательность отдельных фигур, могучих тел, широких жестов, ярких одеяний, кусков архитектуры сочетается с некоторой надуманностью композиции, с эффектом театральной инсценировки и даже с элементами шаржа и гротеска (Пилат, похожий на Аретино, толстый фарисей и т. п.). И хотя волны движения и возбуждения, поднимающиеся из толпы к стоящему в самом углу картины на возвышении Христу, дают внешнее объединение идейного и эмоционального содержания картины, образный мир ее лишен внутренней цельности и разбивается на ряд самодовлеющих, разобщенных друг от друга образов. С особенной силой эта разобщенность проявляется в образах потерявшихся в толпе белой девушки (в центре картины) и мальчика с собакой у подножия лестницы.
Вместе с тем в картине, где столь осязательны все фигуры, Тициан достигает особого эффекта необычности, даже нереальности происходящего фантастикой своего колорита. В ней есть несколько красочных центров — яркая киноварь фарисея, сочный кармин воина с алебардой и зелено-желтая спина солдата со щитом. Уже в самой изолированности и яркости этих красочных центров есть что-то нереальное. Но Тициан еще больше подчеркивает отвлеченный эффект своего колорита тем, что всегда сопоставляет рядом самые крайние контрасты темного и светлого. Только тогда нам становится понятным и смысл девушки в белом. Как самое светлое пятно среди темных, она подчеркивает красочность соседних с ней фигур и в то же время сама концентрирует в себе такую силу света, что вся картина начинает светиться ее сиянием. Таким образом, если раньше краска служила Тициану для того, чтобы подчеркнуть великолепие земной красоты, вылепить обнаженное тело или создать иллюзию бархатной ткани, то целью старого Тициана является краска эмоциональная, краска самодовлеющая, которая обладает своей собственной энергией и воздействует даже независимо от фигурной композиции.
Осознание глубоких противоречий между идеалами и действительностью, трагических конфликтов между героем и обществом приводит Тициана, как мы видели в многофигурных композициях сороковых годов, к напряженности в композиции, к преувеличенной патетике, к некоторой вульгаризации средств выражения, к потере цельности образа. Только в портретах Тициану удается сохранить внутреннее единство образа, ту цельность героической, волевой личности, которая свойственна пониманию человека в эпоху Возрождения. Однако и в портретах этой кризисной поры находит свое яркое отражение сознание непримиримых противоречий действительности, сложных конфликтов человека и окружающего мира.
Для портретов Тициана двадцатых и тридцатых годов характерна некоторая статичность, одноплановость и прямолинейность. Они существуют как бы вне времени, в отрыве от потока жизни; художник подчеркивает в них прежде всего близкое родство социального типа, общественного ранга (преимущественно повелителей и военачальников); их внутренняя жизнь лишена сложности и конфликтов, их бытие неизменно и гармонично.
Совершенно иной подход к портрету у Тициана в сороковых годах, в пору кризиса его художественного мировосприятия и вместе с тем высших достижений его портретного искусства. По остроте и глубине психологического анализа, по богатству и сложности внутреннего содержания, по силе социального обобщения портреты Тициана сороковых годов далеко превосходят все, что создано эпохой Возрождения и самим Тицианом в области портрета. Именно эта сложность, противоречивость бытия, эта борьба противоположных свойств, но показанная не в разладе, в раздвоенности, в обособлении, а в единстве и целостности человеческого характера; эта монументальность, величие, значительность человека, несмотря на все его слабости и пороки, и составляют основную особенность тициановских портретов сороковых годов. Так, в портрете Карла V в кресле (Мюнхен) Тициан показывает не только разочарование и меланхолию измученного подагрой человека, но и несгибаемую энергию большого государственного деятеля, а в конном портрете императора (Прадо) — не только героический порыв и триумф военачальника, но и горечь человека, сознающего крушение своих мечтаний. Второй портрет Тициан написал после победы Карла при Мюльберге. Больной, усталый, близкий к отречению император в последнем порыве энергии сам садится на коня, чтобы руководить войсками, — и побеждает. Эта роковая, сверхчеловеческая сила, увлекающая императора, блестяще выражена Тицианом в железной неподвижности всадника, в контрасте его блестящих доспехов и черной лошади, погруженной в тень, в поднимающейся диагонали копья. Здесь парадный стиль Тициана находится в полном соответствии с темой.
В отличие от портретов предшествующего периода, Тициан показывает теперь человеческую личность не в ее вневременном совершенстве и гармонической уравновешенности, не в однородности социального типа и общественного ранга, а в развитии, в изменчивости бытия, в неразрывной связи с историческими путями. Огромная сила тициановских портретов сороковых годов заключается именно в глубоком проникновении в историческую обстановку, в правдивом, реалистическом раскрытии исторического содержания образов, в их социальной направленности. Отсюда та тень трагического одиночества, которая падает на величавый образ Карла V в кресле (Мюнхен) и которая отражается в напряженном взгляде Ипполито Риминальди (Питти). Отсюда — та атмосфера ненависти, лжи и недоверия, которой насыщен групповой портрет папы Павла III с его непотами. Это — больше чем портрет Павла III, это — обвинительная речь всему папству. Папа, хилый, но злой и властный старик, согнулся в кресле; позади стола — его внук, кардинал Алессандро, холодный и выжидающий; справа — другой внук, Оттавиано Фарнезе, подобострастно и коварно скользя, приближается к папе. Рассказывают, что папа был прямо испуган, когда увидел, как остро Тициан уловил всю атмосферу папского двора с его интригами, подкупами и так называемым непотизмом.
Реализм тициановских портретов сороковых годов, при всем его сложном многообразии и противоречивости, в своих основах целиком восходит к традициям реализма эпохи Возрождения — по силе обобщения, по целостности восприятия человеческого образа, по существу гуманистических идеалов великого мастера, по остроте протеста против гнета феодально-католической реакции. Характерно, однако, не только то, что целостность художественного образа при показе сложных противоречий действительности оказывается возможной для Тициана в эту пору лишь в области портрета, то есть в пределах обособленной и самодовлеющей человеческой личности, но и то, что, подчеркивая в своих героях прежде всего их значительность, активность, жизненную силу, как бы она ни проявлялась, Тициан не дает им никакой этической оценки.
Однако в условиях все усиливающейся феодально-католической реакции, при возрастающем несоответствии новой действительности со старыми идеалами Тициан не в силах был сохранить в своем портретном искусстве то утверждение сильного человека, ту гармонию индивидуального и типического, реального и возвышенно-героического, которые присущи его портретам сороковых годов. По возвращении Тициана в Венецию после поездки в Рим и Аугсбург, означавшем для него ряд личных неудач и разочарований, художник все более теряет веру в человека, в силу его безграничных возможностей, все более трагической становится его борьба за идеалы ренессансного гуманизма. Ренессансная героика из объективного фактора социальной действительности перемещается в сферу субъективных представлений.
Особенно красноречиво это сказывается в немногочисленных поздних портретах Тициана. Героизация человеческого образа привносится в них извне путем пояснительных атрибутов («Герцог Атри» в Касселе, «Мужчина с пальмовой ветвью» в Дрездене, «Антиквар Якопо де Страда» в Вене) и превращается подчас в мнимую значительность, в искусственное сочетание самоуверенности и самоуничижения (обетная картина семейства Вендрамин, около 1550 года, в Лондонской Национальной галерее). Недаром портрет занимает такое незначительное место в творчестве Тициана после 1550 года.
Только в автопортрете, в силу субъективной окрашенности ренессансного героического идеала у позднего Тициана, мастер находит возможности для воплощения своего возвышенного представления о человеке; именно в самом себе Тициан еще видит ретроспективно человека Возрождения. Характерно, однако, что и здесь, сравнивая автопортреты Тициана около 1550 года (Берлин) и около 1565 (Мадрид, Прадо), мы улавливаем резкий перелом в оценке взаимоотношений человека и окружающего мира: от героически приподнятого, действенного самоутверждения в борьбе с окружающим враждебным миром — к величавому самоуглублению, к трагическому одиночеству и замкнутости.
Наряду с охлаждением интереса к портрету для позднего периода творчества Тициана характерно еще большее, чем в сороковых годах, разобщение жанров — прежде всего в том отношении, что он вкладывает иные оттенки жизнеощущения в картины с мифологической тематикой («поэзии»), чем в картины религиозного содержания, но также и в том смысле, что в разные периоды своей поздней деятельности мастер отдает явное предпочтение то одному, то другому жанру. Так, если пятидесятые годы в творчестве Тициана отмечены безусловным преобладанием «поэзий», то в самый последний период жизни его господствующим жанром становится религиозная картина.
Пятидесятые годы XVI века знаменуют начало заключительного этапа в творческом развитии великого венецианского мастера. Тот бурный, могучий и вместе с тем напряженно-противоречивый пафос утверждения своих идеалов, который присущ искусству Тициана сороковых годов, сменяется теперь более пассивным, замкнутым в себе созерцанием, в котором преобладает то восхищение чувственной красотой мира, то трагические ноты обреченности и страданий одинокого человека. Вместе с тем Тициан уже не ищет в окружающей действительности непосредственного соответствия своим гуманистическим идеалам; его перестают волновать проблемы исторических путей, величия и мощи земной власти; его мировосприятие получает все более субъективную окраску, все более проникается элементами рефлексии и эмоциональных переживаний. В то же время остро осознаваемые Тицианом уже в сороковых годах противоречия идеала и действительности, конфликт героя и мира становятся теперь еще глубже, трагичнее и приобретают этический оттенок — унижение и страдание одинокой героической личности показываются теперь в плане утверждения нравственной силы героя («Мучение святого Лаврентия», церковь Джезуити в Венеции; «Несение креста», Мадрид, Прадо; «Святой Себастьян», Ленинград, Эрмитаж; «Коронование терновым венцом», Мюнхен, и др.).
Эти противоречия, это глубокое несоответствие между новой действительностью и старыми идеалами накладывают неизгладимый отпечаток на творчество позднего Тициана, на характер его живописной техники.
В религиозных композициях пятидесятых годов наряду с теми качествами, которые мы отметили раньше и которые составляют основу художественного мировосприятия позднего Тициана, проявляются и совершенно чуждые существу его творческого облика элементы преображенных небесных видений, связанные в свою очередь с оттенком искусственного смирения и самоуничижения человека (обетная картина семейства Вендрамин, Лондонская Национальная галерея[38]; «Поклонение святой Троице», Мадрид, Прадо; «Явление Христа Марии», приходская церковь в Медоле; «Сошествие святого духа», Венеция, Санта Мария делла Салуте).
Такой же оттенок чуждых элементов в мироощущении Тициана обнаруживает и серия его мифологических картин пятидесятых годов. В поздних «поэзиях» Тициана нет прежней героической мощи, нет бьющей через край жизнерадостной энергии, которые можно наблюдать еще в неаполитанской «Данае» и «Венере с амуром» (Уффици). Их образы мягче, грациознее, но и изнеженнее. В них больше подчеркнут любовный элемент, с одной стороны, усиливающий их эмоциональную насыщенность, а с другой — придающий их чувственности эротический привкус. Эти элементы помимо ряда мифологических картин («Венера перед зеркалом», «Венера с органистом», «Венера с лютнистом», мадридская «Даная», «Диана и Актеон», «Диана и Каллисто» и др.) заметно сказываются и в некоторых поздних портретах Тициана, например в дрезденском «Портрете Лавинии».
В этой связи следует обратить внимание еще на одну особенность поздних мифологических картин Тициана. Наиболее заметная в «Похищении Европы», она в той или иной мере присуща и другим «поэзиям», а также религиозным композициям Тициана после пятидесятых годов. При всей чувственной насыщенности поздних «поэзий» Тициана в них есть оттенок зыбкости и скоротечности. Как волнующие, близкие и все же недосягаемые видения, скользят поэтические образы мастера мимо зрителя. Этому впечатлению содействует и особый композиционный ритм поздних произведений Тициана, и тончайшая нюансировка тонов, преломление и свечение красок изнутри, преобладание в колорите низких тембров, бурых и мшисто-зеленых тонов, и, наконец, то нарастающее с каждым годом сгущение ночного мрака, которое накладывает на самые последние произведения Тициана суровый отпечаток скорби и одиночества.
Именно это настроение глубокой и торжественной скорби, к концу жизни мастера то приобретающей силу трагического отчаяния («Положение во гроб» в Венецианской академии), то сменяющейся взрывами гневного протеста («Святой Себастьян» в Эрмитаже), характерно для самого последнего периода деятельности Тициана (1560–1570).
Принято начинать поздний период творчества Тициана с сороковых годов. В известной мере это правильно, так как перелом в сороковых годах несомненно предопределил многие особенности дальнейшего развития художественного мировосприятия мастера; границы же отдельных этапов развития внутри этого большого периода, исчисляемые обычно десятилетиями, носят условный характер. И все же есть серьезные основания для выделения последних примерно пятнадцати лет деятельности Тициана в особую, заключительную стадию его творческого пути.
В эти последние годы своей жизни, несмотря на обилие учеников и широко поставленную работу мастерской, Тициан все более замыкается в одиночестве. Один за другим умирают ближайшие друзья и единомышленники старого мастера — Аретино, Дольче, Сансовино. На первый план выступают, развивая бурную деятельность и завоевывая себе громкую известность, художники младшего поколения — Веронезе, Бассано, Тинторетто. Наряду с новыми задачами и методами, которые выдвигают эти выдающиеся живописцы, искусство старого Тициана перестает вызывать то неограниченное восхищение современников, которое еще недавно и неизменно ему сопутствовало. Все чаще художник наталкивается на непонимание и резкую критику. Высказывания Вазари в его «Жизнеописаниях» и письмо антиквара Никколо Стоппио к Максу Фуггеру 1568 года столь же красноречиво об этом свидетельствуют, как и проделки учеников, пытавшихся, по словам Зандрарта, «исправить» живопись старого мастера.
То обстоятельство, что Тициан пережил самый коренной перелом своего стиля в возрасте почти восьмидесяти лет, указывает на совершенно исключительную творческую энергию мастера. Внешним толчком для развития этой энергии послужило появление в Венеции нового гениального живописца — Тинторетто; Тициан сразу же почуял в нем своего соперника и возненавидел его всеми силами своей страстной натуры. Через несколько дней после того, как Тинторетто поступил к нему в ученики, Тициан выгнал его из мастерской, не объясняя причин, и, в ущерб Тинторетто, стал усиленно протежировать другого молодого живописца — Паоло Веронезе. Жестокую борьбу с Тинторетто Тициан продолжал до последнего дня жизни. Словно какое-то творческое бешенство овладело старым мастером. На картине «Благовещение» рядом со своей подписью он дважды ставит слово fecit — сделал, сделал, как будто бросает вызов всему миру.
Расхождение позднего Тициана с эстетическими вкусами его времени, непонимание старого мастера большинством современников усугубляются еще своеобразным разрывом в творчестве Тициана, резким разграничением его поздних произведений на две группы.
Одни из них, писанные на заказ, с широким привлечением учеников, отличаются вялостью выполнения и условностью замысла («Тайная вечеря» 1564 года в Эскориале, «Поклонение волхвов» в Кливлендском музее и др.), переходящей временами в напыщенную придворную риторику («Вера» — обетная картина дожа Гримани во Дворце дожей, «Аллегория на победу при Лепанто» 1571–1575 годов в Прадо).
Другие — это те шедевры гениального мастера, в которые он вложил всю буйную, неистощимую силу своего жизнеощущения и всю трагическую горечь своего одиночества («Благовещение» около 1565 года в Сан Сальваторе в Венеции, «Святая Магдалина» и «Святой Себастьян» в Эрмитаже, «Автопортрет» в Прадо, «Коронование терновым венцом» около 1570 года в Мюнхене, «Пастух и нимфа» в Художественно-историческом музее в Вене, «Оплакивание» 1573–1576 годов в Венецианской академии).
В этих работах «для себя», вопреки все нарастающей волне феодально-католической реакции, захватившей в те годы и Венецию, Тициан вновь, с необычайной настойчивостью и последовательностью, возвращается к идеалам своей юности, к гуманистическим традициям Возрождения, к прославлению героического человека. Известно, что в своих поздних картинах Тициан часто использовал мотивы, фигуры, композиционные схемы произведений Беллини, Джорджоне, Доменико Кампаньола и других, относящихся к началу XVI века, и что в его картинах последнего периода опять появляются простые, чистые краски, которые мастер любил в молодости, — кармин, киноварь, ультрамарин, зеленые, желтые, но свободные теперь от изысканной нарядности и цветистости, присущей колориту Тициана до пятидесятых годов, и насыщенные мрачной торжественностью.
Огромное значение последних произведений Тициана состоит в непоколебимой верности идеалам Возрождения, в целеустремленной энергии, с которой девяностолетний мастер стремится утвердить красоту и смысл жизни, величие и достоинство героического человека. Вместе с тем несоответствие этих идеалов с действительностью настолько велико, конфликт героя и мира настолько непримирим, что Тициан лишь в трагической обреченности и страданиях одинокого героя-жертвы находит воплощение идеалов ренессансного гуманизма. Отсюда основная тема поздних произведений Тициана — тема этического превосходства героя над окружением, над стремящимися его поработить враждебными силами, величие человека в страданиях, его унижение, страдание и гибель как непреодолимый жизненный закон, и вместе с тем его мужество и благородство, выковывающиеся в непосильной борьбе. Если произведения Тициана двадцатых годов увлекают зрителя, то о произведениях позднего Тициана хотелось бы сказать, что они потрясают.
Из этого несоответствия идеалов с действительностью вытекает и еще одна особенность позднего стиля Тициана, которую можно назвать сгущением эмоций, мрака, колорита и т. д., но в которой есть также элемент упрощения и умолчания.
Именно эта особенность придает последним произведениям Тициана такую ни с чем не сравнимую монументальность и одухотворенность.
Это качество последних произведений Тициана особенно наглядно проявляется при сравнении более ранних и более поздних вариантов одной и той же композиции, например «Коронования терновым венцом» в Лувре (1540-е годы) и в Мюнхене (около 1570 года) или же «Мучений святого Лаврентия» в венецианской церкви Джезуити (между 1548 и 1559 годами) и в Эскориале (завершена в 1567 году). Некоторые черты стиля позднего Тициана сказываются уже в раннем варианте «Мучений святого Лаврентия». Впервые Тициан прибегает к ночному эффекту. Борьба четырех источников света — красного пламени костра, желтых факелов и голубого сияния, льющегося из разверстых небес, создает совершенно фантастические переливы красок. Резкие ракурсы фигур еще усиливают нереальность этого видения. При сравнении двух картин на эту тему сразу же бросается в глаза, как в позднем варианте «Мучения святого Лаврентия» упрощена сложная борьба различных источников света, как смягчена резкость движений и ракурсов, как последовательно построенная архитектурная перспектива сменилась обобщенным силуэтом темной арки и как, наряду со сгущением мрака и угасанием трепетного, неверного света чадящих светильников, нарастает сгущение переживаний в картине.
Основное же свойство позднего Тициана заключается в стремлении к монументализации образа единичного, обособленного человека, в отказе от конкретного изображения окружающей среды. Подобно тому как образный строй поздних произведений Тициана включает в себя только человека, как фантом, возникающего из хаоса вселенной и обреченного в нем на неизбежную гибель, так и колорит старого мастера строится на цвете человеческого тела, в тревожном мерцании множества оттенков повторяющемся и растворяющемся в тонах одежды, пейзажа, фона («Святой Себастьян» в Эрмитаже, «Святая Маргарита» в Прадо, «Тарквиний и Лукреция» и «Пастух и нимфа» в Вене). Колорит в картинах позднего Тициана основан на тончайших оттенках, дополняющих друг друга, перекликающихся и контрастирующих между собой, образующих вибрирующую красочную ткань, которая лишь на известном расстоянии от картины воспринимается как целостный живописный образ.
В картинах, которые Тициан пишет незадолго до смерти, предметы и формы как бы дематериализуются, не имеют ни твердых контуров, ни твердых красочных признаков. Совершенно невозможно, например, определить, из каких бесчисленных нюансов состоит серебристо-розовая одежда Лукреции, где она переходит в одежду Тарквиния и какого цвета эта одежда. В одной из последних картин Тициана — «Коронование терновым венцом» — краска совсем растворила твердую пластическую форму. Здесь нет ни фигур, ни пространства, а есть только дрожание и переливы красочной поверхности, излучающей из себя образы, полные глубокого трагизма.
О своеобразной живописной технике поздних произведений Тициана сохранилось много красноречивых свидетельств современников (Вазари, Дольче, Ломаццо и другие), подробное описание М. Боскини со слов ученика Тициана Пальмы-младшего, восторженные отзывы ряда выдающихся живописцев. Со временем техника Тициана совершенно изменилась. Очевидцы рассказывают, что сначала Тициан бросает на холст множество различных красок — это служит ему подмалевком; затем, окуная одну и ту же кисть в черную, желтую и красную краски, он моделирует формы; заканчивает картину он обычно ударами пальцев.
Особенностью живописи позднего Тициана является то, что, будучи полностью завершенной, она вместе с тем как бы обнаруживает перед зрителем самый процесс создания картины, становления образа в ходе его творческого воплощения. В то же время в поздней живописи Тициана нет никаких элементов ни виртуозной игры кистью, ни произвола технического опыта, точно так же как в краске позднего Тициана не остается ни малейшего следа ее химического состава, ее пигмента. Но краски позднего Тициана никогда не служат и никаким извне поставленным перед ними задачам — ни созданию обманчивой иллюзии вещественности, ни выражению субъективных эмоций художника; они не бывают печальными или веселыми, суровыми или нежными, но всегда излучают полноту бытия и силу жизнеутверждения. Краски позднего Тициана создают образы такой неоспоримой реальности, такого единства света и воздуха, такого органического слияния духовного и материального, какого до него не достигал ни один живописец. В последней, предсмертной картине Тициана «Оплакивание Христа» (законченной Пальмой-младшим) в образе Магдалины с огромной силой воплощена нераздельность физического и духовного начала, героическая целостность страдающей, трагически одинокой, но борющейся человеческой личности.
Тициан до самого конца жизни (умер в 1576 году) остается верен гуманистическим идеалам Возрождения. Он видит их крушение, он сознает глубоко враждебный им, разрушающий их натиск феодально-католической реакции, с которым не перестает бороться до последних дней своей жизни. Вместе с тем именно в поздних произведениях Тициана с особенной отчетливостью выступает его принципиальное отличие от венецианских мастеров младшего поколения — Тинторетто, Веронезе, Бассано: отсутствие в его искусстве чувства общности людей, понимания общественной среды и, с другой стороны, свойственное ему воплощение переживаний народа через единичного, замкнутого в себе человека. Отсюда — потрясающий трагизм его последних произведений, страдание и обреченность его героев.
XXVII
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ мы познакомимся с теми итальянскими мастерами, которые действовали в период Высокого Ренессанса и примыкали к его великим представителям, но по тем или иным причинам начали внутренне отходить от него, предсказывая или намечая в своем творчестве черты кризиса, хотя бы еще и не осознанные их современниками.
Самым младшим из крупнейших мастеров Высокого Ренессанса был Корреджо. Он, несомненно, принадлежит еще к Высокому Возрождению; в какой-то мере он объединяет достижения Леонардо, Рафаэля, Микеланджело в области света, ритма, рельефа в одно целое. Но вместе с тем его живопись представляет собой не дальнейшее развитие стиля Ренессанса, а его упадок, угасание, разложение. У Корреджо не хватает серьезности, силы, героизма, величавости, человечности, идейного стержня; ему удаются только те картины, где господствуют мягкие, нежные чувства, не пафос, а беззаботная игра, радостная улыбка. Но эта радостная улыбка и «игривость» (за которую так высоко ценила Корреджо эпоха рококо) чаще всего соединяются с абсолютным равнодушием. Несмотря на чутье осязательной формы, телесной, чувственной, на чутье света, искусство Корреджо по существу часто оторвано от реальной жизни. Оно предназначалось главным образом для изощренных вкусов аристократического общества. При жизни Корреджо его знал и ценил очень небольшой круг почитателей. В сравнении с творчеством великих мастеров Ренессанса его искусство отмечено печатью провинциализма.
Антонио Аллегри, сын мелкого торговца, родился около 1489 года в маленьком городке Корреджо (в провинции Эмилия), откуда и получил свое прозвище. Биография его крайне небогата событиями. Он рано женился, имел много детей, отличался скупостью и склонностью к меланхолии. Вот, кажется, все, что можно извлечь из литературных источников для биографии мастера. Старинная традиция называет учителями Корреджо его дядю Лоренцо и посредственного моденского живописца Бьянки Феррари, типичного кватрочентиста, с любовью к суховатым, тонким деталям (мелочный рисунок, пестрый колорит), у которого угловатость неуловимо сплетается с грациозностью.
И Леонардо, и Рафаэль, и Микеланджело выросли в атмосфере напряженной творческой работы, среди памятников высокого стиля, Корреджо родился и умер провинциалом, поле деятельности которого не выходило за пределы маленьких североитальянских городков, главным образом Пармы. Ученые, правда, предполагают поездку Корреджо в Рим для объяснения в его искусстве влияния Микеланджело, но прямых указаний на это путешествие не имеется.
Для современников искусство Корреджо прошло малозаметным. Знаменитая Изабелла д’Эсте, герцогиня Мантуанская, одна из самых ревностных меценаток Ренессанса и, так сказать, соседка Корреджо, только один раз обратилась к мастеру с заказом, кстати сказать, на редкость не соответствующим его таланту, предпочитая ему обычно заезжих знаменитостей.
Корреджо был открыт вездесущим Вазари, сумевшим впервые оценить его значение. С этого момента слава пармского мастера стала быстро подниматься и скоро затмила героев Ренессанса. Для художников контрреформации Корреджо служил самым великим образцом. С конца XVI века (Болонская академия) начинается культ Корреджо, его огромное влияние. Пышностью форм, чувственностью образов, сложной динамической композицией его искусство предвещает стиль барокко, «игривостью», эротикой, пасторальностью — рококо. Иезуиты, католическая реакция использовали искусство Корреджо как изумительный способ воздействия на массы. Так, Корреджо силой вещей стал провозвестником академизма, буколики и фривольности, иезуитской программы эмоционального гипноза и очаровывания зрителя. В наши дни искусство Корреджо далеко не вызывает такого восхищения.
От великих мастеров Ренессанса Корреджо отличается и сравнительно медленным своим развитием. Первая, документально удостоверенная его работа «Богоматерь со святым Франциском», исполненная для монахов-миноритов родного города, относится к 1514 году. Другими словами, Корреджо начинает свою живописную карьеру в возрасте двадцати пяти лет, в том возрасте, когда Рафаэль и Микеланджело уже пожинали славу признанных мастеров. Правда, ученые сделали попытку связать с именем юного Корреджо ряд проблематических картин, но отсутствие каких-либо документальных свидетельств, подтверждающих подлинность их происхождения, лишает эти догадки убедительности. Композиция «Мадонны со святым Франциском» восходит к североитальянским традициям. Такую схему создали Мантенья и Беллини для изображения «Священной беседы»: мадонна на высоком троне, у его подножия — святые в раме архитектуры. И, однако, в картине есть два момента, которые сразу же указывают на родственные Микеланджело искания.
Первый из этих моментов — вращательное движение. Ни одна фигура не остается спокойной, каждая поворачивается вокруг своей оси. И это непрерывное вращение особенно подчеркнуто парящими ангелочками, которые чертят в воздухе круг над головой богоматери. Сферичность пространства — вот впечатление, которое мы выносим от этой картины. Другой, еще более важный момент — повышенная чувствительность. Святые не скрывают своих чувств под спокойной торжественностью, как в картинах Ренессанса, но стремятся найти им непосредственный выход и, что особенно интересно, вовлечь зрителя в этот поток чувств. Святой Франциск и святая Екатерина посылают богоматери взгляды обожания, Иоанн Креститель спешит обратить внимание зрителя на благословляющего младенца. Я подчеркиваю этот несколько театральный прием. Его цель — уничтожить границу между изображенным пространством картины и реальным пространством зрителя, заставить зрителя поверить, что действие развертывается в том самом пространстве, которое его окружает, и этой непосредственной близостью божественного зажечь его религиозное чувство. Характерно также, что на губах всех действующих лиц играет чуть уловимая улыбка. Она тоже служит выходом для чувств, нежных и неопределенных, — с такой улыбкой благоговения и зритель невольно подходит к созерцанию картин Корреджо.
К сравнительно раннему периоду творчества Корреджо относится также «Поклонение богоматери младенцу Христу». Эволюционное значение этой картины совершенно исключительно. Корреджо делает здесь первую в итальянской живописи попытку вечернего освещения. На холодном фоне закатного неба быстро сгущаются сумерки, погружая весь пейзаж в туманную мглу, и только крошечное тельце Христа и лицо богоматери освещены лучами божественного сияния. Свет интересует Корреджо не как объективное явление природы, а как субъективное орудие настроения. Он сознательно преувеличивает все эффекты, чтобы выделить главное — благоговейную тишину поклонения. Обратите внимание на неестественно крошечные пропорции младенца: именно благодаря им сияние мадонны вырастает до сверхъестественной силы. Мы сталкиваемся здесь с приемом, обратным Микеланджело: тот преувеличивал пропорции, Корреджо их преуменьшает. Но цель одна и та же: усиление чувств до экстаза, до самозабвения. Не удивительно, что эпоха Контрреформации так высоко ставила Корреджо.
Здесь заслуживает обсуждения еще другая проблема. Кто вдохновил Корреджо на эффекты вечернего освещения? Обычное указание на Леонардо да Винчи и его нежную дымку светотени недостаточно убедительно. Леонардо применял свое сфумато в целях пластической и эмоциональной характеристики образа. Освещение как таковое его совершенно не занимало. Наоборот, Корреджо — и чем дальше, тем больше — увлечен именно искусственным светом. Он больше любит вечер и ночь, чем день. Он предпочитает контрасты: туманную мглу, которая скрывает все контуры предметов, и сверхъестественное сияние, ослепляющее своим блеском. Свет для Корреджо — это источник настроения, таинственных душевных переживаний. В этом смысле он мог почерпнуть вдохновение только в искусстве Северной Европы, в нидерландской и французской живописи. Проблема света была издавна любимой темой североевропейского искусства. Уже строители готического собора путем цветных витражей пытались разрешить проблему сверхъестественного, преображенного света. Это увлечение игрой световых эффектов передалось фламандской и французской миниатюре. Достаточно вспомнить имена братьев Лимбург, Губерта ван Эйка или Жана Фуке с их любовью к неожиданным и сложным эффектам освещения. Наконец, во второй половине XV века проблема ночного освещения делается достоянием масляной живописи. Геертген из Гаарлема был первым из нидерландских живописцев, изобразившим «Святую ночь» в сиянии искусственного света. Между тем именно Северная Италия находилась в постоянном обмене художественных сил с Францией и Нидерландами. В Ферраре, Мантуе, Венеции нередко гостили заезжие знаменитости с Севера. Естественно предположить, что молодой Корреджо с особенным вниманием присматривался к произведениям северных живописцев, которые пробуждали в нем заложенные от природы задатки колориста.
Так, на двух ранних произведениях Корреджо мы познакомились с основными особенностями его художественного творчества. Теперь рассмотрим эволюцию его искусства в трех направлениях, по трем циклам его излюбленных тем. Во-первых, картины религиозного содержания, далее, мифологические сюжеты и, наконец, композиции декоративного характера.
«Мадонна со святым Себастьяном» (Дрезден, галерея), написанная в 1525 году, то есть десять лет спустя после первых опытов Корреджо, показывает, как быстро развернулось дарование мастера. Тема та же, что и в первой алтарной картине Корреджо: мадонна во славе, окруженная святыми. Но теперь действие из архитектурной рамы перенесено в натуру, причем художник словно нарочно отнимает у фигур прочную опору: несмотря на то, что святые находятся на земле, кажется, что вместе с мадонной они витают в облаках, что это сон, приснившийся и зрителю и святому Роху, утомленному скитаниями. Эта легкая воздушность композиции еще усиливается движением фигур. Ни одна фигура не бежит, не летит, даже не идет, и все-таки все они захвачены беспрерывным потоком движения и объединены одним порывом восторженного ликования. Опять, как и в прежних произведениях Корреджо, целью является излияние чувств. И опять, как в «Мадонне со святым Франциском», Корреджо вовлекает зрителя в эту атмосферу благоговейного восторга: на этот раз проводником чувств является святой Джиминьян, распростертые руки которого неудержимо увлекают внимание зрителя к мадонне. Я обращаю ваше внимание на этот излюбленный прием Корреджо, которым он с еще большей виртуозностью пользуется в позднейших алтарных картинах. Цель этого приема в том, чтобы точно определить положение зрителя: руки святого Джиминьяна указывают ему определенное место внизу картины, на средней оси. Иначе говоря, зритель находится в неподвижной точке, и пространство картины как бы обволакивает его со всех сторон своей атмосферой. Такой прием можно считать признаком крайнего субъективизма. Мир объективно не существует, он — видение, воспринимаемое нами только через посредство наших чувств.
Однако в занимающей нас картине есть еще одна в высшей степени любопытная черта: обилие детских фигур. Не только облака над головой богоматери переполнены головками херувимов, но дети находятся среди действующих лиц, участвуют в поклонении младенцу и просто радуются избытку переполнивших их чувств. Корреджо всегда по справедливости считался непревзойденным мастером в изображении детей. И в самом деле, что может сравниться по жизнерадостной непосредственности с этим очаровательным карапузом, усевшимся верхом на облаке! Но Корреджо не только мастерски изображает детей. Постепенно он как бы сам усваивает себе детскую психологию и начинает смотреть на мир наивными глазами ребенка. Больше того — его взрослые герои с течением времени все более становятся похожими на подростков — с несложившимися еще пропорциями тела, маленькими руками и широко раскрытыми, наивными глазами. Как раз эту черту особенно любила в Корреджо эпоха рококо, видевшая в ней свежесть и непосредственность чувства. И именно с ней нам трудней всего примириться в творчестве Корреджо. Однако было бы решительной ошибкой обвинять Корреджо в сознательной, намеренной фальши. Здесь сказывается протест нового поколения против олимпийской уверенности Ренессанса. Из этого бессознательного протеста родилась и наивная детскость образов Корреджо. Не в силах сразу отказаться от всех формальных достижений Ренессанса, Корреджо отрекается от классического стиля наивностью своего чувства.
Но эта наивная сентиментальность, свойственная Корреджо, не всегда подходила к теме, изображенной мастером. В тех случаях, когда Корреджо брался за драматический рассказ в духе Ренессанса, он неизбежно попадал в резкий конфликт с самим собой. Ярким примером может служить «Мучение святых Плацида и Флавии». Эта картина — одна из самых неприятных в творчестве мастера. Она прямо-таки раздражает своим неестественным контрастом между жестокостью темы и наиьной чувствительностью повествования. Разбросанные по земле обезглавленные тела, наивная восторженность святой Флавии и блаженная мечтательность святого Плацида, шея которого наполовину отрублена мечом палача, — все это раздражает в такой же мере, как досадная обстоятельность в фигуре палача с обнаженным плечом и обнаженными ногами в мягких сапожках. Для наших глаз Корреджо дает слишком много и слишком противоречивые детали. Но как раз именно эта наивная болтливость, сменившая скупость и сдержанность Ренессанса, составляла гордость нового поколения художников, была их новой правдой. Вместо логической идеальной правды Ренессанса их прельщает теперь субъективная правда выдумки и чувства.
Натура сама по себе привлекала Корреджо очень мало. И человек и пейзаж представляли для него интерес лишь постольку, поскольку их можно было сочетать в новых невиданных комбинациях и сделать их носителями необычайных чувств и настроений.
Каковы же были главные средства субъективной правды Корреджо? Для выяснения их обратимся к самым законченным и совершенным произведениям мастера, которые он исполнил в последние пять, шесть лет своей недолгой жизни, от 1528 до 1534 года. Вступлением к большим алтарным картинам последнего периода служит маленькая картина «Христос в Гефсиманском саду». Мы встречаем здесь тот же эффект вечерней мглы, пронизанной искусственным светом, который Корреджо уже однажды использовал в «Поклонении младенцу». Только теперь Корреджо еще смелей подчеркивает световые контрасты, усиливая глубокую темноту лесной чащи, в которой едва можно различить контуры спящих апостолов. Но главная смелость и новизна этой композиции заключается в другом: в ее неслыханной асимметрии! Фигура Христа сдвинута к самому левому краю картины, так что фигура ангела, слетающего с неба, оказывается частично срезанной углом рамы. Это большое светлое пятно фигур слева уравновешивается только светлой полоской неба в правом углу картины. Таким образом, самые важные акценты композиции сосредоточены не в центре, а по углам. В результате создается впечатление захватывающей непринужденности повествования, неудержимой мимолетности видения. В отличие от Ренессанса, который строит каждую картину как замкнутый, самодовлеющий мир, здесь — случайный вырез из бесконечного пространства, в котором находится и сам зритель.
В двух своих замечательных алтарных картинах, которые итальянская молва окрестила названием «День» и «Ночь», Корреджо достигает наивысшей выразительности своих живописных средств. «День» (вернее, «Мадонна со святым Иеронимом»), написанный для церкви святого Антония в Парме, хранится в местной галерее. Мадонна с младенцем присела отдохнуть под тенью раскинутой между деревьями красной ткани, предохраняющей их от дневного зноя. Святой Иероним со своим львом и белокурая Магдалина пришли к ним в гости. Все здесь ново и необыкновенно. Удивительна та интимная, жанровая обстановка, в которую Корреджо оправляет религиозную тему. Один ангел развлекает младенца, демонстрируя ему книгу с картинками; другой — шаловливый карапуз — нюхает содержимое вазочки; Магдалина, как нежная родственница, прижимается щекой к ножке младенца. Перед нами — тихие радости крепко спаянной нежными чувствами семьи. Корреджо дает нам подлинное ощущение яркого, знойного дня. Не только благодаря тому, что краски светлы и тени прозрачны. Но главным образом благодаря тому, что прохлада красного полога вызывает в нас ассоциацию жарких солнечных лучей. Пусть это не покажется преувеличенным, но Корреджо действительно первый изобрел в живописи то, что можно назвать температурой света. У его предшественников, Мантеньи и Леонардо, свет был более ярким и менее ярким, тени — более густыми или более прозрачными. Но только Корреджо впервые пришел к открытию, что свет может быть теплым и холодным. И именно на контрастах световой температуры Корреджо построил живописные эффекты знойного «Дня» и холодной «Ночи».
Значение этого открытия Корреджо огромно. Оно предопределяет все дальнейшее развитие колорита в европейской живописи. От Корреджо в этом смысле прямой путь ведет к таким чародеям света, как Тинторетто, Греко, Рембрандт и Вермеер. Однако, отдавая должное Корреджо, как исключительному мастеру света, необходимо отметить и границы его колористического дарования.
Открывши температуру света, Корреджо отдал предпочтение его холодным градациям. В этом выступает принципиальное отличие Корреджо от венецианцев: Джорджоне, Тициана, Пальмы Веккьо, которые всегда тяготеют к теплым красочным гармониям, к золотому свету. Свет Корреджо, напротив, обычно имеет оттенок металлической свежести, особенно резко выделяясь своим серебристым мерцанием в соседстве с золотой глазурью венецианцев. Но не только молочной белизной своего света отличается Корреджо от горячей венецианской палитры. Они различны и степенью яркости света. Венецианцы любят блестящий свет, сверкающее золото волос, переливы парчи. Венецианская живопись ослепляет радостным великолепием своей красочной поверхности. Свет Корреджо, напротив, обладает мягкой, матовой, баюкающей нежностью; есть что-то умиротворенное, почти печальное в его равномерных переливах. Соответственно этому, очень различна и кладка краски у венецианцев и Корреджо. Венецианская живопись воздействует прежде всего самой фактурой картины, полнозвучной, густой, текучей материальностью красочной поверхности. У Корреджо краска ложится гладким, эмалевым, безличным слоем. Его живопись поражает невесомостью, прозрачностью краски. Создается впечатление, что мы можем видеть «сквозь» краску, настолько она лишена всякого материального естества. У венецианцев краски поглощают свет. У Корреджо свет доминирует над краской, поглощает ее. В отличие от венецианских колористов Корреджо можно было бы поэтому назвать «люминаристом».
«Рождество Христово», прозванное «Ночью», предназначено было для церкви святого Проспера в Реджо; позднее, через Мантую, попало в Дрезденскую галерею. Это самая совершенная из ночных фантазий Корреджо и вместе с тем наиболее близкая к духу северной, нидерландской живописи по своему бытовому настроению. «Ночь» особенно выигрывала в той раме, которая и теперь еще хранится в церкви святого Проспера и в которую первоначально картина была оправлена. Как большинство рам Высокого Ренессанса, так и эта рама отличается чрезвычайной пластичностью и массивностью. Благодаря именно контрасту этой массивной, выпуклой рамы совершенно пропадает ощущение плоскости картины, она кажется глубоким воздушным отверстием, пробитым в стене. Один из результатов обрамления, следовательно, — необычайно сильное впечатление глубокого пространства. С другой стороны, четкая симметричность рамы, с ясно подчеркнутой центральной осью, еще больше выделяет полную асимметрию композиции, ее случайную непринужденность. Я обращаю ваше внимание на то, что эффект, которого сам Корреджо добивался обрамлением, совершенно соответствует нашим наблюдениям над искусством пармского мастера. В самом деле, присмотримся ближе к композиции «Ночи». Ее центр оставлен пустым — прием, совершенно неслыханный в искусстве Ренессанса. Большинство фигур отягощает левую сторону картины: огромный пастух с тяжелой палицей, изумленный пастушок, женщина, ослепленная сиянием младенца, сонм ангелов, слетающих в облаке. Все эти фигуры уравновешиваются на другой стороне картины только светлой головой богоматери. Следовательно, абсолютная асимметрия. Но этого мало. Главная линия композиции развертывается по диагонали в глубину, начинаясь огромной ногой пастуха и заканчиваясь головой Иосифа. Эта диагональ определяет вместе с тем положение зрителя по отношению к картине. Здесь мы подходим к одному из самых ярких проявлений субъективизма Корреджо. Где должен помещаться зритель при созерцании картины? Если бы зритель находился перед серединой картины, он должен был бы видеть грудь и лицо бородатого пастуха. Но Корреджо показывает пастуха в профиль и, кроме того, в резком ракурсе снизу вверх (огромные ноги и маленькая голова). Это значит, что зритель должен находиться ниже картины и притом в левом ее углу.
Этим неслыханным приемом Корреджо окончательно порывает с традициями Ренессанса. Цель мастера для нас ясна — он хочет подчеркнуть мимолетность явления, подобную жесту женщины, закрывающей рукой глаза, ослепленные сиянием младенца. «Святая ночь» есть не что иное, как видение, так же внезапно открывшееся зрителю, как внезапно появление пляшущих в воздухе ангелов. На самом деле нет ни богоматери, бережно поддерживающей младенца, ни пастухов, ни сонма ангелов в облаках — они существуют только в нашем восприятии. Но именно случайность, неожиданность, с которой они открываются нашим глазам, заставляет нас верить в их реальность. Элемент преходящего, временного, вот что составляет главное очарование «Святой ночи» Корреджо. Живописцы Ренессанса как бы останавливают движение одновременно во всех частях картины. Корреджо заставляет глаз зрителя бежать по пространству картины в разных направлениях и этим создает впечатление движения, непрерывно продолжающегося и вечно изменчивого. Искусство Ренессанса построено на единстве пространства. Корреджо же и маньеристы исходят из непрерывности времени.
Непрерывно струящийся поток движения все усиливается в самых последних произведениях Корреджо: «Madonna della Scodella» (Парма, Национальная галерея) и «Мадонна со святым Георгием» (Дрезден, галерея). Первая из них получила название от миски в руке богоматери. По пути в Египет святое семейство остановилось в лесу на отдых. Легенда рассказывает, что пальмовые ветви опустились к земле, предлагая свои плоды, и у ног богоматери заиграл прохладный источник, чтобы утолить жажду путников. Чудесна эта семейная идиллия на фоне лесных сумерек, трогательны заботы родителей о шаловливом мальчугане, который одной рукой хватает финики, а другой тянется к прохладному источнику. Благодаря двойному жесту младенца создается удивительная непрерывность движения, которое изогнутой диагональю поднимается от мадонны к Иосифу и оттуда по ветвям пальмы к парящим в облаке ангелам возвращается назад. Этот магический эллипс фигур словно повторяет очертания миски (недаром молва назвала мадонну — della Scodella). Движение кажется легким и воздушным в смене солнечных лучей и лесной тени, скрадывающей все контуры фигур.
К этой воздушности рисунка, которая лучше всего удалась Корреджо в «Мадонне делла Скоделла», я бы и хотел привлечь внимание. В своей характеристике пармского мастера Вазари высказывается о Корреджо как о худшем рисовальщике, чем живописце. Такую оценку, конечно, надо понимать относительно. Вазари исходит из флорентийских традиций рисунка, наиболее блестящим представителем которых является Андреа дель Сарто. Для него высшие качества рисунка заложены в чистоте контура, в строгости линии. Корреджо же открывает новые возможности рисунка — рисунка не линией, а пятном.
Последняя из работ Корреджо на религиозную тему, «Мадонна со святым Георгием», написанная, по-видимому, незадолго до смерти, не принадлежит к лучшим его произведениям. Тем не менее она очень характерна для позднего стиля мастера. Картина поражает своим беспокойством — и внешним и внутренним. Святые столпились в тесное кольцо; все жестикулируют, поворачиваются, указывают, улыбаются. Рядом с этой «Мадонной» первая алтарная картина Корреджо — «Мадонна со святым Франциском» — может показаться застывшей. Здесь же все действуют зараз, словно в каком-то радостном опьянении. Если и раньше Корреджо любил вовлекать зрителя внутрь картины, то теперь его приемы похожи прямо на зазывание. Все действующие лица стремятся овладеть вниманием зрителя; и не только с помощью жестов, но самой игривостью своего настроения. Святой Георгий весело подбоченился, святой Джиминьян поддразнивает младенца моделью храма, маленькие путти шалят с доспехами. На наш взгляд здесь слишком шумно и весело для священного момента поклонения. Современников, напротив, восхищала именно непринужденная свобода всех движений, которая казалась им залогом неподдельной искренности чувства.
В картине обращает внимание, однако, еще одна любопытная особенность: Корреджо выбирает здесь чрезвычайно близкую точку зрения, настолько близкую, что зритель, кажется, вот-вот прикоснется к высовывающемуся локтю святого Георгия и натолкнется на путто, выходящего прямо из картины. Если присмотреться в этом смысле к творческой эволюции Корреджо, то бросается в глаза, как плоскость картины с каждым годом все более приближается к зрителю, пока в «Мадонне со святым Георгием» не достигает своего предела. Этот прием близкой дистанции опять-таки резко противоположен искусству Ренессанса, которое всегда стремится сохранить значительное расстояние между зрителем и картиной. Различие это очень типично: художники Ренессанса логически, рационально строят пространство по объективным законам перспективы. Корреджо и маньеристы стремятся к субъективному восприятию, к иррациональной сфере чувства. Благодаря близкой дистанции пропорции фигур уменьшаются такими неудержимо быстрыми скачками, словно проваливаются в бездну. Создается впечатление, что фигуры действуют не в пространстве, а во времени, что они появляются не одна за другой, а одна после другой.
Наряду с большим количеством религиозных композиций — с главными из них мы познакомились — Корреджо исполняет несколько картин на мифологические темы. Лучшие из них — «Даная» в галерее Боргезе в Риме, «Ио» в Вене и «Леда» в Берлине — написаны им, по-видимому, для мантуанского герцога Гонзага и принадлежат последнему периоду творчества. Я не могу согласиться с теми биографами пармского мастера, которые считают эти произведения особенно характерными для художественного гения Корреджо. Я думаю, напротив, что в них он менее свободен от приемов классического стиля и менее последователен в своих художественных исканиях. «Даная», например, очень сильно отличается от всех современных ей религиозных композиций мастера. В ней нет ни резкой асимметрии, ни легкого движения света, ни воздушности контура, свойственных Корреджо. Картина построена по рельефному принципу Ренессанса: фигуры далеко отставлены одна от другой и отчетливыми светлыми силуэтами выделяются на темном фоне. Жесткий вырез окна уравновешивает наклон Данаи и группу маленьких путти; движение развивается не вверх и в глубину, а мимо зрителя, как это принято в классическом стиле. Тот же, мы бы сказали, скульптурный принцип господствует и в «Ио». Здесь, совершенно для себя необычно, Корреджо довольствуется только одной фигурой, пластической лепке которой посвящена вся картина. Мягкое растворение контуров достигнуто искусственным способом, с помощью облака, в тумане которого Юпитер спускается к своей возлюбленной.
Наибольшей свободы индивидуального стиля Корреджо достигает в картине из цикла «Метаморфозы Юпитера» — в «Леде» Берлинского музея. Фигуры окружены живой атмосферой пейзажа, одного из самых воздушных, самых дышащих пейзажей Корреджо. Мы узнаем здесь «настоящего» Корреджо в быстром уменьшении пропорций и еще больше во временной непрерывности действия: любовное приключение Леды рассказано в трех сменяющихся этапах — приближение, объятие и отлет лебедя. Тем не менее очень характерно, что и здесь действие развертывается более в ширину, чем в вышину, и фигуры размешены — не в пример религиозным композициям — в рельефной, горизонтальной полосе. Я не думаю, что мы ошибемся, если увидим в этих мифологических картинах Корреджо проявление вкуса аристократического заказчика более, чем выражение творческой потребности мастера.
Если мы присмотримся внимательнее к мифологии Корреджо, то заметим, каким своеобразным приемом мастер пытался обезвредить эротический смысл своих сюжетов. Он оборачивает все в шутку, в игру.
В «Данае» маленькие путти на переднем плане проказничают со стрелами Амура. В «Леде» художник идет еще дальше и героями своего рассказа делает подростков, полудетей. Создается настроение шутливой пасторали, буколической игры в наготу и в любовь. В этом смысле мифологии Корреджо имеют важное историко-художественное значение. Корреджо — первый мастер пасторали. Недаром эпоха рококо так восхищалась его искусством. Рядом с объективным научным возрождением основ античной культуры, которое ставят своей задачей мастера классического стиля, Корреджо возглавляет другое, более субъективное направление — шутливой игры в античность.
Нам предстоит теперь познакомиться еще с одной стороной деятельности Корреджо, которая оказала наиболее сильное влияние на искусство барокко. Я разумею при этом его декоративные работы. Первую из них Корреджо исполнил в самом начале своей художественной карьеры, расписав фресками потолок так называемой Camera di San Paolo — то есть помещения настоятельницы женского монастыря Сан Паоло в Парме. Плафон посвящен Диане, изображение которой украшает камин. Сам плафон представляет собой легкую беседку, шестнадцать ребер которой опираются на ниши, заполненные изображениями всякого рода мифологических фигур. Стрельчатые своды беседки украшены овальными медальонами, сквозь которые виднеются путти, играющие охотничьими трофеями и оружием Дианы. Первый декоративный опыт Корреджо еще целиком проникнут духом Ренессанса. Сама идея украсить комнату монахини охотничьими трофеями Дианы могла возникнуть только в фантазии правоверного гуманиста. Идее соответствуют и декоративные приемы мастера. Потолочная живопись Ренессанса есть прежде всего украшение и орнамент.
Если плафон в Камера ди Сан Паоло еще соблюдает декоративные традиции Ренессанса, то во втором своем плафоне Корреджо самым решительным образом от этих традиций отрекается. Речь идет о купольной росписи в церкви Сан Джованни Эванджелиста в Парме. Этой картиной Корреджо начинает новый период в истории декоративной живописи — период воздушной или иллюзорной декорации, достигшей такого небывалого расцвета в эпоху барокко и завершившейся гениальными фантазиями венецианца Тьеполо.
Живопись в куполе церкви евангелиста Иоанна представляет собой совершенно небывалое раньше соединение реальной архитектуры с изображенным, воображаемым пространством. Живопись начинается, так сказать, с самого подножия купола. В пандантивах купола на реальных сводах сидят попарно евангелисты и святые, словно спустившиеся туда с неба на облаках. Широкое кольцо тамбура отделяет их от купола. Изобретение Корреджо в том именно и заключалось: создается впечатление, что никакого купола нет, что вместо чаши купола глаз зрителя встречает бесконечное пространство, в облачном сиянии которого Христос возносится на небо. Таким образом, декоративному чувству Ренессанса нанесен решительный удар: прочность архитектурных масс начинает растворяться в динамике воздушного пространства. Тем не менее в куполе церкви евангелиста Иоанна Корреджо еще не решается на крайние последствия своего нового декоративного метода; кольцо тамбура образует раму, отделяющую картину вознесения Христа от реальной архитектуры; кроме того, полет Христа изображен не в ракурсе снизу вверх, а параллельно плоскости потолка. Как будто Корреджо хочет убедить зрителя, что перед ним все-таки только картина, которую не нужно принимать за действительность.
Эти последние следы классической сдержанности исчезают в купольной росписи Пармского собора, которую Корреджо закончил в 1530 году. Здесь иллюзия совершенно покоряет себе действительность. Мы видим купол не таким, каков он есть в действительности, но таким, каким заставляет нас видеть его фантазия живописца. В четырех раковинах парусов — святые, восседающие на облаках. Тамбур купола превратился в открытую балюстраду. На ней — юноши и девушки вьют венки и зажигают факелы, окружая апостолов, в возбуждении следящих за вознесением богоматери. Такого ослепительного сияния еще не осмеливался изображать ни один из живописцев. Чем выше проникает глаз, тем туманней становятся формы, вплоть до пляшущей в небесной синеве фигуры ангела.
В куполе Пармского собора Корреджо сформулировал свои идеи субъективной, иллюзорной декорации с полной откровенностью. Реальная архитектура уступила место воображаемому, бесконечному пространству. Все предметы и фигуры изображены так, как они должны быть видимы снизу, с одной определенной точки зрения: зритель видит не столько головы святых и ангелов, сколько их бедра и пятки. Неожиданность этой декоративной фантазии была ошеломляюща. В кругах приверженцев классического стиля она вызвала целую бурю протестов. Один из каноников собора в негодовании назвал плафон Корреджо — «рагу из лягушек». Для представителей же новых течений в живописи фреска Пармского собора сделалась своего рода евангелием нового стиля.
От Корреджо мы перейдем к нескольким мастерам, которые были по своему возрасту или прямыми современниками мастеров «золотого века», или несколько моложе. В большинстве случаев они вышли из школы Леонардо да Винчи или Рафаэля, и их деятельность протекала главным образом во Флоренции и Риме, отчасти же в Милане и Сьене. Обычно всех их включают под рубрику «Высокого Ренессанса». И действительно их творчество несомненно основано на принципах классического стиля. Но в то же время в их живописи эти принципы теряют свое внутреннее, духовное оправдание, которое они имеют у Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, и становятся чисто внешними приемами, постепенно заостряющимися и искажающимися в виртуозную манеру. Во Флоренции господствующую роль среди этих представителей позднего Ренессанса играют фра Бартоломео и Андреа дель Сарто.
Бартоломео делла Порта, прозванный фра Бартоломео, родился в 1472 (по другим источникам — в 1475) году и первую школу живописи прошел в мастерской Козимо Росселли. Проповеди Савонаролы произвели на молодого художника огромное впечатление, и на кострах, зажженных по приказу фанатичного монаха, Бартоломео сжег все свои работы, не имевшие строго религиозного содержания. Под влиянием же Савонаролы Бартоломео решил вступить в доминиканский монастырь в Прато, а позднее перешел в монастырь Сан Марко во Флоренции. На некоторое время фра Бартоломео совсем отказался от публичной художественной деятельности и только в тиши кельи продолжал заниматься рисованием. Но в 1504 году под впечатлением того художественного подъема, который вызвала во Флоренции деятельность Леонардо и Микеланджело, фра Бартоломео опять неудержимо потянуло к живописи, и совместно со своим другом Мариотто Альбертинелли он основал мастерскую. К этому времени относится его встреча с юным Рафаэлем. Роль дающего сначала принадлежит фра Бартоломео. Но очень скоро роли меняются, и к концу пребывания Рафаэля во Флоренции фра Бартоломео из наставника превращается в ученика, а поездка в Рим совершенно подчиняет фра Бартоломео гипнозу Рафаэля и Микеланджело. Умер мастер в 1517 году.
От ранних произведений фра Бартоломео еще веет духом кватроченто. Такова, например луврская картина, изображающая «Явление Христа Марии Магдалине» и написанная, вероятнс в самом начале XVI века. В ее пейзаже, с тонкими, бедными листвой деревьями, чувствуется не сомненное влияние умбрийской школы. Перуджино напоминают и фигуры, хрупкие в сложении, робкие в жестах и словно танцующих позах. Уже в качестве монаха, по возобновлении художественной деятельности, фра Бартоломео пишет «Явление Марии святому Бернарду» (Флоренция, Академия). Композиция несомненно навеяна знакомой нам картиной Филиппино Липпи на аналогичную тему. Но из наивно-сентиментальной концепции Филиппино фра Бартоломео стремится подняться в возвышенно-монументальную сферу чинквеченто. Мадонна теперь уже не подходит к святому Бернарду, робко прикасаясь к его рукописи, но подлетает на облаке, сопровождаемая целым сонмом ангелов. Фигуры объединены в компактные массы и подчинены общему ритму плавно круглящихся линий. Но пережитки кватроченто еще остались — в некоторой тесноте и тяготении фигур к передней плоскости.
Наконец, полного овладения приемами классического стиля фра Бартоломео достигает в алтарной иконе Луккского собора «Мадонна со святым Стефаном и Иоанном Крестителем». Эта картина очень типична для концепции фра Бартоломео. Мастер высоко несет свое звание художника-монаха. Его живопись посвящена только религиозным темам. Его образ мыслей всегда возвышен, его типы благородны. Но вместе с тем фра Бартоломео лишен всякого и религиозного и художественного темперамента. Он не умеет рассказывать и не обладает даром драматизации. У него нет ни самостоятельных художественных идей, ни увлечений, ни исканий. Поэтому общая судьба классического стиля отражается на творчестве фра Бартоломео с особенной остротой: едва достигнув уровня Высокого Ренессанса, стиль фра Бартоломео сразу же схематизируется и обращается в манеру. Этот процесс намечается уже в первой чисто классической работе фра Бартоломео — в луккской алтарной картине. Нет спора — фигуры прекрасно нарисованы, отлично вылеплены светом и тенью, композиция обдумана и взвешена с величайшей последовательностью. Обратите внимание, как мастерски выделена пирамидальная схема композиции и как она неуловимо сливается с другим композиционным мотивом — дуги, описываемой вокруг мадонны ангелами. Заметьте далее, как правая и левая части картины уравновешены контрастами: святой Стефан поворачивается в глубину, Иоанн Креститель — вперед, мадонна и ангел, играющий на лютне, смотрят вправо, а их тела повернуты влево; даже в двух ангелах, поддерживающих корону над богоматерью, проведена такая же вариация: у левого ангела нога, ближайшая к зрителю, вытянута, у правого ангела она согнута. Но за этими контрастами и равновесиями не скрывается никакого духовного конфликта, никаких представлений и эмоций. Искусство в картине фра Бартоломео почти делается математикой.
Следует отметить еще одну деталь луккской алтарной картины: ангелочек, играющий на лютне у подножия трона богоматери, — это излюбленный мотив венецианской живописи. Появление его на картине фра Бартоломео заставляет предполагать, что мастер побывал в Венеции. И действительно, в 1508 году он посетил этот город. С тех пор краски фра Бартоломео становятся сочнее и теплее, тени глубже, несомненно, под впечатлением венецианской живописи. Из Венеции же, по-видимому, фра Бартоломео привозит и многофигурную композицию мадонны со святыми под сенью балдахина и на фоне полукруглой ниши, которую он разрабатывает в ряде алтарных картин. Характерным примером может служить «Обручение святой Екатерины» в галерее Уффици. Однако, как легко убедиться, существа живописной концепции фра Бартоломео эта венецианская поездка не меняет. По-прежнему его более всего занимает пластическая лепка фигур, контрапосты их движений, равновесие масс на основе геометрической схемы. И здесь опять пирамидальный скелет главной группы сочетается с мотивом композиционного кольца, только теперь эта схема, благодаря глубокой нише, благодаря тени балдахина, стала более пространственной, мощной и динамической. У Рафаэля фра Бартоломео заимствует мотив ступеней и обогащает его североитальянским приемом — низким горизонтом, благодаря чему фигурный ритм волнообразно поднимается и падает. Совершенно в духе Микеланджело задумана мощная фигура святого справа — с поднятой на возвышение ногой и округлым движением руки, перехватывающей через грудь. Но все это пластическое богатство по-прежнему не имеет никакого внутреннего оправдания. У фра Бартоломео остались только средства классического стиля, содержание же потерялось.
Наивысшим достижением фра Бартоломео в смысле овладения всеми средствами классического стиля является картина «Воскресший Христос с евангелистами» («Спаситель») в галерее Питти, написанная за год до смерти мастера, в 1516 году. Архитектурный фон задуман в идеальном согласии с фигурной группой. Прямые вертикали апостолов находят отзвук в пилястрах. Изогнутая линия плаща Христа сопровождается полукруглой аркой ниши. Треугольник главной группы, как эхо, повторяется в треугольнике ангелочков, держащих медальон. Но именно здесь с особенной ясностью видно отсутствие всякой внутренней убедительности, полная духовная пустота этих монументальных поз и героических жестов.
Многое из сказанного к характеристике фра Бартоломео относится и ко второму выдающемуся представителю флорентийской школы Андреа дель Сарто. Но Андреа дель Сарто моложе, и поэтому он легче и скорее овладел приемами классического стиля. Кроме того, Андреа дель Сарто от природы был наделен большим колористическим талантом, и чисто живописные проблемы занимали его больше, чем фра Бартоломео. Наконец, в творчестве Андреа дель Сарто отсутствует элемент религиозной убежденности, который в такой сильной степени был присущ фра Бартоломео. Его искусство в полном смысле слова светское, даже когда трактует религиозные темы, пышное и, пожалуй, несколько легкомысленное.
Андреа д’Аньоло, прозванный дель Сарто (то есть сын портного), родился в 1486 году и школу прошел в мастерской Пьеро ди Козимо. Колористические задатки Андреа дель Сарто получили, таким образом, с самого начала благоприятное развитие; кроме того, Пьеро ди Козимо привил своему ученику интерес к североевропейскому искусству, интерес, вообще чуждый флорентийским мастерам классического стиля. Дальнейшее художественное развитие Андреа дель Сарто прошло под перекрестным влиянием то Леонардо, то Микеланджело. В 1508 году Андреа дель Сарто вступил на самостоятельный путь, основав вместе со своим другом Франчабиджо совместную мастерскую. Совместно с Франчабиджо Андреа дель Сарто получил и два своих больших заказа, над которыми он с перерывами проработал в течение почти двадцати лет. Первый состоял в росписи портика церкви Сантиссима Аннунциата; второй — в монохромных фресках, украшающих клуатр монастыря Скальцо и посвященных жизни Иоанна Крестителя.
В 1518 году Андреа дель Сарто по приглашению короля Франциска I приехал во Францию, но после недолгого пребывания в Париже вернулся во Флоренцию, где умер в 1530 году.
Андреа дель Сарто в полном смысле слова — дитя классического искусства. Даже в самых ранних его произведениях почти нет никаких следов кватроченто. И если в композициях фра Бартоломео всегда чувствуется некоторое напряжение, натянутость в использовании классической схемы, то Андреа дель Сарто владеет приемами классического стиля с само собой разумеющейся, виртуозной легкостью. В этом убеждает уже одна из самых первых работ Сарто — фреска «Рождение богоматери», которую молодой мастер написал в портике Сантиссима Аннунциата в 1514 году. Картина лишена малейших признаков религиозного настроения. Сарто изображает событие, как светскую, жанровую сцену, с хлопочущими вокруг новорожденной няньками, с поздравительницами, и не забыты даже туфли роженицы у подножия ее алькова — северный прием. Фигуры двух посетительниц в пышных, просторных одеждах являются идеальным образцом классического стиля с их лениво-вольным и в то же время монументальным ритмом движения. И как изумительно развернуто дугообразное движение всей композиции: оно начинается слева, от дверей в глубине, изгибается полукругом вперед, к двум гостьям на переднем плане, и снова заворачивает назад, замыкая круг в фигуре Иоакима. Причем эта круговая схема фигурной композиции находит себе отзвук в двух кольцах балдахина. По своему свободному, плавному размаху такая композиция была бы вполне достойна Рафаэля. Но, вглядываясь в нее внимательнее, мы не находим в ней никакого духовного стержня. Между фигурами нет ни волевой, ни эмоциональной связи. Их взгляды нигде не соприкасаются, их движения пассивны, словно приколдованы (например, служанки, обернувшейся к зрителю). Есть во фреске Андреа дель Сарто и еще один момент, который, так сказать, обесценивает ее классическую структуру, — это ее верхняя часть, изображающая путто на балдахине алькова и ангела, спускающегося на облаке с кадилом. Она вносит элемент таинственности, церковного чуда, резко противоречащий жанровому, обыденному характеру сцены внизу. Для классического стиля такое смешение неприемлемо. Он идеализирует природу, героизирует действительность, но никогда не допустил бы внедрения чуда в быт или повседневной прозы в идеальные сферы.
Напротив, у Андреа дель Сарто это один из самых излюбленных приемов. Так, в картине «Благовещение», написанной одновременно с фреской в портике Санта Аннунциата, Сарто снова использует прием смешения, но в обратном смысле. Здесь на переднем плане — священное событие, причем Сарто опять отступает от концепции классического стиля и подчеркивает чудесный, мистический характер благовещения, помещая ангела на облаках. На заднем же плане — чисто жанровая сцена: обнаженная фигура сидит на ступенях, в то время как с высокого балкона ее с интересом наблюдает группа зрителей. Композиция задумана с классической ясностью главных линий. Особенно следует отметить две диагонали, которые неудержимо ведут к богоматери и в точке пересечения которых как раз находится обнаженная фигура. Во имя классической ясности движений ангела Сарто отступает от традиций, согласно которым мадонна на «Благовещении» всегда изображалась справа. Здесь она слева, а ангел приближается к ней справа, и благодаря этому его вытянутая вперед правая рука не закрывает тела. Но наряду с классической логикой композиции в «Благовещении» уже проявляются специфические черты таланта Андреа дель Сарто, очень скоро приводящие его к разложению классического стиля, к маньеризму: вялость темперамента и мягкая расплывчатость его живописи. Андреа дель Сарто был, пожалуй, единственным среди флорентийских и римских последователей Леонардо, кто поддался очарованию сфумато великого флорентийца. При этом Сарто гораздо дальше развивает принципы леонардовского сфумато. Во-первых, в сторону еще большей легкости, дымчатости, расплывчатости. А во-вторых, в сторону большей красочности. Чисто пластическое средство в руках Леонардо, сфумато становится орудием колорита в живописи Андреа дель Сарто, вибрируя и насыщаясь красочными оттенками.
Эта колористическая роль сфумато намечается уже в «Благовещений», особенно в группе двух ангелов, сопровождающих вестника с лилией. Еще сильнее она проявляется в следующих произведениях Сарто, написанных в период от 1517 до 1525 года и принадлежащих к его зрелому стилю. Такова, например, самая знаменитая картина Сарто, так называемая «Мадонна с гарпиями» из Уффици (гарпии изображены на постаменте мадонны). По монументальности общего композиционного замысла она безусловно принадлежит к высшим достижениям классического стиля. Пирамидальная схема неуловимо сочетается с круговым движением: Креститель устремляется вперед, святой Франциск назад, и в ангелочках, охватывающих ноги мадонны, это круговое движение еще раз повторяется. Вполне в духе классического стиля задуман и величавый образ мадонны. С какой легкостью она держит младенца одной рукой, как свободно и в то же время четко движение ее левой руки, опирающейся на книгу. Но в образе мадонны Сарто нет ни того духовного героизма, который присущ созданиям Микеланджело, ни материнской нежной озаренности, которой отличаются мадонны Рафаэля. Мадонна Сарто думает не о младенце, но прежде всего о себе самой. Статуарность ее позы, благородство и свобода ее жестов являются не непроизвольным результатом переживаний, но сознательным позированием. И то же самое относится к сопровождающим ее фигурам. И они живут, так сказать, не вовнутрь картины, но из нее, демонстрируют себя зрителю. С другой стороны, духовную пассивность своих героев Сарто как бы хочет затушевать живописной динамикой света. Сфумато Андреа дель Сарто отличается от сфумато Леонардо не только своей красочностью, не только тем, что тени становятся горячей, богаче полутонами и рефлексами, выделяя главные свойства предметов, подчеркивая их пластическую структуру; одним словом, сфумато Леонардо пассивно, оно служит форме. Светотень же Сарто как бы борется с формой, падает активно и произвольно, то выхватывая случайные части фигур из темноты, то снова их погружая во мглу сфумато.
Особенно сильно эта активная и произвольная роль сфумато проявляется в следующей по времени картине Сарто, носящей название «Диспута». Изображен спор четырех святых о таинстве троицы в молчаливом присутствии Себастьяна и Магдалины. В живописном отношении картина является самым совершенным достижением Сарто. Обнаженную спину Себастьяна без преувеличения можно назвать одним из лучших изображений обнаженной натуры флорентийского Ренессанса. Кроме того, Сарто обнаруживает исключительное мастерство в изображении рук; пожалуй, только Леонардо превосходит его тонкостью и богатством мимики рук. Сфумато здесь играет еще более активную и произвольную роль. Оно погружает голову святого Себастьяна и лицо святого Августина в тень, выхватывает из полумрака одни руки и прячет другие. Лишь благодаря чарам сфумато возможно чудесное видение святой троицы, витающей непосредственно над головами спорящих и в то же время такой далекой и туманной.
Эта активная динамическая роль, которая в живописи Андреа дель Сарто уделена светотени, безусловно противоречит основам классического стиля и ведет к его разложению. Но талант Андреа дель Сарто не обладал достаточной глубиной и самостоятельностью, чтобы от разложения старого перейти к созданию нового, чтобы извлечь из сфумато положительные принципы новой живописной концепции. По существу своего художественного мировоззрения Сарто остается типичным представителем пластического стиля Высокого Ренессанса. Его сфумато является только внешним флером, накинутым на пластическую форму. Динамика сфумато не передается самой форме. И кажется, что если сдернуть с фигур «Диспуты» эту вибрирующую пелену сфумато, то они превратятся в неживые, застывшие статуи.
Увлечение Сарто проблемой света особенно сильно сказывается во втором его фресковом цикле — в росписи клуатра монастыря Скальцо, для которой мастер избирает монохромную технику, сосредоточивая, таким образом, все свое внимание исключительно на световых отношениях. Сарто работал над этим циклом с 1515 по 1526 год, и поэтому фрески Скальцо с чрезвычайной отчетливостью показывают развитие Сарто — шаг за шагом можно проследить, как ослабевает психологический момент в концепции Сарто и как постепенно торжествует чистейший формализм, как классический стиль вырождается в маньеризм. К началу цикла относится «Проповедь Иоанна Крестителя», написанная в 1515 году. Вместе с фреской «Рождение богоматери» она показывает Андреа дель Сарто на вершине классического стиля. Светотень, еще лишенная резких контрастов, выполняет чисто пластические функции. Главное внимание мастера устремлено на композицию, на выделение центральной фигуры. Сарто размещает слушателей полукругом, но таким образом, что передние фигуры стоят, а задние сидят и, следовательно, позволяют силуэту Иоанна Крестителя господствовать над окружающим. Вместе с тем в позе Крестителя подчеркнуто вращательное движение вокруг своей оси. Фигура на холме позади Крестителя дает опору его движению; напротив, линия пейзажа спереди падает и открывает перед ним свободное пространство. Так же психологически тонко подмечено, что Креститель обращается к тем слушателям, которых не видно на картине, и таким образом создается впечатление более внушительной толпы, чем ее вмещает рама. Фреска интересна еще своими заимствованиями из североевропейского искусства. Особенно охотно Сарто использует Дюрера. Так, здесь, например, мужчина справа с разрезами в плаще и женщина с ребенком у ног Крестителя целиком заимствованы из гравюры Дюрера.
К середине цикла концепция Сарто сильно изменяется. Иллюстрацией может служить «Пир Ирода». Фигур стало значительно меньше, пространство — просторней, и световые контрасты сильней. Но чем больше нарастает световая динамика, тем более ослабевает динамика композиции, драматизм рассказа. Фигуры постепенно как бы теряют способность двигаться; они застывают в величественных, неподвижных позах, облаченные во все более сложные и массивные драпировки.
«Рождение Иоанна Крестителя», написанное в 1526 году, демонстрирует последнюю стадию цикла. Фигур стало еще меньше, световые контрасты достигли предельной силы и динамики. Но зато движение фигур окончательно остановилось; и в своих причудливых, немотивированно нагроможденных одеждах они похожи на манекены. У Андреа дель Сарто не хватало творческой силы перевести пластические приемы классического стиля на язык света, добиться новой монументальности с помощью световой динамики. И как будто сознавая свое бессилие, в последний период своей деятельности Сарто опять отказывается от контрастов сфумато и возвращается к светлой живописи.
Эти поздние работы Андреа дель Сарто особенно поучительны для психологии разложения классического стиля. Сарто не обнаруживает в них никакого ослабления художественного дарования, в чем его обычно упрекают. Напротив, и в композиционном и в живописном смысле они находятся на исключительно высоком уровне. Но формальное мастерство не спасает их внутренней безжизненности. Сюда относится прежде всего так называемая «Madonna del’Sacco» (то есть с мешком, так как на мешок опирается читающий Иосиф), фреска, которую Сарто написал в 1525 году в люнете портика святой Аннунциаты. Тициан проездом в Рим якобы видел эту фреску и ею восторгался. И действительно, во всем, что касается композиционного замысла, мягкости фрескового исполнения и изящества рисунка и колорита, фреска Сарто не имеет себе равной в эпоху Высокого Ренессанса. Поразительно живописное богатство внутренней формы при простоте наружных контуров. Замечательно решена композиционная задача — полное отсутствие симметрии сведено к абсолютному равновесию. Мадонна сидит не в центре люнета, а несколько сбоку; но это нарушение центральной оси уравновешивается фигурой Иосифа, который посажен дальше от центра и глубже в пространстве и, соответственно, как масса занимает меньше места. Если мысленно провести дугу, параллельную линии обрамления, то она коснется вершины голов и Иосифа и Марии. Блестяще также использован мотив книги: одна ее сторона кончает пирамиду мадонны, другая — начинает пирамиду Иосифа. Но вся эта тончайшая логика формальных отношений не имеет никакого внутреннего значения, не вызывает никаких духовных ассоциаций. Правда, Иосиф как будто читает, а младенец тянется к книге, но что означает поднятая голова мадонны, ее полураскрытые губы, ее как бы вызывающий взгляд? Между этими существами в люнете не происходит ничего такого, что указывало бы на определенную духовную ситуацию, что выражало бы какие-нибудь чувства или какую-нибудь общую идею.
Не менее совершенна в живописном смысле и другая большая работа Сарто из последнего периода его деятельности — фреска в монастыре Сан Сальви, изображающая «Тайную вечерю» и законченная около 1528 года. Здесь к качествам самой живописной поверхности, к великолепному горению красок и к богатству красочных переходов присоединяется еще удивительно свободный, полнозвучный ритм высокого пространства. Но внутренне «Тайная вечеря» Сарто представляет собой полное поражение мастера. Да и что можно было сделать после «Тайной вечери» Леонардо в том же направлении, когда абсолютная концентрация драматического момента была найдена? Андреа дель Сарто попытался искать выход, избегая по возможности соприкосновений с композицией Леонардо. Он заставляет Христа ободряюще взять руку Иоанна. Он дальше отодвигает Иуду. Он прибавляет, наконец, чудесную жанровую сценку на балконе. Но в результате внутреннее единство раздробляется, кульминационный момент опять распадается на ряд последовательных эпизодов.
Несколько слов необходимо сказать о портретах Андреа дель Сарто. Их немного, и все они долгое время считались автопортретами мастера. Теперь это недоразумение выяснено — совершенно очевидно, что мы имеем дело с портретами различных людей, и они не имеют ничего общего с обликом мастера, который известен по фреске «Путешествие волхвов» в Аннунциате. Но уже то обстоятельство, что в них так упорно хотели видеть автопортреты, характеризует своеобразный подход Сарто к проблеме портрета. Все портреты Сарто действительно очень похожи друг на друга. Это показывает, что Сарто остался на платформе классического стиля — его интересуют не индивидуальные особенности изображаемого человека, но некий идеализированный, героизированный тип. Однако идеализация Сарто направляется в иную сторону, нежели, например, идеализм Рафаэлевых портретов. Не активность, не волю, не способность к героическим деяниям хочет Сарто вложить в свои модели, а пассивное, меланхолическое настроение. Портреты Сарто всегда сдержанны в красках, с преобладанием черного, погружены в неопределенное сфумато, бросают туманную тень в нейтральное пространство серого фона, держат руки вялыми, смотрят добрыми, грустными глазами. Перед портретами Сарто не спрашиваешь сейчас же — кто это? Но задумываешься — почему он такой? Портреты Сарто хотят апеллировать к сочувствию зрителя. Именно эта субъективность портретов Андреа дель Сарто, хотя и очень еще неопределенная, отвлеченная, делает их новаторскими. Если в своих фресках и алтарных картинах Сарто бессилен был выйти из заколдованного круга классического стиля, то в портретах он как будто прощупывает какие-то новые возможности художественной концепции.
Еще более наглядную картину разложения классического стиля мы застаем в Риме. Здесь после смерти Рафаэля в кругу его последователей сразу наступает какая-то растерянность. Грандиозная мастерская Рафаэля, которая при жизни мастера представляла собой такой сплоченный, единый организм, теперь, лишившись своего руководителя, быстро блекнет и рассыпается. Многочисленные помощники Рафаэля, которые казались такими блестящими художниками и такими убежденными сторонниками классического стиля, пока работали по указаниям мастера, теперь, оставшись на свободе, теряют всякую инициативу и сходят со сцены. В сущности, только один из них, лишившись личного гипноза мастера, сохранил некоторую самостоятельность художественной концепции, а именно — Джулио Пиппи, прозванный Романо. Но как раз его художественное развитие после смерти Рафаэля показывает разложение классического стиля с неопровержимой убедительностью. Джулио Романо — один из наиболее типичных представителей позднего Ренессанса. Он родился в 1492 году (по иным источникам — в 1499-м), вступил в мастерскую Рафаэля во время работ по украшению Ватиканских станц и очень скоро приобрел наибольшее доверие мастера. В последних двух залах ватиканского цикла ему принадлежит львиная доля участия; так же широко Рафаэль пользовался услугами Джулио Романо при росписи лоджий и виллы Фарнезина, и кистью же Джулио Романо были закончены главные алтарные картины из позднего периода деятельности Рафаэля, в том числе предсмертная картина Рафаэля «Преображение». Первые годы после смерти Рафаэля могло казаться, что Джулио Романо вполне проникся духом своего учителя и что он останется верен классическим традициям. Такое впечатление мы получаем, например, от ряда «Мадонн», которые Джулио Романо написал в Риме в начале двадцатых годов. В них действительно есть чисто рафаэлевское сочетание мягкости и величавости. Даже в типах Джулио Романо сохранил верность своему учителю. Но, приглядываясь внимательнее к этим «Мадоннам», мы замечаем, что уже в них начинают вкрадываться чуждые классическому стилю элементы. Во-первых, в виде новеллизма, некоторой жанровой болтливости. Каждая композиция «Мадонны» у Джулио Романо связана с каким-нибудь новым жанровым мотивом: то кошки, то покрывала, которое мадонна накидывает на спящего младенца. Здесь жанровые детали уже не вытекают с необходимостью из идейной концепции, как в произведениях чистого классического стиля, а становятся самоцелью, как в картинах Корреджо или Андреа дель Сарто. Известное отклонение от норм классического стиля проявляется и в композиционных приемах: в отказе от пирамидальной схемы, в предпочтении вертикальных направлений, в тяготении к асимметрии.
Еще сильнее расхождение Джулио Романо с классическими традициями чувствуется в алтарной картине «Мучение святого Стефана», которую Романо написал для церкви Сан Стефано в Генуе. На первый взгляд может показаться, что Джулио Романо вплотную примыкает здесь к композиционному замыслу Рафаэля в «Преображении», в осуществлении которого сам Джулио Романо принимал столь деятельное участие. В самом деле, и здесь композиция разбивается на драматическую сцену, происходящую на земле, и на идеальное небесное явление; и здесь, по образцу Рафаэля, обе композиционные части объединены схемой двух полукругов. Однако при несомненном сходстве есть и большое различие. Прежде всего в том, что к двум основным частям композиции прибавилась еще третья — героический пейзаж с развалинами и далеким горизонтом. Но еще более в том, что у Рафаэля обе части композиции были объединены в одно драматическое целое, и формально и духовно; у Джулио же Романо все три части композиции независимы, как бы происходят в разных пространствах и связаны между собой только сукцессивной, тематической канвой. Таким образом, симультанизм Высокого Ренессанса, его идеальная концентрация, в живописи Джулио Романо опять приходит в колебание, как бы растягивается во времени. Вместе с тем Джулио Романо резко подчеркивает контраст небесной и земной частей композиции, противопоставляя их как чисто идеальное, сверхчувственное видение и грубую, брутальную реальность. Искусство Высокого Ренессанса вообще избегало изображать сцены мучений, так как в них неизбежно нарушается гармония физического и духовного начала, свойственное классическому стилю равновесие бытия. Напротив, с разложением классического стиля сцены мучения становятся излюбленной темой живописи, так как в них находит себе отзвук потребность эпохи в сильных эффектах, в конфликтах духа и материи. Можно, пожалуй, даже еще сильней заострить наше наблюдение и сказать, что искусство позднего Ренессанса впервые открыло принципиальное отличие реального и идеального мира, противоположность духа и натуры. Предшествующее искусство не знало никакой другой натуры, кроме одухотворенной. Теперь дух и материя отделились друг от друга и вступили между собой в борьбу. То обстоятельство, что Джулио Романо, верный последователь Рафаэля, так стремится в своей картине подчеркнуть контраст между идеальным и реальным, показывает, что и он начинает менять свою ориентацию — от Рафаэля к Микеланджело.
Эта приверженность к Микеланджело с годами становится у Джулио Романо все сильнее. В 1524 году он покидает Рим и по приглашению герцога Федериго Гонзага отправляется в Мантую. Здесь Джулио Романо развивает широкую архитектурную и декоративную деятельность. Главное произведение Джулио Романо в Мантуе — это постройка и роспись дворца герцога Гонзага, так называемого палаццо дель Те, которая была закончена в 1535 году. Эта роспись чрезвычайно интересна как один из нагляднейших примеров разложения классического стиля. Джулио Романо привез с собой из Рима декоративную концепцию, состоящую из сочетания приемов Рафаэля и Микеланджело. В Мантуе он имел случай познакомиться с иллюзорной системой декораций Мантеньи и, вероятно, видел бездонные купола Корреджо в Парме. Все эти разнородные декоративные принципы смешались в росписи Джулио Романо в причудливый, полный несогласимых противоречий ансамбль, прямо-таки ошеломляющий своими нарушениями всяких основ классического стиля.
Уже первые впечатления, которыми встречает посетителя декорация палаццо дель Те, принадлежат к самым неожиданным; например, большой зал, носящий название «Зал коней».
170. КОРРЕДЖО. МАДОННА СО СВ. СЕБАСТЬЯНОМ. 1520-Е ГГ. ДРЕЗДЕН, КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
171. КОРРЕДЖО. ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ («НОЧЬ»). ОК. 1530 Г. ДРЕЗДЕН. КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.
172. КОРРЕДЖО. ПОКЛОНЕНИЕ МАРИИ МЛАДЕНЦУ. 1520-Е ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
173. КОРРЕДЖО. ЛЕДА. ОК. 1530 Г. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.
174. КОРРЕДЖО. МАДОННА СО СВ. ИЕРОНИМОМ («ДЕНЬ»). ОК. 1528 Г. ПАРМА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
175. КОРРЕДЖО. МАДОННА СО СВ. ИЕРОНИМОМ («ДЕНЬ»). ДЕТАЛЬ.
176. КОРРЕДЖО. ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА. ФРЕСКА КУПОЛА ЦЕРКВИ САН ДЖОВАННИ ЭВАНДЖЕЛИСТА В ПАРМЕ. 1520–1523.
177. КОРРЕДЖО. ВОЗНЕСЕНИЕ МАРИИ. ФРЕСКА КУПОЛА СОБОРА В ПАРМЕ. 1524–1530.
178. ФРА БАРТОЛОМЕО. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. 1516. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.
179. ФРА БАРТОЛОМЕО. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. 1508–1509. ЛУККА, СОБОР.
180. ФРА БАРТОЛОМЕО. СПАСИТЕЛЬ. 1516. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.
181. АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО. РОЖДЕСТВО МАРИИ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТИССИМА АННУНЦИАТА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1510–1515.
182. АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО. МАДОННА С ГАРПИЯМИ. 1517. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.
183. АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО. ПИР ИРОДА. ФРЕСКА МОНАСТЫРЯ СКАЛЬЦИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1515–1526.
184. АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО. МАДОННА С МЕШКОМ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТИССИМА АННУНЦИАТА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1510–1515.
185. ДЖУЛИО РОМАНО. ГИБЕЛЬ ГИГАНТОВ. ФРАГМЕНТ РОСПИСИ ЗАЛА ГИГАНТОВ В ПАЛАЦЦО ДЕЛЬ ТЕ В МАНТУЕ. 1532–1534.
186. СОДОМА. СВ. СЕБАСТЬЯН. С 1526 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.
187. СОДОМА. СТИГМАТИЗАЦИЯ СВ. ЕКАТЕРИНЫ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САН ДОМЕНИКО В СЬЕНЕ. 1525.
188. БЕККАФУМИ. ХРИСТОС В ПРЕДДВЕРИИ АДА. ОК. 1528 Г. СЬЕНА, АКАДЕМИЯ.
В этом зале Джулио Романо украшает стены живописной имитацией пилястров и ниш со статуями и на фоне этой воображаемой архитектуры помещает изображения любимых коней герцога. И иллюзорный, воображаемый характер архитектурного расчленения стен и сама тема росписи — «портреты» лошадей — представляют собой совершенно недопустимый в пределах классического стиля замысел. Хотелось бы говорить прямо-таки о пародии на искусство Высокого Ренессанса, если бы мы не знали, что и сам Джулио Романо и его современники относились к декорациям палаццо дель Те с полной серьезностью. Не менее ошеломляющее впечатление производит и роспись соседнего зала, так называемой «Залы Психеи». Разумеется, эта роспись навеяна мотивами и декоративными приемами Рафаэля в вилле Фарнезина. Но какому своевольному искажению подверглись эти приемы, в какой декоративный хаос обратилась тонко продуманная система Рафаэля! Джулио Романо расчленяет стену мнимыми, написанными пилястрами и арками, гирляндами делит ее на ряд самостоятельных полей, но затем его фантазия перестает считаться даже с этими иллюзорными границами: фигурные сцены разыгрываются то в пределах обрамления, то ими пренебрегают; одни происходят позади стены, другие — как бы перед нею, так что мурава Олимпа непосредственно примыкает к полу зала.
Но окончательное сотрясение классических основ происходит в зале, носящем название «Зала гигантов». Темой росписи является борьба богов с гигантами, причем весь зал целиком, его потолок и все стены заняты одной непрерывной фреской, пренебрегающей какими-либо обрамлениями, уничтожающей всякие следы архитектурной конструкции. Потолок изображает Олимп в виде круглого колонного зала, увенчанного куполом. Этот круглый Олимпийский храм вырастает прямо на клубах облаков, наполненных смятенными группами олимпийцев; снизу же, со стен, происходит штурмование неба гигантами. Пораженные ударами олимпийских молний, заколебались стены и своды, и гиганты низвергаются вниз, погребаемые под громадными обломками колонн и архитравов. Если вникнуть в декоративный смысл концепции Джулио Романо, то она представляет собой не что иное, как уничтожение, разрушение живописными средствами того самого архитектурного организма, стены которого декорация призвана украшать. Более противоестественный замысел трудно себе представить. «Крушение гигантов» является в полном смысле слова крушением классического стиля. Таким образом, и в творчестве Джулио Романо, подобно живописи фра Бартоломео и Андреа дель Сарто, мы находим не столько зарождение новых художественных идей, сколько преувеличение, перенапряжение классических тенденций, ведущее к маньеризму.
Наиболее своеобразное ответвление стиля Высокого Ренессанса мы застаем в Сьене. Сьенская живопись непосредственно подводит нас к перелому художественного мировоззрения после Ренессанса. В течение всего XV века Сьена была безусловно самым отсталым художественным центром Средней Италии. Ее живописцы упорно придерживались традиций треченто, совершенно игнорируя те новые художественные проблемы, которые выдвинула Флоренция. Даже и в период расцвета классического стиля сьенские живописцы стремились остаться верными готике. Принципы классического стиля были завезены в Сьену чужим, заезжим мастером. Нет ничего удивительного, что они не пустили прочных корней на сьенской почве и быстро стали принимать форму оппозиции против Высокого Ренессанса. Этот заезжий мастер, с именем которого обыкновенно связывают представление о классическом стиле в Сьене, — Джованни Антонио Бацци, по прозванию Содома. Он родился в Верчелли, в Северной Италии, около 1477 года и свое художественное развитие завершил в Милане под сильным влиянием Леонардо да Винчи. В 1500 году Содома прибывает в Сьену, которая и делается его второй родиной. Поездки в Рим для работ в Ватиканских станцах и в вилле Фарнезина сближают Содому с Рафаэлем и его группой и направляют развитие его стиля в сторону декоративных задач и более пластических, монументальных форм. Умер Содома в 1549 году.
В своих ранних произведениях, например в «Снятии со креста» (в Сьенской академии), Содома является совершенным кватрочентистом, примыкая к тому направлению, которое мы в свое время характеризовали как «вторую готику». Его увлекает экспрессия мимики и ситуации (например, мадонна в обмороке), его композиции построены на беспокойных силуэтах и прерывистых линиях. Такие детали, как развевающиеся по ветру ленты или холмистый пейзаж с редкими кустиками, напоминают отчасти Филиппино Липпи, отчасти умбрийцев. В работах миланского периода Содома постепенно перевоплощается в верного последователя Леонардо. И действительно, в таких работах, как, например, «Мадонна с ягненком» (из галереи Брера), Содоме удается подойти к тайнам концепции Леонардо, быть может, ближе, чем кому-либо другому из миланских адептов мастера. И пирамидальная, компактная схема композиции, и мягкое сфумато, и даже типы очень близки к Леонардо. Но при более внимательном рассмотрении видно, что Содома заимствовал от Леонардо только лирическую, пассивно-чувствительную сторону его живописной концепции, совершенно не будучи затронут героическим духом стиля Леонардо, его интеллектуальной силой[39]. Переход от Леонардо к Рафаэлю Содома совершает во фресках, которыми он украсил залы верхнего этажа виллы Фарнезина. Фрески были закончены в 1512 году и изображают эпизоды из биографии Александра Великого. И опять-таки очень немногие достигли такого приближения к величаво-эпическому и гармоническому стилю Рафаэля, как Содома во фреске, изображающей «Свадьбу Александра с Роксаной». Фигуры самой Роксаны и женщины, несущей на голове сосуд, принадлежат к самым изящным женским образам Высокого Ренессанса. Но вместе с тем и во фресках Фарнезины замечается склонность Содомы к чувствительной лирике, некоторая пассивность, рыхлость его форм и вялость рассказа, которая заставляет его избегать действий и выдвигать чувства. В лице Содомы мы имеем дело с несомненно очень одаренным мастером, но, как и Андреа дель Сарто, лишенным своих самостоятельных целей, своей художественной воли. Содома блестяще усвоил все принципы и приемы классического стиля, но его душа осталась готической.
Поэтому разложение классического стиля оказывается чрезвычайно благоприятным стимулом для развития таланта Содомы. Его наиболее сильные и индивидуальные произведения написаны после двадцатых годов. Сюда прежде всего относится самая популярная картина Содомы «Святой Себастьян» из галереи Уффици. Далеко не случаен уже сам выбор темы. Насколько охотно к теме Себастьяна возвращались мастера позднего кватроченто, настолько же упорно ее избегал Высокий Ренессанс. Для классического стиля тема Себастьяна была недостаточно активной, в ней было слишком мало действия, силы и слишком много чувства. Напротив, живописцы маньеризма и барокко опять возвращают теме Себастьяна популярность, и Содома был одним из первых, кто заставил звучать новые, эмоциональные и мистические струны в образе Себастьяна. В трактовке обнаженного тела Себастьяна Содома несомненно находится под влиянием классического стиля. Движение Себастьяна чрезвычайно богато поворотами и контрастами; оно одновременно направляется вперед и в стороны, вниз (грудь) и вверх (голова) и в то же время сосредоточено, в сущности, в одной плоскости. Но в духовном восприятии темы Содома далеко выходит за пределы классического стиля — не только обилием подробностей (например, «лишние», не попавшие в цель стрелы), не только мистическим явлением ангела с золотой короной, но главным образом психикой самого Себастьяна, в которой подчеркнут сложный переход от физических страданий к восторженной просветленности. Такой чисто эмоциональный мотив, как наполненные слезами глаза Себастьяна, неприемлем для стиля Высокого Ренессанса.
Еще дальше в сторону эмоций, в сторону сочетания реализма и мистики развивается живопись Содомы во фресковом цикле, посвященном легенде о святой Екатерине в церкви Сан Доменико в Сьене. Опять-таки очень характерен сам подбор тем, трактующих такие моменты легенды, которые классический стиль нашел бы совершенно непригодными для монументальной фресковой задачи, — галлюцинации, экстаз и обмороки. «Стигматизация святой Екатерины» может служить ярким примером позднего стиля Содомы. Его лирически-чувствительная и в то же время грациозная фантазия нашла свое полное выражение в группе бессильно опустившейся на колени святой Екатерины и встревоженно хлопочущих около нее монахинь.
В высшей степени характерно для сьенских современников и последователей Содомы, что они остались равнодушными к классическому периоду творчества Содомы и примкнули именно к последнему, мистическому перелому его стиля. Самый талантливый из этих сьенских представителей позднего Ренессанса, Доменико Беккафуми, уже вплотную подводит нас к тому поколению художников, которые в истории искусства заслужили название маньеристов и которые строят свое искусство на новых и резко противоположных Ренессансу основах. Доменико Беккафуми, сын батрака, родился около 1486 года и прошел художественную школу, скорее всего, во Флоренции. Его искусство странно, беспокойно, часто непонятно, но невольно приковывает внимание неожиданными и оригинальными замыслами и приемами. Как Содому привлекали темы экстазов, так Беккафуми тяготеет ко всему таинственному и жуткому. Две картины Сьенской академии могут служить типичным примером его живописи. Одна из них изображает «Падение ангелов». Странные, длинные фигуры извиваются на переднем плане, контуры непонятных чудовищ вырисовываются в глубине, языки адского пламени колышутся и вырываются из мрака. Колорит Беккафуми построен на нереальных переливах краски, на тех оттенках, которые всегда избирают живописцы, склонные к чудесному, иррациональному, к изображению таинственных духовных сфер. Такое же сумбурное, но неудержимо захватывающее впечатление жуткой романтики производит и картина «Христос в преддверии ада». И здесь тот же переливчатый, бестелесный колорит, те же длинные, непонятно изгибающиеся фигуры, со странным повторением одинаковых поз и поворотов. Внезапные взрывы света и мрачная дикость развалин еще усиливают абсолютную иррациональность происходящего на картине. Отдельные фигуры и головы на картинах Беккафуми могут быть поставлены в несомненную связь с теми или иными произведениями Высокого Ренессанса. Но как целое композиции Беккафуми не имеют ничего общего с классическим стилем. В них, разумеется, гораздо больше готической мистики, средневекового демонизма, чем ясной логики Ренессанса. Чего хотел этот странный художник, какие фантастические, невоплотимые в привычных формах сны его мучили? Перед произведениями фра Бартоломео и Андреа дель Сарто, Джулио Романо и Содомы мы получаем впечатление крайнего израсходования классических приемов, иногда даже прямого их искажения, но без сознания каких-либо новых целей. Эти мастера потеряли веру в классические идеалы, но никаких новых идеалов у них нет. Картины Беккафуми говорят как будто о другом. Здесь чувствуется не только разочарование в рационализме Высокого Ренессанса, но и страстная, мучительная потребность в новой вере. Только догматы этой новой веры еще не сложились. Оттого так беспокойно, так сумбурно искусство Доменико Беккафуми — он хотел бы верить, но не знает во что.
Здесь, собственно говоря, и кончается период Ренессанса. На примерах Микеланджело и Тициана, проживших долгую жизнь, мы уже наблюдали развитие и преображение идей Ренессанса за пределами этого периода. В творчестве Корреджо рано наметились тенденции к разложению классического стиля. Наконец, в произведениях фра Бартоломео, Андреа дель Сарто, Джулио Романо, Содомы, Беккафуми, у каждого на свой лад, скоро появляются противоречия, свидетельствующие о перерождении стиля Высокого Ренессанса изнутри. Дальше наступает уже явно новый, переломный, переходный период в истории итальянского искусства, захватывающий примерно две последние трети XVI века и связанный с кризисом ренессансного гуманизма в сложной исторической атмосфере контрреформации.
Примечания
1
Работа обоих братьев Поллайоло — Антонио и Пьетро.
(обратно)2
Сведения о путешествиях Скварчоне не основываются на достоверных документах. Однако они вполне вероятны.
(обратно)3
В 1944 году капелла Оветари была разрушена прямым попаданием авиабомбы. В настоящее время сохранились лишь фрагменты росписи.
(обратно)4
Эта фреска написана Мантеньей. Боно да Феррара приступил к работе в капелле последним.
(обратно)5
Обычно приписывается Эрколе Роберти.
(обратно)6
По этому вопросу см.: В. Гращенков, Портрет в феррарской живописи раннего Возрождения. — «Классическое искусство за рубежом», М., 1966, стр. 37–41.
(обратно)7
Ряд исследователей приписывает эту очаровательную картину Галассо Галасси.
(обратно)8
Деятельность Мелоццо в Урбино подвергается сомнениям. Перечисленные произведения в настоящее время приписываются Иоссе ван Гент и Педро Берругете.
(обратно)9
См.: Matteo Bandello, Le Novelle, vol. II, Bari, 1910, pp. 283–284.
(обратно)10
Во время второй мировой войны в трапезную монастыря попала бомба. К счастью, фреска Леонардо при этом почти не пострадала. Последняя расчистка росписи была произведена в 1950-е годы.
(обратно)11
См.: Lomazzo, Trattato, vol. I, 1844, p. 176.
(обратно)12
По мнению других исследователей — 1513–1517 годы.
(обратно)13
О принадлежности рисунка Леонардо идут споры. Важно, что он передает композиционную идею Леонардо.
(обратно)14
По всей вероятности, имеются в виду рисунки № 12 384 или 12 377, отличающиеся особой выразительностью линий. Что касается датировки многочисленных рисунков с изображениями «Потопа», то создавались они в течение многих лет жизни художника.
(обратно)15
См. виндзорский рисунок № 12 355.
(обратно)16
В этом смысле характерны строки из письма Рафаэля графу Кастильоне: «…но ввиду недостатка… в красивых женщинах, я пользуюсь некоторой идеей, которая приходит мне на мысль» («Мастера искусства об искусстве», т. II, М., «Искусство», 1966, стр. 157).
(обратно)17
«Энгр об искусстве», сост. А. Н. Изергина, М., «Искусство», 1962, стр. 80.
(обратно)18
Письмо от 2 июля 1518 года (цит. по кн.: V. Golzio, Raffaello, Vaticano, 1936, р. 71).
(обратно)19
«Видение Иезекииля» в настоящее время не считается собственноручным произведением Рафаэля. Оно создано примерно около 1517 года.
(обратно)20
Датировка «Сикстинской мадонны» колеблется между 1512–1514 и 1515–1519 годами.
(обратно)21
Из письма племяннику от 2 мая 1548 г. — «Микеланджело. Жизнь. Творчество», М., 1964, стр. 243.
(обратно)22
Имеется в виду Агостино ди Дуччо.
(обратно)23
«Переписка Микель Анджело Буонарроти», Спб., 1914, стр. 74.
(обратно)24
Из анонимной биографии Леонардо да Винчи. — Цит по кн.: М. А. Гуковский, Леонардо да Винчи, Л. — М., 1967, стр. 151–152.
(обратно)25
«И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем, что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит».
Перевод А. Эфроса
(обратно)26
«Микеланджело. Жизнь. Творчество», стр. 127.
(обратно)27
Как полировка, так и применение бурава для выдалбливания глубоких теней указывает на внушения поздне эллинистического искусства. Микеланджело мог близко познакомиться с эллинистической скульптурой благодаря группе «Лаокоон», которая была найдена как раз в 1506 году, когда Микеланджело приступил к «Моисею». И действительно, кроме «Вакха», ни одно произведение Микеланджело не имеет такого подлинного родства с античностью, какое можно наблюдать у «Моисея» с «Лаокооном» (примечание автора).
(обратно)28
См.: Donato Gianotti, Firenze, 1859, р. 57 ff.
(обратно)29
«Микеланджело. Жизнь. Творчество», стр. 163.
(обратно)30
«Микеланджело. Жизнь. Творчество», стр. 295.
(обратно)31
По сей день идут споры о принадлежности резцу Микеланджело «Пьеты» из Палестрины (Флоренция, Академия), оставшейся также незавершенной.
(обратно)32
«Микеланджело. Жизнь. Творчество», стр. 242.
(обратно)33
Э. Панофский убедительно доказал правильность старого названия (см.: М. Либман, Иконология. — «Современное искусствознание за рубежом», М., 1964, стр. 62–76).
(обратно)34
Как поиск черт Виоланты в «Земной и небесной любви», так и попытки увидеть в других женских образах Тициана конкретные модели не находят документального подтверждения.
(обратно)35
Высказывались серьезные сомнения в авторстве Тициана по отношению к лондонскому пейзажу.
(обратно)36
Венецианская академия размещена в бывшей Скуола делла Карита. Таким образом, картина Тициана фактически осталась на старом месте.
(обратно)37
См. Архив Маркса и Энгельса, т. VII, стр. 128.
(обратно)38
Сейчас датируется 1547 годом.
(обратно)39
Авторство Содомы до сих пор окончательно не установлено.
(обратно)
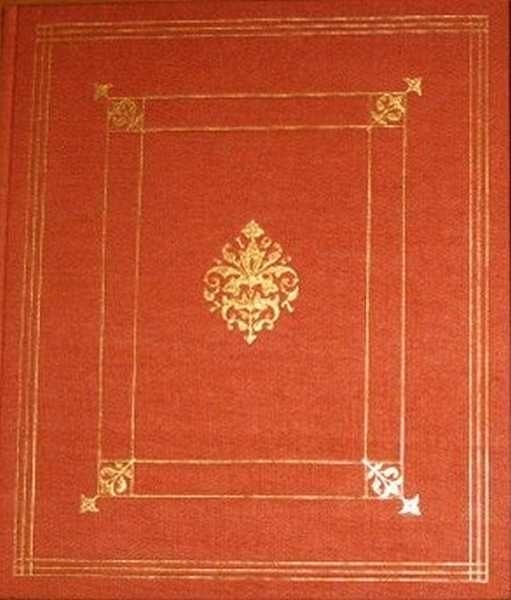

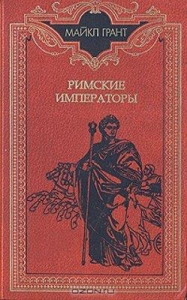

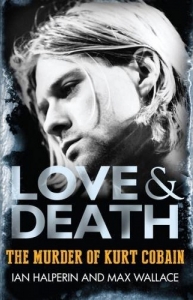
Комментарии к книге «Итальянский ренессанс XIII-XVI века Том 2», Борис Робертович Виппер
Всего 0 комментариев