Александра Юрьева Из Харькова в Европу с мужем-предателем Воспоминания с комментариями
Я не знаю другого народа, который испытал бы за свою историю больше потрясений, чем русский народ.
Из письма А. Пушкина к П. Чаадаеву, 1836 годПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Прошло почти столетие с тех дней, когда в России произошла Октябрьская революция, ставшая великим переворотом в судьбе России и всего мира. События тех лет воссозданы во многих книгах — будь то дневники очевидцев и свидетелей или научные изыскания. Количество погибших, масштабы разрушений и утрат поражают. Сколько безвестных судеб исчезло навсегда во времени. Познать истину, конечно, невозможно, но каждая новая крупица знаний о нашем прошлом помогает воссоздать более полную картину происшедшего. Без даже маленького кусочка мозаики вся картина будет неполной.
Предлагаемая читателю книга составлена из личных дневников и записей моей матери, Александры Андреевны Юрьевой, хранящихся в архивах Гуверовского института при Стэнфордском университете в штате Калифорния, США. Материал также включает выдержки из книги Кирстен Сивер «В тени Квислинга», опубликованной на английском языке в 1999 году Гуверовским издательством (In: Kirsten A. Seaver, Quisling’s Shadow, Hoover Institution Press, 2007, Stanford University, Stanford, California), и ее же книги на норвежском языке (Quisling’s unge hustru, Gylendal Norsk Forlag ASA, 1999).
До сих пор неопубликованные дневниковые записи Александры, объединенные с обширным и прекрасно составленным материалом из книги Сивер, дают некоторое представление о быте обычных людей в ранние послереволюционные годы, а также описывают жизнь молодой женщины, невольно попавшей в вихрь международных историй и интриг, что в конце концов привело ее в Китай накануне Второй мировой войны. А. А. Юрьева скончалась в 1993 году в Калифорнии в возрасте 88 лет.
Составитель выражает благодарность Кирстен Сивер за ее любезное разрешение использовать материал из ее книги «В тени Квислинга», без чего этот труд не существовал бы. Я также очень благодарен сотрудникам архива Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, США. Большое спасибо Эдуарду Варламову, Анастасии Котенок и Наталии Бембетовой за их постоянную и неизмеримую помощь в подготовке данной книги. Георгий и Мария Юрьевы сделали неоценимый вклад в подготовку этого труда. Также спасибо Карол Ловет за ее безупречную стенографическую помощь.
АРСЕНИЙ ЮРЬЕВ
Мельбурн, Флорида
28 февраля 2010 года
Глава 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Как в Норвегии, так и за ее пределами люди кивают головой, услышав имя Квислинга. Те, кто знаком с историей Второй мировой войны, знают, что он поддерживал немецкие оккупационные войска в Норвегии и был коллаборационистом, даже если при этом им не известна информация о нацистских симпатиях Квислинга в период между 1930 годом и путчем, произошедшим 9 апреля 1940 года[1]. Само слово «квислинг», особенно в годы войны, приобрело значение «предатель». Из некоторых писем, попавших в руки английских цензоров в ноябре 1940 года, стало ясно, что его имя стало нарицательным вскоре после немецкого вторжения, а также после того, как Квислинг призвал соотечественников перейти на сторону немцев, покинув Англию. Прошло более 50 лет с тех пор, как Видкун был казнен 24 октября 1945 года в Акерсхусе за измену своей стране. Но, несмотря на это, историки и биографы всего мира продолжают изучать судьбу этого непростого человека, сыгравшего такую важную роль в истории Норвегии, и заплатившего так дорого за то, что он считал выполнением своего долга. В речи в свою защиту в сентябре 1945 года он сказал: «Если мой труд является изменой, как тут утверждается, то перед Богом и Норвегией многие норвежские сыны, как и я, могут считаться изменниками, только они избежали тюрьмы»[2].
Единственное, с чем согласны историки по обе стороны Атлантического океана — это то, что ранние годы Квислинга и его семья оказали огромное влияние на его взгляды на жизнь и на формирование его личности, и что годы, проведенные в Советской России, круто изменили его мировоззрение. Я же лично хочу добавить, что его отношения с Александрой и Марией значительно повлияли на его моральные принципы.
Видкун, старший из четырех детей, родился в 1887 году в Фюресдале в семье священника и преподавателя Джона Квислинга. Его мать — Анна Каролина Банг — была младше мужа на 16 лет. Историк Сверре Хартман описывает атмосферу в доме Квислингов как «гармоничную». Жизнь в семье Квислинга, наряду с другими, также была красочно описана Арве Юритценом и Хансом Фредриком Далем[3]. Отношения между мужем и женой были очень теплыми, но ласка была редкостью. В доме царили буржуазные настроения, чрезмерная религиозность и фамильная гордость с примесью национального романтизма XIX столетия. Историю в этой семье изучали в узких рамках, и, что немаловажно, — существовало честолюбивое отношение к детям.
Эти три последних фактора повлияли не только на Видкуна, но и на его младших братьев — Арни и Йоргена, которые пережили его. Любовь Видкуна к братьям подтверждается Александрой, рассказывавшей, что он долгое время тосковал по своей сестре Эстер, которая умерла в раннем возрасте. Также он был очень близок с матерью, будучи послушным сыном своего эксцентричного отца.
Родители имели все основания гордиться своим старшим сыном. Он окончил гимназию в 1905 году с полным отличием, а когда в 1922 году Видкун закончил Военную академию с выдающимися результатами, то был представлен королю[4]. Выбор, сделанный им в пользу военной карьеры, был понятен. С детства ему прививалось чувство национальной гордости и мужские идеалы, окрашенные романтизмом, которые полностью отразились в его страстном увлечении Александрой и в ранних попытках писать[5]. Быть офицером в норвежской армии было престижно, к тому же это давало ему возможность исполнить свой долг.
Будучи еще молодым офицером, Видкун Квислинг познакомился с капитаном Антоном Фредериком Якхеллном Притцем, который оказал очень сильное влияние на всю его дальнейшую военную карьеру. По словам Арнольда Рестада, впервые они встретились на полевых учениях. Также Рестад отмечает, что Притц с самого начала был восхищен умом и способностями молодого человека[6], что в дальнейшем стало взаимным. Эта первая встреча, вероятно, произошла до 1911 года, когда Притца назначили норвежским вице-консулом в Архангельске, в городе на Белом море, где он стал владельцем лесопильного завода и торговал пиломатериалами, до этого отслужив в русском военном отряде в Новгороде в 1908 году по рекомендации норвежского Генштаба[7]. После 1911 года Притц больше не принимал участия в боевой подготовке, а в 1913 году подал прошение на военную пенсию в ранге майора[8].
Ханс Фредрик Даль отмечает, что после 1911 года им было легко поддерживать отношения, поскольку Притц ежегодно бывал в Норвегии, продолжая сотрудничать с Генштабом, к которому Квислинг был прикомандирован как стажер в ноябре 1911 года, и где ему было предложено заняться изучением России[9]. Как всегда, он был усерден, и изучил не только географию и историю России, которая в ту пору была еще империей, но также выучил язык и заинтересовался русской литературой.
Знания Квислинга о России и знакомство с Притцем оказались полезны для него, когда весной 1918 года ему предложили стать военным атташе при норвежской миссии в Петрограде. Для Квислинга, который с самого детства хотел заявить о себе всему миру, это путешествие в Петроград, ставший тогда центром внимания политиков и журналистов, оказалось исключительной возможностью продемонстрировать свои знания и способности. Более того, теперь он мог разъезжать с таким полезным и важным документом, как дипломатический паспорт, все преимущества которого, как отмечала Александра, он вскоре имел возможность оценить.
По всей вероятности, Квислинг не занимался в России рутинной дипломатической работой из-за чрезвычайного положения, сложившегося в то время в стране. Норвежские власти не признавали советского государства, но Квислинг, очевидно, был готов к этому. Даль полагает, что по этой же причине знакомство Квислинга с Троцким (в то время советский министр обороны) было поверхностным и коротким[10]. Это мнение Даля совпадает с тем, что думала и Александра. Она говорила, что Квислинг хвастался этим знакомством, но избегал говорить о каких-либо деталях.
По-видимому, еще до отъезда из дома Квислинг знал, что в Петрограде он снова встретится со своим старым знакомым Антоном Притцем, который женился на норвежке, живя в этом городе в 1915 году. Каролин Притц находилась в то время в Осло с их маленькой дочкой, а капитан делился с норвежской миссией своим опытом работы с советскими торговыми представителями в это неспокойное время. Неизвестно, замолвил ли Притц слово за Квислинга в Генштабе и Министерстве иностранных дел, но фактом остается то, что Притц и Квислинг прибыли в Петроград почти в одно и то же время — в конце мая 1918 года. Кроме того, они жили в одной квартире, которую Притцу передал норвежский поверенный в делах Арильд Хуитфельдт, когда его вызвали в Осло в сентябре. С этого момента Притц и Квислинг были ответственны за работу миссии, пока в декабре того же года им не пришлось закрыть ее и вернуться домой при драматических обстоятельствах[11].
Бедственное положение в России было следствием не только Мировой войны (которая официально закончилась 11 ноября 1918 года), но и восстаний, последовавших после революции, и Гражданской войны. Во время путешествия весной 1918 года по Восточной Европе через новую демаркационную линию в Брест-Литовске, Квислинг повсюду видел разруху, о чем он сообщил домой. По словам Оддвара Хойдала, разведывательные данные, которые Квислинг включил в свой первый доклад министру обороны, были недостаточно качественными, но признает, что отчеты, которые этот молодой офицер представлял впоследствии, занимая свою должность в Петрограде, давали хороший обзор военного положения и хаоса в целом. Квислинг был недалек от правды, когда сказал, что ситуация в России в настоящее время и ситуация во Франции, возникшая летом 1793 года после казни французской королевской пары[12], имеет настораживающее сходство.
Царь Николай II, которого принудили отречься от престола, а в марте 1917 года арестовали, был расстрелян со всей своей семьей 17 июля 1918 года. Революционные силы опасались, что контрреволюционерам удастся освободить царя из заключения, в котором он находился в Екатеринбурге (Свердловске). Хотя расстрел царской семьи держался тогда в секрете, имеющихся слухов было достаточно, чтобы по всей стране начались беспорядки. Столица, где находились Квислинг и Притц, не была исключением. Положение ухудшилось еще больше, когда 30 августа 1918 года был убит Урицкий, председатель Петроградского ЧК, и в тот же день был серьезно ранен Ленин в результате покушения на него Доры Каплан.
В своих личных письмах и в официальных докладах Квислинг и Притц писали, что, вернувшись в Петроград после летнего отпуска в Норвегии, они оказались в таком опасном и тяжелом положении, что даже здание миссии не гарантировало безопасности[13]. Когда Квислинг был еще в Норвегии, группа чекистов вломилась в британское посольство в Петрограде и убила британского морского атташе капитана Кроми, оказывавшего сопротивление до конца. Тело капитана Кроми было выброшено из окна верхнего этажа. Большевики также арестовали большинство британских и французских представителей в городе. Это заставляло оставшихся дипломатов работать еще больше. Притц позже говорил, что той осенью его миссия представляла интересы шести посольств и десяти миссий[14]. Датский министр Удендийк, взявшийся представлять британские интересы, наконец, сумел договориться о передаче ему тела Кроми. Похороны состоялись 6 сентября, на следующий день после возвращения Квислинга[15]. Убийство Кроми и политические последствия данного происшествия произвели сильное впечатление на Притца и Квислинга тем, что даже такая великая держава, как Британия столкнулась с подобным обращением.
Притц родился и вырос в Англии, имел там хорошие связи. Было ли это влиянием Притца или нет, но для Квислинга английский джентльмен был идеалом, о чем впоследствии узнала Александра, исходя из его представлений о правильном поведении. Его склонность ко всему английскому видна и в литературных попытках этого периода его жизни. Он упражнялся в английском языке в своей длинной и сентиментальной поэме, а в Национальной библиотеке в Осло имеется черновик его короткого рассказа или новеллы, повествующей о Первой мировой войне в Лондоне[16]. Скорее всего, Квислинг не стал бы предаваться творчеству в Осло, где он был очень занят тем, что старался проявить себя в Генштабе, также, как потом в Петрограде. У него было мало времени и тогда, когда он прибыл в Россию в феврале 1922 года в качестве помощника Нансена. Это говорит о том, что он занимался писательством в Хельсинки, когда был там с сентября 1919 года до мая 1921 года.
Норвежское министерство иностранных дел решило представлять свои интересы в России через свою миссию в Финляндии, поэтому в апреле 1919 года перевело туда всех оставшихся сотрудников миссии. Квислинг, который к тому времени вновь работал в Генштабе и был известен как специалист по Советской России, получил назначение в качестве офицера разведки (позднее этот пост был переименован в военного атташе) в миссию в Хельсинки, куда он прибыл в середине сентября 1919 года.
Это назначение стало еще одним удачным моментом в его жизни, так как министр Андреас Урбю, находившийся во главе миссии, был очень доволен своим новым коллегой. Поэтому в дальнейшем он делал все возможное, чтобы продвинуть Квислинга на дипломатическую службу, но всегда безуспешно. Урбю часто уезжал из Хельсинки, оставляя Квислинга руководить миссией в его отсутствие. Как поверенный в делах, Видкун помогал своему другу Притцу, снабжая его сведениями о финском рынке пиломатериалов. Жизнь Квислинга в Финляндии была гораздо более спокойной, чем в Петрограде, у него появилось много свободного времени для занятий своими делами. Таким образом, его жизнь стала более упорядоченной, и этот застенчивый и немного неуклюжий молодой человек имел удовольствие познакомиться с молодой женщиной по имени Нини Бо. Эта дружба закончилась с его возвращением домой в 1921 году, несмотря на то, что Нини была серьезно влюблена[17]. Это событие, однако, заставило его задуматься об отношениях между мужчиной и женщиной.
По возвращении в Осло он и не подозревал, что в скором будущем в России произойдут большие перемены. В Харькове, в ту пору ставшем столицей Украины, жили две молодые женщины, которые в детстве перенесли войну и большевизм по-разному. Одной из них была Александра Андреевна Воронина, которой исполнилось 16 лет, когда капитан Квислинг был еще в миссии в Хельсинки. Второй была Мария (Мара) Васильевна Пасешникова.
Фотографии юной Марии говорят о том, что она была красивой. Александра также часто говорила, что Мария была привлекательной — высокой, со смуглой кожей — женщиной, которая всегда хорошо одевалась и держала себя с достоинством. Она была на несколько лет старше Александры, и очень мало рассказывала о себе, за исключением большого количества имеющихся фотографий. В Норвежской национальной библиотеке есть сведения, что в первой главе так называемых воспоминаний Марии в версии Пармана она уменьшает свой возраст на год или два. В студенческом билете Марии указана ее дата рождения — 27 октября 1899 года, и дата поступления в университет — 1921 год. Она закончила свое обучение в экономическом институте в декабре 1922 года, куда она поступила в 1918 году[18].
Среди личных документов Марии в Национальной библиотеке также есть некоторые записки, которые она сделала, находясь в тюрьме в 1945 году. В них она напоминает себе о необходимости как можно меньше говорить о России[19]. Мария так строго придерживалась этого, что когда Парман помогал ей писать книгу, она рассказала только одну смешную историю из ее детства. Ту самую, которую, по воспоминаниям Александры, она поведала ей в один из многочисленных вечеров в Париже в 1924 году. В рукописных записках Марии есть рассказ о том, как она познакомилась с Квислингом: «Я жила в центре города прямо напротив красивой старой церкви (называемой киркой) на берегу реки»[20]. Сравните это с описанием Александры ее харьковского дома в следующей главе, которое она сделала задолго до того, как узнала об автобиографических рассказах Марии Пасешниковой.
Арве Юритцен также не смог найти больше конкретной информации о Марии, кроме той, которая была в Норвежской библиотеке и других норвежских архивах. Даже ее священник, в последние годы жизни Марии в Осло, признавал, что личная жизнь его знаменитой прихожанки всегда была загадкой[21].
Александра искренне восхищалась Марией, которая сумела, несмотря на бедность и необразованность ее семьи, сделать карьеру в советской системе, и считала, что Мария, вероятно, увидела в Квислинге те же реальные и вымышленные черты, что и она, выходя за него замуж в 1922 году. Кроме того, по мнению Александры, как раз происхождение Марии и способствовало ее продвижению. Поэтому для нее было непонятным, зачем Мария выдавала некоторые детали из жизни и происхождение Александры как свои. Также она была удивлена созданным Марией мифом о ее привилегированной семье и воспитании. По всей вероятности, не было простым совпадением и то, что этот миф стал распространяться, когда Квислинг и Мария находились в Норвегии, и не были под надзором у советской власти.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АЛЕКСАНДРЫ
Совершенно не знаю, с чего начать, как продолжать, и как написать обо всем, о чем хотелось бы, в точной последовательности? А хотелось бы рассказать обо всем, что помню, обо всем, что было хорошего в этом человеке, чье имя даже теперь ассоциируется с ничего не стоящей сегодня акцией, с провалившимся скандально и бесславно предприятием. Хотелось бы рассказать все, что вспомню о мужчине, однажды ставшем для меня дороже всех на свете: дороже моей мамы, дороже моей родины, дороже привычных друзей детства, и дороже всего, что окружало меня с самого первого часа моей земной жизни, жертвенной любви матери. Я все бросила, ничего не пожалела, и ушла с ним в чужую для меня страну — его страну. И уходя, не обернулась с сожалением, не взглянула на оставшуюся мать, пошла за ним к другой матери — его матери. И приняла его обычаи, привычки и уклад жизни.
Глава 2. ДЕТСТВО И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРЫ
Я родилась 20 августа 1905 года в Севастополе на красивом субтропическом Крымском полуострове в семье частнопрактикующего врача доктора Андрея Сергеевича Воронина, и выросла с убеждением, что люди приходят на этот свет только для того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.
Когда мне было около трех лет, мы переехали из Севастополя в Ялту, где папа продолжал заниматься медициной. Хотя мы не были богатыми, у меня было все, о чем мог мечтать ребенок, и я помню, что мое раннее детство было как теплый светлый рай, где меня любили, ублажали и баловали, не требуя ничего взамен. Третья из пяти детей, я единственная дожила до раннего детства, что, вероятно, и объясняет, почему мои родители избаловали меня. Несмотря на то, что моя мать, Ирина Теодоровна, была строгой и сдержанной по отношению ко мне, я всегда получала от нее все, что хотела, и, конечно же, от моего отца, няньки и гувернантки.
Мне трудно писать о моей матери. Если бы я даже нашла слова, чтобы описать ее, и то, что она значила для меня, все они были бы недостаточны, так как я должна была сказать их в то время, когда была рядом с ней, с ее нежными и заботливыми руками и ласковыми глазами. Мне гораздо легче писать о моем отце, который исчез в начале Первой мировой войны, когда я была еще маленькой девочкой.
Я знаю, что мои родители любили друг друга, и поженились, несмотря на то, что семья моей матери была категорически против их брака, считая, что мой отец был недостоин их дочери. Поэтому они обвенчались тайно, когда папа был студентом-медиком. Впоследствии мамины родственники отвернулись от нее и моего отца на несколько лет, считая это еще одним неравным браком в их семье. Такое же бурное неодобрение вызвала у своих родителей моя бабушка по материнской линии (которая вела свой род от самого Рюрика, сыгравшего столь важную роль в ранней истории России), когда вышла замуж за Теодора фон Коцебу, потомка старинного немецкого рода, осевшего в России во время войны с Наполеоном, и внесшего некоторый вклад в русскую культуру, искусство и дипломатию. Хотя русские цари в разное время вознаграждали потомков Коцебу за их верность и выдающуюся службу, родители моей бабушки считали ее нового мужа и его семью выскочками.
Вместо того чтобы пожелать своей дочери Ирине счастья в этой ситуации, так похожей на их собственную, моя бабушка и вся ее семья продолжали относиться с неудовольствием к моему отцу и его родственникам, которые были обижены таким отношением. Но, в конечном счете, была протянута оливковая ветвь, и я помню, что была представлена своему прадедушке, когда мне было три или четыре года. Мне пришлось пересечь огромную богато украшенную комнату, в конце которой на большом стуле сидел старый человек. Когда он посадил меня на свои колени и наклонился ко мне, его запах изо рта был настолько неприятным, что в последующем всегда, когда я встречала людей с такими особенностями, я вспоминала тот случай.
Я помню мать моего отца, Марию Катрутца. Она вышла замуж за Сергея Воронина, отец которого, я полагаю, был русским православным священником в Молдавии, и мой отец был их единственным сыном. Бабушка и ее брат Григорий были детьми помещика, который жил в своем большом поместье в Молдавии (или Бессарабии, как ее иногда называли), входившей в то время в состав Российской Империи. Когда в прошлом веке была найдена нефть в окрестностях старого поместья Катрутца, эта и так всегда богатая семья стала еще богаче.
У брата бабушки, дяди Григория, было два сына и две дочери — Екатерина и Евгения. Тетя Женя позже сыграла важную роль в моей жизни, но я не помню, чтобы я когда-либо встречалась с тетей Катей. В первом браке она была замужем за важным правительственным чиновником в Санкт-Петербурге. А когда он умер, вновь вышла замуж за миллионера по фамилии Хертца, и стала очень известной оперной певицей, как и другая моя родственница по линии отца — Мария Кузнецова Бенуа-Массне. Как ни странно, обе мои тетки имели очень похожие репертуары и предпочитали роли в «Аиде». Тетя Мария пела в разных оперных труппах, в то время как тетя Катя имела свою собственную труппу, и когда она ездила на гастроли, арендовала самые лучшие театры, включая «Ла Скала», с восхищением вспоминала моя тетя Женя.
Тетя Женя была обручена с человеком, который был убит на русско-турецкой войне, и после этого она поклялась, что никогда не выйдет замуж. Пережив ужас беспорядков и погромов во время революции 1905 года в России, она уехала с тетей Катей жить в Ниццу во Франции. Примерно тогда же брат моей бабушки Григорий умер. Тетя Женя осталась жить в Ницце, она умерла во время Второй мировой войны. Как и другие члены ее семьи, включая моего отца, сначала она получала очень хороший доход от нефтяного промысла. Но когда Россия передала Молдавию Румынии после Первой мировой войны, королевская Румыния быстро национализировала наш нефтяной бизнес, и справедливое возмещение убытков, которое было обещано собственникам в виде регулярных выплат, вскоре прекратилось. К тому времени, когда я приехала к тете Жене, она едва сводила концы с концами.
Я никогда не слышала, чтобы моя мать высказывала сожаление, что вышла замуж за моего отца вопреки желанию ее семьи, и никогда не вспоминала, что он происходил из менее старинного рода, чем она. Мама считала, что такие вещи не имеют значения. Я и мои друзья были воспитаны в том же духе. Наша родословная стала вопросом для обсуждения среди нас только после революции, когда единственной надеждой для спасения было скромное социальное происхождение.
До начала Первой мировой войны наша жизнь была достаточно благополучной. Мы жили в Ялте, которая долгое время была популярным фешенебельным курортом. Когда я была ребенком, я проводила много времени за чтением книг, купалась, каталась на лошадях и мечтала стать писательницей.
Мои родители любили друг друга и большую часть своей жизни были счастливы вместе. Я испытывала радость от их жизни, полной гармонии. У мамы с папой были хорошие голоса, они пели лучше, чем многие профессионалы. Я очень любила наблюдать за родителями, когда они пели дуэтом оперные арии. Но я также помню, что между ними существовала и некоторая напряженность. Когда я стала старше, мама мне сама рассказала об этом, а какие-то моменты еще с детства остались в моей памяти.
Насколько я могу вспомнить, папа иногда попадал в мамину немилость. Не потому что мама придиралась к нему, а по каким-нибудь пустякам. Она обожала его и всегда оправдывала, сама себя убеждала, что он замечательный, и мне постоянно говорила: «Твой отец превосходный человек, умный и талантливый». Она его безумно любила и поэтому вышла замуж за него, за студента. А папа, я думаю, был очень популярен среди женщин, и мама страшно переживала из-за этого. Я слышала отрывки их разговоров: «Почему ты виделся с ней? Тебя видели с Еленой Николаевной», или: «Ты был с дамами в ночном ресторане», или еще что-нибудь в этом духе. А папа всегда отвечал: «Да, я был в этом ресторане, но там была целая компания. Я не мог отказаться, это было бы невежливо. Я должен был поехать, это все же мои пациенты, мои друзья». Иногда же, когда мама ловила его на неправде, или он попадался с поличным — например, когда она находила у него на воротнике пудру, следы губной помады, это могло означать лишь то, что он был в обществе шансонеток или артисток, — она ужасно горевала.
Они были еще очень молоды, мама ходила мрачная и молчала, но не упрекала папу и не устраивала сцен. Когда он не мог сам выкрутиться из подобной ситуации, то начинал использовать ее жалость. Он сажал меня к себе на колени где-нибудь посередине квартиры, где мама могла пройти мимо и услышать, и говорил: «Вот видишь, дочка, до чего мы с тобой дожили. Никто, ну совсем никто не обращает на нас, обиженных, несчастных совершенно никакого внимания. И не верят, и не найдут нам никакого оправдания. Сразу сгоряча в чем-нибудь обвинят, и на этом продолжают настаивать. Нет у нас никакого выхода, и кушать нам нечего, даже прислуга на нас смотреть не хочет, никто не обращает никакого внимания. Ботинки вот у меня не вычищены. Никто ничего не готовит. Мы с тобой голодные. Хоть бы что-нибудь, какой-нибудь кусочек принесли. Нет ли у тебя, дочка, печенья или чего-нибудь там такого?» А я ему отвечала: «Нет, папа, никакого печенья у меня нет». «Ты хоть конфетку мне принеси, мы с тобой пососем», — говорил папа, и тут я от жалости к нему начинала громко рыдать. Это была шутка, какая-то инсценировка, для того чтобы обратить внимание мамы, разрядить атмосферу, рассмешить ее. И тогда мама махала на всю эту идиотскую историю рукой, но позже все начиналось сначала.
В дополнение к напряжению, вызванному неприятием отца семьей моей матери, они, будучи еще молодыми супругами, пережили трагедию потери своих четырех новорожденных детей. К этому присоединялось несколько безответственное поведение отца и его тяга к приятным и веселым компаниям. Его увеличивающийся доход от нефтяного промысла позволял проводить больше времени в ресторанах, чем в занятиях медициной. Моя обожающая его мать постоянно пыталась найти оправдания недостаткам отца, но в конце концов сумела убедить себя и меня в том, что он был удивительным человеком — умным, талантливым и порядочным.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, семья фон Коцебу в России отказалась от своей немецкой фамилии, изменив ее на Коссуч (по этой же причине британская королевская семья изменила свою фамилию Сакс-Кобург-Гота на Виндзор). Я еще была очень маленькая, поэтому смена фамилии ничего для меня не значила. В гораздо большей степени на меня повлиял переезд в Харьков вскоре после начала войны, чем великие события, происходящие вокруг меня. Позже большевики сделали Харьков столицей Украины, но в то время, когда мы туда переехали, Харьков являлся центром Харьковской губернии, генерал-губернатором которой был родственник мамы Митрофан Кириллович Катеринич.
Предлогом для переезда в Харьков была необходимость в новом методе лечения, разработанном знаменитым харьковским офтальмологом доктором Хиршманом. Я не знаю точно, когда папин доход от нефти начал уменьшаться или исчез вовсе, но, по-видимому, именно это, вопреки первоначальному плану, помешало нам вернуться в Ялту, где мы оставили почти все свои вещи. Возможно, папа откладывал возвращение потому, что его привлекала жизнь в большом городе, в котором остались многие его друзья со студенческих времен. В любом случае я уверена в том, что мои родители имели веские основания сменить нашу прежнюю удобную и приятную жизнь в Крыму на жизнь в большом шумном городе, где зимой было очень холодно, а летом слишком жарко и пыльно.
У одного из папиных харьковских друзей доктора Сурукчи была хорошо известная фешенебельная частная клиника в Харькове, пациентами которой были люди из привилегированных слоев общества. Когда началась война, доктор Сурукчи переделал клинику в госпиталь для лечения раненых воинов, и постоянно просил моего отца помочь ему в этой работе. Доктор Сурукчи имел способность убеждать, и я отлично помню, когда один из его друзей, знаменитый и любимый всеми Федор Шаляпин, приехал в госпиталь, чтобы выступить перед ранеными солдатами. Это было большим событием.
Харьков по-прежнему выглядел процветающим, и некоторое время наша жизнь была благополучной, хотя город постепенно наполнялся ранеными солдатами и беженцами из приграничных районов. Это было еще до революции 1917 года, когда там находились белые войска, а мне исполнилось 12 лет. Чтобы успокоить меня, когда я тосковала по Ялте, мои родители убеждали меня, что такой огромный город, как Харьков с его университетом и множеством разных школ, дает мне массу возможностей для дальнейшего культурного развития и получения образования.
Когда я была еще маленькой девочкой, меня отправили в танцевальную школу, где детей из так называемых приличных семей учили бальным танцам и искусству двигаться грациозно и естественно. Когда я стала старше, мама записала меня в Харьковскую балетную школу, в которой учились только девочки. Там были отличные преподаватели, некоторые с мировой репутацией, и учащихся принимали на конкурсной основе после строгих экзаменов.
Подруг по гимназии я почти не помню. Были, конечно, подруги, чьи родители были друзьями моих родителей. Приходила к нам одна семья, Кедрины, состоявшая из пяти человек, — мать Валентина Николаевна, отец, имя которого я не помню, потому что он был не совсем здоров психически, всегда сидел в кресле и странными глазами на всех смотрел. О нем избегали говорить и беседовать с ним, я только помню, что у него была небольшая черная борода. В семье росли три дочери — Людмила, моя самая лучшая подруга Нина, и самая красивая из них Лида. У нее были белокурые волосы и большие голубые глаза. Старшая тоже была красивой барышней, блондинкой лет 19–20 — уже совсем взрослой. Неразговорчивая, очень сдержанная, она с презрением относилась к нам, детям, и у нее была своя подруга. А моя подружка Нина была самой некрасивой из них, но, как я теперь понимаю, — самой интересной. У меня до сих пор есть ее фотография. У нее было необычное лицо и русые волосы. Мы очень дружили и виделись каждый день. Я также подружилась с девочками из балетной школы. Только моей и Нининой маме удавалось достать еду, чтобы хоть как-то нас прокормить. Они ходили на базар с какими-то своими вещами, которых почти уже не осталось, и продавали их.
Школа и домашние задания отнимали очень много времени. Кроме работы волонтером в больнице, я брала еще и балетные уроки. Поэтому у меня оставалось мало времени для чего-либо, кроме чтения. Мне редко удавалось встретиться со своими друзьями вне школы, не считая тех, кто жил рядом с нами.
Раньше вид сугробов из окон вызывал у меня только радостные чувства, в комнатах было натоплено, и все было таким незыблемо уютным и спокойным. Теперь же разницы в температуре между комнатами и улицей почти не было. Сугробы из того же самого окна казались синей смертью. Но мы не падали духом, не озлоблялись. О прошлой жизни старались часто не говорить, и не вспоминать о том хорошем, что было в том навсегда ушедшем, ласковом для нас мире.
Теперь, когда холод лез прямо в комнату, мы, дети, собирались гурьбой, брали коньки или салазки, и храбро высыпали на улицу в пасть суровой стуже. Дома на нас наматывали все, что было теплого: пальто, платки, у кого галоши, у кого валенки, кто вообще не разберешь в чем, так много намотано на маленькие тельца. Затем, кто в салазках, кто на коньках, а кто просто присев на корточки, мы лихо и бесстрашно спускались с ледяной горы.
Лучшая часть города, в которой мы жили, находилась на самом верху местами довольно крутой горы. Все улицы, спускавшиеся вниз, постепенно теряли свой богатый ухоженный вид, и становились все беднее и беднее, а у подножия горы превращались в совсем нищий район с большой унылой площадью, на которой в прежние сытые времена, особенно летом, располагался базар. Туда из окрестных деревень мужики привозили на продажу великолепные вещи, теперь казавшиеся недоступными, и много всякой еды. С самого начала смуты эти довольно крутые спуски уже никто, конечно, не посыпал песком, не разгребал снег. Больше некому было заботиться о безопасности местных жителей, поэтому заледенелые мостовые и тротуары всех улиц в городе, а особенно наших, ведущих под гору, были не менее опасными, чем покрытые льдом склоны альпийских гор.
Для нас, ребят, эти ледяные улицы были неимоверно привлекательными. Следовало совсем легонько оттолкнуться, и ты сразу же становился снежным вихрем, который с бешеной быстротой проносится мимо других, острых как нож вихрей, летящих тебе навстречу. Эти вихри были окружены сиянием, голубыми лучами, они переливались на солнце всеми цветами радуги, а, пролетая мимо, волочили за собой хвост невыносимо ярких цветов, который бил по лицу и царапался. Так пролетишь веселой птицей до подножия горы, а там уже по инерции, но все тише и тише, прокатишься далеко-далеко, почти через всю огромную базарную площадь. Все вокруг бледнеет, обесцвечивается. Больше нет летящего навстречу переливающегося вихря — только грязная, закованная в лед, рыночная площадь. Но нас все это приводило в восторг, ведь раньше нельзя было и думать о том, чтобы тебя отпустили из дома одного, да еще разрешили скатываться вниз с горы. Теперь же все преграды и условности стали исчезать, никто уже не запрещал нам делать прежде недозволенное.
Мне казалось, что в мирное время мы никогда так не резвились, не радовались так безудержно тем мелочам, которых раньше просто не замечали. Когда мы с горы неслись вниз на бешеной скорости, мы моментально согревались, становились веселыми и чувствовали себя лихими и дерзкими. Снова и снова бежали через рыночную площадь, а потом, кое-как цепляясь за кочки и стволы деревьев, вползали наверх по дороге, полностью покрытой льдом, а оттуда снова летели навстречу вихрям, таким ярким и колючим. После каждого полета вниз звенело в ушах от внезапной тишины вокруг и неподвижности, сердце неистово колотилось в груди, становилось нестерпимо жарко и немного подташнивало. Но одно только воспоминание о чудесном вихревом полете опять заставляло ползти на верхушку горы.
Никогда в жизни я так не хотела есть, как в то время, никогда больше не ощущала такого смертельного, хватающего за сердце холода, но и никогда больше так весело не хохотала, не чувствовала желания от восторга выскочить из земной орбиты. Помню всех своих соратников снежной горы красными и хохочущими.
Я поступила в женскую гимназию Л. В. Домбровской, куда принимали учениц как приходящих ежедневно, так и пансионерок. К моему великому сожалению, какое-то время мне пришлось жить в гимназии. Не знаю, почему так решили родители — быть может, наша новая квартира не была еще готова, или причиной этому была какая-то семейная неурядица, требующая моего отсутствия. Также, возможно, моим родителям необходимо было поехать в Ялту по семейным делам. В то время мне было около девяти лет, я была очень наивной, доверчивой, и нуждалась в поддержке и внимании.
Это был пансион для детей из благородных семей, и меня на одну зиму оставили там жить. Помню своих классных дам. Одну прозвали Махорка, так как мы знали, что она курит, но при нас она, конечно же, никогда не курила. У нее были желтые пальцы от курения. Тогда в России появился дешевый солдатский табак, который надо было насыпать в небольшой газетный прямоугольник, свернуть его в трубочку, а край трубочки смочить слюной и заклеить. Получалась такая самодельная сигаретка.
Вторая всегда ходила в большом платке (испанской шали), который держала около рта. Потом выяснилось — такие девчонки, как мы, всегда все узнавали, и от нас почти ничего нельзя было скрыть, — что она все время держит большой палец во рту. Между собой, так чтобы этого никто больше не услышал, мы издевались над этой девицей, которая сосет свой палец. Очевидно, у несчастной была какая-то душевная травма в детстве. Вообще тогда многие вели себя ненормально. Одна не вынимала изо рта сигарету, другая — свой палец, все какие-то странные там были.
Наши наставницы следили, чтобы мы ложились спать в положенное время, чтобы правильно ели, прилежно готовили уроки.
Сама Maman Домбровская, которая держала эту гимназию, была полной, роскошной дамой в синем тугом платье, натянутом на корсет, как будто у нее внутри все состояло из железных палок, и потрескивало, когда она шла, словно камин топился. Она вся блистала в этом своем платье, которое переливалось то синим, то лиловым, то зеленым цветом, и двигалась как огневой столб, являясь воплощением авторитета и достоинства. Все тряслись со страха, когда Maman ходила по школе — это означало, что какие-нибудь неприятности обязательно будут.
Помню еще, что мы часто бегали на кухню и очень дружили с кухаркой. Были у нее горничные — три веселые молодые девушки, такие славные. Называли они нас просто барышнями. Денег у нас никогда не было, и за услуги мы давали им что-нибудь сладкое, а также ленты, кружево или еще что-нибудь такое.
Девочек-пансионерок было много, думаю, человек 20, не меньше. Конечно, я не со всеми дружила, там были и девочки постарше, но они нас презирали. Им уже было лет по 15, 16 — из старших классов. Они на нас не обращали никакого внимания, а мы их обожали, но не смели даже приближаться.
Также хорошо помню, как долго тянулись летние дни в угрюмом, опустевшем здании гимназии, с сильным запахом пыли, сухих листьев, прелой травы и мышей, которых не было видно, — запахом одиночества. Как-то раз, когда мне было нечего делать, а гувернантка ушла с другой девочкой к врачу, я осталась одна и решила пойти на кухню: «Пойду, думаю, повидаюсь с горничными и кухаркой. Если только они не дремлют. Может быть, играют в карты. Во всяком случае я не буду одна». Я вошла в кухню и увидела там то, что запечатлелось в моей памяти на всю жизнь, хотя тогда я не поняла, что происходит. Посреди комнаты на столе лежала молодая горничная. Она была простоволосая, а ее зеленое платье с цветными узорами задрано так, что видны ее голые ноги и живот. Меня поразило, что на ней не было нижнего белья. Другая горничная постарше в сине-белом полосатом платье, также простоволосая, склонилась над молодой горничной с ножом в руке.
Знакомая картина с Авраамом, занесшим нож над голым Исааком, промелькнула у меня перед глазами и я подумала: «Это человеческое жертвоприношение!» Но сразу же поняла, что это абсурд. Очевидно, бедная девушка была ранена, и получала первую помощь. Но почему она не плакала в таком случае? Напротив, она глупо хихикала, тогда как другая девушка что-то делала с ней рукояткой ножа.
— Что случилось?! — воскликнула я, смутившись и испугавшись.
— Ничего особенного, барышня, — сказала спокойно, даже вызывающе, горничная постарше. — Нам нечего делать, и мы развлекаемся тем, что щекочем друг друга. Это очень приятно. Вам это тоже надо попробовать!
Вот первое знакомство с сексуальными отношениями, запретной темой в то время и в том обществе. Это было очень сильным переживанием, которое оставило на всю жизнь впечатление чего-то опасного и отвратительного.
Трудно представить, что бы случилось, если бы вместо меня горничные увидели нашу величественную директрису, мадам Домбровскую, стоящую над ними в туго затянутом корсете, в своем обычном шелковом блестящем платье радужного цвета, угрожающе потрескивающем. Через несколько месяцев я вернулась домой.
Вскоре все это рухнуло, растаяло, расползлось, как желе, которое из холодильника вынесли на солнце, — весь устой, гимназические правила поведения, все! Куда-то пропали горничные, исчезла кухарка, исчезли все. Мама нашла и арендовала две расположенных рядом и соединенных вместе квартиры прямо в центре города, на Садовой улице №2 на углу Театральной площади. Известный Национальный театр Синельникова был расположен прямо напротив нашего дома, на другой стороне площади, считавшейся городским парком. Справа от площади находилась кирка — лютеранская церковь. На ее башне были большие часы с золотыми стрелками и римскими цифрами, которые мы видели из нашего окна. Я хорошо это помню, потому что нам нужно было следить за этими часами, после того как советская власть прочно установила свое правительство на Украине. Они всегда находили предлог объявить чрезвычайное положение и ввести строгий комендантский час. Мы должны были быть дома к девяти часам вечера, и так как новые власти передвинули летнее время на три, четыре, и даже пять часов вперед, я видела на часах кирки, что уже 9 часов вечера, тогда как солнце было еще высоко на небосклоне. Тем не менее мы должны были оставаться дома.
Однажды в разгар войны папа бесследно исчез. Хотя люди часто пропадали в то время, я иногда задумывалась, не было ли его исчезновение связано с какой-то тайной, о которой мама не хотела мне говорить. Что-то могло случиться между ним и мамой, что заставило его уйти из нашей жизни, или, возможно, финансовые дела нашей семьи стали безнадежно трудными.
Несмотря на то, что мама была сокрушена этим ударом, она делала все возможное, чтобы успокоить меня и предостеречь от неожиданных перемен и нищеты. Она тогда работала как оплачиваемая сестра милосердия в той же больнице, где прежде была волонтером, и не жалела себя, чтобы обеспечить мне хорошую жизнь. Но когда перевороты, революция и последующая Гражданская война прибавились к невзгодам Первой мировой войны, даже ее усердные попытки не смогли остановить постепенное ухудшение условий нашей жизни.
Она уверяла меня, что папа, безусловно, вернется когда-нибудь, и что полиция найдет его. Мама подозревала, что его исчезновение могло быть связано с финансовыми трудностями или другими причинами, но со мной она никогда не делилась своими догадками. Война продолжала свирепствовать, и мы стали говорить, что папа, скорее всего, был убит или погиб по какой-либо другой причине — разного рода несчастные случаи были обыкновенным явлением в те дни.
Сначала я не совсем понимала серьезность нашего положения. Я взяла на себя роль маминого финансового советника и говорила, что ей следует делать. Моя милая, любимая мама просто смотрела на меня и молчала.
Пока что мы жили одни в этой квартире, и она все еще была полностью наша. Потом, конечно, квартиру у нас быстро отобрали. Нет, к нам не приходили вооруженные люди и не говорили: «Мы вашу квартиру забираем и сами вселяемся», а просто стали подселять людей ввиду того, что у нас большая жилплощадь. Я тогда не знала, что все большие квартиры были взяты на учет советской властью.
Сначала к нам вселилась какая-то известная певица — красавица, кокетка, очень милая. Ей было 22 или 23 года. Одним из ее поклонников был комиссар. Гостиную и мамину спальню у нас забрали для ее будто бы горничной. Хотя на самом деле это была ее подруга, полячка, которая позже влюбилась в нашего дворника и переехала в дворницкую, чтобы он от нее никуда не ушел. Итак, эта комната освободилась, и Софья Павловна Нэп переехала туда. Я помню ее настоящее имя — Ксения Николаевна. Мне было непонятно, зачем такое красивое имя, как Ксения, менять на Софью. Теперь я думаю, что она изменила имя для того, чтобы ее родственники не узнали, какую жизнь она стала вести, или по каким-нибудь другим причинам.
Там, где располагался папин кабинет и большая приемная для пациентов, с левой стороны был коридор, и еще большая комната с ванной. Затем дальше по коридору находилась маленькая комнатка возле ванной — там раньше жила моя нянька. Окно в этой комнатке было только на потолке. Вот нас туда с мамой и переселили. Решили, что для таких поганых буржуев, как мы, достаточно будет и такой комнаты, раз мы няньку там держали. Но они не знали, что нянька — это царь и бог в доме, няньку все боялись, и она никогда в этой комнате не сидела, жила в барских хоромах, а туда ходила только ночевать.
В папин кабинет вселилась семья Москановых: отец с матерью и два их сына — лет 18-ти и уже совсем взрослый, как нам тогда казалось. Женщина была худенькая и какая-то несчастная. А ее муж занимал большой пост в Управлении железных дорог. Отец этой семьи, прожив немного вчетвером в одной комнате, в какой-то день пошел и покончил с собой — бросился под поезд. И осталось их трое.
Все мы стали жить очень голодно, мрачно, отвратительно.
Глава 3. РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Заметки Кирстен Сивер
Во время Первой мировой войны Норвегия соблюдала нейтралитет, что в конечном счете и стало главной причиной того, что норвежская миссия в России взяла на себя обязанности большого числа иностранных представительств в Петрограде. По словам Брюса Локхарта, британского представителя в Москве, положение русских и англичан ухудшилось, когда российский министр иностранных дел М. Сазонов, который был настроен дружественно по отношению к союзникам, должен был уйти в отставку в августе 1916 года по той причине, что царь не имел четкого политического курса в отношении Германии. Локхарт писал, что последние несколько месяцев до начала революции были крайне пессимистичным периодом среди иностранных представителей в Москве и Петрограде. В этих городах Первая мировая война отошла на второй план в ожидании народом внутренней катастрофы, которую иностранные наблюдатели считали неизбежной[22].
Русская социал-демократическая партия, основанная в 1898 году, в ответ на возрастающее недовольство политическими, общественными и экономическими условиями в России, в 1912 году была формально разделена на две части — на большевиков и меньшевиков. Возглавляемые Лениным большевики хотели свержения монархии, проводили активную агитацию среди населения. Также они намеревались поднять мировой пролетариат на протест против того, что они считали буржуазными экономическими и политическими репрессиями. Меньшевики вскоре тоже раскололись. Во время войны 1914–1918 годов консервативная фракция поддерживала участие России в войне, а левая выступала за пацифизм. Поэтому неудивительно, что когда в апреле 1917 года, уже после февральской революции и отречения царя, Ленин вернулся в Россию из ссылки, он считал, что измученные войной соотечественники в сложившейся ситуации готовы сделать еще одну революцию.
Убийство Распутина в декабре 1916 года, оказывавшего огромное влияние на царицу Александру, показало, что народ не боится применять силу. Уже довольно долгое время Распутина подозревали в сговоре с царицей, которая была уроженкой Германии, и намерении заставить Россию вступить в переговоры о мире с Германией, не считаясь ни с союзниками, ни с мнением народа.
В июле Керенский стал главой Временного правительства, поддерживаемого меньшевиками и эсерами. Солдатам и рабочим надоело наблюдать за неудачными попытками нового правительства, не желавшего заключать мир с Германией, провести какие-либо реформы, в результате чего они перешли на сторону Ленина. 24 октября 1917 года[23] под руководством Ленина и Троцкого начались серьезные волнения. Керенский бежал за границу в то время, когда начавшиеся массовые аресты, террор и беспорядки привели к последнему этапу войны с Германией и к хаосу, после чего на всей территории России началась Гражданская война. Александра рассказывает о том влиянии, которое оказали на ее жизнь в Харькове революция, а также ее последствия.
Рассказ Александры
Отчасти потому, что я была еще ребенком, отчасти потому, что каждый день был полон слухов и страхов, я не могу точно сказать, когда я осознала, что произошла революция, но я вскоре узнала, почему она называлась революцией. Мой мир, который я знала, перевернулся вверх дном, наполнился демонстрациями, шествиями и празднествами. Бывшие убежденные монархисты теперь прикалывали красные банты к своей одежде и поздравляли друг друга с падением самодержавия, ожидая, что все зло мгновенно исчезнет. В то же время поголовная амнистия освободила как политических, так и уголовных преступников, на улицах они смешались с толпами матросов и солдат, покинувших свои корабли и поля сражений. Убийства, грабежи стали обыкновенным явлением, и ходить по улицам города стало небезопасно даже днем.
Наш дом очень сильно изменился. Прежние кладовки и помещения для прислуги в подвале были переделаны в дешевое жилье для совершенно другого типа людей, отличавшихся от тех, кто жил наверху.
В то время как остальная часть Украины подвергалась уничтожению и разгрому в борьбе различных политических групп, Харьков оставался под контролем советских властей с 1917 по 1919 год, и таким образом избежал открытых сражений и частых смен правительства, делавших жизнь невыносимой в других районах. Несмотря на то, что мы с мамой были временно ограждены от опасности военных действий и не жили в постоянном страхе, наше положение отнюдь не улучшилось после отмены права на частное предпринимательство, а также с исчезновением регулярной полиции и судебной системы. Не только жилую площадь, но и личные запасы еды, одежды и другой собственности теперь нужно было регистрировать у властей. Вселявшиеся жильцы просто присваивали нашу мебель и другое имущество, а это было губительно для нас, так как мы с мамой, как и многие наши друзья, продавали собственные вещи, чтобы прокормиться.
Первая мировая война закончилась в ноябре 1918 года, что совпало с начавшимися контрнаступлениями Белой армии против советского правительства. Когда Белая армия сумела занять Харьков в 1919 году после ожесточенных боев, и в то же время, когда их победоносное наступление на Москву стало терять свою силу, многие старожилы Харькова начали покидать город, направляясь на юг, и надеясь на избавление от дальнейших ужасов.
Мама решила, что нам тоже необходимо уехать в Крым. Она считала, что там мы не только сможем найти безопасное место для себя, но и, возможно, предпримем попытку бежать в Румынию или во Францию, где у нас были родственники. Она также хотела попытаться спасти некоторые наши вещи, которые мы оставили у друзей в Ялте. Но я знала, что ее главной целью была надежда найти хоть какие-нибудь следы моего отца. Мы второпях упаковали кое-какие вещи, закрыли оставшиеся комнаты, и попросили Кедриных присмотреть за вещами во время нашего отсутствия.
Я помнила поездки в Крым как приятное однодневное приключение в спальном вагоне и в элегантном вагоне-ресторане. На этот раз мы ехали несколько дней и ночей в неотапливаемом грузовом вагоне, без уборных и без воды. Дощечка над большими раздвижными дверями вагона гласила: «Для сорока человек или для восьми лошадей».
Когда поезд, наконец, помчал по холодной осенней местности, от сквозняка, проникающего через большие щели в полу, мы промерзли до костей, и мысль, что нам предстоит пересечь район боевых действий, вызывала беспокойство. Нас часто обыскивали, наши документы бесконечно проверяли люди с суровыми лицами, готовые снять нас с поезда под любым предлогом. Я старалась стать невидимкой, чтобы меня никто не заметил.
Мы, совершенно изнуренные путешествием, прибыли в Крым. Крым был заполнен беженцами — дворянами и многими известными людьми, большинство из которых были в панике в связи с последними новостями о неожиданном быстром отступлении Белой армии. Те, кто нашел временное убежище в Крыму, теперь понимали, что окажутся в плену, если не смогут покинуть полуостров. Мы с матерью попали в поток беженцев, которые перемещались из одного морского порта в другой в поисках свободного места на любом пароходе, собирающемся покинуть Россию. Некоторые платили огромные деньги за возможность уплыть на рыболовных или полуразрушенных ветхих судах.
В такой суматохе узнать что-либо о моем отце было, конечно, невозможно. Мы с большим трудом отыскали в Ялте наших прежних соседей, у которых мы оставили вещи, когда переезжали в Харьков, и попросили их присматривать за вещами и дальше — было бесполезно пытаться перевезти что-то назад в Харьков в обстановке быстро меняющихся боевых действий, а найти покупателей для наших простых вещей было невозможно. Испуганные богатые люди продавали за бесценок дорогостоящие вещи, наполняя Крым теперь уже никому не нужными ценностями.
Я думаю, даже если бы мы смогли найти место на корабле, отплывающем за границу, то в последний момент мама не решилась бы на такой ответственный шаг. Однако принять какое-то решение было необходимо, так как времени оставалось все меньше, а ожидать помощи было неоткуда. Моя мать, изысканная и элегантная дама в прошлом, теперь выглядела изнуренной и неухоженной из-за тяжелых условий во время нашей поездки в Крым. Мне было очень больно видеть, как она изменилась, и когда я все же сказала ей об этом, она со смехом ответила, что мы должны быть благодарны за наш заурядный пролетарский облик.
Она также сказала мне: «Ты должна забыть все, что знаешь о нашей семье, о ее происхождении. Помни, что моя девичья фамилия больше не фон Коцебу или Коссуч. Наша жизнь, как и жизнь многих других людей, теперь во многом зависит от осторожности». Затем она назвала очень простую фамилию, которая тоже начиналась с буквы «К». Я была польщена ее доверием и охотно поклялась хранить этот секрет, как она требовала, и никогда, насколько помню, не нарушила данного обещания. Нам не надо было менять документы, которые были при ней, так как нигде не упоминалась ее девичья фамилия. Но с этого дня, когда я или она должны были называть ее девичью фамилию, мы называли ту, о которой договорились.
Наше обратное путешествие из Крыма заняло даже больше времени, чем туда, и у меня сохранились отрывочные воспоминания о нем. Я помню, что мы ехали из Симферополя в Феодосию, где в конце концов нашли небольшое рыболовное судно, которое вывозило людей из Крыма по Азовскому морю. Во время нашего тревожного ожидания отплытия в Феодосии в окне книжного магазина я увидела очень большую и красивую книгу стихов Лермонтова, и к моей великой радости, мама купила ее для меня. Этот замечательный подарок помог мне пережить остальную часть нашего путешествия.
Когда мы, наконец, вернулись в Харьков, он снова перешел под контроль большевиков, и опять развернулась кампания террора. Однако больше всего нас огорчило то, что за время нашего отсутствия конфисковали еще несколько комнат. Большая часть нашего имущества, кроме рояля и некоторых других тяжелых вещей, были передвинуты в маленькую комнату, которая когда-то была спальней няни, а теперь стала нашим единственным жилищем.
Гостиная и мамина спальня были отданы двум молодым женщинам. Одна из них была известной певицей варьете, и ей покровительствовал какой-то важный комиссар. Ее настоящее имя было Ксения Николаевна, но она предпочитала называть себя Софьей Павловной, чтобы ее семья не знала, чем она занимается. Со временем Софья решила, что нуждается в большем помещении.
Был страшный мороз. Как всегда, во время каких-нибудь неприятностей, несчастий и катастроф вмешивается погода. Я пришла в тот день со службы (это было незадолго до того, как я познакомилась с Квислингом), когда было еще светло. Морозище стоял невероятный, даже воздух был какой-то красноватый. В квартире никого не было. Я открыла дверь нашей комнаты — нет ни мамы, ни вещей, пусто! Я была настолько ошарашена, что даже не сразу сообразила, наша ли эта комната, и не ограбили ли нас? Трудно было себе представить, что могло случиться. Я выбежала на кухню, а затем туда, где жили Москановы, и спрашиваю:
— Что произошло?
Старуха была дома. Она стала равнодушно объяснять:
— Ничего особенного, сейчас это каждый день где-нибудь случается — то обыски, то солдаты. Вот и за твоей матерью приехали солдаты на грузовике. Она даже не была одета, ничего подобного не ожидала. Начала с ними разговаривать, протестовать, спрашивать, в чем дело, чего они хотят. Они без всяких разговоров погрузили все ваши вещи и мебель в грузовик. Туда же бросили твою маму и уехали.
— Куда они ее увезли? — спрашиваю я.
— Этого я не знаю, никто ничего не объяснял. Все соседи интересовались, кого и куда увозят, но боялись спрашивать у этих военных.
Я, находясь уже в полной панике, начала всех расспрашивать о происшедшем, и меня направили к бывшему дворнику, а ныне домкому. Я спросила у него, куда увезли мою маму, и что произошло.
— По-моему, солдаты говорили, что повезут ее на Николаевскую улицу, в какое-то там учреждение бывшее, — ответил он мне.
— Почему ее туда повезли?
— Они ничего не сказали. Ты лучше беги туда поскорей, — сказал он.
Я помчалась на Николаевскую улицу, как сумасшедшая, нашла нужное здание.
— Идите на второй этаж, всех арестованных там держат, — говорят мне.
Поднимаюсь по лестнице на второй этаж, а там вместо комнат громадное пустое помещение, как зал для танцев или склад. Большие окна с разбитыми стеклами, промерзшие стены — внутри даже холодней, чем на улице. И в одном углу какая-то маленькая печка, как щепочки лежат наши вещи, и мама на них сидит. Она страшно обрадовалась, что я пришла.
— Что произошло, мама? — спрашиваю я.
— Не знаю, приехали, забрали меня, сказали, что им нужна наша комната, и что меня будут допрашивать. Все привезли сюда, больше ничего неизвестно.
— Пойду сейчас же хлопотать, — сказала я ей, побежала вниз и начала спрашивать у кого-то:
— Что же нам делать?
— Сейчас ничего сделать уже нельзя, поздно, и все закрыто. Вам придется здесь остаться на ночь, — ответили мне.
— Но мы же замерзнем до утра. Там хуже, чем на улице!
Нас пустили в другую комнату внизу, где окна были целы, и было немного теплее. Мы переставили на пол пишущие машинки, постелили на большие столы свои вещи, постельное белье, прикрылись, чем было, и так провели ночь.
Мама мне говорила:
— Ты даже не представляешь, как я счастлива, что мы снова вместе, что ты нашла меня.
Она была так рада, что держалась за меня, словно маленькая, и я стала чувствовать себя взрослой. Она обнимала меня и, плача, говорила:
— Тебе нужно было остаться дома. Там теплее, и соседи есть, ты могла бы у них переночевать. Как же ты здесь будешь?
— А как бы ты была здесь одна? Уж лучше нам быть вместе.
Маму все это очень испугало. Она еще раньше говорила, что нам надо уезжать, скрываться, так как, видимо, что-то стало известно о нашем прошлом и происхождении нашей семьи. Уезжать, пока не поздно, пока до нас еще не добрались в суматохе, пока власти произносят речи во славу революции и громят тех, кто более заметен, чем мы.
Утром я, настроенная воинственно, пошла то ли в Горисполком, то ли в горком партии протестовать и жаловаться. [На самом деле она обратилась в РАБКРИН[24]]. Мне посчастливилось пробиться к какой-то очень славной женщине-коммунистке, занимавшей важную должность.
Она мне сказала:
— Я, деточка, во всем этом разберусь, все разузнаю. Это безобразие, как только могли такое сделать? Ты не бойся. Должно быть, произошла какая-то ошибка.
— Возможно, они кого-то другого хотели забрать, — ответила я ей. — Моя мама вообще ни при чем, она ни в чем не виновата. Я уверена, что никто не смог бы на нее пожаловаться, так как для этого нет повода.
— Где ты, детка, работаешь? Чем занимаешься? — спросила она.
— Я работаю в Помголе.
— А мама твоя что же?
— А моя мать после тифа и от недоедания так ослабла, что работать сестрой милосердия пока не может. А тут еще ее больную схватили и увезли. Мы почти не спали, ничего не ели, у нас ничего не осталось, нет своего угла, никому мы не нужны, некому о нас позаботиться. Почему же нас так обижают?
Мои слова на нее, очевидно, очень подействовали, она была сердобольным комиссаром в юбке, и мне невероятно повезло с ней. Она сразу же кому-то позвонила, и уже через минуту повернулась ко мне и сказала:
— Теперь все нормально, детка. Забирай свою маму и возвращайся домой.
Я пошла обратно пешком, на улице был ужасный мороз. Наши вещи снова погрузили в ту же машину, и привезли нас с мамой обратно домой. Когда мы зашли в квартиру, то увидели, что нашу комнату уже кто-то открыл. Я думала, что о нашем несчастье никто и не знал, но оказалось, что эта Софья Павловна хотела таким образом избавиться от нас и заполучить себе еще и мамину комнату. Но нам все же вернули наше жилье, поскольку та женщина-комиссар оказалась влиятельнее попечителя Софьи.
Я знаю, что эта история не кажется очень важной, и я не очень живо ее описываю, но то, что этот день был одним из самых трудных в моей жизни — это истинная правда. Если бы я тогда не пошла на поиски мамы; если бы попала не к той женщине-коммунистке, которая нам посочувствовала, а к кому-то другому; если бы не сумела сразу получить нашу комнату обратно, — все было бы кончено. Мы остались бы совершенно одни на улице, замерзли от холода или умерли с голода.
Когда тебе шестнадцать лет, ты приходишь домой, а там нет ни мамы, ни твоих вещей, то кажется, что ничего страшнее уже быть не может. Была у тебя мать, был у тебя какой-то матрасик, твоя старая кроватка, какое-то простенькое одеяльце, и вдруг ты лишаешься всего этого в один миг. И при этом даже не знаешь, что случилось. Мы ведь с мамой — две беспомощные маленькие женщины — были очень одинокими. Мама по любому поводу сразу же сильно расстраивалась. А я в такой ситуации начинала чувствовать себя старше, что-то пыталась сделать.
Забыла рассказать о том, что до сих пор, спустя 60 лет, напоминает мне тот ужасный день. Когда я вошла в тот огромный зал, солнце заходило за горизонт, и из разбитых окон струился матово-желтый свет, который придавал всему помещению, и тому месту, где сидела мама, странный оттенок. В этом свете все казалось каким-то нереальным. Снег набивался за остатками разбитых стекол… Нет, больше и точнее это описать нельзя, это надо было видеть! Я до сих пор не могу спокойно смотреть на заход солнца, такое странное освещение теперь ассоциируется у меня с всеобщим позором, позором своего бессилия, с бессмысленностью происходящего. У меня на всю жизнь осталось это чувство подавленности, сознание того, что бывают ситуации, из которых ты не можешь выйти сам, как бы ни старался.
И ко всему прочему этот суровый русский климат. Я иногда думаю про несчастных людей, которые живут где-то в Индии или Америке, но у них там по крайней мере тепло. А когда на улице сорокаградусный мороз и практически нечего надеть, ты все время дрожишь и готов на все, лишь бы только согреться. Замерзает все тело, даже внутренности, и начинает ужасно болеть.
В те дни нашу несчастную Родину, как и всех нас, позорили и унижали. Все мы тогда были окутаны этим ледяным, матово-желтым туманом несчастий, из которых не можем выбраться до сих пор.
Несмотря на то, что наша жизнь снова вошла в свою колею, мы никогда не чувствовали себя как прежде. В тот кошмарный день, в возрасте шестнадцати лет, я впервые ощутила такую горечь и одиночество, какие может ощутить только взрослый человек, и почувствовала, что несу ответственность за себя и за маму. Это действительно был конец моего детства. Мне стало еще тяжелее, когда я начала обращать внимание не только на личные трудности, но и на тот ужас, который происходил вокруг меня.
Глава 4. ГОЛОД
Заметки Кирстен Сивер
В 1921 году Лига наций назначила полярного исследователя Фритьофа Нансена верховным комиссаром по делам русских беженцев. Также он, по просьбе Красного Креста и других частных организаций помощи беженцам, стал координировать все усилия по борьбе с голодом, который теперь угрожал и России. В результате войны сельское хозяйство уже находилось в упадке, к тому же в Поволжье наступила сильная засуха. Вскоре стало ясно, что этому плодородному району Украины осенью и зимой угрожает голод.
Сначала советские власти не разрешали иностранцам действовать внутри своей страны, но ввиду серьезности положения они все же согласились, и необходимые меры были вскоре предприняты как в США, так и в Европе. На встрече в Женеве 15 августа 1921 года Нансена попросили поехать в Москву по поручению Красного Креста. В Риге, всего пять дней спустя, министр торговли США Гувер и министр иностранных дел РСФСР Литвинов подписали соглашение, определившее принципы работы представителей ARA в Советской России (ARA coкращенно от англ. American Relief Administration — «Американская администрация помощи». Основная задача ARA заключалась в предоставлении американской продовольственной помощи странам Европы, разоренным Первой мировой войной). После этого началась широкомасштабная помощь голодающим жителям РСФСР. 27 августа 1921 года Нансен и Чичерин (советский комиссар по иностранным делам) подписали аналогичное соглашение[25].
Было ли это попыткой частично упростить бюрократическую волокиту в ожидании иностранной помощи или же для установления местного контроля над такой влиятельной международной организацией, какой был Красный Крест, но 15 октября 1921 года большевики признали Российский Красный Крест[26]. Возможно, чтобы избежать дальнейших трудностей, центральная администрация Красного Креста в Женеве была вынуждена признать свое новое направление деятельности в Советской России с сохранением связи со старой организацией. Предстояло проделать много дополнительной работы до того, как реальная помощь могла быть оказана. В октябре и ноябре ARA и организация Нансена достигли соглашения с советскими властями касательно путей распределения посылок, но администрация ARA в Харькове не начала официально действовать до 14 декабря[27]. О некоторых подробностях жизни в то время на Украине, бывшей когда-то житницей Европы, рассказывает Александра.
Рассказ Александры
Голод усиливался, свирепствовали эпидемии. Зимой 1921–1922 года люди умирали сотнями, тысячами на улицах Харькова. Было неописуемо тяжело, особенно в середине зимы, когда множество бездомных, беспомощных людей просто замерзали на улице. В городах и деревнях царило насилие и отчаяние.
Мы с мамой обменивали наши последние ценности на еду, и только так выживали. Обмен на черном рынке уже давно заменил нормальную торговлю — никто не принимал наличных денег, поскольку в течение дня они теряли половину своей стоимости.
Однажды я вернулась домой довольно поздно, на улице уже совсем стемнело. Открыв дверь в комнату, где мы с мамой ютились, не услышала ее обычного радостного возгласа: «Ну, наконец-то дома! Слава Богу». Мне сразу показалось, что комната пуста. «Куда же ей деться?» — мелькнуло в голове. Тем более было видно, что мама меня ждала. Печка была растоплена, и что-то на ней даже варилось, тихо попыхивая и выпуская пар. Комната, как всегда, освещалась масляной самодельной лампочкой. Войдя в комнату с улицы, трудно было что-либо сразу, не привыкнув к полумраку, рассмотреть.
Хоть уже и было начало весны, и днем на солнце бывало довольно тепло, к вечеру же сильно холодало, и снова накрепко замораживало все, что успевало на солнце немного оттаять. В тот день к вечеру снова вернулась зима, и за несколько часов навалило снега чуть не по щиколотку, и оттого даже в сумерках все было белым и снежно-светлым. Войдя в полутемную комнату, я сразу не заметила, что мама никуда и не уходила, а как-то жалко, безмолвно и покорно лежала на полу без чувств. Одна нога была поджата, как сломанная, на другой, вытянутой ноге лежала мокрая швабра, руки были широко раскинуты, точно в удивлении, что же это такое со мной случилось. Чуть дальше валялось опрокинутое ведро, и все вокруг было залито водой.
Я, не помня себя от ужаса, думая, что мама умерла, бросилась к ней и попыталась поднять. От ее тела исходил обжигающий сухой жар. Точно прикоснулась к горячему песку, нагретому знойным летним солнцем. «Что делать? — вертелось у меня в голове. — Господи, что же делать?». От страха и волнения за маму я не могла сразу сообразить, куда бежать, к кому обратиться за помощью. Это был первый раз, когда я вдруг почувствовала всем сердцем, что гибнет мой дом, мой ласковый, родной и теплый дом. Куда же деваться, если не будет дома? Весь мой дом — это мама, которая лежит теперь на полу, точно сломанная кукла, и ко всему безучастна и глуха.
Прошло много лет с тех пор, и очень часто мой, казалось, так крепко построенный дом, начинал рушиться легко и беспричинно, но тот первый случай навсегда оставил след неуверенности в прочности и надежности моего дома, и мне его так никогда и не удалось забыть. То, что произошло в тот вечер, дало мне понять, как ничтожна и пуста наша самоуверенность. Мой дом, мой мир разваливался, как размытая дождем куча глины. Придя немного в себя, я, оставив маму лежать на полу, выбежала снова на улицу и понеслась к самым близко живущим от нас знакомым. Слава Богу, все оказались дома, хотя опять же, войдя к ним в квартиру с улицы, где искрился белоснежный снег, я не сразу смогла различить, сколько их там было. Тот же маленький светильник на столе. Как будто такая же, как и у нас, печурка, и так же на ней что-то пыхтит и исходит паром. От светильника идет свет не дальше стола, на котором он и стоит. Огонь от масляного фитиля трещит и, извиваясь смрадной лентой, освещает красноватым светом круг вокруг себя, а дальше все тот же мрак, колышущееся тени. Но никто не обращал на это внимания и не старался поправить фитиль — все знали, что это ненадолго.
Войдя к ним, я сразу почувствовала, что эти люди, несмотря на внешние невзгоды, крепко держатся вместе и чувствуют себя членами настоящей нерушимой семьи. «Боже мой! Они еще ничего не знают, — бессознательно мелькнуло у меня в голове. — Не знают, как легко можно остаться совсем одному, потерять любимых, в одно мгновение стать несчастным». Очевидно, даже при слабом освещении вид у меня был не совсем обычный, потому что почти сразу ко мне устремились все, кто был в комнате. Окружили и, еще не зная, что случилось, только видя мою растерянность, стали обнимать и успокаивать меня. «Что с тобой? Только, ради Бога, не волнуйся. Иди, садись на диван, или лучше всего поближе к печке, и постарайся успокоиться, а потом расскажешь». Они вели меня к печурке и говорили все одновременно, может быть, просто бессознательно желая отдалить от себя что-то страшное, надвинувшееся на них с моим приходом. Я тогда не очень соображала, что нужно делать, мне хотелось сесть, закрыть глаза и крепко заснуть. Вдруг окажется просто дурным сном то, что мама без сознания лежит на полу. Или зарыдать и броситься на пол от своей беспомощности, потому что даже здесь, у друзей, никто не мог мне помочь, никто не мог вернуть прежнюю маму. Усадить меня им так и не удалось, я стала плакать и уговаривать их скорее идти со мной, чтобы помочь мне поднять маму с пола. Я ничего толком не могла сказать, но они сразу поняли, что надо быстрее бежать к нам в дом.
Как почти в каждой семье в те времена, мужчин в доме не было. Дома остались женщины, старики, совсем маленькие дети и подростки. Многие молодые мужчины не вернулись с войны, хотя официально война закончилась уже года три тому назад. Никто не знал, погибли они или попали в плен к немцам. Получить о них какие-либо сведения не было возможности из-за постоянных военных действий и бунтов. Поэтому каждая семья, в которой мужчины пропали без вести, все еще жила надеждами, что вот-вот произойдет чудо, и любимые вернутся домой. Эта семья тоже не была исключением: муж старшей сестры исчез неизвестно куда, оставив главой семьи крошечного сына, которого Мила родила, когда отец ребенка был уже где-то в Польше, сражаясь против немцев. Последнее письмо от него было из тех мест. И это все. С тех пор прошло целых три года. Они ничего о нем не знали, но очень надеялись на его возвращение. Надеждами тогда главным образом и жили. Две другие сестры были моими подругами — Нина старше меня на год, а Лида на год младше. Их отец, совсем еще нестарый человек, к счастью или же к несчастью семьи, не подлежал военному призыву, так как уже несколько лет был душевно болен. Я тогда не интересовалась этим, поэтому никогда и не знала, что с ним произошло, отчего он стал таким, каким мы привыкли его видеть — тихим, беззлобным и ко всему безучастным. Целыми днями он, совсем незаметный, сидел в кресле, бережно и любовно закутанный в большой клетчатый плед женой и дочками.
Все в этой семье, конечно, держалось на любви и жертвенности их собственной мамы. Она целыми днями либо стояла в очередях за пайками, либо дома готовила еду, штопала, кормила своего больного мужа с ложки, нянчила внука. И в результате из полной солидной дамы, какой я ее помнила, превратилась, как и моя мама, как и тысячи других святых русских матерей, в тоненькую, согнувшуюся под непосильным бременем жизни, словно недорубленное пополам деревце, скорбную тень того, что было в прошлой жизни, в хорошей мирной жизни. Но, как бы не сгибались их спины под тяжестью работы и забот, эти хрупкие женщины все равно оставались надежными опорами для своих семейств. Им приходилось проявлять нечеловеческую изобретательность, чтобы накормить свою семью и по возможности уберечь от всех напастей. Мои подруги Нина и Люда были, как и я, веселыми, беспечными, мало обращающими внимание на жизненные невзгоды девочками. У них была мама, с которой они жили, как за каменной стеной.
Кое-как узнав от меня, что дома что-то случилось, что моя «каменная стена» повалилась, они накинули на себя, что первое попало под руку и, подхватив меня, понеслись ко мне домой. Все четыре женщины так испугались за меня и маму, что в первый раз в жизни оставили дома без присмотра маленького Юру и душевно больного отца. От того ли, что все они так за меня испугались, или просто от их чуткости, теплоты и участливости, но я вдруг почувствовала себя спокойнее, появилась надежда, что они помогут нам, не могут не помочь. В первый раз я поняла, что искреннее желание помочь может исходить не только от родного человека. Оказалось, чужие тоже могут успокоить и дать надежду, что опять все будет хорошо.
Маму мы нашли на полу в том же положении, без сознания. Общими усилиями мы перенесли ее на кровать. Все это делали быстро и молча. Никто не произнес ни слова, только когда положили ее в постель, кто-то тихо сказал: «Теперь мы побежим за доктором, а ты оставайся и присматривай, чтобы она не свалилась с кровати». Прошло еще какое-то время, пока они вернулись вместе с доктором. Найти доктора в то смутное время было само по себе чудом, да еще почти что ночью, когда уже никто, разве только большой толпой, выходить на улицу не рисковал. Тогда чуть не каждую ночь на улицах города происходили бессмысленные убийства и грабежи. Но, к счастью, ничего не помешало им по дороге, и они очень скоро нашли врача, хоть и старенького, но все же настоящего доктора, который жил неподалеку. Где тогда можно было найти молодого доктора?
Осмотрев маму, он объявил нам, что у нее, очевидно, сыпной тиф, что больна она, возможно, уже несколько дней, и начало болезни переносила на ногах, что довольно удивительно для женщины с таким слабым здоровьем, но чего теперь только не бывает. Врач говорил холодным и бесстрастным голосом, что дома ее оставлять нельзя, лучше всего было бы отправить в больницу, и что он постарается похлопотать и как-нибудь доставить ее в госпиталь. Потом он устало поднялся и направился к двери, и вдруг, проходя мимо меня, положил мне руку на голову, погладил ласково и насмешливо сказал: «Не грусти, курносая, мы еще маму твою вернем обратно к жизни. Все устроится. Ну-ка, улыбнись!». И быстро вышел. Мы все окружили мамину постель и молча, не зная, что делать, стояли возле нее. Мама лежала в том же положении, в котором мы ее оставили, не двигаясь, совершенно безмолвно. Никто из нас ничем не мог помочь, оставалось только терпеливо ждать и надеяться, что нашему доктору удастся добиться чего-нибудь. Сколько прошло времени, я не знаю, мне показалась, что вечность, только, наконец, наш доктор вернулся. Привел с собой еще двух человек. Эти люди принесли носилки, положили маму на них и унесли. Доктор, выходя, сказал мне: «Удалось найти для нее место в больнице, там ей будет лучше. Я постараюсь сделать все, что возможно, буду сам за ней смотреть. У меня там много других больных, и я там каждый день бываю. Не волнуйся, все будет хорошо. Бог не выдаст, свинья не съест». Также он сказал мне, в какую больницу ее везет, и велел оставаться дома, а завтра прийти и навестить маму. Вот и все.
Подруги предлагали остаться со мной на ночь, но я отказалась, не хотела осложнять их и так очень трудную жизнь. Расцеловав меня, они ушли. Я осталась одна, о сне, конечно же, и не думала, но как-то получилось, что, присев на кровать, и на минутку закрыв глаза, я открыла их снова, когда было уже утро. В окна светило солнце. Выглянув, увидела, что снега за ночь навалило еще больше. Держался он крепко и хрустел. Очевидно, опять сильно, несмотря на раннюю весну, подморозило. В комнате было очень холодно, даже слегка морозно, печурка давным-давно затухла. Из полуоткрытой дверцы был виден мертво-серый пепел, грязный и пористый, как застывшая мыльная пена от стирки. Но затапливать печурку я не хотела, это заняло бы очень много времени, так как сначала нужно было вычистить и выбросить всю нагоревшую с вечера золу. Для этого у меня времени не было. Я спешила в больницу, чтобы узнать, как мама себя чувствует.
Расстояние от нашего дома до больницы было очень большое, пешком нужно было идти, и то если быстрым шагом, не менее полутора часов. Ходить в морозы так далеко становилось все труднее, поскольку вся обувь, какая у нас имелась, истрепалась за годы гражданской войны, а о том, чтобы купить новую, не приходилось и мечтать. Летом еще кое-как можно было обходиться. Мы научились вязать туфли из тонких бечевок, подошву к ним пришивали или из толстого сукна, или из картона. Но зимой, в морозы, в таких туфлях не походишь, если не хочешь отморозить себе ноги, поэтому необходимо было изобретать что-то другое. У меня осталась более-менее приличная только одна пара туфель, и то летняя, из белого полотна, но на настоящей кожаной подошве. Каблуки совсем стерлись, полотно разлезалось, но подметки еще держались. Зимой в морозы, да еще при таком количестве снега, в этих туфлях не выйдешь. Ноги моментально промокнут, несмотря на еще почти целую подметку. К счастью, у нас еще с хороших времен оставались боты. До войны мама надевала их на тоненькие туфельки, когда ездила в театр или в гости. Боты были из черного фетра и опушены черным мехом. От меха уже давно почти ничего не осталось, моль съела (ей тоже за эти годы что-то есть надо было). Если не считать съеденного меха, боты держались отлично, и я, надев свои летние полотняные туфли, нырнула в мамины черные боты. Они были мне немного велики. Надела пальто, зимнего у меня уже не было, мы его на что-то выменяли, осталось для зимы весеннее пальто, но не так уж в нем было холодно. Во-первых, если двигаться очень быстро, то скоро согреваешься, а во-вторых, можно сверху намотать на себя большой теплый платок из оренбургской шерсти. Этот платок тоже когда-то являлся роскошью, он был связан из тончайшей, очень теплой ангорской шерсти, и был практически невесомым. Лучшие его времена давным-давно прошли — из серебристо-серого он сделался мутно-грязного цвета, но другом остался верным, как и в самые свои блестящие времена молодости, славы и всеобщего обожания. Хотя, пожалуй, и теперь этот платок пользовался у нас не меньшей любовью. Теперь он творил великое дело, спасая нас зачастую от воспаления легких. Я закутала голову платком, повязала его через плечи и грудь, завязала узлом на спине, сразу же согрелась и выбежала на улицу в морозное снежное царство.
Идти было очень трудно, туфли болтались в ботах и натирали ноги. Я только теперь сообразила, что из подростка превратилась в молодую барышню, которая давно отвыкла бегать. Бежать в обычно довольно удобных ботах сейчас было очень трудно — я еле удерживала ноги, чтобы не вывихнуть щиколотку. Как не старалась я поскорее добраться до больницы, все же боль в натертых ногах заставила меня замедлить ход. Даже просто идти стало трудно. Натертые ботами ноги жгло так, будто на открытую рану насыпали соли. В конце концов я кое-как добралась до больницы. Это было угрюмое темно-красное кирпичное здание, казавшееся особенно мрачным на фоне свежевыпавшего за ночь снега. Это здание на нежнейшем белоснежном облаке казалось куском начавшего протухать мяса. За главным зданием тянулись нескончаемыми рядами такие же мрачные и унылые постройки. Было несколько входов, но только к главному подъезду была протоптана еле заметная дорожка. Здесь даже главную дорогу некому было вымести. Я вошла в главное здание, начиная трястись не то от холода, не то от страха и неизвестности. Теперь мне кажется, что я тряслась от холода и ужаса. Но тогда я, конечно же, вообще ничего не заметила, так как о себе не думала. Даже не могу вспомнить, что я могла тогда чувствовать, кроме нетерпения поскорее узнать, что с моей мамой и где она.
В огромном холле, куда я попала, войдя с улицы, почти не было свободного пространства для прохода. Вся комната была занята лежащими людьми в самых разнообразных и невероятных позах. Лежали они на койках или прямо на полу. Было поразительно тихо, только откуда-то, как будто с потолка, неслись заглушенные стоны, вздохи и чье-то бессвязное бормотание. В помещении было немного теплее, чем на улице. Запаха дезинфекции, присущего больницам и так прежде знакомого мне, совсем не было. Стоял в этой огромной комнате какой-то тошнотворный запах тления. Я растерялась, спросить, где мне найти маму, было не у кого. Кроме валявшихся, как тряпичные куклы, больных, никого не было видно поблизости. Я стала осторожно пробираться между почти вплотную лежащими больными. Некоторые из них открывали глаза и смотрели на меня непонимающим, пустым взглядом. Я внимательно присматривалась к каждому из них, чтобы не пропустить маму, которая могла быть среди них. Наконец, я пробралась в какой-то коридор, и там увидела женщину в некогда белом халате. Она еле передвигала ноги не то от смертельной усталости, не то от уже захватившей ее болезни. Эпидемия сыпного тифа свирепствовала не только в этом мрачном учреждении, а по всей стране. Это был первый стоявший на ногах человек, которого я встретила здесь, несмотря на усталый и отрешенный взгляд ничего не выражающих глаз. Я подошла к ней и спросила, где я могу найти больную, которую только вчера вечером сюда привезли. Она посмотрела на меня, не меняя безучастного выражения, как и до того, как я подошла к ней, и на ходу сказала: «Привозят и увозят, милая моя, здесь людей каждый день. Не запомнишь. Иди и сама ищи того, кто тебе нужен. Найдешь — хорошо». Потом уже издали добавила: «А не найдешь, может быть, и того лучше. Жизнь проклятая». И завернула за угол коридора, будто и не было ее никогда.
Легко сказать: «Иди, ищи». Если не повезет, и маму положили где-нибудь в дальнем крыле здания, то искать придется несколько часов. Но ничего не поделаешь. Стараясь взять себя в руки и не зарыдать во весь голос, я отправилась на поиски. Пришлось подходить близко к каждому больному и пристально всматриваться. Не многие из них лежали с открытыми лицами, спокойно вытянувшись. Некоторые лежали, свернувшись клубком и засунув голову под одеяло, у многих и одеял никаких не было, а вместо них у кого пальто, у кого платок. Очевидно, в чем их сюда из дома привезли, в том и положили. Некоторые больные и вовсе были прикрыты кучей каких-то невообразимо грязных и изорванных тряпок. Маму я совершенно неожиданно нашла в этой же комнате. Кроватей свободных, вероятно, уже не было, поэтому она лежала прямо на полу у дальней от входа стены. В этом углу было тесновато. Окна были только в фасадной стене. Шли они рядами, по три с каждой стороны от парадного входа. Но эти окна были настолько грязными, стекла такими мутными, что даже яркий солнечно-снежный свет не мог пробиться через эту пелену грязи. Там, где положили маму, было и вовсе сумрачно, тем более что она лежала между коек, совсем как в какой-то звериной берлоге, и соответствующий запах царил в этом углу. Хотя от скученности здесь было теплее, чем во всей комнате, все же откуда-то постоянно тянуло холодным сквозняком.
Наклонившись радостно над мамой, я увидела, что ее лицо уже не было пугающе черного цвета, но оно показалось мне неестественно маленьким с глубоко провалившимися глазами. Она лежала совершенно спокойно, вытянувшись во всю длину. Я встала на колени и, боясь ее потревожить, тихонько склонилась над ней. Мама подняла на меня глаза, совершенно осмысленно посмотрела на меня, и вдруг вместо обычного маминого ласкового взгляда я увидела на ее лице отвращение. Она как будто увидела что-то страшно надоедливое и противное, потом вздохнула и отвернула голову к стене. Я ужасно растерялась. На все мои вопросы мама не отвечала, и так и не повернула ко мне голову. Обратиться здесь было не к кому.
Скрепя сердце, я решила вернуться домой и попытаться увидеть доктора, который привез ее сюда вечером. Еще раз попробовала сказать маме, что бегу домой, что приведу с собой доктора, что ей скоро будет лучше, и она вернется домой. Хотелось ее хоть чем-нибудь ободрить, вызвать улыбку или просто интерес к тому, что я здесь с ней. Но от моего шепота мама еще больше съеживалась и глубже засовывала голову под подушку. Подушка была без наволочки, из ее разорванного угла вылезала солома. Я поправила подушку под маминой головой так, чтобы она не поцарапала свои щеки о жесткую солому. В тот момент очень страшным показалось то, что цвет подушки был ярко-кумачового цвета, который так не подходил к этой безнадежно-серой обстановке. Из такого материала в самом начале революции шили красные флаги, а иногда просто кусок такого кумача прибивали к древку, и шли с ним завоевывать «новую жизнь». Поэтому мы особенно ненавидели этот цвет. Нам он казался наглым, вульгарным, приносившим лишь горе и несчастья. Именно здесь, больше чем в любом другом месте, он производил наиболее гнетущее впечатление, поскольку эта больница являлась сосредоточением человеческих страданий и боли.
Я вышла во двор. Солнце уже стало спускаться за горизонт. Было далеко за полдень, а я и не заметила, что пробыла в больнице несколько часов. От голода сосало под ложечкой, я еще ничего в этот день не ела, так же, как и мама, что меня ужасно беспокоило. В те времена я была уверена, что если хорошо покормить любого больного, от этого он тотчас начнет выздоравливать. Мне нужно было достать какую-нибудь еду для мамы — это стало для меня сейчас самым важным. Путь домой показался еще длиннее, чем утром. Несмотря на календарную весну, зима не сдавала свои позиции. Пошел сухой снег, резкие порывы ветра гнали его из стороны в сторону.
У меня во рту был горький полынный вкус. Есть больше не хотелось. Болела голова, и немного тошнило. Казалось, что я никогда не дойду до дома. Улицы, как обычно в последнее время, были почти пустынны. Только иногда возникали фигуры неопределенного пола, закутанные с ног до головы всякого рода тряпьем, которые, даже не глядя по сторонам, быстро удалялись и вскоре исчезали из вида. Некоторые из них тащили за собой салазки или просто ящик, к которому были приделаны полозья из простых деревянных палок. Ничего необычного в этих людях, встречавшихся мне по дороге, не было. Картина была давно знакомая.
Больше не поражало отсутствие в повседневной жизни животных. Ни у кого теперь не было в доме ни кошек, ни собак. На улицах сейчас уже не встретишь лошадей. Прежде в каждой семье обязательно был любимый кот или самая красивая собака на свете. А теперь никто даже не упоминал о животных. Было ужасно стыдно за то, что люди, эти высшие существа, не могли защитить милых, верных друзей своих, которые доверяли им столько столетий. Все они погибли, но люди делали вид, что забыли об этом, оправдывая себя тем, что куда уж тут думать о своих питомцах или стараться спасти их, когда столько людей гибнет от голода. Но это неправда, как можно было забыть, например, нашего любимого члена семьи, толстого, ленивого серого кота Караима? Сколько себя помню, столько помню Караима, как лежал он, бывало, целыми днями, развалившись на пианино. Даже когда играешь гаммы, он не обращает внимания, лежит себе, как будто ничего на свете не может потревожить его или разбудить. Нашу таксу, Тетрадь, он презирал и нисколько не боялся. Бывало, она часами простаивала возле пианино, тихонько лаяла и вызывала кота на бой, но тот только иногда поведет глазами, зевнет и, презрительно отвернувшись, опять заснет. Такса была очень похожа на тетрадь — блестящую, клеенчатую, свернутую в трубочку. Она была черная, с лоснящейся красивой шерстью, дружбу свою она навязывала нам постоянно и восторженно. Как таких друзей забыть? Лучше о них и не говорить. Она, попав в беду, даже не умела бороться. Всецело полагалась на людей. Из-за этого и погибла.
Я совсем не верила в возможность хорошего ухода за больными в этом ужасном месте. Но пришлось положиться на доктора, другого выхода у меня не было. «Вот насчет еды — это труднее, — сказал он. — Там больных не кормят, сами все голодные ходят». Как будто я сама этого не знала! «Но об этом тебе тоже не стоит беспокоиться, еду для нее я достану. Гувер, милый человек, теперь помогает нам». Именно тогда я в первый раз услышала это магическое имя — Гувер. Для меня в тот момент оно было просто пустым звуком. После этого вечера я часто стала слышать имя г-на Гувера. Вскоре для меня и для всех, кого я знала, это имя стало близким и бодрящим, как молитва. Сколько людей спас в то время г-н Гувер, я не знаю, но то, что он спас мою мать от верной смерти, это я знаю точно, и буду помнить это всю свою жизнь.
С тех пор прошло не меньше тридцати пяти лет, и я позабыла многих своих самых близких друзей того времени. Помню хорошо только тех, кто был близко связан с организацией «Помощь голодающим». Получить что-то из-за границы напрямую у нас с мамой не было возможности. За пределами России у нас не было ни друзей, ни родственников, но это не мешало нам время от времени получать что-нибудь из этих великолепных пакетов от людей, которым их присылали из Америки. Так случилось и в первый раз, когда наш старенький доктор впервые упомянул имя Гувера в тот далекий, такой памятный мне вечер. У него тоже за пределами России никого не было. Сам он посылок не получал, но знал, у кого можно было кое-что получить. На следующее утро он принес мне плитку шоколада, велел варить из нее напиток и каждый день относить его маме в больницу. «Не бойся, я еще достану», — говорил он, когда я с ужасом спрашивала, что делать, если этой плитки не хватит. Когда я отнесла в больницу первую бутылку, меня постигло ужасное разочарование, поскольку, как я позже узнала, маме ничего не досталось — кто-то отобрал у нее этот шоколад, и она так его и не попробовала. Вокруг нее было столько голодных людей, включая всех, кто работал в больнице, что такая пропажа меня удивить не могла. Просто нужно было что-то такое придумать, чтобы никто не мог отбирать у нее эти бутылки.
Мама болела сыпным тифом, а подхватила она его во время своей злосчастной поездки в дальнюю деревню за продуктами. Теперь ей стало лучше, но она еще была очень-очень слабой. Маме даже не хватало сил самой поднять бутылку и поднести ее ко рту — кто-то должен был ей помогать. Тут мне в голову пришла блестящая мысль. Когда я приносила ей свежий шоколадный напиток, то сразу же сама давала ей из бутылки отпить хотя бы капельку, звала кого-нибудь из сиделок, и объявляла им: «Будьте осторожны. Я дала больной отпить немного из этой бутылки. Присмотрите, пожалуйста, чтобы никто из нее больше не пил, заразиться так легко». Тот, кто еще не болел сыпняком, ужасно его боялся, и моя мама стала выпивать все, что я ей приносила. Бывало, конечно, что моя уловка не действовала, и бутылки с драгоценным для нас содержимым все равно пропадали, но это происходило гораздо реже, чем раньше. Хотя жизнь и была мрачной и безнадежно унылой, люди все равно хотели жить, поэтому не рисковали пить из посуды больных сыпным тифом, подвергая себя таким образом смертельной опасности. Но многих людей это не останавливало, и они продолжали воровать.
Вскоре мама стала чувствовать себя лучше, и мы смогли всеобщими усилиями перетащить ее домой. Дома ухаживать за ней было намного легче. Все, что нам приносил наш старый добрый доктор из знаменитых гуверовских посылок, все, что ему удавалось достать от счастливцев, получающих эти посылки, спасло не только маму и меня от верной смерти, но, как я потом узнала, еще многих других его пациентов, умирающих от голода. С тех пор прошло очень много лет, с тех пор я побывала во многих различных странах. И в конце концов мне помог сам Господь — он привел меня в страну, из которой, я надеюсь, никто никогда меня без всякой причины не выгонит и не пошлет искать где-нибудь в мире новое пристанище. Эта страна — родина моего милого, ласкового и всю мою жизнь почитаемого Гувера. Более того, мы поселились в том самом городе, где Гувер учился и куда приезжал каждый год, чтобы навестить свой родной университет. Башня Гуверовского института видна почти отовсюду в городе, в котором мы теперь живем. Иногда мы ездим туда, чтобы взять книжку из его библиотеки или просто посидеть в библиотечном зале. И когда бы мне ни пришлось там бывать, воспоминания снова и снова захлестывают меня. Мне так хотелось бы выразить все, что я чувствую к этому великому человеку за то, что он сделал за всю мою долгую жизнь, долгую только благодаря его помощи в самый тяжелый и самый критический период нашей страшной, голодной жизни в послереволюционной русской неразберихе. Но так трудно передать все, что хотелось бы сказать, простыми, ненапыщенными словами. Можно просто сказать: «Спасибо за все, что вы для нас сделали. Спасибо за то, что спасли нас. Спасибо за данную нам возможность прожить несколько лишних десятков лет. Спасибо за те светлые чувства — надежду и веру в людей, которые вы навсегда поселили в душе каждого из нас. Спасибо, и храни вас Господь».
Мама все-таки кое-как поправилась, хотя в городской больнице ей пришлось пробыть около двух месяцев. Вначале доктор думал, что у нее сыпной тиф — в те времена почти все переболели сыпняком, и, отвезя маму в больницу, поместил ее с тифозными больными. Когда же выяснилось, что у нее воспаление легких, переводить маму в другое отделение уже не стоило — больница была и так переполнена. Мама, как и многие другие, начав поправляться от воспаления легких, подхватила сыпняк, и пришлось ей там пролежать еще целый месяц. Но никто этим удивлен или огорчен не был, такие нелепые случаи происходили тогда в каждой больнице. Поэтому я была счастлива и благодарна Богу, что мама вынесла эти страшные болезни. Везти ее домой было, конечно, не на чем, нужно было идти пешком. Я принесла из дома чистое платье и пальто, хотя на улице уже было довольно жарко, но я боялась ее опять простудить. Надев на маму платье, я ужаснулась ее худобе. Платье на ней обвисло печальными складками, словно было не с ее плеча. Кое-как завязала ей теплый платок на голову и стала натягивать на маму пальто. Из этого ничего не вышло, так как силы ее стали быстро иссякать, и пальто, наброшенное ей на плечи, чуть не повалило ее с ног. Мама пошатнулась и начала хватать воздух руками, я едва успела удержать ее. Пришлось снять пальто, дать ей немного отдышаться и, наконец, отправиться с ней в путь.
Дорога домой показалась бесконечной. Солнце сильно припекало. Бешеные порывы ветра поднимали вихри пыли, которая трещала на зубах и порошила глаза. Мамино пальто с каждым шагом казалось все тяжелее. Оно, словно пудовая гиря, оттягивало мне руку. Другой рукой я старалась поддерживать маму, так как без моей помощи она не могла идти. Если я выпускала ее локоть из своей руки, чтобы поправить сваливающееся пальто, она моментально оседала на землю, как приземлившийся парашют. Мы обе садились на обочину тротуара, я клала треклятое пальто прямо на землю, обнимала поникшую маму и, прижав ее к себе, ждала, когда она снова наберется немного сил. Я вся обливалась потом. Мне казалось, что прошла целая вечность, когда мы, наконец, достигли нашего дома. Мама молчала и, еле переставляя ноги, с каждым шагом валилась на мое плечо. Самым трудным за весь наш путь было подняться по лестнице к нам в квартиру на втором этаже. Мы опять сели на ступеньку. Меня мутило, и болела голова. Я так устала, что мне даже не пришло в голову пойти к кому-нибудь из соседей и попросить помочь маме. Сколько мы просидели на ступеньках, я уже не помню, пока кто-то, проходивший мимо нас, не спросил: «Что с вами?», и кое-как помог затащить маму в квартиру.
Многим нашим старым друзьям и некоторым нашим преподавателям так не повезло. Что произошло с ними или с их телом, если они умирали, как правило, оставалось неизвестным. С юношеским пылом мои друзья и я делали все возможное, чтобы помочь найти пропавших без вести друзей и их родственников. Мы спрашивали о них в городской тюрьме и тюрьмах ВЧК — в местах настолько ужасных, что люди боялись даже проходить мимо них. Иногда мы узнавали, куда были перенесены трупы, после того как их подбирали с улиц.
Одна наша с Ниной Кедриной преподавательница лежала больная тифом в городской больнице, из которой, как выяснилось при очередном визите к ней ее семьи, она бесследно исчезла. Они боялись, что она умерла и была отправлена на какой-то склад трупов. Я с Ниной Кедриной и несколькими друзьями отправились ее искать. Мы, наконец, отыскали склад, являющийся временным моргом, и заполненный сверху донизу замерзшими трупами, среди которых мы нашли нашу учительницу. Общими усилиями мы смогли отделить ее тело от остальных трупов, привязали к самодельным саням и дотащили домой к родственникам, чтобы те смогли ее нормально похоронить.
Перед лицом тотального ужаса со временем теряется всякая способность мыслить и чувствовать, как прежде. Какой-то внутренний предохранительный клапан автоматически закрывается, и ты подавляешь охватывающую тебя печаль и страх. Я старалась не думать о том, как просто мы с мамой могли погибнуть от голода или болезней. В те годы нужно было прилагать неимоверные усилия для того, чтобы просто выжить. Несколько лет люди жили, питаясь одной только «дробью» — кашей из дробленого ячменя и проса.
Я думаю, что поскольку Видкун увидел мой мир, когда он находился в полной разрухе, то оправданно предполагал, что в будущем ему поверят, когда он попытается представить наш брак как рыцарский шаг и формальное основание для моего отъезда из России. Не существует слов, способных описать отчаяние мамы, которое она, по всей вероятности, испытывала, пытаясь прокормить меня и уберечь от всяческих невзгод. И несмотря ни на что, она все же сумела сделать так, чтобы я чувствовала себя в безопасности и всегда знала, что я любима. Для меня она была центром моей жизни. К тому же у меня были свои друзья, балетные уроки, доступ к богатствам театра (который процветал, несмотря на все наши неурядицы) и, самое главное, школьные занятия.
После того, как наша гимназия закрылась, нам дали нескольких учителей, поэтому мы еще какое-то время продолжали учиться. А потом все другие ученики куда-то исчезли, и осталась я одна. Помню, я ходила домой к очень славной даме, прекрасной учительнице Лидии Александровне. К сожалению, не помню ее фамилии. С ней я занимались русским языком и другими предметами. У моей учительницы еще были видны следы прошлой роскоши: всегда стояли какие-нибудь цветы, когда был сезон, пахло одеколоном, сама она была хорошо причесанная, изящная старуха. В то время изредка, мимолетно попадались еще остатки прошлого.
Пришло время, когда все учебные заведения закрыли, и учиться нам больше было негде. Мы, как ни странно, очень из-за этого горевали, поэтому старались чаще собираться вместе и затевали дебаты, прочитав какую-нибудь книгу. Устраивали суды над героями, спорили, горячились и доказывали друг другу свою правоту. Бывало, собирались гурьбой и шли в прежнюю гимназию посмотреть, что там происходит и кто в ней еще обитает. Картина была такая же, как и у всех нас. В одной из маленьких комнат во всем огромном и пустом здании нашей гимназии ютилась прежняя начальница гимназии. Теперь ее было почти не узнать. Из прежнего громовержца, важной, почти божественно недоступной особы она превратилась в худенькую, слабую, запуганную старушку. Она до такой степени была всем напугана, что сначала даже не могла разобраться в том, что мы ей говорили и что мы были ее питомцами в гимназии. Но, несмотря ни на что, старая закалка великолепной светской дамы в ней не исчезла окончательно, и когда мы стали спрашивать ее, как и чем она теперь живет, она вдруг вся подобралась, подтянулась, и очень вежливым тоном ответила нам по-французски: «Распродаю и меняю на крупу свое, как это теперь называется, э… ле барахло». Слово было новое, рожденное революцией, и так не подходившее этой высокообразованной даме. Даже значения его она точно не знала, потому и перевести на французский не смогла. Думала, что если добавить к нему французский предлог «ле», то оно, само по себе нестерпимо вульгарное, облагородится, и ее достоинства не унизит. А означало это слово любой предмет, подлежащий продаже или обмену.
Когда свирепствовал тиф, болела мама и множество людей вокруг, часто прямо на улице люди падали и замерзали. Многие наши знакомые и преподаватели так погибли, а потом их трупы кто-то куда-то увозил. Бывало, что к нам приходили родственники пропавших или мы их сами навещали, и тогда они нам жаловались: «Как нам отпеть своих покойников, что нам делать, чтобы похоронить их по-христиански?». Удивительно, но у нас, подростков, оставался энтузиазм. Я думаю, молодые люди часто хотят сделать что-нибудь необыкновенное. Мы с Ниной, не отчаиваясь, ходили, доставали адреса тех мест, куда этих покойников отвозили. Я помню один такой громадный амбар, возможно, какой-то заводский склад, в котором сверху донизу были уложенные в штабеля замерзшие покойники. Они лежали ровно, аккуратно, словно дрова. Мы были полны благородных чувств, добрых намерений, хотели помочь другим. Не думали о том, какое получаешь впечатление или что оно остается на всю жизнь. И чем дольше живешь, тем эта картина больше проясняется, приходит понимание всей этой бессмыслицы. Мы ходили туда, искали среди этих покойников своих знакомых, и если находили, то просили кого-нибудь вытащить труп, если это было возможно, и на салазках привозили его домой к родственникам.
Вот такой была наша детская жизнь — мрачная, дикая, страшная и отвратительная. А еще была наша молодость, флирт и веселье. Девочки оставались прежними — могли петь, смеяться, сплетничать и даже заниматься с оставшимися учителями. Мы очень много читали, книги брали в частных библиотеках, так как почти все библиотеки были разграблены. В библиотечных коридорах книги были свалены грудами, брать их оттуда можно было только через знакомых. Потом все снова стало налаживаться. Книги были расставлены на полках, и опять их можно было получать только по абонементу, но домой их не разрешали брать.
Мама с Валентиной Ивановной Кедриной скопили немного денег и купили крупы. Привезли домой, приобрели большую железную бочку, которую дворники ставили под водосточные трубы, когда шел дождь, чтобы туда стекала вода. Дома мама наварила каши из этой крупы, а утром, по морозу, на салазках потащила на базар. У нас остались детские поломанные саночки, которые мама с Валентиной Ивановной как-то починили. На них они установили свою большую бочку, хотя на самом деле она была не такой уж большой, может быть, фунтов на десять, но казалась громадной, потому что они не смогли сварить столько каши, чтобы наполнить ее полностью, да и достать такое количество крупы было невозможно. Эти две пожилые дамы, которые ничего до революции не делали, никаким физическим трудом не занимались, ходили на базар в каких-то отрепьях, в туфлях на босу ногу, обмотанные какими-то веревками, и продавали эту кашу ложками. К ним подходили с тарелками или чашками. Не знаю, сколько стоила каждая ложка, но это не имело значения, потому что деньги обесценивались настолько быстро, что на следующий день на них уже ничего нельзя было купить. Однажды моя мама и Валентина Ивановна отправились на базар, а поскольку обе были тоненькие, худенькие, они поскользнулись на горке, упали, и вся эта каша вывернулась на снег. Это была ужасная трагедия. Санки поломались, и их товар пропал. Я не помню, за что они взялись после этого. Ходили, что-то меняли на ломтик хлеба или на другую еду, приносили ее домой и кормили нас. Что она на базаре выменивала, я точно не помню. Там над ними все смеялись. Даже в те смутные трагические времена люди пытались все перевести в шутку, может, иногда грубую и издевательскую, но все хохотали, что какие-то барыни берутся за коммерцию, стараются что-то продать! Мама еще возила в ближайшие деревни свои вещи, например, золотые безделушки и т.п., и там их меняла. Что они только ни делали, лишь бы прокормить нас. Это уже было после войны, но еще до прибытия в Харьков белых в 1918 году, потому что я и мама работали у белых, пока они занимали город. Мама просто продавала свои вещи, и на это мы жили, а позже она работала в солдатском госпитале, в котором прикармливали и меня, и маме давали какую-то еду. О том учреждении у меня остались неприятные воспоминания, но не из-за солдат, а, напротив, из-за врачей.
В городах люди начали голодать намного раньше, чем в деревнях. Но скоро нам уже некуда было ездить и менять вещи на хлеб. Да и это не было столь важно, потому что вещей стоящих ни у кого почти не осталось. Но как-то пронесся сумасшедший слух, что в какой-то деревне, куда от нашего города надо было ехать чуть ли не двое суток, у крестьян еще много припрятанной пшеницы, и что если привезти туда зеленое сукно с игорных столов, то можно обменять его на продовольствие. Сукно с биллиардных или карточных столов якобы вдруг заинтересовало меняльщиков. Вся Россия была охвачена этим «зеленым» безумием, и все, кто только мог, сдирал с таких столов зеленое сукно и шил себе платье или даже мужские костюмы. Сукно это действительно оказалось очень крепким, иногда таким же крепким, как замша. На этот раз нам с мамой действительно повезло! У нас был большой письменный стол, покрытый таким драгоценным теперь зеленым сукном. Очевидно, этот стол уцелел и не был порублен на дрова только потому, что был невероятно тяжелым, сделанным из такого крепкого дерева, словно это вовсе не дерево было, а железо. Поэтому и стоял он совершенно нами позабытый. Теперь же, вспомнив, что этот стол был покрыт зеленым сукном, имеющим такой большой спрос, мы с мамой осторожно его сняли, что, кстати, не так-то легко было сделать. Сукно было еще крепкое и плотное, как замша. Таким образом, мы стали обладателями большого по тем временам богатства. Кое-кто из наших друзей тоже оказался в таком же счастливом положении, и вот несколько человек, в том числе и мама, решили поехать в ту легендарную, богатую деревню, и получить за наши зеленые куски сукна все, что можно будет выторговать. Мечтали, помимо муки, о каких-нибудь крупах, а еще больше о столько лет не виданном белом жирном малороссийском сале. Мама уехала, а я первый раз в жизни осталась одна на такой долгий срок. Я начала беспокоиться о маме и плакать чуть ли не через час после ее отъезда. Так страшно и одиноко было без мамы! Каким должно было быть это путешествие, я знала по постоянным рассказам других ездивших по деревням мешочников, как их тогда называли. Мама сама описывала эти поездки, но так далеко и так надолго она еще ни разу не уезжала.
Часто людям казалось, что где-нибудь в другом месте жизнь будет немного сытнее, поэтому перекочевывали зачастую целыми деревнями с больными стариками, маленькими, распухшими от голода детишками, заполняли собой вокзалы в ожидании поездов, в которые можно бы было втиснуться. Поезда ходили нерегулярно, никакого расписания не существовало, иногда их не было несколько дней. А так как со старых мест снималось все население России, отправляясь на поиски чего-то лучшего, то вокзалы, конечно же, были переполнены этими несчастными людьми. Многим приходилось проводить на вокзале несколько недель, и все залы ожидания были заняты этим бездомным людом. Все шевелилось серой уродливой массой, многие спали, подложив под себя, опасаясь кражи, все свое имущество, состоявшее только из одного мешка да каких-то засаленных свертков. Лица у всех без исключения были страдальческими даже во сне. Часто они громко стонали или с ужасом вскрикивали, но никто не обращал никакого внимания на это. Гул в этих смрадных залах стоял такой, что никто и не разобрался бы, кто кричит в бреду, а кто из-за того, что его, возможно, ограбили. Дети, совсем маленькие, грязные, с огромными от голода животами, похожие на паучков, ползали тут же. Никто за ними не смотрел. Зачастую и смотреть за ними уже было некому. Много в то время появилось таких брошенных детей. Те, что постарше, иногда даже умудрялись играть и бегать, перескакивая через все, что попадалось на их дороге. А если удавалось, то воровали что-то (в основном это была еда) у зазевавшихся пассажиров, поэтому и выглядели эти дети немного лучше самых маленьких. Маленький не мог украсть. Не накормят взрослые — вот и пропал.
За несколько часов до прихода поезда на станции каким-то образом разносился слух, что вот-вот прибудет поезд, и вся эта толпа живой непроходимой стеной двигалась на платформы, которые и так были забиты людьми. Наконец, подходил поезд, и не успевал машинист остановить всю эту трещавшую по швам гусеницу, состоящую из товарных вагонов, как с руганью, плачем и криками вся толпа бросалась вперед, стараясь прямо на ходу вскочить в какой-нибудь вагон. Цель этой атаки была одна — во что бы то ни стало очутиться в таком долгожданном вагоне. Не мудрено, что я и близкие тех людей, с которыми мама пустилась в путешествие, страшно волновались и представляли разные ужасы. Вагоны заполнялись с молниеносной быстротой в основном теми, кто был сильнее, моложе и ловчее остальных. Слабые же, старые или те, кто еще не научился ломиться вперед с громкой руганью, пробивая себе дорогу главным образом кулаками, занимали каждый уголок или ступеньку, к которой можно было прицепиться. На крыше ехали опять же более сильные. Остальные путешествующие садились или становились на буфера, на междувагонные прицепы и т.п. Нередко во время хода поезда эти «наружные» пассажиры сваливались оттуда, не имея больше сил держаться за ледяные чугунные части вагонов, а летом, может быть, просто от смертельной усталости. Много тогда погибало людей подобным образом. Но никого такое опасное путешествие, казалось, не пугало, поскольку не было иного выхода.
И вот моя нежная, миниатюрная мама попала в такой «поездной водоворот». Когда, как она потом рассказывала, поезд подошел к перрону и все, как обычно, ринулись к вагонам, она сразу же всех из своей компании растеряла, оставшись одна среди дико воющих чужих людей. Эта толпа вынесла ее на перрон. В вагон она так и не смогла протиснуться, так как ее прижали к вагону так, что она не могла и пошевелиться. Когда весь поезд сверху донизу заполнился людьми, облепившими его крыши и все, что только было возможно, толпа понемногу стихла, и стала, переругиваясь, устраиваться покрепче на своих местах. А моя мама все еще стояла на перроне, вплотную прижатая к колесу вагона другими, не попавшими на этот поезд. Она, бедная, так измоталась, устала и ослабела, что ей в тот момент казалось безразличным даже то, что поезд может тронуться с места до того, как она каким-то чудом все-таки оторвется от этого колеса. Единственное, что осталось в ней, так это мысль обо мне, и она стала молиться, чтобы Господь Всемогущий не оставил меня милостью своей. В этот момент неизвестно откуда взявшиеся руки подхватили ее и перетащили на маленькую открытую площадку между вагонами. Мама навсегда запомнила этого человека и потом подробно мне его описывала. Был он для нее, словно чудесный посланник с неба, а не обыкновенный солдат в старой замызганной серой шинели. Посмотрел он на маму, печально ухмыльнулся и сказал: «Ничего, тетка, лезь, уж не пропадать же тебе. Если и пропадать на этой старой кастрюле, так уж всем миром вместе. Все ж веселее будет». И закрепил маму возле чугунной ручки. Начинало темнеть, скоро и совсем ночь наступила. Поезд шел неровно — то очень медленно, то с горы вдруг слишком быстро. Нужно было всеми силами держаться за чугунную ручку, чтобы не вывалиться от толчков на быстро пробегающую мимо насыпь. Солдата, вытащившего маму на площадку, она больше не видела — не то он соскочил где-то в темноте, не то перелез куда-нибудь в более удобное место. Когда стало светать, сколько мама ни присматривалась к окружающим ее лицам, но так и не смогла его найти. Он так же таинственно исчез, как и появился в один из критических моментов ее жизни. Поездка, занимавшая прежде в нормальное время около двенадцати часов, растянулась теперь на двое суток. Доехало из маминой первоначальной компании не больше половины, другие же, как мы позже узнали, так и не смогли сесть на поезд, и вернулись домой, просидев на вокзале более суток.
Доехав до станции, где наши милые мешочники должны были выменять свое зеленое сукно на продукты, они, наконец, совершенно потрясенные и изнеможенные таким тяжелым путешествием, все же обрадовались, что остались целы. Пошли на вокзал расспрашивать, где находится столь желанная деревня. Оказалось, что верстах в десяти от станции. После такого неимоверно тяжелого пути надо было еще несколько часов идти пешком до деревни. Весна была почти в полном разгаре, а это означало, что дороги размыты, везде слякоть от тающего снега и грязь непроходимая. Густая, липкая грязь налипала на ноги, идти было все труднее и труднее, каждый ботинок, казалось, весил несколько пудов. Все-таки они достигли своей цели, чтобы в итоге узнать, что все эти легенды о богатстве и изобилии здешних мест были преувеличены. Может, и было у этих мужиков что-то из продовольствия, поскольку они еще не выглядели окончательно оголодавшими, но продавать что-либо или менять никто из них не соглашался. Наши пилигримы в полном отчаянии от такой неудачи, изможденные и голодные, уговорили все-таки одну семью за все куски сукна, которые у них были, приютить их на ночь и накормить. В конце концов хозяйка так разжалобилась, что и сукно не захотела брать. Но наши решили отблагодарить их за гостеприимство и, уходя, оставили им все, что составляло цель их поездки сюда.
Дорога домой тоже была тяжелой, повезло им только в том, что не пришлось долго ждать поезда на вокзале и что удалось втиснуться в теплушку. Собственно, это был обычный пустой вагон, служивший прежде для перевозки скота, теперь же весь скот на Руси перевелся, а в вагонах этих стали возить народ. Все пассажиры сидели на полу, тесно прижавшись друг к другу. На остановках в переполненную теплушку народ все равно лез, зачастую по плечам и головам уже спящих там людей. Среди этой толпы часто ехали больные тифом, в жару, часто без сознания, они или глухо стонали, или начинали в бреду что-то громко выкрикивать. Здоровые люди так и оставались прижатыми к больным, и ничего сделать было нельзя, некуда было отодвинуться. Нужно было ждать ближайшей остановки и надеяться, что там этих больных снимут с поезда и отвезут в больницу. Когда же поезд делал остановки только на крупных станциях с длинными перегонами между ними, тифозные умирали, не дождавшись, пока их снимут с поезда, а пассажирам приходилось ехать несколько часов, прижавшись к покойнику. В таком вот эшелоне мама и ехала обратно домой. Когда она приехала и немного отдохнула, все как будто опять вошло в норму, только через время она начала жаловаться на головные боли и какое-то небывалое недомогание, но так как в то время никто не чувствовал себя полностью здоровым, особого внимания на это я не обратила. Но со временем это недомогание перешло в серьезное заболевание мамы с последствиями, описанными ранее в этой главе.
Однажды я встретила поэта Велимира Хлебникова. Он говорил: «Я поэт на земле и во всей Вселенной». Звал он себя председателем земного шара. Это было время разных новых литературных веяний — имажинисты, футуристы. Как-то с подругами-гимназистками мы пошли на вечер поэзии. Сказали, что будут поэты-имажинисты, вероятно, в таком-то доме, такая-то улица. Мы, как и всякая молодежь любого поколения, отправились туда за новыми впечатлениями. Когда мы пришли по указанному адресу, то увидели огромную толпу, через которую невозможно было пробиться. В толкучке — шум и азартное настроение. Слышу, кто-то сказал: «Вот она, вот идет имажинистка», указывая на меня. Кто-то другой: «Ну тебя, она машинистка». Одни думали, что я — имажинистка, другие, что я — машинистка. Многие, вероятно, даже не понимали значения этого слова. Раз стоит толпа, значит надо остановиться, но при этом большинство даже не соприкасались с поэзией или творческой жизнью вообще, а думали, что это просто очередь, может быть, кусочек хлеба выдадут, были и просто зеваки. Поэтому народу прибывало все больше и больше. Говорили, что приехал Маяковский, был еще Борис Поплавский, который тоже в то время считался большим поэтом, но я потом больше ничего о нем не слышала. Борис Поплавский казался нам, гимназисткам, очень красивым. Я помню, что он был высоким блондином. Еще на том вечере присутствовал наш славный приятель-харьковчанин Лева Грановский, но он не был поэтом. Он увидел нас, подошел и говорит: «Девочки, хотите познакомиться с Хлебниковым?». Я говорю: «Да, конечно, это будет такое событие!». В этой толпе мы с девочками растеряли друг друга, но так как мой знакомый держал меня за руку, он меня и провел в этот дом. Сначала мы шли по коридору, потом вошли в какую-то пустую комнату, стены которой были выкрашены в нежно-белый цвет. Я помню, что в этой комнате стояла только этажерка. Мне она запомнилась, потому что Лева потянул меня к ней, чтобы показать статуэтку — балерину или испанку из фарфора. На ней было несколько юбок с кружевами. Лева взял ее в руки и стал объяснять: «Это настоящий фарфор, французский. Такого нигде уже нет, это большая редкость. Вы видите, как сделана юбка, тончайшая работа». Потом в своей жизни я видела тысячи различных фарфоровых статуэток, но больше всего запомнила эту. Из этой комнаты мы вошли в другую, и я увидела, что в углу за ширмой кто-то лежит. Лева сказал, что это и есть Хлебников. «Он слабый, больной. Пойдем с ним поздороваемся». И потащил меня за руку. Мне стало неудобно. «Раз он больной, я не пойду туда», — ответила я. «Почему? — спросил он. — Это не имеет значения». Мы зашли за ширму. Хлебников лежал на полу, на матрасе, совсем больной, худой, несчастный, но, несмотря на это, очень мило улыбнулся нам. «Вот, познакомьтесь: Ася Воронина», — представил он меня. Хлебников подал мне руку и так выразительно посмотрел на меня, но ничего не сказал, только улыбнулся опять. Это был единственный раз, когда я его видела. В этом не было ничего особенного. Многие люди знали его хорошо. Как я помню из книг, он вскоре поправился и уехал в Москву или Петербург. Умер он ужасной смертью, будучи еще молодым человеком.
После этой короткой встречи с Хлебниковым мы быстро вышли из комнаты, чтобы его не беспокоить. Дома я с восторгом рассказывала маме, что видела Хлебникова. Она никакого представления не имела о том, кто он такой. Мама отдавала предпочтение таким поэтам, как Пушкин, Лермонтов и еще, может быть, Блок. А этих новых поэтов она совсем не знала, да тут еще имажинисты, футуристы, и все это тогда, когда надо было идти на рынок, что-то продавать, что-то покупать, менять вещи на еду — ей было не до этого. Она так ласково соглашалась со мной, никогда не говорила: «Ах, что ты там занимаешься глупостями, чепухой! Зачем тебе это?». У нее не было времени меня перевоспитывать, да и вообще это было не в ее духе. Я уже не помню, чтобы она мне когда-нибудь говорила, чего нельзя делать. Мамины просьбы касались только церкви, к этому она меня приучала еще с малых лет. А так она была за то, чтобы приносить детям радость. Поэтому никогда не запрещала мне ходить в театр, в оперу, посещать литературные вечера.
Глава 5. ПОМГОЛ И ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРЫ С КВИСЛИНГОМ
Заметки Кирстен Сивер
Во время суда над Квислингом в 1945 году бывший руководитель дипломатических миссий в Хельсинки и Москве, министр Андреас Урбю, заявил, что именно он был первым, кто порекомендовал Квислинга как наилучшего кандидата для работы вместе с Нансеном по оказанию помощи на Украине. Он, очевидно, сказал об этом Нансену, когда тот был с визитом в Хельсинки осенью 1921 года[28]. Установлено, что 31 декабря того же года Урбю написал официальное письмо Нансену о том, что ему следует привлечь этого молодого офицера к своей работе в России. По его мнению, это было бы значительно полезнее, чем возврат Квислинга к его канцелярской должности в Генеральном штабе[29]. За две недели до того, как написать это письмо, Урбю уже снабдил Квислинга дипломатическим паспортом (который показывает, что Квислинг вернулся домой в Норвегию 29 декабря). Его письмо, вероятно, должно было помочь Квислингу получить еще один дополнительный отпуск, который был разрешен ему командованием норвежской армии 17 января[30].
Записи Квислинга в записной книжке за 1922 год указывают, что ему еще предстояло закончить много дел до того, как он телеграфировал Нансену, что прибыл в Харьков 13 февраля[31]. Эти же записи свидетельствуют, что он пересек границу между Финляндией и Россией на российском курьерском поезде 2 февраля[32].
Большинство европейских благотворительных организаций должны были действовать под руководством нансеновской частной организации (Нансен не был подотчетен Лиге Наций в этом случае), и сотрудники американской организации ARA держали нансеновскую организацию под наблюдением, явно рассматривая ее как конкурента, судя по телеграммам от 21 и 25 января.
В существующей обстановке, когда помощь уже предоставлена, было не так важно, кто и за что отвечает. Квислинг сообщал в нансеновскую организацию в Женеве, что той весной 5 миллионов человек не получили вообще никаких продуктов питания. Считалось, что около 10 тысяч человек погибало от голода ежедневно. В течение первой недели апреля только на улицах Одессы было собрано 276 трупов, а работники по оказанию помощи в Запорожье рассказывали, что за день от 7 до 10 апреля жители деревень погибали от ужасных условий существования. Каннибализм становился обычным явлением[33].
Документы в Осло и в Калифорнии, как и рассказы Александры, говорят о том, что обязанностью Квислинга на Украине главным образом была доставка посланного Нансеном продовольствия на местные пункты питания, что, конечно, было непростым делом из-за хаоса, царившего в то время.
Рассказ Александры
Когда капитан Квислинг из норвежского Генерального штаба прибыл в мой родной Харьков в феврале 1922 года для управления работой организации Нансена по оказанию помощи голодающим на Украине, город был совершенно другим, чем в недалеком прошлом. Все школы, торговые и частные предприятия, базары были закрыты, общественного транспорта не существовало. У нас не было ни газа, ни электричества, ни воды. Люди брали воду в колодцах. Плохо снабжаемые больницы были переполнены больными с эпидемическими болезнями, люди вокруг находились на грани голодной смерти.
В связи с тем, что вся коммерческая, сельскохозяйственная и промышленная деятельность прекратилась, люди были счастливы получить любую работу, поэтому мама продолжала свою изнурительную и тяжелую работу как сестра милосердия. Я и мои друзья также делали все, что могли, чтобы помочь нашим семьям заработать на ежедневный хлеб. Мы обращались на правительственную биржу труда, которая давала нам хлебные карточки на четвертинку фунта мокрого черного хлеба в день. Иногда мы находили временную работу машинистками в правительственных учреждениях, и за это получали дополнительные карточки на несколько ржавых селедок и прогорклое подсолнечное масло.
К концу 1921 года мы узнали, что проводится особая регистрация лиц, знающих иностранные языки (французский и немецкий), для работы в организациях по координации работы иностранных миссий на Украине, которые оказывают помощь голодающим. Я подала свое заявление вместе с Ниной Кедриной и ее двумя сестрами. Вскоре после этого все мы были приняты на работу в отделение Помгола, находящегося в роскошном особняке, — доме №2 на улице Садово-Куликовской, всего в нескольких кварталах от нашего дома. Это был конфискованный большевиками дом семьи богатого купца Балабанова.
До приезда капитана Квислинга на втором этаже особняка распределяли посылки «Американской администрации помощи» (ARA), а после приезда капитана здесь расположилась его штаб-квартира. Нам был дан строжайший приказ не контактировать с иностранными сотрудниками на втором этаже. Но время от времени кто-нибудь из американцев заходил к нам с документами или просто поздороваться, а иногда мы сталкивались с ними на огромной мраморной лестнице с богато украшенными перилами, освещаемой большим окном с витражом в стиле модерн.
Время шло, я продолжала работать. Вечером после работы я шла домой либо встречалась со своими знакомыми. Жизнь текла так, как будто бы ничего особенного и не произошло. Все были бедные и голодные, независимо от того, кем мы были в прошлом. В этот вечер за мной на коммутатор зашла Нина, чтобы вместе идти домой. Мы всегда ходили вместе, так как боялись ходить по одному, хотя до дома нам было недалеко — около четырех кварталов. В этот вечер мы вышли немного позже, уже начало темнеть. И вдруг нас заметила компания пьяных солдат, они стали пытаться с нами знакомиться. Мы очень испугались, просили, чтобы они оставили нас в покое, но они пошли за нами. В какой-то момент один из них подбежал ко мне, оттянул ворот моего легкого летнего платья и с хохотом бросил мне на спину свою горящую сигарету. Этот хохот, так же как и страх перед военными, остался в моей памяти на всю жизнь. И пока я со страшным криком извивалась и пыталась вытряхнуть сигарету, платье начало тлеть, и я сильно обожглась. Видя это, солдаты убежали, но на мой крик подбежал милиционер и спросил, что это за суматоха. Мы ответили, что шли с работы, нас окружили солдаты, стали приставать и бросили мне горящую папиросу под платье на спину. Он сказал, что неизвестно, кто виноват, возможно, это мы все придумываем, и что вообще уже больше 10 часов вечера, а после 10 ходить по улице запрещено. И на этом основании он нас задерживает до выяснения обстоятельств. Всю дорогу до отделения милиции мы с Ниной советовались, что нам делать. Милиционер шел с винтовкой на плече, у него был свирепый вид. Он привел нас в отделение милиции, которое располагалось в здании бывшей полиции. Здесь были грязные комнаты, закрытые ставни, горела тусклая желтая лампочка. Я предложила милиционеру два рубля, которые чудом были у нас с Ниной, за то, чтобы он отпустил нас домой, и он с радостью согласился. Так эта история закончилась, но впредь я старалась никогда не задерживаться на работе.
В один прекрасный вечер (впрочем, не знаю, прекрасный ли), когда я сидела на коммутаторе, вдруг послышались шаги, открылась дверь, и появился незнакомый человек очень высокого роста. Помню как сейчас, что на нем был великолепный синий костюм, у него были светлые волосы (как потом говорили — «до жалости блондин») и большие ярко-голубые глаза. Я подумала: «Кто это?». Я никогда не видела таких высоких (более 6 футов) широкоплечих людей. Он остановился, посмотрел на меня с удивлением, отвел взгляд и собирался что-то сказать, но тут же посмотрел на меня снова, как будто его взгляд зацепился за что-то. Затем будто бы опомнился и совершенно сухим деловым тоном спросил:
— Вы, барышня, здесь заведуете телефоном?
— Да, я каждый вечер до 9-ти часов заменяю телефонистку. Я могу чем-то вам помочь?
— Да. Скажите мне, пожалуйста, как отправить телеграмму?
Меня удивило, что он очень хорошо и безо всякого акцента говорил по-русски, хотя и довольно машинально.
Отправить телеграмму с помощью коммутатора было невозможно, поэтому я ответила:
— Я даже не знаю, как это сделать. Вероятно, вам лучше воспользоваться почтой.
— Здесь нет почты, а мне необходимо отправить эту телеграмму. Думал, что, может быть, смогу это сделать по телефону.
— Нет, по телефону это сделать невозможно. А вы попробуйте обратиться в посольскую канцелярию.
— Но сейчас там уже никого нет.
— К сожалению, я не смогу вам помочь с телеграммой…
— Простите, пожалуйста, за беспокойство. До свидания.
Он очень вежливо поклонился и ушел. На этом закончилось наше первое знакомство.
Его внешний вид совершенно не соответствовал нашей бедной, голодной, идиотской жизни. В этом холеном блондине чувствовалась уверенность в себе и в том, что он ничего не боится, а я уже давно не встречала таких людей.
На следующий день на работе мы долго обсуждали происшедшее. Я рассказала об этом и, конечно же, приукрасила все, сделав его героем всех морей и фьордов скандинавского мира.
Всем было интересно слушать мой рассказ, они расспрашивали подробности о том, как он был одет, из какого материала и какого цвета был его костюм и какие на нем были пуговицы. Все это было необычно для нас. А потом я и забыла об этой встрече.
Через несколько дней капитан пришел снова. Он открыл дверь, поздоровался и спросил:
— Вы снова здесь?
— Да, я говорила вам, что работаю здесь каждый день.
— Я помню.
— Вам удалось отправить ту телеграмму?
— Это не важно, я все уладил. Я пришел, чтобы попрактиковаться с вами в русском языке.
— Так ведь вокруг все только и говорят по-русски.
— Это правда. Но люди, с которыми я встречаюсь, — это представители советского правительства, и я обязан говорить с ними на своем родном языке через переводчика. Они не верят и не признают, что я говорю по-русски, поэтому у меня нет языковой практики. Могу ли я каждый день заходить к вам? Всего на несколько минут.
— Конечно, я буду очень рада, у меня не очень много работы.
— Отлично. Я каждый день после ужина хожу гулять. Если позволите, я буду заходить за вами после вашего дежурства и провожать вас домой, а по дороге мы будем разговаривать.
— Хорошо, если вы действительно хотите.
Про себя я подумала: «Боже мой, он ужинает каждый день!».
Так каждый день к 9-ти часам капитан стал заходить за мной. Он провожал меня домой. Мы шли по улице и разговаривали, он рассказывал о Норвегии, и мне было интересно, так как мы знали об этой стране только из пьес и книг. Он расспрашивал, как живем мы и чем занимаемся. В те времена представители власти еще не следили за нами, мы спокойно ходили по улицам.
Однажды он спросил:
— Когда у вас выходной?
— В субботу и воскресенье.
— Давайте устроим пикник в парке — возьмем бутерброды и съедим их на свежем воздухе.
Парк находился недалеко от особняка, где он жил, а я работала. Я подумала: «Боже мой, какую же еду я смогу взять?». И ответила:
— Я не смогу принести бутерброды, потому что дома нет никакой еды.
— Ну что ж, — сказал он. — Тогда просто погуляем.
Конечно, возможно, ему было неловко предлагать.
В следующее воскресение я принарядилась, сделала красивую прическу, постаралась выглядеть лучше, чем каждый день на работе. Маме я сказала, что иду гулять с капитаном. Она ответила: «Будь осторожна, Бог его знает, иностранец, он потом уедет, а я не хочу, чтобы у тебя были неприятности, и не хочу, чтобы ты страдала. Лучше брось это, тем более сейчас такие сложные времена».
Теперь я понимаю, что власти знали о нас, так как строго следили и за всеми иностранцами, и за русскими, которые имели какие-либо связи с иностранцами. Однако тогда я не видела никакой связи между моей дружбой с капитаном Квислингом и несколькими странными происшествиями, которые произошли вскоре после начала наших совместных прогулок.
Глава 6. СЛОЖНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Заметки Кирстен Сиверт
У Нансена не было причин жаловаться на своего трудолюбивого представителя. Рабочий день Квислинга был таким же длинным, как и у Александры, и с не менее тяжелыми условиями. В письме Джону Горвину от 18 февраля, написанному в московском офисе нансеновской организации, Квислинг писал, что только в Харькове в ноябре и декабре было зарегистрировано 9104 случая эпидемических заболеваний, и это не считая солдат и людей, которые не были госпитализированы[34].
Днем ранее, согласно русской версии доклада, «представитель Нансена капитан Квислинг (sic)» провел длительную встречу с «доктором Босковичем» (обеспечивающий взаимодействие Украинской Советской Социалистической Республики и иностранных организаций по оказанию помощи) и с товарищем Капланом, «временно возглавляющим Центральный комитет помощи голодающим при Центральном исполнительном комитете Украины». На этой встрече также присутствовал некий господин Мэтьюз, представитель ARA на Украине. Ему заявили, что, поскольку у него нет возможности вести какие-либо переговоры, он должен последовать примеру капитана Квислинга и сотрудничать с властями[35].
«Доктор Боскович» или Башкович, участвующий в этой встрече, «Башковиц», упомянутый в записной книжке Марии (стр. 29), и начальник Александры во время ее первого периода работы в Помголе, который она описывает ниже, — один и тот же человек. В этой главе Александра также упоминает элегантного Константина Артамонова, активного советского деятеля. Этот человек был одной из ключевых персон в истории Александры, Видкуна и Марии, и он еще появится в следующих главах.
Джордж П. Харрингтон, глава представительства ARA в Харькове, 1 марта сообщил в московское представительство ARA, что господин Артамонов — специальный представитель господина Эйдука в Харькове. 13 марта Джордж П. Харрингтон писал: «Господин Артамонов теперь заведует всеми делами и является представителем правительства в иностранных организациях, также он напрямую связан с господином Эйдуком. Мы его называем украинским Эйдуком. После его прибытия дела наладились, и я думаю, что вскоре в работе не будет никаких затруднений, кроме обычных раздражающих задержек»[36].
Иными словами, значительные перемены в Помголе произошли всего лишь через шесть недель после прибытия Квислинга на Украину, и дальнейшие изменения были впереди. Надо полагать, что Квислинг, который был представлен Артамонову сразу после прибытия в Харьков, также почувствовал эти политические волнения. Еще 16 мая 1922 года Министерство иностранных дел Норвегии получило жалобу от Министерства иностранных дел Польши, что Квислинг, поддерживаемый Советами, не только был политически активен, но и состоял в нежелательных контактах с ARA, а также слишком сблизился с «большевистским комиссаром Артамоновым», к которому его прикрепило советское правительство[37].
Эту польскую претензию следует трактовать скептически по двум причинам: во-первых, Квислинг учитывал существующее политическое положение, а во-вторых, ему было необходимо тесно сотрудничать с советскими властями на всех уровнях для выполнения заданий Нансена.
Рассказ Александры
Башкович, мой начальник в Помголе, обычно не общался с рядовыми служащими, поэтому я была крайне удивлена, когда однажды он вызвал меня к себе и сообщил, что у него накопилось много важных секретных документов, которые необходимо срочно отпечатать. Он дал мне свой адрес и сказал явиться туда не позже семи часов вечера. Конечно, я не могла отказать начальнику, однако и не была настолько наивной, чтобы отправиться туда одной. Я осознавала власть таких людей и понимала, что не стоит слепо выполнять подобные приказы. Я была испугана, поэтому после разговора с Башковичем попросила Нину пойти вместе со мной, и она согласилась. Мы были как сестры и всегда помогали друг другу. Я до сих пор скучаю по ее обществу и нашей дружбе.
Когда наступил вечер, мы с Ниной отправились к Башковичу. Позвонили в дверной звонок, дверь открыли, и мы оказались в роскошной квартире. Поздоровавшись, Башкович провел нас в большую комнату. Но вместо рабочего стола с пишущей машинкой мы увидели большой стол, богато сервированный разнообразными блюдами и бутылками вина.
Мы почувствовали себя крайне неловко, и я сказала:
— Видимо, вы кого-то ожидаете к ужину. Пожалуй, нам лучше уйти. Мы можем отпечатать необходимые вам материалы в другой раз.
— Зачем же вы привели вторую машинистку? — спросил Башкович с явным неудовольствием.
— Вы же, кажется, говорили, что у вас много срочной работы. Вдвоем мы справимся быстрее.
— Ну что ж, ничего страшного. Возможно, даже лучше, что вас двое. Давайте сначала поужинаем и выпьем, а затем приступим к работе.
Для нас, живущих впроголодь, изобилие накрытого стола было большим соблазном, но во время разговора в комнату вошли двое нетрезвых мужчин и стали нехорошо смотреть на нас. Мы испугались. Тогда я сказала:
— Нет, спасибо большое. Мы лучше пойдем, тем более что не можем задерживаться, так как нас ждут наши мамы.
Таким образом, нам удалось уйти.
На следующий день на работе Башкович вел себя как ни в чем не бывало, будто бы эпизода предыдущего вечера и вовсе не было. Он больше не упоминал о необходимости отпечатать срочные документы, и мы решили, что опасность миновала и эта странная история окончена.
Через две недели, когда мы с Ниной выходили с работы, мы увидели Башковича — он стоял на улице рядом с большим кабриолетом и разговаривал с водителем. Увидев нас, он воскликнул:
— Смотрите, какую большую машину я только что получил в свое распоряжение! Хотите прокатиться? Поехали, девушки. Доедем до парка и обратно.
Мы заколебались, предложение было очень заманчивым и нам не хотелось отказываться. Башкович тем временем продолжал:
— Давайте, давайте, садитесь в машину. Мы вернемся через десять минут.
Немного засмущавшись, мы с Ниной согласились, раз уж мы вернемся так скоро. Кажется, я впервые в жизни ехала в кабриолете, а возможно, и вообще в машине. Это было прекрасно. Мы ехали быстро, была ранняя весна, и свежий благоухающий ветерок обдувал наши лица и развевал волосы. Мы доехали до парка за несколько минут, но вместо того, чтобы повернуть обратно, водитель продолжал ехать все дальше и дальше вглубь парка.
— Куда мы едем? — спросила я. — Мы давно доехали до парка, уже поздно, давайте поедем обратно.
Башкович улыбнулся в ответ и сказал:
— Нет, мы решили ехать на дачу в пригороде. Там нас ожидают наши друзья. Для вас накрыт прекрасный стол с различными блюдами, шоколадными конфетами и другими сладостями. Вам понравится, вот увидите.
Теперь мы испугались не на шутку. Было очевидно, что нас обманули и мы в опасности. Мы стали шумно возражать и говорить, что это невозможно, нам нужно домой, нас ждут мамы.
— Ничего, — сказал он. — Я пошлю водителя или кого-нибудь другого к вам домой, чтобы успокоить ваших мам и сказать, что с вами все нормально.
— Тогда просто отвезите нас домой, — сказала Нина.
В ответ водитель с Башковичем засмеялись и повезли нас дальше. Уже не возникало сомнения, что все это было задумано с какой-то недоброй целью, о которой мы боялись и подумать. Нам с Ниной понадобилось всего несколько слов, сказанных шепотом, чтобы договориться бежать при первой же возможности и изо всех сил сопротивляться нашим похитителям.
Когда машина, наконец, замедлила ход и остановилась возле одинокого сельского дома, мы выскочили и побежали со всех ног. Башкович и водитель погнались за нами, пытаясь нас схватить, но мы вырвались. Дом был окружен высокими деревьями, и нам приходилось быть особенно внимательными, чтобы не потерять друг друга из вида в наступающей темноте. В это время еще несколько нетрезвых мужчин вышли из дома и присоединились к погоне. Но мы были молоды, трезвы и испуганы, и они не смогли нас догнать.
Убежав достаточно далеко и убедившись, что опасность миновала, мы присели на лежащее рядом бревно и зарыдали от изнеможения, страха и ярости. Наш страх усиливался еще и тем, что вокруг не было ни души, и мы не понимали, где находимся. Уже полностью стемнело, на земле белели остатки снега. С заходом солнца стало очень холодно, и мы ощущали себя абсолютно беззащитными в своих легких платьях и изношенных туфлях, одни посреди незнакомой сельской дороги. Рыдая, мы долго шли в направлении города, правда, на этот раз хотя бы обошлось без попытки забрать нас в отделение милиции. До дома мы добрались только глубокой ночью. Конечно же, наши матери очень переживали, дожидаясь нас.
И хотя мы были довольны, что снова перехитрили Башковича, нас не покидало беспокойство — ведь это было уже второе доказательство явного преследования. Мы решили, что спасти нас может только контратака. И на следующее утро мы отправились на прием к высокопоставленной женщине в РАБКРИН, к той самой, которая помогла маме и мне, когда нас пытались выселить. Выслушав Нину и меня, она пришла в негодование и обещала сделать все, что в ее силах:
— Я даю слово наказать этого недостойного человека, который использовал свою власть для достижения грязных целей, предав оказанное ему правительством доверие.
Затем она привела нас к правительственному чиновнику, который также выслушал нашу историю с большим интересом и заявил, что в таких случаях члены партии должны быть наказаны даже более сурово, чем обыкновенные граждане. Он сказал, что никогда не доверял Башковичу и не любил его.
На следующий день на работе мы узнали, что Башкович уже лишен должности (он получил новое временное назначение), в Помголе новый начальник, а следователи собирают конфиденциальные показания. Кто-то в верхах решил, что Башковича следует судить на закрытом партийном суде, а не на публичном. Сейчас я предполагаю, что суд был показательным, но в то время я ничего не подозревала. В ходе расследования выяснилось, что Башкович и его сотрудники совершали в прошлом и гораздо худшие преступления. Мы с Ниной очень легко отделались. Вместе с другими свидетелями мы давали показания на партийном суде, где нас предупредили, что мы не должны распространяться о происшедшем. Информация о судебном процессе и решение суда никогда не были опубликованы, и казалось, никто не знает, что случилось с Башковичем и его товарищами. Я тогда считала, что это происшествие было примером уязвимости нас как молодых женщин, и мне и в голову не приходило, что меня пытались скомпрометировать, и что это связано с моим общением с капитаном Квислингом. В то время для меня было главным, что наш помгольский злодей понес наказание, а на работе его заменил гораздо более приятный человек.
Наш новый начальник Константин Артамонов был очень красивым и элегантным мужчиной. Его друг на всю жизнь, С. Л. Войцеховский (в книге которого помещена фотография Юрия Александровича Артамонова, на которой я сразу же узнала моего бывшего начальника в Помголе) писал, что Артамонов получил великолепное образование в лицее императора Александра I и служил в царской армии в Первую мировую войну. Позже он воевал против советских войск на северо-западном фронте во время гражданской войны до 1919 года. Затем в 1921 году он поселился в Ревеле (в настоящее время Таллин) и какое-то время там жил[38].
Я смогла выяснить, что никто не имеет представления о том, как он сумел попасть на ответственный пост в Советском Союзе весной 1922 года. Даже Войцеховский не знал, чем занимался Артамонов с 1921 до августа 1923 года, когда он появился в Берлине, и до переезда в Варшаву в декабре того же года. Из книги Войцеховского я с интересом узнала, что мой бывший начальник долго жил и умер в очень преклонном возрасте в Сан-Пауло (Бразилия) в 1971 году.
Работа Артамонова главой нашего Помгола в Харькове и его работа со всеми иностранными организациями продлилась всего пару месяцев, после чего он уехал так же незаметно, как и появился среди нас. Мои друзья предполагали, что у него возникли какие-то разногласия с правительством, но более точной информации о его дальнейшей судьбе мы не знали.
Продолжение заметок Кирстен Сивер
Александра и ее сослуживцы также не знали и том, что на самом деле Башкович был переведен на должность полпреда Помгола (полномочного представителя по работе с иностранными организациями по оказанию помощи голодающим), но теперь у него были иные, более широкие обязанности. Поскольку ежедневной работой в Помголе занимались другие люди, присутствие Башковича там не было необходимостью. Той же весной, когда Башковича якобы сняли с должности в связи с оглаской истории с Александрой и Ниной, его на самом деле повысили и перевели на пост, который временно занимал товарищ Каплан, — пост президента Центрального комитета по оказанию помощи голодающим при Центральном исполнительном комитете Украины (заняв эту должность, он стал начальником Мары).
Александра и ее коллеги перестали видеть своего нового начальника в связи с тем, что Артамонов как полпред Помгола переехал работать в другой офис, в котором с мая 1922 года работал Башкович. После того, как Константин Артамонов перестал руководить повседневной работой Помгола, он недолго занимал эту высокую должность, вплоть до своего отъезда из Харькова 13 мая 1922 года. Глава представительства ARA в Харькове Джордж П. Харрингтон писал Грову в Одессу: «Господин Артамонов уезжает из Одессы в следующий вторник. Мы с его заместителем доктором Босковичем [sic] очень дружны, и я думаю, что у нас не будет никаких серьезных затруднений»[39].
Харрингтон заблуждался. Документы из архива Гувера свидетельствуют, что Башкович был интриганом и человеком, умевшим держать все под своим контролем. Он назначил своих людей на ключевые должности и позаботился, чтобы они оставались на них. О методах, которые Башкович использовал для достижения своих целей, можно судить из рассказа о неком господине Скворцове[40]. В апреле 1922 года Скворцов ненадолго приехал из Москвы в Харьков с отличными рекомендациями московского представительства ARA. В рекомендациях говорилось, что он оказал большую помощь ARA благодаря связям и хорошим отношениям с властями. Харрингтон хотел, чтобы Скворцов работал с ним в Харькове, поэтому обратился в Центральный комитет коммунистической партии с просьбой дать на это разрешение. Разрешение на совместную работу было дано, но с условием, что Скворцов будет переведен в Екатеринослав. Однако после переезда в Екатеринослав Скворцов заработал плохую репутацию среди сотрудников ARA. Спустя год, 10 мая 1923 года, сотрудник представительства ARA в Екатеринославе господин Мэрфи был арестован местным отделением ВЧК, которое возглавлял Скворцов, утверждавший, что Башкович из Харькова выдал ордер на арест Мэрфи, поскольку полностью поддерживал в этом вопросе Скворцова. Башкович в свою очередь заявил, что это было решение только Скворцова.
Крайне раздраженный Джордж Харрингтон, находящийся в то время в Екатеринославе, 13 мая писал, что он не удивился бы, если Башкович был автором какой-то интриги с целью спровоцировать Мэрфи напасть на одного из людей Скворцова, после чего его арестуют (как это и произошло). В успокаивающей телеграмме от московского представительства ARA говорилось, что когда в воскресенье Башкович вернется из Москвы в Харьков, он заменит Скворцова кем-нибудь другим[41]. Письмо из Харькова в Екатеринослав от 2 июня все же рекомендовало: «Доктор Башкович, просил бы Вас в будущем иметь дело исключительно со Скворцовым, а не с Губисполкомом».
Нам очень мало известно о личных взаимоотношениях Квислинга и Башковича в течение 1922–1923 годов. В марте 1922 года, когда Квислинг докладывал Главному управлению международной помощи в Женеве о все более ухудшающемся положении на Украине, Артамонов все еще представлял местную бюрократию, с которой Квислингу было необходимо координировать свою работу[42]. Поэтому мы вновь вернемся к Артамонову.
Друг Артамонова С. Л. Войцеховский писал, что элегантный Артамонов, бывший начальник Помгола и Александры, на самом деле был офицером разведки польского Генштаба. Может показаться несколько странным, что именно польские власти жаловались на тесные связи Квислинга с Артамоновым. Не менее странно, что некоторые считали Артамонова двойным агентом тайной полиции (ОГПУ). Третья странность: Войцеховский считал Артамонова верным и преданным монархистом. Удивляет и то, что какую бы сторону ни поддерживал Артамонов, он был тесно связан с организацией, которая позже стала известна под названием «Трест» и, как мы увидим позже, сыграла главную роль в отношениях Александры и Марии[43].
Гуверовские документы показывают, что Артамонов лично попросил о переводе в Одессу весной 1922 года, и что в конце августа того же года по своей же просьбе был освобожден от должности в Помголе, так как хотел заняться международной торговлей[44]. К тому времени Видкун Квислинг и его молодая жена находились в пути: они ехали в Норвегию.
Глава 7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рассказ Александры
Не обращая внимания на других, мы с капитаном продолжали бродить вместе, беседуя и не замечая, как зима сменилась весной, весна перешла в лето, а наше взаимное уважение и восхищение друг другом все возрастало. Голод в стране усиливался. Видеть происходящее вокруг было чрезвычайно тяжело, и капитан говорил мне, что положение продолжает ухудшаться по всей Украине. Все в нашей конторе знали, что в апреле он послал отчет в Лигу Наций, в котором убеждал о необходимости увеличения поставки продовольствия, чтобы как-то уменьшить существующую отчаянную нужду.
Время от времени до нас доходили слухи, что советское правительство намеревается ввести новый экономический план — НЭП, признавая право на частное предпринимательство и на частную собственность с установкой новой денежной системы, основанной на цене золота. Тем временем такие люди, как мама и я видели лишь беспорядок, произвол и гибельную инфляцию. Чтобы держать недовольный народ под контролем, власти продолжали арестовывать людей по малейшему поводу, многие наши друзья и соседи исчезли бесследно. Как и прежде, мы с мамой продолжали бояться за наши жизни, и только благодаря ее жалованию как сестры милосердия и моему заработку в Помголе мы как-то продолжали существовать.
Обычно я шла на работу голодная — в доме часто не было еды. Всегда хотелось кушать, но во время наших прогулок с капитаном я этого почти не замечала, так как у нас была масса тем для разговора. На одной из таких прогулок капитан Квислинг сказал мне:
— Знаете что, Ася, давайте в следующее воскресенье пойдем в парк на пикник. Возьмем с собой бутерброды, хорошо погуляем и покушаем на свежем воздухе.
Я впала в панику — еда, бутерброды… Откуда у меня такое? Неужели капитан Квислинг не знал, что служащие Помгола едва проживали на скромный паек и никогда не получали пищи, предназначенной голодающим.
— Я не смогу принести бутерброды. У нас дома нет никакой еды.
— Ничего страшного. Тогда просто погуляем и побеседуем.
«Может, ему просто неудобно предлагать еду? — подумала я. — Может, он не хочет меня обидеть». Вспомнив наглую попытку Башковича и его приятелей заманить нас с Ниной едой, я даже была рада, что капитан не предложил сам принести чего-нибудь поесть.
Как-то мама заметила:
— Тебе надо лучше следить за своим здоровьем, ты слишком похудела. Я написала об этом своей сестре в Чернигов. Там условия гораздо лучше, чем здесь, и у них еще есть еда. Она постоянно пишет, что была бы рада, если бы ты смогла провести некоторое время у них в гостях. Поэтому предлагаю тебе провести свой отпуск там. Это пойдет тебе на пользу, и ты сможешь хоть немного прибавить в весе, набраться сил. Когда-нибудь, я надеюсь, отблагодарю ее.
В то время продовольствия было так мало, что большинство людей мало думали о чем-либо другом, и стеснялись брать еду даже у самых близких родственников. Мне, однако, понравилась идея поездки, и мама, казалось, почувствовала облегчение от моего согласия.
Во время одной из наших прогулок капитан сказал мне:
— Ася, я хотел бы видеться еще чаще. Теперь, когда вы получите вскоре свой летний отпуск, не могли бы мы встречаться каждый день? Мне очень приятно беседовать с вами. Мы сможем встретиться завтра?
— Извините, но у меня не получится увидеться с вами так скоро. Мой отпуск начинается завтра, и мама хочет, чтобы я поехала в Чернигов и пожила там у ее сестры.
Когда он, наконец, понял смысл моих слов, то посмотрел на меня с удивлением и разочарованием. После небольшой паузы он спросил, где же находится Чернигов.
— Здесь, на Украине. Это древний город, расположенный чуть севернее Киева.
— Да-да, конечно. А сколько времени вы пробудете там?
— Я пробуду там все две недели моего отпуска, — ответила я.
— Как жаль, как жаль! Это значит, что мы никогда больше не встретимся, это наша последняя встреча! Через несколько дней я должен вернуться в Норвегию.
— Да, это означает, что мы должны будем расстаться.
В этот момент он взял мою голову в свои руки, сильно прижал ее к своему плечу и нежно меня поцеловал.
— Ася, я буду помнить вас всю жизнь.
Он молча и пристально смотрел на меня, а затем добавил:
— Теперь, когда я буду смотреть на карту мира и видеть слово «Азия», то буду думать о вас.
— Я действительно очень рада, что мы встретились, — ответила я. — Я получала огромное удовольствие от наших бесед и прогулок. И я буду по ним скучать. Мы так приятно проводили вместе время.
Я сказала это очень искренне, поскольку это была правда. Он всегда вел себя корректно, у нас никогда не было неловких моментов, кроме одного — когда он критически говорил о России и ее народе. Но что же он видел в России, кроме беспорядка, горя, страха, голода, смертей и других кошмаров? Наша приятная прогулка закончилась нежным прощанием. Расставание было теплым и сердечным. Видкун все повторял:
— Я буду часто думать о вас…
Когда мы пожимали друг другу руки, он не отпускал мою ладонь.
— Может быть, вы вернетесь? — спросила я.
— Да, это возможно, — ответил он вежливо, и на этом мы расстались.
Я пробыла в Чернигове, этом маленьком древнем городе на высоком берегу Десны, две весьма приятные недели, которые пролетели очень быстро. Мы посетили две старинные церкви и поклонились могиле князя Игоря Черниговского, одного из наших предков, чей род шел от короля Рюрика, и который упоминается в «Слове о полку Игореве». В такой приятной обстановке время шло быстро, и я почти не думала о капитане Квислинге, а если и вспоминала, то только в те моменты, когда рассказывала о нем своим друзьям. И даже тогда я почти не чувствовала сожаления или грусти. Только благодарность за его дружбу, и гордость, что этот образованный и взрослый мужчина уделил мне внимание. То было приятным и интересным событием, но наши пути разошлись, и на этом все закончилось.
Когда пришло время возвращаться в Харьков, я неохотно попрощалась с теткой и моими новыми друзьями, думая при этом лишь о маме и о моих старых друзьях, по которым я скучала. Только после этой короткой разлуки я отчетливо поняла, как много мы значим друг для друга.
На следующий день после приезда нужно было идти на службу — отпуск заканчивался. Я хотела как следует выспаться, а потом навестить друзей. Проснувшись, я выглянула в окно: «Какой чудный день!» — светило яркое солнце, небо было голубым, и наша кирха перед домом сверкала. На кирхе были громадные часы с золотыми стрелками. Было раннее утро, но так как часы были переведены на 4 часа вперед, стрелки показывали что-то вроде 9 или 10 часов утра. Но никто не считался с ними. Просто передвинули время, чтобы жить при свете, ходить по своим делам, когда еще светло, и возвращаться при дневном свете домой. Никто не рисковал тогда выходить в темноте на улицу, могли пристрелить или забрать в милицию — всякое случалось.
Я вышла на практически пустынную улицу и направилась на работу. Вдруг вижу, на углу улицы, не двигаясь, стоит какая-то высокая фигура, что-то мелькнуло знакомое в ней, но я не обратила на это внимания. Я подошла ближе и, о Боже, кого же я вижу! Это капитан! Стоит и смотрит на меня широко раскрытыми глазами.
— Здравствуйте. Что случилось? Почему же вы не уехали? — спросила я.
Он какое-то время молчал, а потом сказал:
— Ася, мне нужно с вами поговорить.
— Но сейчас я не могу разговаривать, я спешу на работу.
— Пойдемте вместе.
Мы шли рядом, и вдруг он говорит:
— Вы знаете, я не мог уехать.
— Что же вам помешало? У вас были дела или вы нездоровы?
К тому времени я совсем перестала думать о нем — когда мы попрощалась, как я думала, навсегда, я выбросила его из головы, но мне стало очень приятно от мысли, что он ждал меня, какое-то теплое и ласковое, даже отчасти родственное чувство появилось во мне. «Человек остался, ждет меня на улице… — думала я. — Это необычная история, тем более он иностранец, не имеющий ничего общего с моей компанией, к тому же старше меня на 20 лет. Конечно, мальчики приглашали меня на свидания, тоже могли ждать часами, но все это было не то. Этот человек отложил свой отъезд, чтобы стоять на улице и ждать меня».
— Нет, — ответил Видкун, — я не смог уехать. Пришел домой, снял пиджак и увидел на нем ваш длинный белокурый волос. Я так затосковал, что не смог уехать. Я не могу и не хочу вас потерять. Я должен вам сказать, что люблю вас, и безотлагательно хочу жениться!
Я чуть не свалилась в канаву от такого молниеносного предложения, окончательного и требовательного. Даже не помню, как я среагировала. Сначала молчала, потом сказала, что надо подумать, что мне нужно время, я была растеряна и взволнована.
— Давайте встретимся вечером, когда вы будете свободны, и снова пойдем в парк.
Я согласилась.
На работе меня встретили радостно, спрашивая: «Ну как ты?». Говорили, что я немного поправилась и очень похорошела. Очевидно, от сделанного капитаном предложения и от осознания того, что он не уехал из-за меня в Норвегию, я была страшно взволнованной — все это было так неожиданно. Но я ни слова не сказала своим приятельницам о капитане, так как хотела сначала все хорошенько обдумать. Фраза, которую он произнес, казалась мне такой смешной, не допускающей возражений и сомнений: «Люблю вас, и безотлагательно хочу жениться».
После работы капитан зашел за мной, и мы оправились на наше любимое место — к оврагу. Мы присели на краю оврага. Хотя еще было лето, в воздухе уже витал осенний аромат, начинали желтеть и понемногу опадать листья. Но я этого не замечала.
Капитан сказал:
— Нам нужно серьезно поговорить и обсудить все подробности — где и как мы поженимся, когда уедем.
— Но я не знаю… Я еще не видела маму и дома ничего не сказала, — ответила я.
Он взял в руки мою голову и, очевидно, хотел меня поцеловать, но потом вдруг прижался к моей шее с закрытыми губами так, как, скажем, целуют кошек или собак. Так прикасаются, чтобы не заразиться. Мне это показалось странным, но я подумала, что, наверное, таковы заграничные привычки или условия ухаживания. В остальном все было очень красиво, поэтому и приятно. Он сказал: «Мне очень жаль, что я не могу вам сейчас подарить кольцо. Здесь, при этом хаосе в стране, ничего нельзя достать».
Он и представить себе не мог, что я могу отказаться от его предложения. Я уверена — он даже не услышал бы, если вдруг я ответила бы «нет». Он ни в коем случае не принял бы это за ответ. Потом он опять начал говорить мне, какая в России ужасная обстановка, какая здесь грязь, ужас, какой беспорядок и так далее. В какой-то момент он вдруг взял мою руку, посмотрел на указательный палец и сказал: «Это надо обязательно почистить». Я увидела, что у меня под ногтем черная полоска. Но мы целый день работали на машинках, а дома ванны у нас не было, поскольку в нашей ванной комнате к тому времени жила целая семья, вся квартира была занята чужими людьми, абсолютно все комнаты. Мылись мы в своей комнате, в тазу. Мыла было в обрез. Так что неудивительно, что ноготь надо было почистить. «Мы все это сделаем, — сказал он. — И вместо косичек будет красивая прическа — парикмахеры помоют тебе голову, сделают маникюр». Я подумала: «Боже мой, какая сложная жизнь будет у меня, совсем другая. Раньше, когда у нас еще была ванная, меня сажали в нее, мыли мочалками, но по парикмахерским никто не водил и никакого маникюра не делал».
После этого разговора мы пошли обратно: он — к себе, а я побежала домой все рассказывать маме. Она почему-то очень опечалилась:
— Что же, надо, чтобы он пришел побеседовать со мной, а так ни с того ни с сего как-то даже неприлично!
— Хорошо, мама, я ему скажу, чтобы он пришел, и ты поговоришь с ним.
Она пристально посмотрела на меня и медленно сказала:
— Я не знаю, что ему сказать. Я его совсем не знаю. Кроме того, ты слишком молода. Я просто не могу позволить тебе уехать одной с незнакомым человеком.
Несмотря на мое взволнованное состояние, я хорошо понимала, что она произносила вслух мои собственные опасения. Дело не только в том, что предложение было таким неожиданным, а я — столь молода, а в том, как мы с мамой сможем жить друг без друга. Всю жизнь мы были всем друг для друга. Как же я смогу оставить ее одну без кого-либо, кто смог бы ухаживать за ней, защищать ее? Постепенно, однако, я начала думать, что нет никаких причин полагать, что мы расстанемся навсегда. Либо мы с Видкуном сможем вскоре вернуться обратно в Россию, либо мама войдет в нашу новую жизнь, дверь в которую Видкун вдруг отворил для меня. За все время, что я знала капитана, у меня были теплые и доброжелательные чувства к нему. Теперь же, думая о той новой и многообещающей жизни, которую он мне предлагал, я становилась все более уверенной, что он сделает меня самой счастливой женщиной в мире. Мои чувства постепенно перешли от временного увлечения к гораздо более глубокой подлинной любви. Я помню, что тогда думала: «Боже мой! Я действительно его очень люблю!».
Я рассказала маме обо всех этих чувствах и переживаниях и постаралась успокоить ее. Но мама лишь качала головой, говоря: «Нет, ты просто увлеклась. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты слишком молода, чтобы понимать, что именно ты чувствуешь! Ты лучше скажи своему капитану, что я не могу разрешить тебе выйти замуж так неожиданно. Если вы думаете, что действительно любите друг друга, то сможете отложить ваш брак на год или два».
Когда я передала это Видкуну на следующий день, и сказала ему, что нужно прийти к маме, он был несколько удивлен. Возможно, он думал, что все обычные правила поведения исчезли в России во время нашего длительного кризиса. Но я твердо сказала ему, что он должен спросить разрешения у мамы на нашу помолвку и брак. Что бы он ни думал, он все же не посмел отказать маме в ее просьбе и явился к нам в назначенный час, чтобы поговорить с ней.
Видкун сказал маме, что любит меня и хочет жениться на мне. Также он говорил, что понимает ее переживания по поводу моей молодости, пообещал хорошо заботиться обо мне и заверил, что у нее нет причин для беспокойства. Он сказал, что навел справки и узнал, что брак в моем возрасте законен. С разрешения родителей девушки могут выходить замуж даже в возрасте пятнадцати лет, а мне должно было исполниться семнадцать 20 августа. Он был у нас недолго, а перед уходом сказал, что вскоре навестит нас снова и тогда больше расскажет о себе, о своей семье и планах на будущее. Он добавил, что из-за меня он уже пробыл в России слишком долго, его военный отпуск закончился, и поэтому он должен вернуться в Норвегию как можно скорее. Он не знал, когда сможет снова приехать в Россию. Повторяя, что он устроит все, как надо, и будет держать нас в курсе дела, он ушел.
Возможно, Видкун боялся, что я буду настаивать на том, чтобы мама ехала с нами, поэтому пока избегал разговора на эту тему. Но что-то очень важное было упущено во всем этом разговоре, что должно было бы устроить судьбу нас троих, и у меня снова появилось то чувство нереальности, которое я испытывала, когда он сделал мне предложение. После этой первой неудовлетворительной встречи мамы с Видкуном я чувствовала, что все происходит без моего участия. Я продолжала ходить на работу, где все вскоре узнали, что я выхожу замуж за Квислинга и уезжаю с ним в Норвегию, а Видкун делал все необходимое со своей стороны, чтобы подготовить наше путешествие и свадьбу. Он постоянно выражал беспокойство, что его военный отпуск закончился. В это время он также много работал, чтобы закончить свой доклад для Лиги Наций о работе международной миссии по оказанию помощи голодающим — доклад, в котором он подчеркивал необходимость продолжения помощи в будущем. Он хотел сам выступить с докладом перед Генеральной Ассамблеей, но боялся потерять свою работу в норвежском Генштабе, находясь в самовольной отлучке. Поэтому мы должны были ехать через Ригу, где у него был хороший знакомый, его коллега, который как член латвийской делегации в Лиге Наций представил бы доклад за него на предстоящей конференции в Женеве.
Как-то в середине августа Видкун был очень взволнован из-за полученного известия, в котором шла речь о серьезном конфликте между советским и норвежским правительством из-за огромного количества пиломатериалов, принадлежащих норвежской компании. Пиломатериалы находились в Архангельске, на Белом море, и готовились к перевозке в Норвегию, но местные советские власти начали грузить их на свои суда, идущие в Англию, где намеревались их продать английской фирме. Видкун считал, что положение было крайне напряженным, кроме того, был возможен разрыв дипломатических отношений между двумя странами. В этом случае я могла бы столкнуться с трудностями или вообще с невозможностью выезда с ним из России в качестве его жены. Он сказал, что и его могут задержать в России на неопределенное время. При этом Видкун не говорил, откуда он так много знал об этом, и по какой причине мог быть задержан. Я не могла понять, почему Квислинг, глубокоуважаемый помощник Нансена с дипломатическим паспортом, боялся задержания из-за какого-то непонимания между норвежскими и советскими властями. Но Видкун настаивал на том, что мы должны как можно скорее пожениться и уехать из России.
Я так скоропостижно вышла замуж, что даже не успела привыкнуть к положению невесты и никого не известила о нашей помолвке. В этой горячке и суматохе в августе 1922 года мне и в голову не пришло узнать больше о человеке, которого я любила. Напротив, эгоизм и неопытность юности заставляли думать, что захватывающее будущее, которое меня ожидает, даст нам всем множество преимуществ.
Глава 8. ПРОЩАЙ, ХАРЬКОВ
Заметки Кирстен Сивер
При сравнении подробного рассказа Александры о необыкновенном предложении Квислинга и о тяжелых последних неделях жизни в Харькове с тем, что описывают архивные документы, возникает множество вопросов. Александра рассказывала о своей жизни в этот период с большой уверенностью. В свою очередь, документы, датированные этим временем, показывают столь же ясную картину. Поэтому это не вопрос выбора между двумя «правдами», а раскрытие истинных причин, заставляющих Квислинга неоднократно настаивать на том, что он находится в критическом положении, поскольку, во-первых, как он сам утверждал, его отпуск как служащего Генштаба заканчивается, а во-вторых, существовала опасность дипломатического разрыва отношений между Россией и Норвегией.
Квислинг не счел нужным сообщить своей юной и несколько наивной жене, что 26 июня 1922 года он написал Джону Горвину в Москву. В письме он рассказывал о том, что он намеревался уехать из России приблизительно 20 июля, так как его отпуск в армии должен был закончиться 26 июля, а его служба в Генеральном штабе — во второй половине сентября. Он также не сказал Александре, что Нансен, судя по телеграмме от 6 июля, хотел, чтобы Квислинг остался на Украине еще на некоторое время. Нансен послал еще одну телеграмму 26 июля из Риги, чтобы сообщить Квислингу, что его отпуск продлен до сентября. Тем временем (22 июля) Квислинг заявил, что он готов остаться на своем посту дополнительные шесть недель[45].
Хотя он получил разрешение продлить свой отпуск, Видкун не сообщил об этом Александре и ее матери, продолжая настаивать на скорейшем выезде из России. Само собой разумеется, что ему предстояло многое успеть завершить до отъезда из Харькова для продолжения работы созданного им сложного распределительного аппарата. К тому же голод до сих пор продолжался. Случаи каннибализма все еще имели место; холера также продолжала свирепствовать, смертность от этой ужасной болезни доходила до сорока процентов. В интервью, которое в начале сентября по пути домой Квислинг дал в Хельсинки стокгольмской газете Dagens Nyheter, он ясно заявлял о серьезности положения[46]. Ни его профессиональные обязанности, ни состояние норвежско-российских отношений не объясняют его скрытности. Хотел ли он просто вызвать интерес Александры или таким образом пытался предотвратить возможность того, что она может передумать выходить за него замуж, или же действительно опасался, что его положение и свобода находятся под угрозой?
Квислинг повторил Александре свою версию о причине возможного разрыва дипломатических отношений между Россией и Норвегией из-за конфискации российскими властями пиломатериалов, которые были предназначены для перевозки из Архангельска в Норвегию, и намерения продать их английской компании. Это фактически совпадает с обнародованными тем летом и осенью официальными данными, касающимися этой конфискации и протеста Норвегии, сделанного советскому правительству. Исходя из этих сообщений ясно, что наибольшие потери среди норвежских торговцев в Архангельске понес капитан Фредерик Притц. В сентябре того же года он был в Лондоне и вел там переговоры, очевидно, сумев получить остатки пиломатериалов, так как вскоре был основан консорциум «Руснорвеголес» (Russo-Norwegian Onega Wood Company, Ltd.)[47].
Квислинг во время своего пребывания в Хельсинки годом ранее, а также в Москве в конце 1920 года, оказывал Притцу помощь в совершении сложных сделок в Москве, что было чревато серьезными последствиями для него лично. Поэтому можно предположить, что в 1922 году он тоже помогал торговцу пиломатериалами Притцу, используя свои связи в Москве, и теперь опасался, что его действия могут иметь негативные последствия для него, несмотря на дипломатический паспорт[48]. Кроме того, Нансен обещал советским властям, что никто из его сотрудников в России не будет заниматься предпринимательской деятельностью без особого разрешения правительства. К тому же Квислинг, естественно, знал об обвинении польских властей, сделанном в мае, в том, что он слишком близок с большевиками. Эти обвинения все еще продолжали привлекать внимание Министерства иностранных дел Норвегии в течение всего лета, хотя глава Норвежского торгового представительства в Москве Йохан Фредрик Винтер Якхеллн докладывал в Осло еще в начале июня, что Квислинг имеет отличную репутацию[49].
29 августа Нильс Иттерборг (норвежский временный поверенный в Варшаве) послал конфиденциальное письмо в МИД, указывая, что нет никаких оснований для обвинения капитана Квислинга во вмешательстве в политику Советской России и продаже нансеновского продовольствия Красной армии. Но он также отметил, что, согласно сообщению норвежского временного поверенного в Харькове Беренсона, поведение Квислинга в Харькове не было в достаточной мере дипломатичным — он был замечен главным образом в компании большевиков и не искал связи с антибольшевистскими кругами[50].
Беренсон, безусловно, понимал, что положение Квислинга было крайне сложным. Ему нужно было работать именно с местными большевиками, а не с их противниками. Кроме того, в связи с его работой представителем миссии Нансена Квислингу приходилось часто ездить в Москву для ведения переговоров с советскими властями, и в то же время ему надо было поддерживать связь с Норвежским торговым представительством, что также ясно подтверждается дальнейшим рассказом Александры. Начальник представительства Якхеллн был в отпуске в Норвегии, когда Видкун и Александра поженились и отправились в Норвегию. Газета «Моргенбладет» 11 сентября взяла интервью у Якхеллна, в котором он заявил, что не желает говорить о нынешнем положении в России, отмечая, что приехал домой только чтобы набраться сил для дальнейшей работы.
Несмотря на это, журналист, бравший интервью, заметил, что Якхеллн планировал встречи с различными коммерсантами и «другими заинтересованными сторонами», и прокомментировал успешные переговоры английского министра Уркхарта с советскими властями о конфискованных британских промышленных предприятиях на Урале и в западной Сибири. Все это, конечно, представляло большой интерес для Норвегии, а также несколько проясняло ситуацию с норвежским лесопильным производством в северной России. В то же время в Лондоне, как сообщалось в этой статье, проходили интенсивные переговоры между норвежскими и российскими представителями, но норвежские власти все еще не получили ответа на их ноту протеста[51].
Маловероятно, что Квислинг не знал об этих переговорах и о главной роли в них своего старого друга Притца, но невероятным кажется и то, что подобные события на официальном уровне могли угрожать женитьбе Квислинга и Александры, а также их отъезду из страны. В последующие годы, однако, было много примеров того, как сложный характер Квислинга и его стремление выглядеть человеком, контролирующим все в сложных ситуациях, совмещался со склонностью к преувеличениям и созданию атмосферы секретности, что было с самого начала заметно в отношениях с Александрой. Другим примером этой черты его характера был документ, полученный Квислингом незадолго до отъезда от украинского Красного Креста, с которым он очень близко работал с начала своего пребывания в Харькове.
На официальном бланке доктор Либерман дал «месье капитану Квислингу» медицинское заключение, датированное 24 августа 1922 годом, в котором говорится, что в июне у капитана Квислинга было желудочное заболевание во время поездки в голодающий район, и что ко времени отъезда из Украины он еще не был здоров[52]. Само собой разумеется, что из-за ужасных условий, которые в то время были на Украине, работники организаций по оказанию помощи голодающим подвергались серьезной угрозе заражения различными заболеваниями. Это медицинское заключение могло помочь в объяснении причин длительного пребывания Квислинга на Украине в том случае, если кто-нибудь из Генштаба выразил бы обеспокоенность по поводу отсутствия капитана на своей службе.
Интересно отметить, что тем летом, когда он заболел этим желудочным недугом, Квислинг не упоминал об этой болезни ни в одной из своих телеграмм с просьбами продлить его пребывание в России. Его заболевание также не помешало ему 28 октября прочитать лекцию о «русской проблеме», хорошо принятую Военным обществом[53]. Квислинг ссылался на свое желудочное заболевание (тяжелое и докучающее ему; вызванное, по его версии, «отравлением сыром») в разговоре с Нансеном в конце 1922 года, когда Нансен спросил о его желании продлить свою работу, а в письме Нансену в марте 1925 года он добавил, что болен к тому же малярией[54]. Квислинг, вероятно, говорил, что страдает от хронической малярии, но тут стоит заметить, что его личный врач во время всего периода Второй мировой войны писал в 1988 году, что Квислинг имел прекрасное здоровье и не принимал никаких лекарств в течение тех пяти лет[55].
Александра была очень удивлена, когда узнала о медицинском заключении, выданном Квислингу за день до отъезда из Харькова, а также про историю «отравления сыром» и других случаях, именуемых болезнями. По словам Александры, она никогда не видела никаких признаков недомогания у него как тем летом, так и за все время, проведенное с ним вместе. Напротив, он излучал здоровье и энергию.
Американские коллеги Квислинга в Харькове также не отмечали в своих докладах, что представитель Нансена имеет какие-то признаки заболеваний или недомогания, хотя они охотно пользовались возможностью комментировать разные аспекты миссии Нансена. Джордж Харрингтон сообщил своему начальству в Москве в докладной записке 19 августа 1922 года, что с Квислингом он беседовал только о распределении посылок[56].
20 августа 1922 года Александре исполнилось семнадцать лет. В записной книжке Квислинга есть запись, сделанная в этот день почерком Александры: «Мои именины. Ася». В понедельник, 22 августа, она написала: «Свадьба»[57]. Со счастливым предвкушением она продолжает свой рассказ
Рассказ Александры
Имея так мало времени, чтобы все обдумать, мы с мамой как никогда были сбиты с толку. Не было ни отца, ни кого-либо другого, с кем можно было бы посоветоваться или попросить о поддержке. Видкун ни разу не предлагал помочь нам справиться с нашими заботами, и мы ни разу его об этом не просили. Справедливости ради надо сказать, что он был очень занят, завершая свои дела на работе и посещая высокопоставленных советских лиц. Я должна признаться, что обращала мало внимания на мамины предупреждения и возражения, предпочитая доверять Видкуну и слепо следовать его указаниям.
Видкун разработал детальный план, и попросил меня хорошо запомнить его и пересказать маме. Согласно плану я должна была выехать в Москву одна и ждать его в гостинице, в которой его друзья из Норвежского торгового представительства снимут для меня номер.
На следующий день после того, как мне исполнилось 17 лет, мы с Видкуном отправились в отделение ЗАГСа, чтобы получить документы, доказывающие, что мы вступили в брак в соответствии с российскими законами. Это было совершенно не запоминающимся событием, так как ни он, ни я не считали это настоящей свадьбой. К тому же моя голова была забита мыслями о том, что я должна была успеть сделать до отъезда. Эти приготовления, к сожалению, не включали прощания с моими друзьями, так как Видкун настаивал, чтобы никто кроме меня и мамы не знал о наших планах.
Мама была подавлена мыслью, что ей придется расстаться со мной, возможно, навсегда. Когда же она увидела, с каким желанием я следовала указаниям Видкуна, она больше не выказывала свою печаль и не возражала против моего отъезда. Она начала помогать мне собираться в длинный путь в неизвестность, где уже не будет ее защищающих крыльев.
Она чувствовала себя очень неловко из-за того, что у нее не было возможности снабдить меня приличным приданым. Крайне сожалея о том, что во время нашей последней поездки в Крым она оставила большую часть своих драгоценностей у наших друзей для сохранности, она впопыхах дала мне все, что смогла. В дополнение к своей самой любимой поваренной книге «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец она подарила мне набор серебряных ножей и вилок для фруктов. Мама до сих пор не обменяла их потому, что такие безделушки никому не были нужны, к тому же набор был неполным.
Когда пришло время отъезда, Видкун прибыл к нам домой на машине, чтобы отвезти меня на Курский вокзал. Он специально подчеркнул, что никто не должен сопровождать нас на вокзал, даже мама. Я должна была поспешно попрощаться с ней дома. Это была сцена, вспоминать которую у меня не хватает сил.
На станции Видкун купил мне билет в Москву. Вместе с билетом он дал мне дополнительные указания и немного денег на расходы, затем пожал руку, прощаясь. Я подалась вперед, чтобы поцеловать его, но он отступил назад и ушел, не дожидаясь открытия ворот на перрон. Позже он сказал мне, что всегда относился с отвращением к русским, особенно к мужчинам, когда они обнимаются и целуются друг с другом при встрече, или прощаясь. Он считал это нарушением всех правил поведения и никогда не разрешал никому, даже своей матери, дотрагиваться до него в общественных местах. Я осмотрелась вокруг и вдруг почувствовала себя очень одинокой, несмотря на то, что была окружена большой движущейся толпой людей.
В поезде я познакомилась с очень милой дамой, которая, узнав о цели моей поездки, предложила мне остановиться в Москве у ее матери и младшей сестры вместо гостиницы. Моя новая знакомая сошла с поезда, не доезжая до Москвы, но ее доброта и внимание немного облегчили мою боль разлуки, которую я чувствовала из-за поспешного отъезда и расставания с мамой и моими друзьями. Я получила много советов о том, как действовать в Москве — городе, который не верит слезам.
Сразу по прибытии в Москву я отправилась к родным моей новой знакомой и была ими тепло принята. Также я сразу позвонила в Норвежское торговое представительство и в гостиницу, сообщив им, где я остановилась. Я узнала, не было ли для меня писем или телеграмм и не изменились ли планы Видкуна. Мои новые друзья выгладили и почистили мой жакет, а также два моих лучших платья до того, как я отправилась встречать Видкуна на вокзал. Я была очень рада увидеть его и избавиться от своих забот. Он сказал мне, что нас ожидают в тот же день в торговом представительстве для формальной регистрации нашего брака. Но сначала мы должны были вернуться в квартиру, где я остановилась. По дороге туда я рассказала Видкуну, как хорошо ко мне отнеслись мои новые знакомые (к сожалению, я не помню их фамилии), и что я бы очень хотела, чтобы они обе поехали с нами в представительство.
Мы подъехали туда как раз к концу моего рассказа, и я с гордостью представила Видкуна моим новым друзьям. Он поблагодарил их за гостеприимство и сказал, что сожалеет о том, что не может пригласить их на свадьбу, потому что она будет за границей. Сегодня мы только зарегистрируем наш брак в представительстве Норвегии, там не будет никакой церемонии и смотреть будет не на что. Он вел себя формально и холодно, и мы быстро поехали в миссию, не приняв предложения моих новых друзей побыть у них дольше.
По дороге Видкун вынул из кармана маленькую коробочку, в которой оказалось прекрасное кольцо с тремя большими бриллиантами, окруженными рубинами. Он надел мне кольцо на палец. «Большое спасибо! Но тебе не нужно было этого делать», — воскликнула я. «Этого требует обычай. Я должен был сделать это раньше, когда мы обручились. Это твое обручальное кольцо. Наши свадебные кольца мы купим позже, когда выедем из России».
Формальности в торговом представительстве не заняли много времени. Нам просто надо было показать документы о нашей регистрации в Харькове и подписать несколько бумаг. Затем мы перешли в соседнюю комнату, где был накрыт стол, и члены миссии поздравили нас. Спустя много лет в Шанхае я встретила норвежского дипломата, который вспомнил, что присутствовал на этом торжестве в Москве.
Моя фотография и новая фамилия в замужестве были добавлены к дипломатическому паспорту Квислинга. Мне выдали документ в красной обложке — это был мой первый норвежский паспорт. Когда я вышла из норвежской миссии, которая находилась в доме №9 в Мертвом переулке, я почувствовала себя совершенно другим человеком. Я была госпожой Квислинг, замужней женщиной и иностранной подданной моего нового короля. Я чувствовала себя взволнованной и усталой. Видкун сказал, что ему нужно остаться в миссии еще на некоторое время, чтобы решить служебные вопросы, после чего мы сможем отправиться в гостиницу «Савой», где он забронировал для нас номер. Он сказал, что мне надо забрать свой багаж, оставленный у моих новых друзей, и приехать к нему в гостиницу. Позже я вернулась к этим замечательным людям, чтобы поблагодарить их за все, что они сделали для меня. Я чувствовала себя крайне неловко из-за того, что Видкун отказался пригласить их на прием. Но объяснила его поступок тем, что он был слишком занят другими делами. Я сказала этим двум женщинам, что никогда не забуду их дружбу и обязательно пришлю им подарок, как только мы устроимся за границей. Это было обещание, которое я не смогла сдержать, потому что все время, которое мы с Видкуном жили вместе, у меня никогда не было ни копейки своих денег.
Я все еще была в приподнятом настроении, когда приехала в отель «Савой». Последние несколько дней были переполнены событиями, и мне предстояло начать новую жизнь среди совершенно незнакомых людей. Я чувствовала себя очень одинокой и испуганной тем, что мне предстояло пережить еще одно новое событие — остаться наедине с моим мужем.
Отель «Савой» находился в центре города, вблизи Большого театра, и был доступен исключительно иностранцам. Я сказала дежурному, что я госпожа Квислинг и спросила номер нашей комнаты. Он позвонил, и Видкун сразу же спустился вниз. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по лестнице на один из верхних этажей.
Вечерело, и в полутьме наша большая гостиная выглядела довольно-таки угрюмой, но роскошной. Видкун с гордостью показал мне обшитую деревянными панелями комнату с бархатными шторами, восточными коврами и множеством маленьких статуэток, ваз и других безделушек. Там же была ниша с темно-коричневой бархатной занавесью, частично скрывающая кровать или софу, прикрепленную к стене. Кажется, в самой спальне стены были красного цвета, но мое взволнованное состояние не позволило мне заметить это. Отдельной уборной не было.
После этого краткого осмотра мы спустились вниз для нашего первого ужина вместе, который занял много времени, так как Видкун заказал особые блюда, и обслуживание было неспешным. Но я должна сказать, что такие деликатесы я не видела с раннего детства. Говорил больше Видкун, рассказывая мне о планах нашего путешествия. Сначала мы должны были ехать в Петроград, затем в Финляндию, а оттуда на некоторое время в Ригу, где у него были хорошие друзья. Мы могли бы провести церковное венчание там, и по прибытии в Норвегию будем мужем и женой перед Богом, людьми и, что важно, в глазах его родителей.
У меня разболелась голова, в тот вечер мы оба очень устали. Но ни я, ни он не торопились вернуться в нашу комнату. Я думаю, что мы боялись остаться наедине как муж и жена и откладывали этот момент. Ресторан практически полностью опустел к тому времени, как мы вернулись в нашу комнату. К моей головной боли присоединилась еще и боль в животе, но я считала, что все это возникло из-за напряжения. Я все же сказала Видкуну, что чувствую себя нехорошо. «Ничего, — ответил он. — Ты лучше ложись. Утром, хорошенько выспавшись, ты будешь чувствовать себя намного лучше». И мы решили, что я проведу ночь в спальне, а он — на кушетке в гостиной.
Казалось, что он, так же как и я, был доволен тем, что эту ночь мы проведем раздельно. Думая об этом теперь, мне кажется, что он как сын пастора не считал нашу гражданскую церемонию действительной до того, как она будет благословлена в церкви. И теперь я уверена, что, несмотря на то, что я была очень наивной в этих вопросах, в то время у Видкуна было еще меньше опыта в интимных отношениях, хотя он был почти в два раза старше меня. Мы оба почувствовали облегчение, отложив это испытание до того времени, когда познакомимся ближе друг с другом. К тому же, я думаю, он действительно хотел мне помочь, видя мое напряженное состояние и плохое самочувствие. Видкун уже говорил мне о своем опыте общения с женщинами, который был так же мал, как и мой опыт общения с мужчинами, но по другой причине. Он рассказывал, что, будучи еще совсем молодым человеком, был сильно влюблен в одну девушку и хотел, чтобы она стала его женой. Когда, наконец, он уже мог жениться на ней, то купил ей обручальное кольцо и сделал официальное предложение, которое было холодно и унизительно отвергнуто. С того дня, по его словам, он не хотел иметь ничего общего с женщинами.
На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Это была горничная: «Le bain est prêt, madame!» («Ваша ванна готова, мадам!»). Какая роскошь! Горничная приготовила мне ванну, и она даже говорит по-французски. Несмотря на то, что мне пришлось идти в ванную по коридору, я предвкушала удовольствие.
Видкун уже был полностью одет, когда я вошла в гостиную. Я увидела множество бумаг на его столе, и решила, что он работал всю ночь без сна. Сразу же после завтрака он ушел, сказав, что будет отсутствовать большую часть дня.
Глава 9. ПРОЩАЙ, РОССИЯ
Заметки Кирстен Сивер
Есть люди, которые считают, что Александра вообще никогда не была замужем за Квислингом, полагая, что торговое представительство не имело права регистрировать брак и выдавать паспорта. Но, во-первых, у них уже были российские документы, подтверждающие, что они женаты, когда они обратились в Норвежское торговое представительство в Москве, а в отношении выдачи паспорта необходимо отметить следующее:
«Со 2 сентября 1921 года Норвегия имела взаимное торговое соглашение с Россией, разрешающее этим странам иметь свои торговые представительства в другой стране. Когда это соглашение было расширено и утверждено 15 декабря 1925 года, в статье 1 указывалось, что уже существующие консульские учреждения продолжат свою работу. К лету 1922 года Ф. Якхеллн уже имел официальный титул “уполномоченный представитель королевского норвежского правительства в России”»[58].
Великобритания не признала Советский Союз де-юре до февраля 1924 года, хотя с 16 марта 1921 года имела торговое соглашение с СССР, иными словами, за шесть месяцев до того, как такое же соглашение подписала Норвегия. Статья 8 этого первого британского соглашения, которое, по-видимому, представляло собой достаточно стандартную форму для такого документа, гласила[59]: «Паспорта, документы, удостоверяющие личность, а также доверенности и тому подобные документы, выданные уполномоченными представителями каждой из сторон с целью установления торговли в соответствии с этим соглашением должны признаваться каждой из стран».
Также имеется подтверждение рассказу Александры о приеме в норвежской миссии и гражданском браке с Квислингом, заключенным в Харькове в августе 1922 года, который, кроме всего прочего, давал ей право на норвежский паспорт и обязывал Квислинга включить Александру в свой военный регистр как жену сразу же по возвращении в Осло[60]. В конце января или в начале февраля 1930 года консул Л. Гренволд в норвежском консульстве в Шанхае вспомнил, что присутствовал на приеме в честь Александры и Видкуна в августе 1922 года[61]. По возвращении домой в Осло «господин и госпожа Квислинг» получили рождественские поздравления от Эдуарда Фрика, близкого коллеги Нансена, который, несомненно, был вполне осведомлен, что Квислинг жил в доме на Эрлинг Скалгссонсгат, 26 как женатый человек[62]. Здесь также следует упомянуть некую русскую женщину, старше Александры на несколько лет, которая появится позже в этой книге. Она разрешила использовать сведения, которые она мне сообщила, но на основе анонимности — обычная практика русских беженцев в США[63]. Я взяла интервью у Л. Т. в 1983 году, узнав, что она работала в отделе посылок в харьковском Помголе в 1922–1923 годах. Поскольку я всегда искала подтверждение своим предположениям, используя поиски архивов и других источников, Александра одобряла связь с Л. Т. как свидетельницей этого периода ее жизни. Она вовсе не подозревала, что этот рассказ будет полон восхищения Квислингом (который так отличился в своей работе по оказанию помощи на Украине, что Л. Т. отказалась верить во что-либо плохое о нем) и ядовитых сплетен о ней. Александра отнеслась к сообщению Л. Т. спокойно, так как оно дало ей возможность узнать о главном источнике сплетен о ней как тогда, когда она вышла замуж за Квислинга, так и по их возвращении в Харьков в следующем году.
Л. Т. признавалась, что не знала Александру лично, но хорошо знала, кто такой Квислинг, поэтому все ею сказанное было основано на сплетнях и слухах. Те, кто знаком с сообщением Ланнунга о молодых годах Александры, найдут в нем много общего с рассказом Л. Т., так как у них было много общих источников. Есть, однако, важное различие в рассказе Л. Т. и Ланнунга. Л. Т. открыто сообщила об источниках этих сведений, не утверждая, что они основаны на ее личных наблюдениях. Также она подтвердила, что Александра действительно работала на первом этаже. Сама же она работала на втором этаже, где у ARA был распределительный пункт, и гордилась тем, что ни она, ни ее коллеги не имели никакой связи с теми, кто работал на первом этаже. Это было вызвано тем, что их предупредили, что те, кто работает на первом этаже, являются сотрудниками КГБ, советской секретной полиции, а связь с ними была опасной и порочащей (читатель вспомнит, что Александра тоже отмечала отсутствие контактов между служащими на первом и втором этажах). Поэтому Л. Т. считает, что Александра работала на КГБ, особенно потому, что она была на коммутаторе, через который звонил Квислинг и все иностранные служащие, и их звонки было легко прослушивать. Л. Т. полагала, что причиной этих отрицательных рассказов об Александре, которую можно было видеть со второго этажа, являлось то, что она была совершенно не похожа на других девушек. Она выглядела слишком ангелоподобной!
Несмотря на свою очень привлекательную внешность, на Александру не обращали особого внимания на втором этаже до тех пор, пока ее не приметил Квислинг вскоре после своего приезда в Харьков, и появившиеся сплетни о ней как о безответственной кокетке стали вносить некоторое разнообразие в унылую повседневную работу в отделе посылок. Сплетни «о той блондинке на первом этаже», которые распускал обслуживающий персонал Квислинга, — помощник по дому, кухарка и «резвый парнишка Лео Грановский» — дошли до безумно влюбленной в Квислинга секретарши, дружившей с Л. Т.
Мы уже познакомились с Левой Грановским в прежней главе, где описывалась встреча Александры с хворающим поэтом Хлебниковым, которому Лева Грановский представил Александру. Из переписки Квислинга известно, что по прибытии в Харьков в 1922 году он нанял Леву Грановского, выбрав его из крайне малого числа «имеющихся» работников[64]. Он не знал, по сведениям Л. Т., что местные советские власти приказали Грановскому наблюдать за Квислингом и докладывать им обо всем, что он делал. У Александры не вызывало подозрения, что Леву Грановского можно было постоянно видеть то внутри здания Помгола, то снаружи, так как она привыкла его видеть везде. Л. Т. указывала, что Грановский даже сопровождал Квислинга на кухню, где он давал распоряжения кухарке! Когда Квислинг отправлялся на свои вечерние прогулки, Грановский часто сопровождал его, стараясь идти рядом. Л. Т. нередко видела их вместе проходящих мимо ее дома. В последующем у нас еще будет возможность рассказать о Л. Т. больше. Здесь надо отметить только то, что она помнила, как Александра и капитан зарегистрировали свой брак у советских властей незадолго до их отъезда. Вместе со своей влюбленной в Квислинга подругой, секретаршей капитана, которая догадалась о происходящем, они наблюдали за этой парой из окна верхнего этажа.
Рассказ Александры
Через день или два после того, как я стала гражданкой Норвегии, мы были готовы выехать из Москвы в Петроград. Упаковка моей небольшой шляпной коробки не заняла много времени, роскошные кожаные чемоданы Видкуна были вскоре тоже готовы. По сравнению с этими элегантными чемоданами моя скромная желтая коробка выглядела странно, и Видкуна это явно смущало. Впоследствии я узнала, что его личные потребности были довольно скромны, но он любил красивые вещи, любил хорошо одеваться и жить в достатке. Вообще он хотел выглядеть значительным и цивилизованным человеком, для него дорогие вещи являлись символом признания и успеха, к чему он всегда очень стремился.
У нас было свое купе в первом классе с удобными кроватями, также в поезде был вагон-ресторан. Я с удовольствием предвкушала наше первое путешествие вместе и возможность впервые увидеть Петроград.
Видкун решил, что нам следует использовать то время, которое мы проведем в пути, и возобновить наши долгие разговоры. На этот раз мы решили рассказать друг другу о наших семьях, об их истории, вместо обмена мнениями об общих вещах. О своей семье он рассказал в деталях, но в отношении меня его вопросы были поверхностными: о моей школе, о друзьях и о том, как я проводила свое свободное время. Но никогда он не спрашивал меня об отце или маме, об их семьях. В начале того длинного разговора я была тронута, думая, что Видкун хочет сблизиться со мной, рассказывая друг другу о наших семьях и о надеждах на будущее, и я уже готова была раскрыть ему секрет о девичьей фамилии моей матери. А когда я поняла, что он умышленно избегает расспросов о моих родителях, я была настолько обижена этим, что больше не хотела нарушать обещание, данное матери, не говорить ничего о нашей жизни. Я сопротивлялась мысли, что он не хотел слышать об этих вещах, намереваясь таким образом отделить меня от всего, что связывало меня с прошлым. Возможно, он даже боялся принять на себя ответственность за то, что мог узнать от меня о моей семье.
Я отогнала от себя эти гнетущие мысли как можно быстрее, чтобы слушать то, что говорил мне Видкун. Он был очень начитан и владел феноменальной памятью, мог запомнить огромное количество увлекательных сведений на многочисленные темы. Он любил демонстрировать свою эрудицию, и я хотела узнать как можно больше о родине моего мужа, поэтому продолжала расспрашивать его. Еще раньше я знала, что Видкун горячо любил норвежскую природу и хорошо знал ее благодаря своим многочисленным путешествиям. Он начал детально рассказывать о своих походах по горам от фьорда к фьорду и летом и зимой, для того, чтобы закалить свое тело и волю.
Он также вернулся к истории о своем раннем сильном желании быть первым во всем и к своей любимой теме о том, что тот, кто имеет достаточно терпения и настойчивости, может достичь любой поставленной цели.
«Но, — добавил он строго, — несмотря на то, что всегда нужно полагаться только на себя, иногда приходится полагаться на других, и когда другие недостаточно сильны и верны, тогда ваши планы и ваша жизнь могут быть в смертельной опасности! Поэтому необходимо быть чрезвычайно осторожным, выбирая друзей и сотрудников. Верность и надежность являются главными человеческими достоинствами!».
И пока наш поезд уносил нас все дальше от жизни, которую я знала, Видкун начал рассказывать другую длинную историю о своей семье и ее достижениях. Теперь я знаю, что его рассказы о семье были романтизированы и преувеличены, точно так же, как все, что он говорил и делал по отношению к себе, но было очевидно, что он очень любил свою семью и свою страну. Я узнала, что его отец был пастором в маленьком городке Телемарк, довольно изолированном месте. Он с гордостью рассказывал о своем дальнем предке маркизе Квислинге, упомянув, что его отец был в родстве с Ибсеном. Родственниками матери Видкуна, Анны Банг, были Бьернстьерне Бьернсон и композитор Рикард Нордрок, который написал мелодию национального гимна. К тому же она была потомком знаменитой семьи Хвайд, к которой причисляют архиепископа Абсалона, основателя Копенгагена. Это была та тема, к которой он часто возвращался, как будто хотел быть уверенным, что я знаю все детали. Насколько все это было правдой, у меня не было возможности узнать.
Он с любовью говорил о своих родителях, с которыми был очень близок. Также было ясно, что он привязан к своей сестре Эстер, которая была на 4 года младше его и умерла еще молодой девушкой. Несмотря на это, у меня создалось впечатление, что детство Видкуна было одиноким и трудным. Чувствовалось, что среди членов его семьи был силен дух соперничества, преувеличенное стремление совершить нечто выдающееся. Видкун не чувствовал себя свободно и в школе. Наоборот, ему приходилось еще больше заниматься, потому что стандартный норвежский язык, на котором преподавались все предметы, был далек от местного диалекта, на котором он говорил, а это было эквивалентно изучению нового языка. К тому же он был очень застенчив.
Видкун также хотел, чтобы я поняла, что он смог все это преодолеть, поскольку был умен, стремился к знаниям и был полон решимости превзойти всех. Все, за что он брался, он делал безупречно. И в конце концов достиг своей цели, но это явно не сделало его популярным среди одноклассников, потому что люди обычно не любят слишком честолюбивых и преуспевающих. Возможно, его таланты и ум были не настолько велики, как он сам думал, но знаю точно, что у него была замечательная память, большая способность концентрироваться и чрезвычайная работоспособность, что позволило ему выйти за пределы нормальной человеческой выносливости.
Моя головная боль и плохое самочувствие постепенно из полусонного состояния переходили в кошмар. Тем временем Видкун продолжал восхвалять свои жизненные принципы, касающиеся тяжелого труда, настойчивости и честолюбия, о чем я уже прекрасно знала после многих лет напряженной работы в балетной школе. После его излюбленной лекции о том, как взять в свои руки жизнь и судьбу, он вернулся к теме преданности и верности в целом и особенно в браке. Он ни разу не говорил прямо о нашем браке, но никогда не давал мне усомниться в том, что имел в виду именно наш брак.
«Ты должна знать и помнить, — сказал он мне тогда, — что у меня огромная сила воли. Я способен отречься от чего угодно, а также воздержаться от чего угодно. Но я никогда не смогу разлучиться и потерять тебя. Браки заключаются на небесах, и несмотря ни на что, развод немыслим. Это великий грех. Даже если один из супругов становится старым, некрасивым и больным или сделает ошибку, столкнется с трудностями, другой супруг должен оставаться верным и преданным. Верность и преданность до конца жизни является святой обязанностью для каждого».
Прибыв в Петроград, мы остановились в гостинице «Европа» или «Метрополь», я точно не помню. Она была очень похожа на отель «Савой» в Москве. Прежде чем уехать, Видкун должен был заняться личными делами. И это случалось в каждом городе, в котором мы были, но он никогда не говорил, какие это были дела. Я считала это совершенно нормальным. Он хотел провести наше короткое время пребывания в Петрограде, беседуя с людьми, которых он знал, будучи норвежским военным атташе в России. До того как Видкун начал работать с Нансеном, он пробыл в Советской России около трех лет и знал довольно много о тех событиях, которые привели к революции 1917 года. Но это было то, о чем он говорил мне очень мало, несмотря на мои частые расспросы. Иногда он с гордостью упоминал фамилии важных политических деятелей, с которыми он встречался, таких, как Троцкий.
Всего через несколько часов после того, как мы покинули Петроград, наш поезд остановился на финской границе, казалось, посередине пустыря. Гражданских лиц не было видно — только красноармейцы и пограничники. Те несколько пассажиров в поезде, кроме нас, были иностранцами. Весь багаж быстро сняли с поезда, и наши чемоданы тоже, включая мою ужасную шляпную коробку. Все это перенесли в наскоро сколоченный сарай и поставили на низкий деревянный стол. Люди в длинных грязных шинелях вежливо попросили пассажиров открыть свои чемоданы, после чего тщательно осмотрели их одержимое. Но наш багаж не осматривали, очевидно, из-за дипломатического паспорта Видкуна. Затем мы все вернулись в наши вагоны вместе с багажом. Как только поезд пересек границу, мы снова остановились, а багаж опять сняли с поезда. Но на этом таможенном пункте процедура была гораздо проще. Несколько хорошо одетых и опрятных финских таможенников просто прошли по поезду, спросив у пассажиров, есть ли у них что-либо для предъявления. Чемоданы ни у кого не обыскивали, также никого не заставили выворачивать карманы наизнанку.
Я совсем ничего не знала о жизни в других странах. Выехав из Советской России, первое, что я увидела в Финляндии, был ресторан. Я совершенно обалдела. Это была станция, кажется, Ваалимаа (фин. Vaalimaa), последняя русская станция. Деревянные полуразваленные постройки, все грязные, какие-то канавы вырыты, обтрепанные солдаты с винтовками, охраняющие финскую границу. Пересекая границу, попадаешь в такой мир, который только во сне можно увидеть, если очень страдаешь от голода. Когда человек, как здесь, в Америке, живет в хорошей семье, ходит в хорошую школу, приходит домой, а дома все как всегда, то кажется, что твой дом, твое окружение, твоя обычная жизнь — это все неизменное. Но ничего подобного. Когда ты в один момент теряешь все это, попадаешь на такую передаточную станцию, на которой — поломанные заборы, солдаты в грязных шинелях, даже погода какая-то мрачная, дождь, все в грязи. И вдруг, перейдя границу, ты перемещаешься в совершенно забытую жизнь, которая была в детстве, и даже лучше. Все эти ощущения были настолько яркими. Такой радости, такого счастья я никогда в жизни потом не испытывала. Все аккуратное, ухоженное, все начищено до блеска, сделано из великолепного полированного дерева; прекрасный барак и станция, где проходишь таможню; все улыбаются, чистые, одеты хорошо, приятно пахнет, и даже дождь доставляет удовольствие.
Потом мы остановились на одну ночь в городке Або, в таком отеле, который раньше я видела только на картинках. Наша комната была полностью обшита деревом, а под панелями на полочке стояли замечательные безделушки и статуэтки, на столе — цветы; удобные чудесные кровати, все так чисто, горничная приходит, а еще чудный ресторан, где можно есть что угодно. Это было совершенно невероятно: такое небольшое расстояние, и такой немыслимый контраст, такая огромная разница. Эти ощущения и эта станция мне очень хорошо запомнились.
Предыдущие несколько лет моей жизни стали таким кошмаром, что иногда было трудно понять, что это — сон или действительность. Сознавая, что находишься в западне, со временем смиряешься с невозможностью изменить существующее положение, чтобы сохранить здравый ум. И вообразите то блаженство, когда внезапно ты просыпаешься и обнаруживаешь, что все вокруг прекрасно, точно так же, как было в детстве! Я помню, что думала в тот момент: «Боже мой, как я люблю Видкуна! Какой он замечательный!». Он казался мне животворящим солнечным светом, источником счастья, тепла и безопасности. Я оставила мрак и неприятности позади навсегда. С этого момента и долгое время впоследствии во мне жила уверенность, что до конца наших дней мы будем вместе преодолевать все препятствия, возникающие на нашем пути.
На следующий день рано утром мы сели на поезд, идущий в Хельсинки, и с поезда сразу отправились в гостиницу. Мы с Видкуном проводили время главным образом в разговорах, поэтому мне не удалось посмотреть город. Я не совсем еще поправилась от болезни, но через некоторое время почувствовала себя гораздо лучше, к сожалению, ненадолго. Я заметила, что белки моих глаз пожелтели, и начала намекать, что не мешало бы обратиться к врачу. Видкун, видимо, не был особенно озабочен этим. Он сказал мне, как всегда: «Ничего, ты еще молода, это у тебя пройдет. Просто это реакция твоего организма на большие перемены в жизни. Ты нервничаешь, к тому же устала от этого путешествия. Как только ты отдохнешь, будешь снова чувствовать себя хорошо».
Я думала, что, возможно, он боялся, что что-нибудь может нарушить наши дальнейшие планы. Он продолжал заверять меня: «Подожди, скоро мы приедем в Ригу. У меня там есть несколько друзей, один из которых мой бывший коллега, когда я служил военным атташе в России, он женат на очень приятной русской даме, они мои старые хорошие друзья, и ты будешь рада познакомиться с ними. Они смогут помочь нам устроить венчание».
Я согласилась со всем без возражений. Несмотря на то, что я всегда относилась ко всему очень ответственно, я все еще не привыкла к тому, что взрослые люди спрашивали моего совета или мне приходилось участвовать в принятии какого-то решения. Кроме того, по какой-то причине, которую я до сих пор не совсем понимаю, в присутствии Видкуна я всегда чувствовала себя бессильной, без собственной воли, без собственного мнения.
Таким образом, наше путешествие продолжалось. В Эстонии мы остановились на короткое время в Ревеле (теперь это Таллин), но у меня была высокая температура, и я мало помню об этом городе. К тому времени, когда мы приехали в Ригу, я почувствовала себя немного лучше и с удовольствием заметила, что все там напоминало мне типичный русский город до революции. Почти все говорили по-русски. И на улице я видела мальчиков и девочек в той же самой школьной форме, которую раньше носили в России. Жизнь в Риге была спокойной, патриархальной и недорогой. Я подумала, что это могло бы быть хорошим местом для мамы, если бы я смогла привезти ее с собой.
Белые русские газеты и журналы в Риге, как местные, так и присылаемые из Берлина, произвели на меня сильное впечатление. Без боязни репрессий они свободно выражали критику в адрес советского правительства, и я впервые смогла прочитать о судьбе тех русских, которые бежали и жили за границей с 1917 года, среди них были мои родственники и хорошие друзья моей семьи. Я очень хотела узнать новости о Харькове и Украине, но оказалось, что я знаю больше, чем газеты о тамошних условиях, поскольку я только что уехала оттуда. По крайней мере газеты практически точно описывали голод и общие условия там.
Первое, что мы сделали в Риге, — встретились с другом Видкуна и его русской женой. Они просили нас остановиться у них. Насколько я помню, Видкун отклонил это приглашение и снял номер в гостинице, но мы все равно проводили много времени в Риге вместе с этой гостеприимной парой. Я уже не помню их фамилий, поэтому буду называть их семьей Икс. Эта маленькая суетливая смуглая госпожа Икс взяла меня под свою опеку и очень хлопотала повсюду, стараясь сделать нашу свадьбу наиболее церемониальной и традиционной, тогда как Видкун хотел устроить частную церемонию. Ей также помогало то, что новость о свадьбе Видкуна было трудно удержать в секрете от многочисленных людей в Риге, которые хорошо знали его. Многие из них были там потому, что мировые дипломатические и торговые переговоры проводились в Риге, так как Соединенные Штаты и большинство западных стран отказывались признавать советское правительство.
Пока мы находились в Риге, Видкуну было необходимо встретиться с членами латвийской делегации в Лиге Наций, которые должны были представить его последний доклад о помощи голодающим в России на следующей ассамблее Лиги. Он проводил большую часть своего времени на конференциях с этими людьми и с различными правительственными чиновниками, а я оставалась под опекой госпожи Икс. Мы ездили по городу, осматривая достопримечательности, ходили по магазинам, она даже отвела меня к своему парикмахеру, чтобы я выглядела прилично ко дню свадьбы. Я думала, что каждая молодая женщина хочет, чтобы ее свадьба была торжественным и памятным событием. Что касается меня, то мне предстояла поспешная свадьба среди совершенно чужих мне людей, в чужом городе, вдали от мамы и всех моих друзей. Случайно я поймала себя на мысли, что мне жаль, что венчание не будет православным, так похожим на царское коронование. К тому же я очень тосковала и была подавлена тем, что ничего не знала о маме с тех пор, как покинула Харьков. Я боялась писать кому-либо после пересечения российской границы из-за боязни скомпрометировать своих адресатов перед советскими властями.
С приближением дня нашей свадьбы я старалась отбросить все грустные мысли. Цветы были доставлены, и мы отправились в лютеранскую церковь, где Видкун и я обменялись кольцами и обетами в очень краткой и простой церемонии, которая все же произвела на меня сильное впечатление. Трое или четверо друзей Видкуна постарались придать некоторую пышность этому событию, облачившись в свои парадные военные формы и образовав арку из сабель над нашими головами, когда мы выходили из церкви. Затем мы поехали на свадебный обед, где разрезали свой свадебный торт и выпили за тех, кто пришел пожелать нам счастья.
Я очень устала от всей этой суеты последних дней и не очень помню, что произошло потом. В это же время моя болезнь обострилась вновь, и я была в полусознательном состоянии, когда уезжала из Риги, покидая берега бывшей Российской империи. Но, несмотря на все это, я знала, что человек, находившийся рядом со мной, теперь был моим мужем в полном смысле этого слова.
Глава 10. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Заметки Кирстен Сивер
Записи в записной книжке Квислинга за 1922 год не являются надежным источником информации относительно того, чем он занимался и где он был летом этого года. Важно ознакомиться с дополнительными подтверждающими документами.
Например, в материалах нансеновского Международного комитета в Женеве от 10 июля записано, что капитан Квислинг вернулся в Харьков 17 июня после инспекционной поездки в Крым. Однако в записной книжке Квислинга его пребывание в Крыму датировано серединой июня, а возвращение в Харьков — 14, а не 17 июня[65]. Возможно, он планировал вернуться 14 июня, а возможно, ошибка допущена в женевских документах. Данные о совместной с Рамсейером из ARA и Джоном Горвином из нансеновской комиссии по оказанию помощи поездке в Мелитополь, которая длилась с 28 до 30 июня, совпадают в официальном докладе в Женеву и в записной книжке Квислинга[66].
Удивляет, что в записной книжке Квислинга очень мало записей со второй половины июля до конца периода, описанного Александрой выше. Видимо, Квислинг был очень занят в это время. Тем не менее с 22 августа и до конца сентября Квислинг сделал несколько записей о путешествиях на поезде, но не упомянул в них Ригу, где они с Александрой обвенчались и где он встречался с людьми, которые должны были представить его важный доклад Генеральной ассамблее в Женеве осенью этого года.
Рассказ Александры
К моему удивлению и радости Видкун после нашей свадьбы изменился и стал совершенно другим человеком. Он стал беззаботным, веселым и даже помолодел. Сами того не замечая, мы перестали обращаться друг к другу на Вы и начали употреблять ласковые прозвища.
Чаще всего Видкун звал меня Асей, как меня называли с детства (большинство его родственников называли меня Сандрой). Еще он называл меня крошечкой, ребенком и lille venn, что по-норвежски означало маленький друг. Хотя Видкун хорошо владел русским, он не всегда понимал языковые нюансы. Не думаю, что носитель русского языка употребил бы слово ребенок как ласкательное имя, особенно для своей жены. Для меня оно звучало неестественно и скорее странно, чем ласково, но ему нравилось так меня называть. Он, очевидно, употреблял это слово как синоним mon enfant — так Видкун обращался ко мне, когда мы говорили или переписывались по-французски. И все же я находила это прозвище нежным и милым, и мне не хотелось объяснять ему, что предпочла бы выражение «моя девочка».
Говоря о Видкуне с другими людьми, я обычно называла его капитан, и с этим именем он остался в моей памяти.
Несмотря на постоянные приступы боли в боку, изменения в поведении Видкуна превратили наше свадебное путешествие в незабываемое событие. Мне кажется, что путешествие из Риги в Норвегию было самым счастливым временем для Видкуна, так как я никогда больше не видела его таким веселым, нежным и беззаботным. Безудержно окунувшись в счастье, он стал любящим, ласковым и чувственным. Замерзшая северная стена наконец оттаяла, и он стал вести себя, как любой счастливый молодой муж. Нам было очень хорошо вместе, и мы с удовольствием наслаждались меняющимися незнакомыми пейзажами и общением с новыми людьми. С этой весенней оттепелью ко мне вернулась уверенность в себе, все вокруг казались добрыми, хорошими и симпатизирующими нам. Мне хотелось рассказать всему миру, как мы счастливы, поэтому, пока мы путешествовали по Финляндии и Швеции, я заговаривала с людьми в гостиницах и ресторанах, с пассажирами в поезде и на пароходах.
Мы вернулись в Хельсинки из Риги на пароходе и остановились в той же гостинице, где уже останавливались по делам Видкуна. Затем поездом мы добрались до Або, а там пересели на пароход до Стокгольма. Эта поездка очень запомнилась мне. Погода была прохладная, все окутал глубокий туман, и вокруг не было ничего видно. Я хотела оставаться в каюте, поскольку у меня снова случился болевой приступ, но Видкун повел меня на палубу, нашел укромное место, уложил меня там и накрыл одеялом, а сам отошел.
Пароход медленно нащупывал дорогу сквозь туман, и я почувствовала гармонию и умиротворение. Впервые после суетных дней, когда я оставила маму и наш дом в Харькове, я смогла глубоко вздохнуть и спокойно взглянуть на неожиданные и невероятные перемены в моей жизни. Только теперь я осознала глубину и окончательность этих перемен. Перспектива совершенно нового будущего в чужой стране без мамы и друзей вдруг ужаснула меня. Я почувствовала себя одинокой, растерянной и беспомощной.
Боль в боку усилилась, прервав мои размышления и мечты. И в этот момент все, что со мной происходило, показалось мне мрачным и безрадостным. Это фантастическое путешествие в неизвестность, невероятный удушающий туман — все стало лишенным смысла, враждебным и бесполезным. Я желала только одного — вернуться к маме, только она смогла бы утешить и успокоить меня. И она бы сделала все, чтобы избавить меня от страданий и боли, а не говорила бы о системе Куэ или о волшебных христианских методах излечения, как это продолжал делать мой муж. Как он мог видеть мои страдания и не пытаться выяснить, что со мной происходит?
Когда я не понимала поведения Видкуна, то пыталась найти объяснения, вспоминая романы Гамсуна и пьесы Ибсена. Я уверяла себя, что сдержанность Видкуна, его молчаливость и одиночные приступы меланхолии не были личностными качествами, а обуславливались его норвежской ментальностью.
Боль в боку стала стихать, и вдруг эти мысли меня развеселили. Ведь на самом деле не было причин жаловаться на судьбу. И Видкун был действительно рад и беспечен в этом путешествии. В Харькове он был холодно сдержан, а во время медового месяца несколько раз, посмотрев на меня с высоты своего роста, восклицал: «Боже мой, какая же ты красавица!». Это было именно то, что хотела слышать молодая жена.
Мы все еще пребывали в приподнятом настроении, когда пароход вышел из тумана и пришвартовался в Стокгольме, где мы сразу поехали в лучшую гостиницу города, как это обыкновенно делал Видкун.
Из нашего окна открывался прекрасный вид на море, пестрящее белыми парусами больших, как корабли, лодок. Видкун объяснил мне, что в это время в Стокгольме проходили парусные гонки. Он рассказал о том, как организованы морские гонки по заранее подготовленным маршрутам, историю этих гонок, сравнивая их с лошадиными скачками и Олимпийскими играми.
В Стокгольме мы сели на поезд, следующий в Осло, который в то время назывался Христианией. Скорее всего, Видкун никого не предупредил о нашем приезде, так как нас никто не встречал. Его квартира еще не была подготовлена для нас[67], поэтому мы остановились в «Гранд Отеле» — старинной и элегантной гостинице на главной улице города. Без сомнения, это была лучшая гостиница в Осло, однако я настолько устала от длительного переезда, что была не в состоянии чем-либо восхищаться. Мои боли в боку усилились еще в поезде, а теперь добавилась тошнота и головокружение. У меня были сильные рвотные позывы, и единственное, чего мне хотелось — это лечь и заснуть.
Отсутствие у меня энтузиазма явно раздражало моего мужа, который оживленно демонстрировал мне многочисленные достопримечательности этой роскошной гостиницы и гордился тем, что она находится в его родном городе. Когда я невзначай заметила, что гостиница производит впечатление старой и мрачной, он посмотрел на меня с удивлением.
— Так тебе что — здесь не нравится? — спросил он и вдруг потерял самообладание. — Ты приехала сюда из Бог знает какой жалкой, грязной и несчастной страны и при этом тебе что-то здесь не нравится?
Я не обидчива, да и в какой-то степени могла согласиться с ним, что с моей стороны неблагодарно быть больной и несчастной среди этого богатства и роскоши. Но оскорбление в адрес моей страны вывело меня из равновесия:
— Как ты смеешь говорить такие жестокие слова о моем народе, который живет в страданиях и умирает от голода и болезней, причиненных войной. Невинные люди ненавидят войну. Да, я знаю, что ты военный и ездил в Россию помочь им. Но что в действительности ты знаешь о войнах, о смерти, о голоде и страданиях? Ты все это видел, но только как наблюдатель в безопасности, как зритель в театре!
Я также напомнила ему, что до того, как все разрушилось, русским тоже не чужды были комфорт, безопасность и надлежащая гигиена.
Видкун был удивлен моей вспышкой и ответил:
— Нет, у вас никогда не было стабильности и приличной жизни. Я был в России в самом начале революции и в ваших городах видел бесконечные трущобы, уродливые дома, грязные дворы… То же самое, что и теперь. Я просто не могу понять, как ты можешь критиковать великолепную старинную западную культуру. Ты должна научиться ценить нашу культуру, организованность, традиции, которые мы не потеряли бы из-за какой-то там войны или революции! Вовсе нет! Очевидно, русская цивилизация и культура не такие глубокие и сильные, раз все развалилось так быстро.
Это была наша первая и, насколько я помню, единственная размолвка, или, скорее, просто глупое проявление слепого шовинизма. Когда мы успокоились, Видкун повел меня на долгую прогулку, чтобы показать город.
Вскоре я узнала, что проявление раздражения Видкуна в этот первый вечер в Христиании не было единичным случаем. Оказавшись на родине, мой муж очень изменился. Казалось, что все потускнело. Его яркие голубые глаза потеряли свой блеск, недавняя веселость исчезла также быстро, как и появилась, и я все чаще ловила на себе его недовольные взгляды.
В конце концов я спросила его, в чем дело. Сперва он не отвечал прямо, но я настаивала на объяснении, и тогда он посмотрел на меня холодно и сурово. Этот взгляд был хорошо знаком мне с нашей первой встречи в России. Я была очень расстроена этой переменой, ощущая, как наш быстрый полет в новую и счастливую жизнь вдруг столкнулся с каменной стеной. Тогда я невольно вздохнула с сожалением, понимая, что наша гармония была так кратковременна.
В комнате повисла тишина. Я чувствовала, что от меня ничего не осталось, кроме маленького мокрого пятна на огромной каменной стене — жалкий остаток моих разрушенных надежд. Наконец я заставила себя сказать:
— Что случилось, мой дорогой? Почему ты так смотришь на меня? Я сделала что-то не так? Прошу, скажи мне, в чем дело.
— Видишь ли, моя любимая, — ответил он. — Сначала я не обратил внимания, как ты ведешь себя с другими людьми. А после того, как я понаблюдал за тобой некоторое время, я понял: ты даже не осознавала, что делаешь. Поверь мне, нельзя быть такой откровенной с незнакомцами. Видимо, этого тебе не понять. Большинство из них очень простые люди, которые не принадлежат к нашему кругу, многие из них непристойны и вульгарны, и было бы неправильно считать их равными. Не следует говорить с ними и смотреть на них.
Видкун был моим мужем, и мне хотелось доверять ему во всем и следовать за ним безоговорочно всю жизнь. Его мнение сильно повлияло на меня. Я заставила вести себя так, как он считал правильным. У меня было достаточно времени, чтобы все обдумать, так как на следующий же день после приезда в Осло Видкун приступил к работе в Генеральном штабе, и я осталась совершенно одна сначала в гостинице, а затем в нашей квартире.
В тот день, когда мы переехали в квартиру на Эрлинг Скалгссонсгат, Видкун произнес короткую речь, чтобы отметить это событие.
— Ася, позволь показать тебе твой новый дом. Помни, что он твой, и никто во всем мире не может отнять его у тебя или заставить отказаться от него, как с тобой и твоей матерью поступили в России. Здесь тебя защищает закон. Это твой дом, ты можешь оставаться в нем столько, сколько захочешь, до конца своих дней! Я надеюсь, что ты будешь счастлива здесь.
Я была настолько растрогана и счастлива, услышав такие слова, что чуть не расплакалась. Но, честно говоря, с первого взгляда квартира меня несколько разочаровала, потому что не соответствовала описаниям Видкуна, я ожидала несколько другого. Я думала, что квартира будет красивая и просторная, но комнаты оказались маленькими, темными и были неудобно расположены. Дом, в котором находилась наша квартира, был одним из нескольких довольно-таки новых и похожих друг на друга домов. Их архитектурный стиль был сдержанным и опрятным, они находились в красивом месте, но ничем не отличались друг от друга, даже покрашены были в одинаково скучный желтый цвет. И ни в одном из них не было заметно признаков жизни.
После возвращения в Норвегию Видкун изменился и внешне, в большей степени из-за того, что стал носить на работу военную форму. До этого я никогда не видела его в форме. Как в России, так и во время нашего долгого путешествия в Норвегию, он всегда носил штатский костюм, в котором выглядел элегантно. Он, видимо, и сам понимал это, поэтому в основном надевал форму только в Генеральный штаб. На официальных приемах и балах он был в своей парадной черной форме, которая, на мой взгляд, была ему очень к лицу.
Глава 11. БУДНИ В ОСЛО
Рассказы Александры
Ближайшими родственниками Видкуна в Осло были два его младших брата. Самого младшего, Арни, который еще не был женат, не было в городе, когда мы приехали. Но вскоре и он приехал в Осло и жил с нами долгое время. Второй брат, Йорген, был известным врачом. Он недавно женился и жил в большом и прекрасно меблированном доме со своей женой Ингрид, которая занималась искусством. Йорген мне очень понравился, и, я думаю, это чувство было взаимным. Он был одним из первых, кто пришел к нам в гости.
— Ты знаешь, Ася себя плохо чувствует, — сказал ему Видкун. — Скорее всего, это пустяки, но она все время жалуется, и, может быть, тебе стоит осмотреть ее на всякий случай.
Йорген отнесся к этому более серьезно, особенно когда я сказала, что болела редко, даже когда недоедала, а вокруг свирепствовали эпидемии. Склеры моих глаз были желтыми, меня постоянно тошнило, я плохо соображала и все время испытывала слабость. И это в то время, когда нужно было благоустраивать наш новый дом.
Йорген настоял, чтобы я пришла к нему в клинику. После полного обследования и нескольких анализов он диагностировал у меня тяжелую форму желтухи, назначил диету и прописал лекарства. Скоро мое самочувствие намного улучшилось, только желтизна оставалась еще долгое время, в течение которого я находилась под наблюдением Йоргена.
Помимо Йоргена и его жены, я познакомилась с другими членами семьи Видкуна. Его родители жили далеко от Осло в маленьком городке Телемарк, а большинство родственников в Осло, и им меня официально представили. Мы хотели поблагодарить их за чудесные свадебные подарки, которые они нам преподнесли, хотя и не смогли присутствовать на нашей свадьбе. У Видкуна было два родных дяди и несколько более дальних родственников, также принадлежавших к роду Квислингов. Один из родных дядей моего мужа, доктор Нильс Квислинг, и его жена Хилдур стали нашими близкими друзьями.
Мама подарила мне на свадьбу единственное, что могла, — редкую старинную поваренную книгу «Подарок молодым хозяйкам». Однако эта книга не подходила для небольшой семьи, проживающей в городской квартире. В ней говорилось о кухарках и кухонной прислуге, о больших печах, в которых следовало выпекать хлеб, запекать молочного поросенка в качестве закуски и готовить жаркое в качестве основного блюда. Кроме того, все рецепты давались в старинных русских мерах веса и объема.
Наша пара особенно всех удивляла, потому что Видкун был на 18 лет старше меня, и ему часто говорили об этом на приватных встречах, официальных приемах и балах. Любопытство людей еще больше подогревалось, так как этот серьезный целеустремленный человек, которого все считали международным героем после его работы в России, за которым никогда не замечали интереса к женщинам, вдруг привез домой такую молодую жену. Несмотря на это, ко мне все относились доброжелательно, и я ходила в гости с удовольствием, чувствуя, что меня любят и принимают.
Осознав, что моего знания только немецкого и французского было недостаточно, я решила изучать норвежский и английский — два языка, которых я совершенно не знала. Я записалась в школу языков для изучения английского, а дома занималась норвежским с репетитором. Также я старалась совершенствовать мой французский самостоятельно, хотя мне удалось найти очень мало литературы для этого. Я была полна сил и решимости сделать все возможное, чтобы свободно говорить с окружающими.
Мои новые родственники были заняты своими семьями и работой, поэтому мы стали нечасто встречаться, когда их любопытство по поводу меня было удовлетворено. Наша семейная жизнь постепенно устроилась в соответствии с делами и привычками Видкуна, и я часто оставалась одна. Но это не было для меня проблемой. С тех пор, как война и революция прервали мою защищенную и избалованную жизнь, я сама должна была справляться со всеми трудностями. А теперь я наслаждалась и гордилась обязанностями и делами молодой хозяйки. Однако новым для меня было положение зависимости. Это было связано не только со склонностью Видкуна к диктаторству, но и с изолированностью в чужой стране без знания местного языка и обычаев.
Мне сказали, что в Осло живет несколько эмигрантов из России, но у меня не было возможности познакомиться с ними или пойти на службу в русскую православную церковь, потому что Видкун был бы очень недоволен, если бы я встретилась с кем-нибудь, кого выбирал для общения не он. Мы также не посещали и лютеранскую церковь. Фактически наша церковная свадьба в Риге была единственным случаем, когда я видела Видкуна, сына священника, в церкви.
До отъезда с родины я редко проводила хотя бы день без чтения. Но за все время моей жизни в Норвегии Видкун никогда не предлагал мне купить литературу на русском или французском языках, а у меня не было на это денег. Я уверена, что в Осло были библиотеки и книжные магазины, где можно было найти что-нибудь подходящее. Помимо этого, я слышала о множестве книг, которые издавались известными российскими авторами в эмиграции, а также знала, что газеты на русском языке без всякой цензуры выходили ежедневно в Берлине, Париже, в странах Балтии и в Норвегии. Я неоднократно намекала мужу на это, но Видкун пропускал мои слова мимо ушей. Мне очень не хватало новостей из России и от матери, ведь я ничего не знала о ее судьбе. Но мне оставалось довольствоваться лишь редкими сообщениями Видкуна о происходящем в моей стране.
Особенно я скучала по книгам вечером, когда мы ложились в кровать, и Видкун читал перед сном. Он часами читал что-то интересное, а мне приходилось сосредотачиваться на каком-нибудь научном трактате об истории Франции или на допотопной французской классике.
Несмотря на тоску по родине, одиночество и депрессию, я была безумно счастлива эти первые месяцы в Осло и делала все возможное, чтобы сохранить это счастье. С того времени, как Видкун привел меня в нашу квартиру на Эрлинг Скалгссонсгат, 26 (адрес, который я запомнила по-норвежски на случай, если потеряюсь в городе), я поняла, что моя жизнь должна стать совершенно другой.
Видкун не был тщеславным, хотя выглядел и одевался он именно так. Я припоминаю первую встречу на коммутаторе в Харькове. Темнело, и я была поглощена чтением при свете старинной электрической лампочки. И тут входит мужчина — высокий, утонченный и элегантный. Он самоуверен, собран и спокоен, без следа страха и неуверенности, которые в те тяжелые времена были присущи моим соотечественникам. Он был настолько вежлив и галантен, что я невольно почувствовала себя рядом с ним в безопасности, защищенной и что-то значащей.
Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда воспринимала все со свойственным шестнадцатилетней девочке идеализмом, и именно это заставило меня так решительно бросить свою родину и маму. Это была юношеская первая любовь. Когда тебе шестнадцать и ты влюблена, кажется, что это навсегда. Видкун тоже увлекся мной, не осознавая сложностей, которые могут возникнуть с появлением жены, тем более такой юной. За много лет своего холостого существования он разучился уделять время и внимание другому человеку. Кроме этого, он должен был учитывать большую разницу в возрасте, в характерах и в нашем прошлом. Но я была молода, легко поддавалась влиянию и очень хотела угодить ему. И я ни в чем не виню Видкуна.
Мой муж установил расписание нашей повседневной жизни согласно своим делам и привычкам. Мы просыпались довольно рано, и я оставалась в постели, пока он принимал душ, а затем предоставлял ванную мне. Потом мы вместе завтракали. Он говорил, к которому часу его ждать домой, и уходил на работу, а я всегда смотрела у окна, как он уходит, и махала ему рукой. Видкун ходил на работу пешком, машиной пользовался только для длительных поездок. Оставшись одна, я занималась хозяйством, читала, учила язык, писала письма и ходила гулять.
Я гуляла по главному проспекту города, Карл-Йохансгате, и возвращалась домой. Каждый день в одно и то же время длинный черный лимузин медленно проезжал мимо меня по этой широкой тихой улице. Я была заинтригована номерным знаком машины, состоящим из единственной цифры «1», а также худощавым смуглым джентльменом, похожим на испанца, который сидел на заднем сиденье. У него всегда был грустный вид. Он также, должно быть, заметил меня и мое любопытство, потому что после нескольких наших встреч стал приветствовать меня, приподнимая свою шляпу и слегка улыбаясь. Я реагировала на его приветствие с недавно приобретенной сдержанностью, сопротивляясь своему порыву широко ему улыбнуться.
Я спросила Видкуна, кто этот мужчина, и была поражена, узнав, что, по всей вероятности, это король Норвегии Хокон VII.
— Но почему же он такой скромный и грустный? — спросила я.
Во всем этот монарх, который приподнимал шляпу в знак приветствия, был так не похож на мои романтические представления о короле, почерпнутые из сказок Андерсена. Он меня приятно удивил своей любезностью. К моему великому изумлению Видкун не разделил моего восторга. Наоборот, он был раздражен и упрекал меня за то, что я не следую его советам не смотреть на незнакомцев.
— Но что в этом плохого? Это же твой король! — воскликнула я с негодованием.
Видкун ответил в своем стиле:
— Но ты же не знала этого, и для тебя это незнакомый мужчина!
Так случилось, что вскоре после этого разговора король пригласил Видкуна, чтобы заслушать личный доклад о России и его работе по помощи голодающим. Затем король задал ему несколько вопросов обо мне и попросил привести меня во дворец и представить ему и королеве. А через некоторое время пришло официальное приглашение от короля, и я получила несколько уроков дворцового этикета. Как и следовало ожидать при настолько демократичном монархе, событие было организовано с поистине королевским достоинством и простотой и стало одним из моих лучших воспоминаний о Норвегии.
Глава 12. СВЕТ И ТЕНЬ
Заметки Кирстен Сивер
Вскоре после того, как Квислинг начал работать в Генеральном штабе, Российское телеграфное агентство (РОСТА) сообщило, что в связи с хорошим урожаем зерновых в России Помгол намерен закончить сотрудничество с иностранными организациями по оказанию помощи голодающим. Помгол выражал благодарность работникам сельского хозяйства за их вклад в улучшение ситуации. За несколько дней до этого Фритьоф Нансен в Женеве доложил о работе своей организации с русскими беженцами. Но, очевидно, он не высказал личного мнения относительно «окончания» голода. И это не удивительно, так как 22 августа он попросил своего представителя в Риге телеграфировать Квислингу, что было бы хорошо, если бы он смог еще на несколько месяцев поехать в Россию после отпуска, так как его работа на Украине была крайне важна[68].
Международная организация по оказанию помощи голодающим в Женеве прекратила деятельность 25 сентября, но при условии, что обязанности и полномочия этой организации переданы под руководство Нансена. Через пять дней Джон Горвин (глава представительства нансеновской организации в Москве) подтвердил, что урожай зерновых и на Украине, и в России не такой, как ожидалось. В то время с визитом в Москве находился представитель Красного Креста, который сообщил властям, что около четырех миллионов человек в четырех украинских губерниях голодают. Поэтому необходима срочная помощь. Российские власти попросили Нансена продолжать его программу по оказанию помощи голодающим в России, и после этого его личные секретари написали Квислингу в Осло 5 и 8 октября, осведомляясь, как здоровье капитана и готов ли он возобновить работу на Украине. Его попросили связаться с А. Г. Джейн (личный секретарь Нансена в Осло) как можно скорее. 18 октября Фрик в Женеве получил сообщение от Квислинга, что, несмотря на не очень хорошее самочувствие, капитан готов вернуться на Украину, если работа по оказанию помощи голодающим будет организована лучше[69].
Возможно, такое замечание Квислинга было обусловлено тем, что русские в последнее время усложнили административную работу. Из письма Л. Каменева от 4 октября 1922 года Джон Горвин узнал, что «Центральный комитет по организации помощи голодающим» преобразован в «Центральный комитет по борьбе с последствиями голода»[70]. Хотя это и был тот же Помгол, это означало, что организация Нансена должна вновь начать переговоры с советскими властями.
Квислингу предстояло многое обдумать всего лишь через месяц после возвращения домой. Проблемы со здоровьем не были настолько серьезными, чтобы помешать ему активно работать практически 24 часа в сутки. Рассказ Александры свидетельствует, что он работал безустанно и все больше мрачнел с приближением осени 1922 года.
Рассказы Александры
Пока стояла теплая погода, мы часто ездили с друзьями на пикники. Видкун пообещал мне поездку в Телемарк, чтобы показать свой дом и представить родителям, которых он давно не видел. Они были очень рады, что он наконец женился и хотели поскорее познакомиться со мной. Однако Видкун долго не мог получить отпуск, а когда получил его, Йорген, который лечил меня от желтухи, сказал, что мне еще слишком рано предпринимать такую длительную поездку в другую часть страны, где уже было холодно и снежно. Кроме этого, у меня не было теплой одежды, так как в Осло еще не наступила зима. Поэтому Видкун поехал к родителям один.
Он пытался успокоить меня, видя, что я расстроилась, и сказал, что как только потеплеет, мы еще не раз сможем съездить в Телемарк и даже дальше на север Норвегии, тем более что там особенно красиво весной.
— Тебе понравится мой родной город, — сказал он. — В мире нет ничего красивее нашей долины. Я вернусь через неделю или две. Пиши мне каждый день, не скучай и будь осторожна. Вивеке и Конкен будут навещать тебя, а другие родственники приглашать в гости.
С этими словами он поцеловал меня в щеку и настолько быстро вышел из квартиры, что я ни слова не успела ответить.
Я очень скучала по Видкуну. Без него мои дни тянулись еще дольше и стали еще более одинокими. Я привыкла молчать, поэтому не пела и вообще не шумела, чтобы не нарушать царящую вокруг тишину, несмотря на то, что оставалась одна после четырех часов. Я много гуляла каждый день и старалась занять себя домашней работой, когда не находила, что почитать.
Мои новые родственники в Осло относились ко мне очень хорошо, и во время отсутствия Видкуна каждый день приглашали меня на ранний ужин.
После поездки в Телемарк Видкун еще больше помрачнел и продолжал проводить очень много времени в своем кабинете. Я думаю, что он хотел доказать коллегам и начальству в Генеральном штабе, что его длительный отпуск не повлиял на работоспособность.
К моей радости, мы часто посещали официальные приемы, встречались с коллегами Видкуна и дипломатами, а это было для меня прекрасной возможностью развеяться. Когда похолодало, мы стали кататься на коньках и на лыжах. Особенно я любила ехать на лыжах за лошадью. Благодаря такому досугу я меньше скучала и тосковала по дому. Видкун стал гордиться мной и регулярно передавал мне комплименты от знакомых и друзей.
Мы редко бывали дома вечером до того, как приехала мать Видкуна. Она гостила у нас около месяца, и мы втроем очень хорошо провели это время. Мы с матерью Видкуна научились общаться жестами и мимикой. Я просила ее погостить у нас еще, но ей было пора уезжать, так как ее муж был болен и нуждался в постоянном уходе. С меня взяли обещание навестить их следующим летом.
Приближались новогодние праздники, которых я очень ждала. И в это время я узнала, что беременна. Моей радости не было предела. Мне хотелось поделиться с Видкуном, и я с гордостью сообщила ему о таком новогоднем подарке. Однако Видкун не разделил моего восторга, а сказал, что надеется на ошибку. Меня это крайне удивило и обидело, и я спросила, что он хочет этим сказать. Он ответил, что я слишком молода и неопытна для того, чтобы стать матерью. Более того, его ответственная работа и неопределенное будущее не позволяли ему в настоящее время иметь большую семью. Если мои «опасения» сбудутся, то он найдет выход из этой ситуации. И кроме Йоргена, брата Видкуна, который как врач подтверждал мою беременность, больше никто не должен знать об этом.
Я даже представить себе не могла, какой год предстояло пережить Видкуну и мне, когда мы встречали 1923 год на новогоднем празднике, организованном дядей Расмусом и его женой. Я была счастлива, когда входила в теплую светлую комнату с подарками под рождественской елкой, была рада находиться среди открытых и веселых людей в атмосфере спокойствия и благополучия. Очень большой богато украшенный стол был шикарно сервирован, и каждого гостя под салфеткой ожидал новогодний сюрприз. Для меня, например, приготовили бутылочку с соской и молоком. Все восприняли это как намек на мою юность, и мы от души посмеялись над этим, а про себя я подумала, что эта бутылочка как нельзя кстати пригодится малышу, которого мы ожидали.
Изобилие угощений поражало. Видкун настаивал, чтобы я все попробовала, и особо расхваливал норвежские блюда. Он заверял, что они самые вкусные в мире. Норвежская кухня действительно очень вкусная, я до сих пор ее люблю. Мне нравились рыбные блюда, однако фотографии Видкуна на рыбалке произвели на меня неприятное впечатление: огромная рыба в руках моего мужа с пробитой крючком губой.
Как только мы сели за стол, подали шампанское, и я впервые познакомилась с норвежским ритуалом произносить тосты. Начиная с самого старшего из присутствующих, каждый поднимал бокал, выбирал того, кому хотел сказать тост, и, глядя ему в глаза, произносил. Выбранный поднимал бокал, смотрел в глаза говорящему тост и, произнося «Skal», опустошал свой бокал.
Видкун выглядел более странно, чем остальные, во время этой церемонии тостов. Он строго, пристально и без эмоций смотрел своими выпуклыми глазами на произносившего тост и молча делал глоток вина. Видкун объяснил мне, что произносить тосты — старинная традиция со своей историей. Со временем я привыкла к этому. Но тогда этот обычай казался мне необычным и смешным. Муж заметил мою реакцию и взглядом приказывал мне сдерживаться при каждом тосте.
Видкун пил очень мало спиртного. На официальных приемах и семейных встречах он выпивал только за произносимые тосты, а дома не пил вообще никогда, хотя у нас всегда была припасена бутылка вина для гостей. Когда мы вдвоем ходили в ресторан, он никогда не заказывал себе ничего алкогольного. Мне нравилось, что Видкун не пил. Я тоже не употребляла алкоголь, а после перенесенной желтухи Йорген велел вообще исключить спиртное. Однажды на приеме мне подали кофе с каким-то ликером, я сделала глоток, и мне сразу стало плохо. С тех пор в гостях я всегда только делала вид, что пью.
Незадолго до полуночи мы все вышли на веранду. Ночь была холодная, ясная и царила полная тишина. Когда часы пробили двенадцатый раз, тишина тут же взорвалась: гудели пароходы в гавани, сигналили автомобили и шумели фейерверки. Этот момент был настолько волнующим и праздничным, что я невольно начала плакать, вспомнив о маленькой жизни, которая зарождалась во мне.
Все принялись поздравлять друг друга по-норвежски, и я чувствовала себя лишней и забытой. Когда мы вернулись в дом, многие подходили и поздравляли меня очень ласково и вежливо. Позже меня поздравил Видкун. Но, несмотря на это, в памяти осталось чувство глубокого одиночества и боль от невозможности поделиться с кем-нибудь своей радостью будущего материнства. С тех пор всю жизнь на Новый год у меня на глаза наворачиваются слезы.
Глава 13. КУКЛА В ЯЩИКЕ
Заметки Кирстен Сивер
Как уже говорилось в предыдущих главах, голод в России все еще продолжался, поэтому Нансен в августе 1922 года ясно давал понять, что, возможно, Квислингу вскоре придется вернуться на Украину. В октябре Квислинг получил официальную просьбу от Нансена и его организации, и сразу же после Нового года подтвердил, что он поправляется и сможет вернуться в Россию, если Нансен пожелает этого[71]. Именно этого Нансен и хотел. 30 октября он обратился к министру Ааватсмарку в Осло с просьбой предоставить Квислингу отпуск без ущерба для его военной карьеры, чтобы он смог вернуться на работу на Украине. Ответ пришел 11 ноября. Министерство обороны не возражало[72].
Нет причин сомневаться в необходимости срочной помощи. По возвращении из Украины в середине декабря Хермод Ланнунг заявил датской газете «Политикен», что все запасы там истощились, а каннибализм стал таким обычным явлением, что родители боялись отпускать детей одних на улицу из-за страха, что их могут зарезать[73]. Поэтому когда в конце января 1923 года Нансен прибыл в Харьков, украинские власти приняли его очень хорошо. Он заявил, что его друзья Квислинг и Фрик возобновят практическую работу по оказанию помощи[74]. ARA в Харькове также заверила главное управление в Москве, что голод в их районе усиливается. Раковский (председатель Совнаркома Украины) и Башкович (все еще полномочный представитель по работе с иностранными организациями по оказанию помощи голодающим на Украине) ездили в Москву на переговоры о выделении средств для оказания помощи голодающим[75].
Александра не могла прочитать в норвежских газетах о положении на ее родине, но она боялась худшего. Вероятно, время от времени она получала какие-то сведения от Квислинга. Александра не знала о своем возможном возвращении в Харьков, хотя ее муж на тот момент уже был осведомлен об этом. Квислинг знал еще до их отъезда из России, что они, по всей вероятности, скоро вернутся туда, но не говорил ей об этом практически до самого отъезда из Осло в конце февраля 1923 года. Как мы узнаем из дальнейшего рассказа Александры, Квислинг не посвящал ее в свои планы так же, как и ранее, планируя свадьбу и их выезд из России.
Рассказ Александры
Я не теряла надежду продолжить свою учебу, а также занятия балетом. Конечно, в Христиании должны быть балетные школы! Но больше всего я мечтала о том, как у меня появится собственный ребенок. Мне было трудно поверить, что Видкун не был рад этой новости. Я восприняла как хороший знак то, что мы с Видкуном стали проводить больше времени вместе, делая косметический ремонт в нашей квартире и приобретая необходимые вещи для домашнего обихода. У меня по-прежнему не было денег для своих покупок, но мой муж стал считаться со мной и предоставил полную свободу в выборе вещей для нашего дома. Мои покупки были довольно скромными, и, вероятно, неудивительно, что главным моим желанием было закупить консервы и другие продукты питания. Это все было совершенно новым для меня, и я была изумлена таким выбором товаров в магазинах. Видкун поощрял мои усилия и был в восторге от моего энтузиазма.
Тем не менее случались моменты, когда я была подавлена грустью, несмотря на нашу спокойную и благополучную жизнь. Было ли это связано с моей беременностью или из-за моей культурной изоляции, я сказать не могу. Больше всего мне не доставало новостей от мамы, я получала от нее неясные, короткие сообщения, которые заставляли меня опасаться за ее судьбу. Мне было грустно, что она не может разделить со мной такой важный период моей жизни, а также с нетерпением ждать, когда станет бабушкой.
Все же у меня было много счастливых воспоминаний о том времени, когда мы жили в Осло, большая часть которых была связана с музыкой. Когда я была совсем маленькой, мои родители поощряли меня в желании присоединиться к ним, когда они вместе пели для себя или давали домашний концерт для друзей. Таким образом, несмотря на отсутствие формального музыкального образования, я знала оперные арии и популярные песни русских и зарубежных композиторов, которые подходили к моему низкому голосу. Мои новые норвежские кузены вскоре узнали, что я люблю петь, и один из них научился аккомпанировать мне на рояле, чтобы мы могли давать концерты на семейных встречах, а также на некоторых больших вечеринках в Осло. Даже Видкун сказал, что это достойное занятие для дамы из хорошего общества.
По мере того, как я чувствовала себя все более прочно обосновавшейся, Видкун проявлял все большее беспокойство. После нескольких лет независимости, ответственности и захватывающей работы за границей, вдали от военной дисциплины и начальства, теперь он находил свои повседневные дела монотонными. Ему хотелось снова отправиться за границу. Он часто вспоминал свое недавнее высокое положение в России, где так много жизней зависело от того, что он говорил и делал. По сравнению с этим его нынешняя должность была очень скромной и неинтересной. Видкун был особенно недоволен своей работой в Генеральном штабе и разочарован тем, что армия недостаточно оценила его тяжелую работу в России. По его мнению, все то, чего он достиг там, было очень важно для репутации и безопасности Норвегии. Вместо того чтобы вознаградить его за эти заслуги, армия отложила повышение его в звании по той причине, что он долгое время отсутствовал на действительной военной службе! Те люди, которых он считал посредственными бюрократами, превзошли его в звании и теперь были его начальниками, а это бесило Видкуна. Другой больной темой для Квислинга было то, что Нансен публично не признал его заслуг за проделанную работу. Его разочарование усилилось, когда Нансен получил Нобелевскую премию мира в декабре 1922 года.
Давая выход своей неудовлетворенности, которая, несомненно, возникала из-за его преувеличенно высокой оценки своих способностей и достижений, Видкун становится порой весьма язвительным, осуждая всех и вся. Этот был малообразован и не осведомлен; другой вел неправильный образ жизни; третий не имел хороших манер; правительство было неэффективным; методика обучения в школах и университете была бестолковой и так далее. Больше всего Видкуна раздражало собственное убеждение в том, что он мог бы исправить все эти недостатки, если бы люди спрашивали его советов и следовали им.
В этом раздражении Видкун проводил много времени, переписываясь с Нансеном и своими влиятельными друзьями из России и Лиги Наций. Его усилия, по-видимому, были успешны. Как-то он показал мне письмо от Нансена.
— Вот видишь, Нансен хочет, чтобы я вернулся в Россию и закончил незавершенную работу по оказанию помощи там. Его организация сменила название, но проблемы остались теми же. Мы скоро туда поедем.
— Когда? — спросила я.
— Этой весной, как можно раньше. Мне еще надо кое-что закончить здесь, в Генеральном штабе. Но ты лучше начинай упаковываться. Мы попытаемся сдать нашу квартиру, но если не найдем арендаторов, то просто закроем ее.
— И сколько же времени мы проведем в России, и где мы будем жить?
— По меньшей мере несколько месяцев. Мы будем снова в Харькове.
Харьков! Я была полна радости. До этого момента я не совсем осознавала, как хочу снова увидеть маму и своих друзей.
Это решение вернуться в Россию коснулось не только нас, но и Арни, младшего брата Видкуна, который следующей осенью намеревался эмигрировать в США, в конце концов поселившись в Бруклине, штат Нью-Йорк. Америка в то время казалась мне очень далекой страной. Я не подозревала, как много родственников из семьи Квислинга уже уехали в Америку и хорошо там устроились (помимо всего прочего, они владели одной из самых крупных клиник в США, в городе Мэдисон, Висконсин). Мысль о том, что Арни уедет так далеко, опечалила меня. Он мне очень нравился, потому что был дружелюбен, внимателен, весел и относился ко мне, как к младшей сестре. Несмотря на то, что был гораздо старше меня, он все же считался ребенком в семье. Видкун его обожал.
Было решено, что когда мы выедем из Норвегии, Арни поедет с нами до Берлина. Втроем мы обсуждали, как нам лучше упаковать вещи. Я увидела, что приобрела довольно много одежды и подумала, что, вероятно, должна взять с собой немного одежды для ребенка на всякий случай, поэтому сказала Видкуну, что мне понадобится сундук и по меньшей мере один или два чемодана. В итоге он решил, что мне не следует брать все свои вещи. Мне не нужна будет зимняя одежда, так как мы вернемся домой до следующей зимы. Пока что я могу взять его чемодан, который будет наполовину пуст. Он ничего не сказал о детской одежде, и я не говорила об этом, полагая, что этим можно заняться позже. Но все-таки я напомнила Видкуну, что будет еще холодно, когда мы приедем в Харьков, и он обещал, что в Берлине купит подходящее пальто и все, что будет необходимо.
В проигравшей войну Германии была катастрофическая депрессия и инфляция, поэтому цены в Берлине были значительно ниже норвежских. Хорошо помня о несчастьях в России, я не могла не сочувствовать немцам. Видкун и Арни, однако, часами изучали отчеты о текущих экономических условиях и ценах в Германии, обсуждая возможности для очень выгодных инвестиций для людей, имеющих стабильную иностранную валюту.
Арни, Видкун, я и наш еще не родившийся ребенок покинули Норвегию в конце февраля 1923 года. Я оставила практически все свои вещи в Осло и уехала почти с таким же багажом, с каким приехала туда.
Глава 14. РЕБЕНОК
Заметки Кристен Сивер
В то время как Александра и Квислинг находились в пути в Харьков, отношения между ARA и Башковичем ухудшились не только из-за конфликта в Екатеринославе той весной, но также из-за возрастающего недоверия лично к Башковичу (полномочный представитель вернулся после переговоров в Москве о выделении средств очень довольный собой). В мартовском докладе харьковского отделения ARA главному управлению ARA в Москве отмечалось, что Башкович стремится к ограничению деятельности ARA на Украине путем уменьшения финансирования, и что в Москве он преподнес совершенно иную картину происходящего, чем это было на самом деле в Харькове[76].
Квислинг должен был быть готов к различным неприятностям, особенно из-за нестабильности политической обстановки в стране, а также из-за значительного ухудшения здоровья Ленина после того, как он перенес инсульт, явившийся следствием покушения на его жизнь в 1918 году[77]. Кроме того, в конфиденциальном письме от 13 марта Нансен предупреждал своего сотрудника о том, что надо быть внимательным по отношению к спекулятивным действиям украинского Красного Креста и других украинских организаций. Ходили слухи, что они взаимодействовали с жульнической организацией, которая брала 29 долларов за доставку посылок на Украину. Нансен писал, что даже если это просто слухи, все же необходимо быть бдительным[78].
Несколько дней спустя господин Хартфорд, представитель Нансена при распределительном пункте питания в Саратове, находившемся под управлением европейских студентов, был отстранен от занимаемой должности после того, как принимал участие в будто бы политически мотивированных беспорядках[79]. И в 1922, и в 1923 году Башкович делал вид, что ему легче работать с различными европейскими отделами нансеновской организации, чем с американцами в ARA. Русские, по всей вероятности, с самого начала неохотно впускали в страну работников по оказанию помощи из таких мировых держав, как США. Хотя было очевидно, что большинство американцев рисковали жизнью и здоровьем, работая месяцами в полевых условиях только из гуманитарных и идеалистических побуждений, советские власти предполагали, что главное отделение ARA в Москве использовало эту работу как прикрытие для сбора разведывательной информации для своего правительства.
Множество документов в архивах ARA и методы работы данной организации наводят на мысль о том, что у советских властей были основания для таких подозрений. Американцы с самого начала взяли под полный контроль все стороны своей работы по оказанию помощи, в отличие от Нансена, который работал сообща с российскими властями. Кроме того, сотрудники ARA в Москве пристально следили за всеми публикациями в российских газетах о работе других иностранных организаций по оказанию помощи. В архивах московского отделения ARA есть некоторое количество переведенных статей, включая интервью капитана Квислинга, которое он дал газете «Известия» 5 мая 1923 года, на следующий день после своего возвращения в Харьков[80]. Следует отметить, что в отчете, данном Квислингом о перспективах дальнейшей работы нансеновской организации, он сделал хороший тактический ход, упомянув, что Нансен передал все средства, полученные им от Нобелевской премии мира, на помощь Украине.
Далее Александра рассказывает, как Квислинг организовал свою частную жизнь в то время.
Рассказ Александры
В Берлине Арни, Видкун и я остановились в элегантной и знаменитой гостинице «Бристоль Кемпински» на Кюрфюрстендамм. В Германии было еще очень холодно, поэтому мы сразу начали искать пальто для меня. Видкун считал, что кожаное пальто было бы самой подходящей одеждой в России для этого времени года. В фешенебельном магазине, где продавались кожаные вещи по смехотворно низким ценам в пересчете на иностранную валюту, Видкун купил единственную вещь, которая мне подошла. На самом деле это была куртка, но на мне она смотрелась как пальто, едва достававшее до моих туфель. Она была сделана из очень мягкой светло-коричневой кожи с кожаными обтяжными пуговицами, и это мне представлялось вершиной элегантности. Со временем она приобрела модный поношенный вид и стала хорошо знакомой моим парижским друзьям.
Мы также купили несколько кожаных чемоданов разных размеров и множество других полезных вещей для путешествия. На следующий день наши покупки в Берлине пополнились давно обещанным сундуком-гардеробом. Мне очень хотелось купить несколько подарков для мамы и моих лучших друзей, чтобы они почувствовали радость от приобретения этих «бесполезных» вещей, которых уже давно не было в России, а в Берлине они были в таком изобилии и совсем недорого — одежда, туфли, духи и пудра для лица, например. Но, как обычно, у меня не было денег, чтобы купить что-либо самой. Я очень не любила просить у Видкуна денег, но в конце концов я заставила себя заговорить об этом.
Видкун удостоил меня одной из своих редких улыбок. «Конечно, конечно! Так хорошо, что ты подумала об этом. Разумеется, нам нужно привезти подарки для твоей мамы и твоих друзей». Однако он не только не дал мне денег, но даже не спросил, что я намеревалась купить. Все это не привело ни к чему, и я была слишком горда, чтобы заговорить об этом снова.
Втроем мы проводили много времени за столиками кафе на улице, наблюдая за проходившими мимо берлинцами. Так же, как и в Норвегии, Видкун и Арни обсуждали катастрофическую инфляцию и девальвацию немецкой валюты. Они считали, что нужно воспользоваться этим уникальным шансом, который дает возможность купить все что угодно (даже дом) за бесценок. Ежедневно они ездили осматривать объекты недвижимости, выставленные на продажу, и, как правило, брали меня с собой. Особенно им нравились некоторые четырех- и пятиэтажные дома в хороших районах. Съездив туда несколько раз, они в конце концов купили два или три таких здания по очень низкой цене, включая жилой дом, который Видкун записал на мое имя. Я очень хорошо помню, что мне нужно было подписывать какие-то бумаги. Потом я рассказывала всем, кому это было интересно, что владею пятиэтажным домом в Берлине, который приносит доход. Я не знаю, что потом случилось с этим зданием.
Конечно же, Видкуну необходимо было заниматься служебными делами. Прежде всего он должен был скоординировать свою работу с бюро Нансена в Берлине по оказанию помощи голодающим в России, в то время как сам Нансен вел в России переговоры с властями о продлении его программы помощи. Мы также были приглашены на несколько важных приемов, которые доставили нам удовольствие. Результаты работы Видкуна в России были хорошо известны общественности в Европе. И было много людей, которые хотели встретиться со знаменитым капитаном Квислингом.
Видкуну было грустно, когда пришлось прощаться с Арни. Я тоже была очень привязана к нему, и мысль о долгой разлуке с ним была мне ненавистна, поскольку он должен был уехать в США до того, как мы с Видкуном вернемся в Норвегию. Спустя пятьдесят лет, когда я уже стала бывалой американкой, я написала теплое письмо Арни с воспоминаниями о нашей юности и отправила заказным письмом по почте. Арни расписался на бланке получения, но я так и не получила от него ответа.
Вскоре после того, как Арни уехал, мы с Видкуном выехали из Берлина поездом в Москву. К тому времени я с большим нетерпением ждала прибытия в Россию, и чем ближе мы подъезжали к границе, тем сильнее становилось мое волнение. Все мысли об Арни и других моих норвежских родственниках сменились ожиданием. Я снова увижу маму!
Вместе с нашим роскошным багажом нас поместили в большую, открытую со всех сторон машину. В холодную погоду в ней было крайне неприятно ехать, поэтому я была рада, когда машина замедляла ход, пытаясь проехать сквозь толпу людей, идущую на черный рынок на Сухаревской площади. Толпа была настолько плотной, что машина с трудом прокладывала себе путь. К счастью, через несколько минут мы благополучно прибыли в нашу гостиницу. Внутри было тепло, уютно и очень просторно. Там жили люди разных национальностей, поэтому я встретила только двух русских. Один из них был граф Алексей Толстой, белогвардейский писатель, который эмигрировал за границу с Белой армией, и его возвращение в Россию стало сенсацией. Мне сказали, что он приехал в Москву на том же поезде, что и мы, но я точно помню, что впервые увидела его только в гостинице. Он выглядел очень необычно — как простой крестьянский мужик, и вел себя несколько неловко и нервно. Несмотря на то, что граф был почти ровесником Видкуна, он казался старше из-за своей полноты. Также я встретила в гостинице симпатичную молодую русскую женщину, которая вышла замуж за итальянского дипломата и только что приехала со своим мужем из Парижа. Она влюбилась в этот город и показывала множество красивых вещей, которые она купила там и мимо которых не может пройти равнодушно ни одна женщина.
Мое приподнятое настроение от предстоящей встречи с мамой и Ниной, с которыми я смогла бы поговорить о моем ребенке, вскоре перешло в горькое разочарование. Видкун сказал, что мы пробудем в Москве неделю или немного дольше, поскольку он хочет сводить меня в театры и музеи. Я едва успела распаковать вещи, когда он заявил мне, что договорился о моей встрече с московским врачом. Спокойно, но твердо он объяснил мне, что я не должна рожать этого ребенка в России, так как мы не сможем как следует заботиться о нем, живя и путешествуя в таких примитивных условиях. Доктор осмотрит меня и решит, можно ли прервать мою беременность безболезненно и безопасно.
Я слышала его слова. Я поняла по его поведению, что все это было спланировано давно и не подлежало обсуждению. И пока эти страшные слова превращались в реальность, я чувствовала, что впадаю в оцепенение и становлюсь бесчувственной, как деревянный манекен. Безмолвную, неспособную собраться с мыслями, меня одели, отвезли в больницу и бросили в кошмар, который настолько повлиял на меня, что я не смогла рассказать об этом ни одной живой душе, даже маме. Я старалась загнать эти воспоминания в самый дальний уголок своей души, но это не помогло, и теперь я должна рассказать об этом для того, чтобы остальную часть повествования о моей жизни можно было увидеть с правильной точки зрения.
Видкун отвез меня в неизвестную частную клинику, где меня подвергли незнакомому и крайне унизительному осмотру. Затем произвели хирургическую операцию. Все во мне кричало: «Нет, нет!!!», но это потрясение сделало меня беспомощной. Сквозь туман наркоза я услышала, как медсестра сказала кому-то: «Это была здоровая девочка». Наш ребенок. Наша дочка. Они убили ее, а я стала соучастницей этого убийства, так как не нашла сил бороться.
Неудивительно, что в этой второсортной клинике и при большом сроке беременности, когда можно было установить пол ребенка, меня искалечили на всю жизнь. Но гораздо сильнее эта ужасная процедура повлияла на мою душу, истерзанную чувством вины.
Внешне жизнь шла своим чередом. Я была молода и хотела только одного — поскорее забыть случившееся. Видкун тоже очень старался отвлечь меня, как только я почувствовала себя достаточно хорошо. Он проводил часть дня в норвежской дипломатической миссии и в разных советских правительственных учреждениях. Когда у нас были свободные вечера, мы делали то же, что и все туристы — ходили в московские театры, известные всему миру своими превосходными спектаклями, своим новаторством.
В то же время я сумела убедить себя, что не должна возвращаться к мыслям о нашем ребенке. Я хорошо проводила время с Видкуном, жила в достатке — нужно радоваться этому. У меня все еще был муж, значит, будут другие дети. И вскоре я буду в Харькове с мамой и моими друзьями!
Когда мы уехали из Москвы, там еще было холодно, шел снег. Погода в Харькове в начале марта была не намного лучше, но воздух в моем родном городе был более влажным из-за тающего снега, пахло весной — запах такой знакомый и близкий сердцу.
Водитель сразу повез нас к зданию Помгола, где мы должны были занять прежнюю комнату Видкуна наверху. У меня было странное чувство от этого возвращения в дом, где совсем недавно я работала телефонисткой. Теперь я стала привилегированной иностранкой, защищенной норвежским паспортом от российских неурядиц. Поразительной была сама возможность поселиться на верхнем этаже, в той части здания, куда допускались только иностранцы.
Нас встретили две женщины, которые работали прислугой у Видкуна раньше, когда он еще был холостяком. Полная латышка с заискивающей улыбкой была кухаркой, а огромная русская крестьянская девушка, которую звали Катей, была горничной. Вскоре мы сели ужинать, но я очень нервничала, поэтому не притронулась к еде. Как же я могла сидеть за столом, когда мама была в нескольких кварталах отсюда? Видкун извинился, что не может пойти со мной повидать маму. Он сказал, что у него накопилось много срочной работы, но он не имеет ничего против того, чтобы я сама навестила маму.
Я не хотела обременять маму лишними хлопотами и приготовлениями, поэтому не сообщила ей, когда точно приеду в Харьков. Но вскоре я узнала, что ожидания истомили ее еще больше, так как она ждала меня с минуты на минуту с тех пор, как впервые услышала о нашем приезде.
За месяцы, проведенные за границей, я успела позабыть ужасные перемены, принесенные войной и революцией. Теперь, когда я вошла в свой старый дом, я буквально застыла на месте, почувствовав тяжелый запах, — запах нужды, грязи и безнадежности. Я нашла маму в ее комнатушке. Ей было едва за сорок, но жизнь безжалостно состарила ее. И хотя, увидев маму, я вдруг ощутила, будто я никуда и не уезжала, я не могла не заметить, как она изменилась за время моего отсутствия. У нее был изнуренный вид, из-за худобы мамины большие серые глаза казались еще больше, но они оставались такими же серьезными и внимательными, как всегда. Те, кто не был знаком с ней близко, считали маму гордой и высокомерной, но ее близкие друзья знали, какая у нее была чуткая и добрая душа, скрывавшаяся за этими серыми и иногда строгими глазами.
Когда я вошла, она сжала руки и затем обняла меня, безутешно плача, покачивая меня из стороны в сторону. У меня пересохло в горле, и я почувствовала такую тяжесть в груди, что стало трудно дышать. Я хотела плакать, но не могла. Я чувствовала, что туго сжатая пружина в моем горле от любого малейшего движения может вдруг распрямиться, и тогда мое сердце лопнет, как воздушный шар. Когда этот первый напряженный момент прошел, я поняла, что помощь нужна маме, а не мне. Я медленно подвела маму к кровати и поудобнее усадила ее, потом села с ней рядом.
«Наконец-то ты вернулась, доченька моя, вернулась домой, но Бог знает, какой это дом сейчас. Все разрушено, все пропадает и повсюду кошмар. Что же я могу сделать, чтобы радушно принять тебя? У меня осталось только одно сокровище — ты, моя маленькая девочка. Теперь я неспособна ничего для тебя сделать и ко всему прочему случилось несчастье, разрушившее все мои приготовления». Затем она рассказала мне, что прогнившая рама застекленной крыши провалилась под тяжестью накопившегося мокрого снега. Все было покрыто битым стеклом и грязным тающим снегом, комната сразу же превратилась в холодильник. Мама очень волновалась, что я могу прийти в любой момент и застать ее в таком положении. Наконец ее друзья помогли ей поправить раму, и нашли для нее стекло. Работа была сделана неумелыми руками и из тех материалов, которые были под руками, так что потолок протекал и пропускал холодный воздух, но мама все-таки смогла вычистить комнату и натопить ее к моему приезду.
Когда я слушала рассказ моей несчастной матери, живущей в жалкой комнатенке, жалость и стыд охватили меня — стыд от того, что я кичилась своим беспечным существованием в упорядоченном западном мире. Я успела позабыть, какой жуткой была жизнь тех, кто остался в России. Я уже успела отвыкнуть от грязи, запущенности и беспорядка.
Я чувствовала себя совершенно беспомощной, сидя с мамой на кровати. Как я могла быть полезной для нее, если я даже не посмела попросить своего мужа пойти со мной навестить маму хотя бы из уважения ко мне, если не по какой-то другой причине? Я разрывалась на части между мамой и моей любовью к Видкуну. Но мои чувства к этому человеку, с которым я намеревалась прожить всю оставшуюся жизнь, препятствовали моему негативному отношению к нему.
Мама осведомилась о Видкуне. Я заверила ее, что он чувствует себя прекрасно, но слишком занят, чтобы прийти сегодня вечером. Чтобы избежать дальнейших вопросов о его отсутствии, я объяснила, насколько мой муж был занят, и мама была слишком деликатна, чтобы мучить меня расспросами. Мы знали друг друга слишком хорошо. Но я видела, что она полна сочувствия ко мне. На мгновение мы обменялись взглядами, и мама покачала головой.
«Мне жаль бедного человека. Он только приехал, а они уже загрузили его всей этой работой. Передай ему мой привет». Затем она изменила тему разговора.
Мой стыд и отчаяние усилились, когда я вспомнила, что единственным моим подарком для нее был плед, которым я пользовалась во время путешествия. И вновь мама поняла все без слов. Она взглянула на меня и сказала: «Не волнуйся обо мне, доченька. Я все вижу и понимаю. Будь хорошей и послушной женой. Твое счастье — это самое главное для меня. Я не хочу ничего другого. Положение здесь улучшается. При НЭПе можно заняться частной торговлей и другим предпринимательством. Самое тяжелое время голода миновало, и теперь появилось так много нуворишей, что можно зарабатывать себе на жизнь, работая на них. Я хожу домой к одним богатым людям и готовлю для них куличи — по какой-то причине они любят куличи круглый год. Им нравится моя выпечка, они платят за мою работу, и я там даже обедаю. У меня все хорошо, так что не волнуйся обо мне». Но ее попытки успокоить меня еще больше расстраивали меня.
Когда я вернулась домой, наша кухарка и горничная уже ушли. Видкуна тоже не было дома, и я решила, что он пошел на вечернюю прогулку. Он, очевидно, распаковал наш чемодан с постельными принадлежностями до того, как ушел, так как наши кровати, которые я попросила поставить в разных концах комнаты, пока я выздоравливала после аборта, уже были расстелены на ночь. Я начала раскладывать свои вещи в комод в нашей огромной спальне. Видкун вскоре вернулся после прогулки, как я и предполагала, но она прошла не совсем благополучно. Как только он вошел, начал ругать Россию и советские порядки.
«Черт знает, как они могут жить в таких условиях! Нет уличного освещения и вокруг кромешная тьма; тротуарные доски прогнили; снег не убран. Я наступил на гнилую доску, запорошенную снегом. Она поломалась, и я провалился по колено в ледяную воду! Удивительно, что я ногу не сломал».
Я полностью разделяла его возмущение. Даже я, привыкшая к таким условиям в России до отъезда за границу, была поражена увиденной по возращении грязью и запущенностью. У меня было мало причин для оптимизма, особенно потому, что все более частые сообщения об ухудшении здоровья Ленина беспокоили меня тем, что мы, возможно, скоро станем свидетелями еще одной борьбы за власть. Мне казалось, однако, что Видкун не разделял моих опасений. Сначала он выражал презрение и отвращение к существующим условиям в России, но вскоре его взгляды радикально изменились[81]. Он начал защищать новый порядок Ленина и возражал, когда я высказывала свое недовольство.
«Ты должна понять, что такой полный хаос — это результат того, что вся страна была перевернута вверх дном для того, чтобы избавиться от ненавистного старого образа жизни. Невозможно установить новую систему за один день. Это займет много времени, но это им в конце концов удастся, я уверяю тебя. Я убежден, что они установят замечательный новый порядок».
Глава 15. СНОВА ПЕРЕМЕНЫ И НОВЫЕ ВЕЯНЬЯ
Заметки Кирстен Сивер
Советские власти в Харькове держали Квислинга под постоянным наблюдением и, возможно, знали о его деятельности и личности даже больше, чем Александра. Кухарка и горничная, которых назначили к одиноко живущему Квислингу в 1922 году и которых навязали ему и Александре в 1923 году, не были усердными служащими. Однако они держали под постоянным надзором эту семью. Поэтому с того времени, как Александра и Квислинг вернулись в Харьков, Башкович был осведомлен о самых интимных деталях их семейной жизни. Это также стоить иметь в виду при чтении последующих глав.
Александра и Видкун, очевидно, знали, что кухарка и горничная следят за ними. Даже при этом можно предположить, что Квислинг не знал о степени усердия его прислуги в делах, совершенно далеких от ведения домашнего хозяйства. Л. Т., которая продолжала работать в пункте распределения посылок до августа 1923 года, сказала, что как только Александра с Квислингом вернулись в Харьков, кухарка, заламывая руки и со слезами на глазах, говорила всем, кто слушал ее, что это был ужасный брак: Капитан попросил постелить ему в гостиной!
Александра, рассказывая о своем аборте в Москве и о своей первой ночи после возвращения в Харьков, тоже упоминает это. Она заметила, что кровати, которые она попросила поставить в разных концах спальни, были уже застелены. Женщины обычно избегают интимной жизни, оправляясь после родов или аборта. Нет причин думать, что Квислинг не понимал этого, но ведь кухарка и другие люди в Харькове ничего не знали об аборте. Сплетники, включая работников в отделе посылок, безусловно, предполагали, что Квислинг страдал из-за отсутствия интимных отношений с женой.
Рассказ Александры
С того времени, когда я вернулась в Россию, у меня стали появляться противоречивые чувства, недоумение, которые я пыталась не анализировать, но которые все же проникали в мое сознание. С одной стороны, я была действительно счастлива, что могу снова быть с мамой и моими друзьями, что у меня есть возможность читать русские книги и говорить на родном языке со всеми окружающими и в то же время наслаждаться жизнью замужней дамы. С другой стороны, я вкусила все удовольствия от жизни на Западе, с его свободой и удобствами, так похожими на те, к которым я привыкла с раннего детства. Поэтому ужасные условия в Советской России казались невыносимыми, и я не могла себе представить, что смогу прожить здесь всю оставшуюся жизнь, но я также не могла думать о том, что оставлю маму и свою родину навсегда. В дополнение к этому я все больше понимала, что, несмотря на возрастающие трудности в России, все мои друзья сохранили некоторую степень независимости в выборе того, чем дальше заниматься в жизни. Они строили планы, продолжали свое образование, повышали свое мастерство в балете и музыке. Очевидно, они завидовали моему положению, но мне иногда казалось, что в невыгодном положении, напротив, оказалась я. Мое замужество заставило меня отказаться от мечты стать балериной, и Видкун не хотел, чтобы я завершила свое образование.
Я согласилась с его желаниями и решила посвятить себя нашей семье, но все вышло не так, как я хотела. Мои тяжелые переживания в Москве ясно показали, что Видкун не хочет детей в ближайшем будущем и совершенно не считается с моими чувствами. Когда я поняла его отношение к детям в целом, мне стало ясно, что, возможно, он не захочет быть обремененным ими никогда. Когда я об этом думала, моя жизнь показалась мне бесцельной.
Что бы мы ни заказывали на обед на следующий день, наша кухарка не возражала. Она просто стояла с поджатыми губами и загадочной улыбкой и слушала, а затем без каких-либо объяснений готовила на обед те же самые два блюда — окрошку и жареную курицу. На ужин у нас был холодный бульон или еще раз окрошка с остатками холодной курицы. По сравнению с тем, что ели другие люди, мы были в более завидном положении, но Квислинга раздражало однообразие. Он громко восклицал, что за все время, которое он пробыл в Харькове, он не ел ничего другого. Мы оба пытались узнать причину, по которой наша кухарка так упорно готовила только эти два блюда, и надеялись, что она наконец станет разнообразить наше меню. После нескольких безуспешных попыток изменить привычки нашей кухарки, Видкун решил, что на нее может повлиять только его авторитет и строгая военная дисциплина. Он вызвал ее к себе и категорически приказал начать готовить что-нибудь другое. С руками, скрещенными на ее большом животе, она молча выслушала его наставления и удалилась, как всегда, с одной из ее неизменных загадочных улыбок. На следующий день мы снова ели окрошку и жареную курицу. Мы поняли тогда, что ее упорство преодолеть невозможно, и смирились с нашей кулинарной участью. Я просто не знала, что она будет готовить зимой, когда не будет ни кур, ни свежих овощей.
Катя, наша горничная, создавала дополнительные трудности. Усердно работая, она постоянно и с азартом чистила весь второй этаж. Так как мастику для натирания полов невозможно было достать, она вместо этого мыла полы так часто и так тщательно, что они не успевали полностью высохнуть.
Особенно плохо было в нашем полутемном коридоре, где из-за постоянной влажности завелись многоножки. Я проводила так же много времени в борьбе с ними, как и в борьбе с Катей.
Кроме мытья полов, Катя практически ничего не умела делать. Я часами пыталась научить ее прислуживать за столом, но она или не хотела, или не могла научиться этому, несмотря на то, что встречала все мои предложения с энтузиазмом и возгласами радости. Катя не была способна накрыть на стол даже для простого обеда. Я была полностью ответственна за наведение порядка в этом хаосе, так как Видкун просто ел, не обращая внимания на происходящее вокруг него. Из своего предыдущего опыта он знал, что эту прислугу невозможно чему-либо научить, также бесполезно пытаться заменить ее кем-либо другим, поскольку все его прежние попытки просто игнорировали. Мы оба не сомневались, что настоящей причиной наших проблем с прислугой было то, что они не являлись кухаркой и горничной, а были рядовыми агентами секретной полиции, и в их задание входило держать нас под постоянным наблюдением. Мы не возражали против этого, поскольку нам нечего было скрывать, но мы хотели, чтобы к нам назначили людей, способных выполнять их фиктивные обязанности по дому.
Наибольшим недостатком Кати была склонность к воровству. Видкун уже знал об этом прежде и предупредил меня, как только мы вернулись в Харьков.
«Я думаю, что несчастная девушка не имеет представления, что это преступление — брать чужие вещи без разрешения, — объяснял он. — Сейчас их учат, что богатых людей больше нет, и все принадлежит простому народу. Катя замечает, что у нас много вещей, которыми мы редко пользуемся, и не видит причин, почему она не может взять их себе».
Мы вскоре начали запирать наши вещи в чемоданах и сундуках, так как многие мелкие вещи стали исчезать из дома — платки, ленты, носки Видкуна, мои блузки и тому подобное. Мы не очень волновались из-за этого до тех пор, пока я не увидела свои ленты у Кати в волосах и носки Видкуна на ее ногах. Но я старалась не концентрироваться на этом, а наслаждалась жизнью дома, в России. Кухарка и горничная, приставленные к нам советскими властями, сводили нас с ума с первых дней нашей жизни в Харькове, но все равно у меня было достаточно много свободного времени.
Причинами плохого настроения Видкуна было не только недовольство прислугой. Несмотря на выражаемое им восхищение советской системой, он никак не мог привыкнуть к русским привычкам опаздывать на несколько часов или забывать о встречах. Его приводили в отчаяние опоздания и халатность, что в то время было обычным явлением среди членов партии любого ранга. Так же, как и в предыдущем году, высокопоставленные чиновники могли назначить встречу с Видкуном на восемь часов, а появиться около десяти или вовсе не прийти без предупреждения и указания причины. Мой бедный муж возвращался домой очень расстроенный, начинал ругать русских и их манеры, не успев переступить порог дома.
Я терпеливо слушала рассказы Видкуна о всевозможных препятствиях, которые советские власти создавали на его пути, как будто они хотели показать этому иностранцу, что Россия не нуждается в помощи извне и не намерена выражать благодарность. Но сейчас я понимаю, что чиновники иногда обходились с Видкуном таким образом, чтобы поставить его на место. Эти же самые чиновники были очень внимательны и любезны с нами на официальных приемах и вечеринках, на которые мы должны были ходить. Они с уважением целовали мою руку, казалось, совершенно не обращая внимания на то, что совсем недавно я была девушкой, которая находилась на самой нижней ступени их бюрократической лестницы. Имена этих людей, известных всему миру, и их огромная власть тогда ничего не значили для меня. Я избегала официальных встреч при любой возможности и проводила большую часть своего времени в милой компании моих друзей детства.
Глава 16. ПОЯВЛЕНИЕ МАРИИ
Заметки Кирстен Сивер
Мария Пасешникова сообщила своему биографу, норвежскому журналисту Эйстайну Парману, что впервые увидела Видкуна Квислинга в 1923 году в Харькове. Она работала телефонисткой в конторе Помгола, как-то раз столкнулась с начальником в дверях, и на секунду их взгляды встретились. «Это судьба», — сказал ей тогда ее внутренний голос[82].
Или Мария не говорила правду, или Квислинг был исключительно талантливым актером, но он не показал виду, что знает Марию, когда Александра впервые упомянула ее при определенных обстоятельствах, о которых она расскажет в этой главе, и позже он не указывает, что узнал Марию как служащую Башковича.
Архивные материалы подтверждают, что Мария работала с Башковичем в Помголе не только в 1923, но и в предыдущем году, когда Башковича назначили полпредом Помгола. Их контора располагалась не в том здании, где работала Александра до того времени, как вышла замуж за Квислинга и уехала из Харькова в конце августа 1922 года. Среди личных бумаг Марии есть рекомендательное письмо, написанное для нее Башковичем при официальном закрытии Помгола 13 июля 1923 года, где отмечалось, что Мария работала в его организации с 8 мая 1922 года[83].
Александра была совершенно уверена, что ни разу не видела Марию и Башковича ни весной, ни летом 1922 года. До сентября 1923 года она не знала, что Башкович продолжал работать в Помголе в Харькове. Неутомимые сплетники на втором этаже «старого» Помгола тоже не могли ничего сказать о Марии Пасешниковой и ее деятельности в Помголе. Несмотря на то, что Л. Т. подтверждала, что Мария получила прежнее место работы Александры на коммутаторе весной 1923 года, она отрицала, что знала Марию лично или что-либо о ней.
Как станет ясно из рассказа Александры в этой главе, она узнала о существовании Марии вскоре по возвращении домой в 1923 году. О длительном и тесном сотрудничестве Марии с Помголом и Башковичем ей стало известно только через несколько лет после смерти Марии.
Среди личных бумаг, найденных после смерти Марии, был документ, показывающий, что когда Александра познакомилась с ней, Мария сожительствовала с мужчиной, которого звали С. И. Носков. Кроме того, есть документ от 18 октября 1922 года, подтверждающий, что «Пасешникова Мария Васильевна, пролетарского происхождения» получала зарплату 10 разряда за работу в Помголе, и что на ее содержании находилась нетрудоспособная престарелая мать и младшая сестра в возрасте десяти лет.
Рассказ Александры
Мои ближайшие друзья Кедрины вскоре услышали о моем приезде и ждали с нетерпением моего рассказа о заграничной жизни. На следующий день после моего возвращения я отправилась к ним в гости. Нина с матерью были дома, их отец все так же сидел в кресле, глядя в пространство. Я сразу же позабыла обо всем, чему учил меня Видкун — о сдержанности, присущей хорошо воспитанной леди, и отдалась этой радостной встрече со слезами и объятиями, с возгласами радости, что повторилось с появлением сестер Нины несколько позже.
Я провела большую часть того дня у Кедриных, а потом виделась с Людмилой и Ниной почти каждый день, пока была в Харькове, поскольку они обе все еще работали в Помголе этажом ниже нашей с Видкуном квартиры. Они наведывались ко мне, когда у них было несколько свободных минут во время обеденного перерыва или когда им удавалось немного раньше освободиться с работы. Мы все знали, что мы с Видкуном недолго пробудем в России, и вскоре нам, видимо, придется распрощаться навсегда.
Через несколько дней после нашего приезда в Харьков Видкун, наконец, выразил желание повидаться с моей мамой. Я не сказала ей заранее об этом визите, потому что не хотела лишний раз ее беспокоить, зная, что при любых обстоятельствах она будет учтивой, спокойной и приветливой.
Вечером мы с Видкуном пошли к ней. Снег на крыше дома уже оттаял, и через окно в потолке маминой комнаты лучи заходящего солнца, смешанные с синеватым отблеском вечернего неба, заполняли комнату необыкновенным светом. Экономя, мама еще не зажгла лампу. Она пыталась разжечь огонь в своей печурке, используя сырые щепки, когда мы с Видкуном вошли. Поцеловав меня, она приветливо поздоровалась с моим мужем и усадила его в наше старое кресло-качалку. Это кресло и старая книжная полка — все, что осталось от нашего старого дома и папиного кабинета. Когда-то я так раскачалась в нем, что кресло перевернулось, я вылетела из него и очень ушиблась, чем взволновала маму.
Я была настолько поглощена своими воспоминаниями и мечтами, что пропустила большую часть разговора Видкуна с мамой. Вскоре он встал, готовясь уйти: «Извините, пожалуйста, но мне нужно идти. Но ты, Александра, можешь остаться с мамой, если хочешь. Я был очень рад повидаться с вами, и уверен, что скоро зайду к вам снова». Поклонившись маме, но не улыбаясь, он ушел. Я спросила маму, о чем они говорили.
«А ни о чем, — ответила она. — Но он был очень вежлив, и… и… Боже мой, почему он такой холодный и неприступный?!».
Испугавшись сказанного, она поспешила найти этому причину. «Конечно, у него так много забот. Какой он хороший человек, ведь он помогает русским в такое тяжелое время».
Я тоже была уверена, что мой муж — замечательный человек, но в душе я знала, что у него были свои сильные убеждения, из-за которых он не хотел признавать такие проблемы, как тяжелое положение моей мамы.
Видкун по-прежнему не давал мне денег на личные расходы, и я не хотела просить их у него, поэтому мне нечего было взять для мамы, когда я ходила к ней. Совершенно незнакомые люди, считая, что у меня появились влияние и связи, приходили ко мне за помощью, но мама никогда не жаловалась и ничего не просила у меня. Я понимала, что у меня хороший дом и всегда было достаточное количество еды для того, чтобы поделиться с друзьями, которые ежедневно приходили ко мне. Мама же терпеливо ждала меня в своей комнате и дорожила каждой минутой, которую я могла провести с ней.
Мама понимала, что мы недолго пробудем вместе, поэтому не сводила с меня своих больших серых глаз, как будто хотела запечатлеть меня в своей памяти. И хотя она была уравновешенной и оптимистичной по натуре, она часто говорила мне, чтобы я была осторожной, словно знала о какой-то грозящей мне опасности.
В конце концов я узнала о причине ее беспокойства.
Мой отъезд из России в качестве жены капитана Квислинга вызвал зависть и ненависть у тех людей, которыми была переполнена наша старая квартира и наш район. Эти люди, включая нашу бывшую прислугу, постоянно донимали маму злобными замечаниями. Они намекали на то, что мой брак с Квислингом был не слишком завидным, поскольку он не мог быть офицером норвежского Генштаба, и, скорее всего, был простым офицером Армии спасения, посланным помочь голодающим. А если он действительно норвежский армейский офицер, то ясно, что он международный шпион, посланный в Россию странами Антанты.
Мама пыталась не обращать внимания на эти провокации, и никогда не упоминала о них, когда писала мне, так как не хотела беспокоить меня. Но в один прекрасный день после некоторого колебания мама рассказала, что к ней приходила женщина, которая знала меня с детства.
«Ты, вероятно, не помнишь ее, — сказала мама. — Ее фамилия Пасешникова. До революции она несколько дней в неделю помогала нам в прачечной и на кухне».
Я едва ее помнила, но Пасешникова, очевидно, благодаря нашим соседям, знала о маме и о моем замужестве, а также о том, что мы недавно вернулись из Норвегии. Она пришла к маме с просьбой помочь ее дочери Марии получить место на службе в Помголе, где я работала до того, как вышла замуж. Пасешникова жаловалась, что они с дочерью живут в нищете, и настаивала, чтобы я использовала свое влияние и связи для помощи им.
Рассказывая мне об этом, мама была явно недовольна. Она не только считала неуместным беспокоить моего мужа такими просьбами, но и была возмущена той манерой, с которой Пасешникова обратилась с этой просьбой, намекнув, что если ее происхождение и связи станут кому-то известны, то маму ожидают неприятности.
Не только Пасешникова и ее дочь знали о мамином происхождении, но и многие другие люди помнили, что последний, назначенный царем, генерал-губернатор Харьковской губернии Катеринич был родственником мамы. И если бы эти сведения стали достоянием властей, то всех наших родственников, оставшихся в России, ожидала бы смерть. Мама имела основания для беспокойства.
«Хорошо, я спрошу у Видкуна, можно ли что-нибудь сделать для этой девушки, — сказала я. — Но для этого я хотела бы увидеть ее сама». Мария Пасешникова не заставила себя долго ждать. Она явилась, когда у меня были гости. Мария была высокой смуглой женщиной примерно тридцати лет, с черными волосами и большими темно-карими глазами, что характерно для людей восточного типа, но у нее была типично русская фамилия. Она была на семь-десять лет старше меня, и я смутно помнила, что видела ее несколько раз на кухне у родителей, когда она приходила к маме. Несмотря на это, я приняла ее как всех своих гостей и представила своим друзьям. Я не хотела, чтобы недавнее наглое поведение ее матери повредило нашим отношениям.
После нескольких минут беседы о дореволюционных временах, Мария (или Мара, как она предпочитала себя называть) сказала о своем желании получить место телефонистки на первом этаже в Помголе. После того, как я пообещала, что сделаю все возможное, я ожидала, что она уйдет, но она осталась, слушая наши разговоры и изредка присоединяясь к ним. Как только Видкун вернулся домой, я рассказала ему о визите Мары и попросила его помочь устроить ее на работу, если это возможно. Конечно, я ничего не сказала о том, что старшая Пасешникова угрожала моей матери. Видкун сказал: «Не понимаю, зачем ты вмешиваешься в такие дела». Я продолжала его просить: «Как же я могла отказать им? Они живут в такой нищете, эти люди голодают. Они находятся в полном отчаянии. Прошу тебя, посмотри, что ты можешь сделать для них». Видкун пожал плечами и пообещал поговорить с кем-нибудь, кто занимается наймом служащих.
Таким образом, Мара была принята в Помгол на мою прежнюю должность телефонистки на коммутаторе. Несколько дней спустя, когда она начала работать там, она снова пришла повидать меня, на этот раз, чтобы выразить благодарность. Я была рада, что Маре нравилась ее новая работа, и она оказалась довольно-таки порядочным и приятным человеком, но разговаривать с ней было нелегко, потому что ее совершенно не интересовали ни поэзия, ни литература, ни балет. Она была очень практичной женщиной, слишком озабоченной своим внешним видом, едой и другими материальными вещами. Но все же она хотела присоединиться к кругу моих друзей. Когда она заходила ко мне, то обычно заставала кого-то из моих подруг-сестер Кедриных, девушек из моей гимназии или балетной школы, либо нескольких дам из Помгола, с которыми я раньше работала, иногда мальчиков Колю Шатохина или Йосю Борца.
Мара была старше меня и моих друзей, и мы мало знали о ней — где она училась, какие у нее планы и интересы, замужем ли она и есть ли у нее дети, бывала ли она где-то, кроме Харькова. Она о себе ничего не рассказывала, да мы, по правде сказать, и не особо интересовались. Знали только, что она живет с матерью в маленьком домике на Холодной горе — это был даже не район города, а стихийно возникший трущобный поселок за сортировочной станцией. Холодной горой его прозвали за то, что тут всегда дул пронизывающий ледяной ветер. Здесь обитали воры, пьяницы и всякие отбросы общества. Здесь же находилась старая городская тюрьма, которую теперь стали использовать чекисты. Мне и моим друзьям было жаль Мару, которой пришлось жить в таком месте.
Глава 17. РУССКИЕ СОКРОВИЩА В КРЫМУ
Заметки Кирстен Сивер
Через два года после смерти Марии кто-то из коллекционеров передал университету в Осло письма Квислинга, которые он писал своей семье, когда Александра была в Крыму[84]. В конце письма к Арни (который в то время, очевидно, был в Париже) 27 мая 1923 года он писал следующее:
«Ася шлет тебе привет из Крыма. Она находится там с середины апреля, в Харькове она пробыла только две недели. Это, конечно, чудесное место, совсем как на Ривьере, и я надеюсь, что это пойдет ей на пользу. Я думаю выехать домой в конце августа, но не могу сказать точно когда».
Своим родителям он писал следующее 1 июня:
«Александра в Крыму уже второй раз в этом году. Она была там несколько недель в апреле, навещая свою мать, а потом вернулась в Харьков. Позже украинский Красный Крест открыл там санаторий для сестер милосердия, и они пригласили Александру провести время там, чего она очень хотела. Поэтому сейчас она снова в Крыму и, возможно, останется там еще на несколько недель».
Квислинг был прекрасно осведомлен, что мать Александры жила в Харькове все это время. Он также отлично знал, что Александра со времени их приезда не покидала Харьков до того, как он отправил ее в Крым вместе с Ниной и матерью Александры в мае 1923 года. Любопытно, почему он счел нужным давать своим родственникам фальшивую информацию во время ее отсутствия? Хотя по крайней мере одна из возможных причин появится позже.
Рассказ Александры
Капитан посоветовал, чтобы я взяла маму с собой, поскольку для нее будет гораздо лучше поселиться в Крыму, где все ей было знакомо и где до сих пор жили многие наши друзья. Мама в конце концов согласилась. Но, как я понимаю теперь, она даже не пыталась спорить, а считала, что нужно делать то, что ей говорят дочь с зятем. Во всяком случае она знала, что будет со мной. Мама собрала свои немногочисленные вещи. Старую мебель она подарила друзьям, некоторые вещи продала или обменяла на что-то. Видкун сказал, что все для нас устроит, закажет билеты. Мы с Ниной собрали свои чемоданы. Я даже не помню, на какой машине мы ехали и кто нас отвозил, помню только, как приехали на вокзал.
Я была в восторге, что со мной мама и Нина и что мы вместе едем в путешествие. Я была очень счастлива, казалось, что все хорошо — вот и Видкун тоже уезжает по делам, поэтому я все равно была бы одна в знойном летнем Харькове. Но когда мы прибыли на вокзал, оказалось, что у нас с Ниной билеты в отдельное купе первого класса, а у мамы почему-то билет на спальное место в другом конце поезда. На мой изумленный вопрос Видкун ответил, что в первом классе не было больше мест. Маму это очень обидело, но чтобы не вызывать никаких споров и разногласий между мной и капитаном, она не подала вида, что ее это расстроило. Она ушла в свой вагон, очень мило простившись с Видкуном и пожав ему руку. Мы тоже попрощались с капитаном, и наш поезд вскоре тронулся. Я на каждой станции бегала к маме, сидела у нее в вагоне, но это было очень неудобно. Мы с Ниной были молоды, поэтому нас все интересовало, нам было весело вместе, и мы с удовольствием ехали в этом вагоне первого класса, в отдельном купе. Из Харькова в Севастополь нужно было ехать примерно 18 часов. На следующее утро, проснувшись, Нина сказала мне: «Как жаль, что это чудесное путешествие подходит к концу! Я уже так привыкла ехать в этом вагоне, здесь так удобно и красиво, что я осталась бы в нем на всю жизнь».
Наконец мы приехали в Крым. Когда мы подъехали к станции Джанкой, стало пахнуть знойным летом. В Харькове была просто жара, а тут слышалось соленое дыхание все еще далекого моря, приятно пахло кипарисом и травами, росли магнолии, все дорожки на вокзалах были засыпаны ракушками и желтым песком. Мы вышли в Севастополе, где нас встретил какой-то господин, который внешне был похож на итальянца или француза, в белом костюме, темноволосый, с тонким лицом и черной остренькой бородкой, в пенсне, с виду очень интеллигентный, с изящными манерами. Ему было за 40, но нам с Ниной он тогда показался стариком. Он представился как Николай Иванович, и мы узнали, что он получил распоряжение поселить нас на несколько дней в Севастополе до отхода автомобиля, на который собирали других туристов, а маму почему-то сразу же отправили в Ялту через Симферополь. Она уехала, и мы остались с Ниной вдвоем.
Николай Иванович привез нас в какой-то прелестный, очень красивый дом, который был расположен на горе. Там была веранда, густо увитая диким виноградом, может быть, даже не диким, а настоящим виноградом, повсюду зелень, масса цветов, кипарисы и желтый песок. В доме жила целая семья: муж с женой и взрослые дети. Они дали нам с Ниной комнату, в которой мы жили несколько дней до отъезда в Ялту. Этот человек с такой любовью и рвением хотел показать нам все окрестности, сделать для нас что-то приятное. Мы только потом сообразили, что он, вероятно, просто увлекся двумя молодыми женщинами, ухаживал за нами и был таким кавалером. Он приносил нам цветы, возил нас по городу в коляске, запряженной лошадью, показывал знаменитый Приморский бульвар. Мы сидели на скамеечках на бульваре недалеко от моря в небольшой компании и очень весело проводили время. Платить ни за что не нужно было, так как все, очевидно, заранее было оплачено, нам не надо было ни о чем заботиться, кормили нас хорошо. Когда мама уехала в Крым, Николай Иванович сказал, что ее там прекрасно устроят и чтобы я не беспокоилась.
До того как я уехала, капитан дал мне указания: «В Крыму очень много антикварных магазинов и маленьких лавочек, торгующих всякими замечательными вещами, которые беженцы, белые офицеры, уезжая, продавали за бесценок или бросали в Крыму». Я не имела представления, что нужно покупать и где, но капитан дал мне денег на это, сказав: «Купи украшения, которые покажутся тебе красивыми или ценными, либо купи ковры». Если меня просят что-то сделать, я всегда стараюсь выполнить просьбу, особенно если меня просит Видкун. В Севастополе, однако, я не нашла ничего подходящего. А вот в Ялте были маленькие магазинчики, о которых говорил капитан. Мы с Ниной зашли в один такой магазинчик. В нем царил полумрак, было прохладно, после жары там приятно было находиться, слегка пахло сыростью. Я помню, что продавец поразился, когда увидел у меня на руке часы, которые мне подарил мой свекор, отец Видкуна. Это были золотые часики с черной ленточкой на застежке. Продавец все восторгался ими: «Боже мой, какая новая мода сейчас, я еще не видел такого, дайте мне, ради Бога, посмотреть на эту ленту, как красиво, ах, как изящно». Вот у него я тогда купила жемчужное ожерелье: три или четыре нитки настоящего жемчуга с такой застежкой, что из него можно было и брошку сделать. Там продавались большие бриллианты, изумруды и еще какие-то драгоценные камни. Я также купила огромный ковер. Не помню, каким образом мы его потом довезли, может быть, капитан велел этому человеку, который нас сопровождал, чтобы он отправил ковер поездом. Это был громадный персидский ковер, великолепного качества и потрясающей красоты. Когда мы приехали домой в Норвегию, то даже не смогли вместить его в одну комнату. В том магазинчике мы приобрели прелестный маленький коврик тончайшей работы: настоящий французский гобелен с фигурой старика или старухи. Также я купила различные фигурки, статуэтки, картины, еще какие-то драгоценности и старинные часы «Брегет», которые Видкун оставил себе. Всех этих вещей я никогда потом не видела и ничего из них не получила.
Но вернемся к тому, как мы ехали. Раньше мы с мамой и папой ездили пароходом, а вот через Байдарские ворота с Ниной и Николаем Ивановичем я ехала впервые. От Байдарских ворот у меня осталось очень необычное впечатление. От Севастополя до Байдарских ворот не было никакой растительности, какая-то лохматая травка, коричневая в щелях скал, повсюду камни, степи пыльные — ничего особенного. Спустя некоторое время, подъезжая к вершине, шофер сказал: «Подождите, граждане, вот сейчас увидите». И действительно, когда мы поднялись на вершину горы, нашему взору открылась великолепная картина. Я никогда в жизни не видела ничего красивее. Невозможно не любить жизнь, увидев это, нельзя не восторгаться Господом Богом, который сотворил это! Человек такого сделать не может. Это была крымская чаша, в которую положили все драгоценности мира, все самые лучшие драгоценности. И до сих пор, когда я вспоминаю об этом, думаю — нельзя не любить мир, нельзя не любить даже плохую погоду, потому что где-то есть вот такая чаша. Здесь было царство ароматов, невиданных птиц, узких дорог, турецких деревень, прилепленных к горам татарских аулов. Здесь открывался вид на мое любимое Черное море.
Нас привезли не в Ялту, а в Алупку, в санаторий. Мы жили в Алупке, и каждый день ездили в Ялту, гуляли, бродили по берегу. Этот санаторий был предназначен, по-видимому, для отдыха и лечения иностранцев. Там была прислуга, кухня, и находился он в Воронцовском парке, недалеко от знаменитого Воронцовского дворца.
На следующий день после приезда мы поехали развлекать маму. Николай Иванович повез нас к ней. Оказалось, что ее хотели поселить в какой-то гостинице, но мама сказала, что не будет там жить, чтобы никто не беспокоился, и поехала к своей знакомой куда-то в старый город. Когда мы нашли маму, она уже как-то устроилась. Мама была несколько ошарашена переездом на новое место, огромными переменами в жизни, к тому же она была не со мной. Может, мой характер был столь эгоистичным, как у многих детей, но я не прониклась этим страшным одиночеством мамы, которая ради меня же оторвалась от всего привычного и переехала в Крым. В это время мы с Ниной жили весело и комфортно в своем санатории в Алупке. Каждый день ходили на пляж купаться. Пляж был, правда, не песочный, но мы загорали и лежали прямо на плоских, отшлифованных волнами, красивых камнях. Это был не залив, а открытое море. Мы также ездили на пикники, ходили пешком на самую высокую гору Ай-Петри. Мы часто ходили пешком. До революции там люди ездили верхом на лошадях.
Хотя мы обе были так счастливы и всем довольны, я все-таки скучала по Видкуну. Когда пришло время возвращаться в Харьков, я сожалела только о том, что надо расставаться с мамой. Я попросила Николая Ивановича присматривать за ней. Также я дала ему небольшую сумму денег на всякий случай, и он пообещал мне, что мама будет в хороших руках. Остальные деньги, которые я сумела сберечь, я отдала маме. Но это была мизерная сумма. Мама уверяла меня, что справится со всем сама, но было видно, что наша приближающаяся разлука ее очень расстраивала. Чтобы побыть со мной подольше, она решила ехать со мной и Ниной до Севастополя. Там мы втроем провели некоторое время в семье Николая Ивановича, пока он не уехал по своим делам.
Чтобы немного подбодрить маму, я говорила ей, что скоро вернусь. Она всегда мне отвечала на это: «Не беспокойся обо мне, я знаю, что все будет хорошо. Ты моя умница, моя хорошая девочка. Береги себя». Она не плакала, а просто смотрела на меня, как будто хотела написать мой портрет, брала мою руку в свои маленькие ладошки и прижимала к сердцу. Она говорила очень мало, но ее лицо было бледнее обыкновенного, и она вдруг стала выглядеть намного старше.
Когда настал час разлуки, мы вели себя так же, как и все люди в таких обстоятельствах. Мы глупо повторяли бессмысленные фразы и теряли время вместо того, чтобы сказать или сделать что-либо, что могло бы изменить ход событий или по крайней мере осознать эту страшную боль разлуки.
Прозвенел первый звонок, возвещавший отход поезда. Мама благословила меня и дала мне маленькую икону до того, как сойти с поезда. Стоя на перроне, она продолжала разговаривать со мной и крестить меня своей трясущейся рукой, пристально глядя на меня. Прозвучал второй звонок, а затем и третий. Кондуктор дал длинный и резкий свисток, поезд дернулся и вновь остановился на несколько нестерпимых секунд, а потом стал медленно двигаться, как гигантская черепаха с оглушительным шумом и печальными стонами.
За окном мама продолжала идти за поездом. К моему ужасу я увидела, что ее лицо покрыто слезами. Она даже не осознавала, что рыдает. Поезд ускорял ход, заставляя идти ее все быстрее и быстрее. Я кричала ей: «Стой, мамочка, стой!» Но она бежала за поездом, обливаясь слезами. Когда она стала отставать от поезда все больше и больше, мне пришлось высунуться из окна, чтобы махать ей. Я видела, как мама добежала до конца перрона и продолжала бежать по камням за поездом. Он набирал скорость, и фигурка моей мамы становилась все меньше. В тот момент мне больше всего хотелось остаться с ней, но мысль о том, что Видкун ждет меня в Харькове, остановила меня. Больше я никогда не видела маму. Трудно было поверить, что она пережила ужасы Второй мировой войны и оккупации, но я все равно надеялась найти ее. И вот почти через сорок лет после нашей разлуки моим друзьям удалось отыскать ее в России. Но было поздно: за несколько недель до этого она умерла, одинокая и слепая, так и не узнав ничего о моей судьбе.
Глава 18. СНОВА ВМЕСТЕ В ХАРЬКОВЕ
Заметки Кирстен Сивер
Мария сказала своему биографу Эйстайну Парману, что после того обмена взглядами с Видкуном, когда он заходил в отдел Башковича, они время от времени встречались в коридорах Помгола. Несколько месяцев спустя они лично познакомились на банкете, который устроил Помгол в честь иностранных благотворительных организаций[85]. Парман получил в свое распоряжение почти все сведения о том, что произошло во время и после этого банкета из записей, сделанных рукой Мары[86]. Собственные записки Мары говорят о том, что «с российской стороны были представители Российского Красного Креста, господин Б., а также представители других российских организаций». «Господин Б.» был ее начальник Башкович.
В этом рассказе о банкете мы нашли подтверждение, что Мария находилась у Башковича на особом положении, так как ее формальная должность телефонистки в Помголе, недавно полученная с помощью Александры и Квислинга, не дала бы ей возможности присутствовать на этом приеме. Вполне возможно, что этот банкет состоялся в то время, когда Александра находилась в Крыму, поскольку 10 мая главное управление ARA в Нью-Йорке получило сообщение от ее московского руководителя, что в Харькове угроза голода уже миновала. А через две недели стало известно из того же источника, что все сотрудники ARA в России должны будут закончить свою работу до 15 июля[87].
Мария сообщила своему биографу, что она, одетая во все белое, сидела на банкете напротив Квислинга. Через некоторое время они стали разговаривать, после чего весь оставшийся вечер Квислинг говорил за столом только с ней. Потом он проводил ее домой, и они долго бродили по берегу реки, беседуя обо всем на свете. Также Мария сказала, что плохо спала в ту ночь. О том, что Квислинг в это время был женат на Александре, Мара даже не упомянула. Этот рассказ Марии об обстоятельствах ее встречи с Видкуном вызывает большие сомнения, за исключением двух непреложных фактов — Мара работала в Помголе и присутствовала на банкете. Как бы то ни было, из Крыма Александра вернулась, не подозревая об отношениях, завязавшихся между мужем и подругой.
Рассказ Александры
По возвращении из Крыма Видкун не встретил меня на вокзале, но послал за мной машину. Мама Нины и ее сестры встретили наш поезд, и я попросила шофера отвезти Нину и ее семью домой до того, как поехала домой сама.
Я столкнулась с Видкуном в коридоре и не смогла сдержать себя, повиснув у него на шее. Необузданная радость встречи с ним снова заставила меня забыть его лекции о том, что он категорически против таких сцен. На этот раз, однако, он поцеловал меня и сказал, что очень рад моему приезду: «Ты сделала это место радостным, красивым и теплым». Я тоже была очень счастлива снова быть дома. Наша солнечная квартира выглядела прекрасно с вазами цветов во всех комнатах, поставленных в честь моего возвращения.
После такого счастливого воссоединения наша жизнь вошла в спокойную, размеренную колею, если не брать во внимание несколько странные выходки нашей прислуги. Я посмотрела на нашу прислугу с тревогой, когда Видкун сообщил мне, что Фритьоф Нансен вскоре приедет в Харьков и будет нашим гостем все то время, которое пробудет в городе со своими сопровождающими. Это будет значительное событие, связанное с окончанием работы Нансена по оказанию помощи голодающим на Украине в середине августа, после чего Нансен должен будет перенести свою деятельность на Балканы.
Отношение Видкуна к Нансену всегда было противоречивым: с одной стороны, он преклонялся перед ним, а с другой, испытывал чувство горькой обиды. Он часто говорил о Нансене и позже очень откровенно писал о нем в письмах ко мне вплоть до того, как наша переписка прекратилась в конце 1929 года. Главным образом он жаловался на недостаточное содействие в поставках необходимых вещей и людей для выполнения его сложных заданий. Кроме того, Видкун чувствовал, что он не получил достаточного общественного признания за достигнутые им цели, хотя Нансен всегда щедро хвалил Видкуна в письмах к нему. С раннего детства я знала о полярных экспедициях Фритьофа Нансена и о его работе вместе с Гербертом Гувером по оказанию гуманитарной помощи, поэтому с большим нетерпением ждала встречи с этим великим человеком. Но я была взволнована, не знала, справлюсь ли я с ролью хозяйки, смогу ли на должном уровне принять таких гостей, поэтому мы с Видкуном почувствовали облегчение, когда Нансен и его сопровождающие по приезде сняли номера в одной из гостиниц, сказав, что пробудут в Харькове всего пару дней.
Тем не менее мы должны были организовать официальный обед у себя дома для Нансена и примерно двадцати других гостей, и даже учитывая мою неопытность, было ясно, что мы едва ли сможем справиться с этим. У нас было недостаточно столов и стульев, скатертей, посуды и столовых приборов для такого количества людей. «Ничего, — сказал Видкун, — сделай, что сможешь. Все понимают, какое здесь положение, и никто не будет нас критиковать». Я взяла на себя обязанности хозяйки с энтузиазмом, и, пользуясь влиянием Видкуна и помощью моих ближайших друзей, стала добывать необходимое. Жена одного из самых высокопоставленных правительственных чиновников подружилась со мной, и, услышав о странностях нашей кухарки, послала своего повара нам на помощь.
Меня представили Нансену сразу же по его прибытии в Харьков, и меня поразила его мрачность и сдержанность. Нас пригласили на большой прием, устроенный в его честь украинским правительством. Это было огромное скучное мероприятие с бесконечными тостами, а также речами, восхвалявшими Нансена и моего мужа, что наполняло меня гордостью. Я думаю, что Видкун тоже чувствовал удовлетворение, но Нансен оставался невозмутимым и серьезным. К счастью, он несколько оттаял во время нашей беседы позднее и задал несколько вопросов о моей семье и о том, как мне понравилась Норвегия. Его вопросы давали понять, что он уже кое-что знал обо мне.
Затем пришел наш черед. Это был первый ужин в честь Нансена во время его визита в Харьков, поэтому Видкун хотел, чтобы Нансен встретился с главами украинского правительства в неофициальной обстановке, а также с некоторыми русскими и американскими представителями, которые содействовали ему в его работе по оказанию помощи. Теперь, когда я знаю, в какой степени Башкович был занят в работе по оказанию помощи в 1923 году, меня удивляет, что его не было на нашем ужине.
На ужин были приглашены только мужчины, и кроме нашей горничной Кати, я была единственной женщиной там. Все прошло благополучно, и впоследствии я получила много комплиментов за хорошо устроенный ужин. Разговор за столом был непринужденным и не прерывался. Даже наш почетный гость — знаменитый, спокойный и крайне сдержанный доктор Нансен, как его всегда называл Видкун, — несколько повеселел, и у него даже появился огонек в глазах. Он рассказал какую-то историю, и, несмотря на то, что она не была особенно остроумной, все слушали его с полным вниманием. Было еще светло, когда гости стали расходиться. Нансен, Видкун и я вышли в сад на прогулку. Я взяла свой фотоаппарат и сделала несколько фотографий Нансена с Видкуном, а Видкун сфотографировал меня с Нансеном. После того, как мы закончили фотографироваться, я, извинившись, вернулась в квартиру, а мужчины продолжали беседовать и гулять в саду. Когда Видкун наконец вернулся один, он с восхищением сказал: «Видишь, какой он интересный и умный — доктор Нансен. Как он умеет вести разговор! И какой он замечательный человек во всех отношениях». Я должна сказать, что позже, в отличие от первого впечатления, он вовсе не казался мне мрачным и напыщенным. На следующий день после ужина у нас дома нам нужно было идти на банкет, устроенный украинским правительством в честь Нансена, который должен быть покинуть Харьков на следующий день. На этот раз Нансен был более приветливым и общался со мной, как со старой знакомой. Нансена и Видкуна снова превозносили до небес за их работу по оказанию помощи. После того, как Видкун перевел короткую ответную речь Нансена на русский язык, он заговорил от своего имени, и я была страшно горда за него.
Глава 19. Я ХОЧУ РАЗВЕСТИСЬ С ТОБОЙ
Заметки Кирстен Сивер
Во время прекращения работы по оказанию международной помощи на Украине местные советские власти, имея некоторые основания, приняли меры предосторожности касательно вывоза ценностей, приобретенных работниками этих организаций по очень низким ценам. Квислинг был далеко не единственным, кто воспользовался возможностью купить ценности, появившиеся в продаже после революции[88]. И это был не единственный случай, когда он использовал свое привилегированное положение для вывоза ценных вещей из Советского Союза. То же самое он делал и в Москве до возвращения в Норвегию в 1929 году[89].
Но неизвестно, занимался ли он этим до 1923 года. Хермод Ланнунг намекает, что Квислинг уже в 1922 году проявлял интерес к русскому антиквариату, пытаясь использовать огромные знания Ланнунга об этом. Но в своей книге Ланнунг несколько небрежно описывает события в 1922 и в 1923 годах, поэтому необходимо использовать этот источник с осторожностью[90].
В любом случае предметы искусства не были куплены Квислингом в Берлине во время инфляции, когда он был там с Арни и Александрой. Он также не был замешан в судебном процессе в 1920 году по обвинению Сигурда Ставсета в том, что члены норвежской миссии в Петрограде, наряду с другой деятельностью, занимались торговлей сокровищами искусства на черном рынке, пользуясь беспорядками, царившими в стране после 1918 года. Этот процесс завершился в пользу миссии[91].
Все же, находясь в Петрограде, Квислинг досконально ознакомился с тем, как эта система действует, и ловкий молодой офицер сумел воспользоваться ею для своих целей. Норвежец Бенджамин Вогт, один из многих, кто описывал условия жизни в Петрограде сразу же после революции, пишет, что русские в отчаянии продавали свои последние вещи, чтобы купить еду, и служащие иностранных миссий часто выступали в роли посредников. Под защитой дипломатической неприкосновенности они могли скупать ценности, расплачиваясь высоко ценимой иностранной валютой, а после того, как эти вещи были вывезены за границу контрабандным путем по дипломатическим каналам, перепродавали их, получая огромную прибыль[92].
Люди с дипломатическим паспортом или аналогичными документами находились под контролем экспортного законодательства Советской России, на которое ссылался Мосянов как «представитель советского правительства при всех иностранных благотворительных организациях на юго-востоке России» в своем письме руководителю ARA в Ростове 1 июня 1923 года. Он отмечал, что все иностранные работники должны пройти осмотр багажа и проверку в местных таможенных учреждениях задолго до отъезда, чтобы не столкнуться с трудностями на границе. Если у них имелись фотоаппараты, бинокли, оружие, предметы искусства, антиквариат, ковры и т.п., то они должны были своевременно связаться с товарищем Мосяновым для получения необходимых разрешений[93]. Как следует из рассказа Александры, приведенного ниже, Квислинг, очевидно, выполнял эти требования, чтобы вывезти свои вещи с помощью дипломатического паспорта.
Но она не знала того, что ее муж 28 июня написал письмо королю Хокону, в котором просил освободить его от занимаемой должности в Генштабе с 1 августа и разрешить остаться на сверхштатной должности в армии на один год. Он объяснил королю, что его работа с Нансеном продлится по меньшей мере до 1 сентября, в то время как его армейский отпуск заканчивается 15 августа. В дополнение к этому он «неважно себя чувствовал», поэтому ему требовалось время для выздоровления по окончании работы с Нансеном[94].
Когда Александра впервые узнала об этом письме, она была крайне удивлена его заявлением о плохом самочувствии, поскольку Квислинг в ту пору был совершенно здоров. Сторонний наблюдатель мог бы удивиться тому, как Квислинг в июне смог предсказать, что в сентябре он будет плохо себя чувствовать, а также поинтересоваться, на какие средства Квислинг собирался жить, находясь на сверхштатной должности в следующем году. Особенно имея в виду то, что при этом он будет лишен возможности продвижения по службе[95]. Он не мог быть уверен и в том, что Нансен вскоре предложит ему другую должность.
Александра не знала, что 10 сентября 1923 года, за два дня до того, как миссия Нансена официально прекратила свою деятельность и Видкун с Александрой покинули Харьков, Квислинг лично выдал нансеновский паспорт на имя госпожи Мэри Квислинг. В 1987 году Арве Юритцен, изучавший отношения Квислинга с Марией, нашел этот паспорт и печать Нансена, которую использовал Квислинг. По непонятным причинам они находились в Норвежском народном музее, в который их передал душеприказчик Марии. Юритцен также быстро нашел российское «удостоверение», которое не имело подписи и печати и содержало данные из дипломатического паспорта Квислинга. Там же было вклеено письмо от Власа Чубаря, председателя ВСНХ Украинской ССР, с просьбой ко всем агентам ОГПУ на железных дорогах предоставлять содействие жене капитана Квислинга. Это письмо было подписано и скреплено печатью на Украине в тот же день, когда был выдан паспорт[96].
Позднее мы вернемся к значению этих тайных маневров. Здесь достаточно задать вопрос, почему и каким образом Мария Пасешникова так быстро стала и «госпожой Квислинг», и ответственным работником Нансена, тогда как жену Квислинга на самом деле звали Александра, а нансеновская миссия не нуждалась в дополнительных ответственных работниках, поскольку заканчивала свою деятельность в Харькове.
Рассказ Александры
Видкун практически завершил все действия, связанные с окончанием работы нансеновской миссии по оказанию помощи в Харькове и пересылкой оставшихся припасов и оборудования на Балканы. Осталось лишь упаковать наши вещи и побывать на прощальных приемах. Некоторые высокопоставленные правительственные лица, с которыми мы познакомились на этих приемах, также посетили нас дома.
Также мои друзья устроили для меня несколько прощальных вечеринок, по-прежнему меня продолжали навещать одноклассники и друзья с Помгола и балетной школы. Некоторые из этих гостей давали мне письма и просили передать своим друзьям за границей с мольбой: «Если увидите их, то расскажите, как мы здесь на самом деле живем!». Другие просили меня помочь им найти членов семьи или друзей, которые исчезли во время Гражданской войны, и, возможно, сумели как-то выбраться за границу. Некоторые просили прислать им обувь.
Сначала Видкун столкнулся с трудностями при получении разрешения на вывоз драгоценностей из России, но вскоре сумел преодолеть их. Практически все, что у нас было, включая мои семейные документы, фотографии, книги и все, что дала мне мама как до моего отъезда из Харькова, так и позже в Крыму, доставили в Норвегию грузовым транспортом. В нашем путешествии со мной был лишь чемодан с самыми необходимыми вещами.
Было непросто упаковать все наши вещи, поэтому мы поручили эту работу профессионалам.
Как-то Видкун сказал мне: «Между прочим, та девушка, которую ты просила устроить на работу в Помгол, Мария, была моим секретарем, и я нахожу ее очень прилежной и хорошей работницей. Думаю, стоит попросить ее помочь тебе с упаковкой вещей. Я уверен, что она охотно поможет тебе».
Так Мария Пасешникова стала еще чаще бывать у нас в квартире. Видкун все это время был в отличном настроении и продолжал относиться ко мне с такой нежностью и любовью, что я думала, что наша недолгая разлука этим летом дала ему понять, как он одинок без меня.
Он был очень рад возвращению в Норвегию, но сказал, что ему необходимо прибыть туда к середине сентября, поэтому нам следует воспользоваться такой возможностью и попутешествовать по столицам Европы, посмотреть разные достопримечательности, которые он хотел мне показать. На этот раз мы поедем на запад, по направлению к Польше, самая важная остановка будет в Париже, где ему нужно представить окончательный отчет о работе нансеновской миссии по оказанию помощи в России.
В день нашего отъезда несколько десятков, а возможно, и более ста моих друзей были на перроне, сопровождая нас. Тут же был советский почетный караул и несколько высокопоставленных чиновников, среди которых, к моему большому удивлению, был и Башкович. Он слегка поклонился, когда увидел, что я его заметила.
Был прохладный сентябрьский день, и я с удовольствием надела свое кожаное пальто. Стоя на ступеньках международного спального вагона, я беседовала с друзьями. Военный духовой оркестр играл неподалеку, а я с полной уверенностью говорила, что вернусь и мы встретимся снова. Сказав это, я почувствовала, что действительно хочу сделать все возможное для этого.
Поблизости собралась небольшая толпа баб, они смотрели на нас и на спальный вагон, через огромные окна которого была видна его роскошная обстановка. Как только наш поезд тронулся, одна из баб показала на меня и очень громко сказала другим: «Смотрите на эту коммунистическую сволочь! Вот какой жизнью эта коммунистическая дрянь живет!». Другая баба подхватила: «Да она же чекистка — они всегда носят такие кожаные пальто!».
Эти жестокие слова глубокой ненависти было последним, что я услышала в моем родном городе. Это было моим прощанием с Россией. Я была потрясена ненавистью этих женщин, и только через некоторое время осознала, что в то время в России кожаные куртки действительно носили исключительно представители ЧК. До этого дня я не надевала свое пальто, так как на Украине было достаточно тепло. Хуже того, Видкун тоже был в своем зеленом кожаном пальто в день нашего отъезда.
Всего минуту назад мое сердце было наполнено радостью и счастьем из-за любви и внимания, которые мне подарили мои друзья. Но все эти чувства были в один миг уничтожены ненавистью тех женщин, и мне пришлось стать лицом к лицу со страшной реальностью. Я вдруг поняла, что я и мой знаменитый норвежский муж много месяцев вели изнеженную и избалованную жизнь. Мы ели привилегированную пищу, жили в необычайном комфорте и были защищены от реалий жизни.
Изо всех сил стараясь преодолеть шок от того, что меня ошибочно приняли за одного из ненавистных угнетателей, я постепенно стала чувствовать огромное облегчение от своего возвращения к нормальной жизни и безопасности в Норвегии. Мой дом в Осло ждал меня в конце неторопливой поездки по Европе, которую Видкун обещал мне. Должна признаться, что после того, как я поняла, что означает быть защищенной, жить в свободной стране, я ни одного дня после возвращения в Россию не чувствовала себя в полной безопасности.
Я сказала Видкуну об этом, и он признался, что тоже очень рад находиться на пути домой. Позже он начал детально рассказывать о своем будущем. Он намеревался продолжить работу в Генштабе, а через некоторое время написать несколько статей и книгу о голоде в России. Он также намеревался написать сценарий для спектакля, отрывки из которого он читал мне в Осло. После этого он хотел заняться крайне важной философской работой, которая даст ему возможность в полной мере реализовать свой творческий дар. Он надеялся, что она привлечет внимание всего мира и, возможно, даже поможет избавить мир от некоторых бед.
Видкун, очевидно, был рад, что у него появилось свободное время, и теперь он может рассказывать мне о своих грандиозных планах, как он это обычно делал у нас дома в Осло. Если же мы не беседовали, то большую часть своего времени он проводил с бумагами, а я без устали смотрела на родные украинские просторы, стараясь как можно лучше запомнить все увиденное мной.
Расстояния в России огромные, и нам потребовались сутки, чтобы доехать до Шепетовки, последней российской железнодорожной станции на польской границе, где мы остановились для таможенного досмотра. После этого поезд снова тронулся, медленно двигаясь к границе.
Варшава, столица объединенной и независимой Польши, была действительно замечательным городом — красивым, веселым, приветливым, с его элегантными улицами и множеством привлекательных кафе, в которых сидела модно одетая публика. Мы провели там три дня, поселившись в гостинице «Бристоль», но Видкун, как всегда, занимался своими делами. У него было несколько знакомых в Варшаве, большинство из которых были сотрудниками военного атташата Норвегии. Вместе с этими знакомыми мы провели много приятных часов в разных кафе и ресторанах, главным образом в cukiernias — кондитерских, продававших пирожные с марципаном всевозможных форм и цветов.
Многие поляки хорошо говорили по-русски, но, по вполне понятным причинам, предпочитали не говорить на нем, что иногда ставило нас в неудобное положение. Всякий раз, когда мы обращались к ним на русском языке, они делали вид, будто не понимают, и в ответ бормотали что-то невнятное на польском, заставляя нас переходить на французский язык, которым, к сожалению, почти не владели, к примеру, водители такси.
Все это время Видкун был таким внимательным и заботливым мужем, о каком могла бы мечтать любая жена. Он купил мне несколько подарков, многие из которых говорили о его пристрастии к натуральной коже. Во время пребывания в Варшаве он подарил мне очень красивый несессер, обитый кожей. Сейчас он почти совсем развалился, а его тяжелое хрустальное зеркало покрыто трещинами и пятнами, но я не могу заставить себя выбросить его, поскольку хорошо помню, как, будучи еще юной девушкой, смотрела на свое отражение в нем.
Наше путешествие продолжалось через западную Польшу и северную Германию безмятежно, в комфортабельных поездах. Мы останавливались в некоторых городах, через которые проезжали, для осмотра достопримечательностей.
Мы ехали в Париж через Рейнланд и Кельн, а затем должны были повернуть на юг недалеко от границы между Голландией и Бельгией. На последнем отрезке нашего пути через Германию мы вдруг заметили, как кондуктор в сопровождении людей в военной форме прошел по всем вагонам поезда, опуская оконные занавески и прикрепляя черные щиты, также они приказывали не смотреть в окна. Зажгли тусклый свет, и дальше мы ехали в полутьме. Хотя я была хорошо знакома с такими приемами в военное время, сейчас они вызвали во мне тревогу. Я спросила, что может происходить в этом, казалось бы, мирном уголке Европы. Чувствуя мое волнение, Видкун вышел поговорить с кондуктором.
Через некоторое время он вернулся в наше купе, сел напротив меня и сказал успокаивающим голосом, что нет причин для беспокойства. Мы проезжали Рурский бассейн, богатейший горнопромышленный район в Германии, где производилось вооружение для германского фронта. Несколько месяцев назад он был вновь оккупирован французскими и бельгийскими войсками для того, чтобы предотвратить перевооружение и несоблюдение Версальского мирного договора Германией. Это была лишь необходимая мера предосторожности против шпионов и возможных нападений на поезда и на союзные войска, охраняющие железные дороги. Видкун заверил меня, что все под контролем.
«Какой же он добрый, — подумала я. — Бросил свою работу с важными бумагами для того, чтобы разузнать все это для моего успокоения. Какой же он сильный и надежный человек». Я взяла его за руку, так как была тронута и благодарна ему.
Некоторое время он молча смотрел на меня, не спуская глаз.
— Послушай, Ася, — начал он. — Я должен поговорить с тобой. Ты еще очень молодая. Впереди у тебя такая долгая жизнь. Тебе еще многому нужно научиться. Я решил, что тебе совершенно необходимо окончить университет и получить профессию. Но сначала я хочу отправить тебя в частную школу-интернат для девушек из хороших семей — в Швейцарию или, может, в Англию. Там ты выучишь языки и все необходимое, чтобы поступить в любой университет. Я недавно написал в некоторые из таких школ.
— Постой, — я его перебила. — Почему в Англию или Швейцарию? Почему я не могу учиться дома в Осло?
— Потому что я хочу развестись с тобой, — сказал он абсолютно ровным, бесстрастным тоном, будто заказывал стакан чая. Не понимая ни слова из сказанного им, я спросила:
— Что ты имеешь в виду?
— Мы должны развестись. Я хочу развода, — повторил он.
— Но почему, Бога ради? Скажи мне правду, объясни причину!
— Я хочу развода, потому что ты слишком молода для меня.
Даже после этого мне понадобилось несколько минут, чтобы в полной мере осознать значение этих слов, и меня одолело страшное ощущение, что со мной случилось нечто очень тяжелое.
— Я просто не могу в это поверить! Это неправда! Ты шутишь!
— Нет, я говорю совершенно серьезно, — ответил он, продолжая смотреть на меня, как будто я была каким-то предметом. Наконец его взгляд встретился с моим, и он опустил свои глаза.
— Другой причины нет. Поверь мне, придет время, и ты поймешь, что так будет лучше для нас обоих.
— Но я же не была слишком молода для тебя, когда ты женился на мне.
Я почувствовала себя так, словно сменила одну жизнь на другую, адскую, словно я умерла и неожиданно очутилась в другом мире, где все перевернулось вверх дном. Я находилась в таком глубоком замешательстве, что мне показалось, будто я погрузилась в транс. Я услышала голос Видкуна, он звучал как-то неестественно тихо.
— Я был так влюблен в тебя тогда. Первый раз в жизни я почувствовал, что могу разрешить себе сделать то, чего хочу, не боясь последствий. Все это теперь должно измениться.
В своей жизни я редко плакала, но теперь слезы полились рекой, и я рыдала без остановки, в то время как наш катившийся механический гроб неустанно нес меня в неизвестное будущее. Время от времени я закрывала глаза, пытаясь приостановить льющиеся слезы и дать себе временный отдых от всего окружающего меня.
Видкун не сделал ни малейшей попытки успокоить меня, объясниться или хотя бы предложить мне стакан воды. Было что-то совершенно бесчеловечное в его внешнем безразличии. Хотя я чувствовала себя совершенно изможденной, я все же не была такой безжизненной, как этот человек, неподвижно сидящий напротив меня с равнодушным лицом. Быть может, он заставлял вести себя таким образом, чтобы не поддаться собственным чувствам? Возможно, с ним случилось что-нибудь такое, что теперь затронуло и меня таким ужасным образом?
Несмотря на мою юность, а также на то, что я не подозревала ничего особенного, я все же не была настолько наивной, чтобы не знать, что если женатые люди разводятся, как это иногда происходит, всегда существует какая-то веская причина: недовольство, ссоры или конфликты, чего у нас с Видкуном никогда не было. Я также знала, что для развода нужно подавать в суд специальное заявление, а затем ждать судебного решения. Теперь не только мой брак, но и все принципы морали, и правила поведения, внушенные мне с самого раннего детства, были так жестоко и без каких-либо оснований отброшены этим человеком, которого я считала образцом порядочности и доброты.
Мучительно медленно наш поезд наконец достиг Кельна, где мы должны были остановиться на несколько часов. Видкун настаивал на том, чтобы мы следовали его плану и посмотрели достопримечательности этого города. Но я была не в состоянии встречаться с кем-либо или осматривать что-нибудь, поэтому я отказалась идти с ним, но он не разрешил мне оставаться одной в поезде. Мне пришлось умыться холодной водой, надеть темные очки, чтобы скрыть распухшие, покрасневшие глаза, и последовать за Видкуном.
Он повел меня в ресторан, но я не могла ничего ни есть, ни пить. Его спланированный визит в Кельнский собор также не удался, потому что его закрыли на ремонт. Мне было безразлично. Я только хотела, чтобы меня оставили в покое. Слезы беспрерывно текли из моих глаз. Для меня великий и старинный город Кельн стал кладбищем моего счастья и молодости.
Наконец мы добрались до Парижа, который я так мечтала увидеть, но который теперь потерял всю свою привлекательность для меня. Мы поехали в гостиницу «Мажестик», старый, величественный отель, который впоследствии снесли.
Я не хотела покидать наш номер, и у меня по-прежнему не было желания поесть или увидеть город. Но если Видкун и был как-то озабочен моим состоянием, то этого не было видно ни по выражению его лица, ни по поведению. Напротив, к концу нашего первого дня в Париже он настоял, чтобы я пошла с ним в театр, несмотря на то, что я чувствовала себя крайне изнуренной нашим длительным и тяжелым путешествием. Он и слушать не хотел моих возражений. Опять он заставил меня одеться, скрыть следы моих слез и идти с ним.
Я чувствовала себя крайне расстроенной и почти ничего не замечала вокруг. В Фоли-Бержер мы заняли передние места. Вскоре стало ясно, что, несмотря на мои попытки сдерживать себя, мое состояние стало привлекать внимание сидящих рядом людей. Хотя представление только началось, Видкун, глядя на меня, сказал:
— Нам лучше пойти домой.
— Тогда зачем ты привел меня сюда? — пробормотала я, когда мы вышли на улицу.
— Я думал, что это сможет тебя немного развлечь, и хотел сделать некоторые научные наблюдения, — ответил он после короткой паузы. Другого объяснения он не дал, и у меня не было сил продолжать этот разговор.
На следующий день, после того, как Видкун закончил свои служебные дела, он заявил:
— Ася, мне нужно уехать. Я должен попутешествовать и выяснить, что мне предстоит делать в дальнейшем. Нансен хочет, чтобы я работал с ним на Балканах, но пока ничего еще не ясно. Тем временем я хочу, чтобы ты осталась в Париже.
— А что я буду делать в Париже? Я не могу оставаться здесь одна. Может быть, мне лучше вернуться в Россию и быть с мамой?
— Нет, я хочу, чтобы ты оставалась в Париже. Я вернусь через месяц или два и увезу тебя в Норвегию.
Про себя я подумала: «Зачем мне ехать в Норвегию? Чего мне там делать после всего, что произошло?». В то же время я не знала, как мне жить в Париже, в этом огромном, неприветливом, незнакомом городе, в котором я не знала ни души.
Не сводя глаз с меня, Видкун с непринужденным видом взял в руки путеводитель Бедекера и начал его листать.
— Нет причин для паники, — заверил он меня. — Я обещал заботиться о тебе до конца твоей жизни, и ничего с тобой не случится. Смотри, в этом путеводителе перечислены только респектабельные семейные пансионы, а те, что отмечены звездочкой, имеют особо хорошую репутацию. Возьмем, например, этот. Он находится на левом берегу, в хорошем районе. Там, вероятно, тихо и спокойно. Давай поедем туда.
Когда я собрала свои вещи, мы покинули гостиницу. У меня не было выбора. К тому же если меня собирались бросить таким образом, то мне было безразлично, куда мы едем и где мне предстоит жить. У меня была страшная головная боль, кроме того, я чувствовала себя совершенно опустошенной.
В семейном пансионе мадам Глайз Видкун сразу снял мне номер и оплатил мое содержание на месяц вперед. Гораздо позже, когда я вновь была в состоянии думать, я поняла, что он получил всю необходимую информацию о пансионе и забронировал в нем место для меня заранее. Все это путешествие было тщательно спланировано им еще до того, как мы покинули Россию.
Горничная провела нас в комнату. Видкун расположился в единственном кресле, а я присела на стул. Мы сидели некоторое время молча. Я не могла найти слов, чтобы выразить то, что я чувствовала тогда, поэтому молчала. Видкун вынул что-то из кармана и положил на стол.
— Я буду продолжать оплачивать расходы на проживание. Кроме того, я буду каждый месяц высылать тебе 25 долларов на личные расходы. Вот твой паспорт и карманные деньги на первый месяц.
Все еще не в состоянии говорить, я просто кивнула головой. Видкун встал, взял меня за руку и сказал так, будто диктовал телеграмму:
— Уверен, что тебе здесь будет комфортно. До свидания, ребенок, мне нужно идти. Буду тебе писать. Не беспокойся. Все будет хорошо.
Он похлопал меня по плечу и ушел до того, как я смогла что-либо сказать или спросить. Его удаляющиеся шаги быстро стихли. Я осталась одна.
Я сидела на стуле в одежде, совершенно ошеломленная происходящим. Время тянулось очень медленно. В комнате стало темно. Я, наверное, просидела на этом стуле очень долго, потому что когда мы с Видкуном вошли в комнату, солнце было высоко над горизонтом. Когда зажглись уличные фонари, я все еще сидела на стуле, находясь в оцепенении, не включая света в комнате.
Вечером мое одиночество было нарушено визитом горничной. Она очень растерялась, когда увидела, что я сижу в темноте, и спросила, все ли в порядке. Я сказала, что у меня сильно болит голова, поэтому мне легче, когда свет выключен. Она сказала: «Мадам, меня зовут Жаклин, и я пришла просить вас спуститься поужинать в столовой вместе со всеми. Мадам Глайз ждет только вас»[97]. Я ответила ей, что не голодна, к тому же не очень хорошо себя чувствую, и попросила передать мадам Глайз мои извинения.
Вместо того чтобы отвлечься от апатии и депрессии, я после этого короткого визита погрузилась в еще более глубокое отчаяние. Я чувствовала, что во мне сломалась какая-то жизненно важная пружина и что я больше не способна действовать должным образом. Я всегда любила встречаться и знакомиться с новыми людьми и считала, что это было взаимно. Я была независима и до этого дня сама справлялась с любыми проблемами. Осознание того, что я стала другим человеком, чужим для самой себя, вызвало во мне такую панику, которой я никогда не чувствовала раньше. Теперь мне предстояло одной начать новую жизнь в незнакомом городе, в чужой стране, где я никого не знала, даже саму себя.
Наконец я встала с этого стула. Помню, что я стояла у одного из окон и смотрела на улицу. В действительности это были не окна, а двойная дверь с низкой кованой решеткой в полуметре от меня, которая создавала иллюзию балкона. Но там не было балкона. Это была архитектурная хитрость, ловушка, намекающая на опасную пустоту и зияющую пропасть, легкий побег в небытие. Я даже не знаю, сколько времени я так стояла, глядя в парижскую ночь. Как в полусне я открыла свой новый элегантный несессер, взяла ножницы и бритву, принесла их вместе с несколькими полотенцами на кровать и перерезала оба запястья.
Глава 20. ПОЯВЛЕНИЕ МАРИИ
Заметки Кирстен Сивер
В середине октября Квислинг наконец получил подтверждение о своем новом назначении для работы с Нансеном. 16 октября Джонсон (в Париже) в телеграмме предложил Нансену обратиться к Квислингу с просьбой помочь в репатриации русских беженцев в Болгарии. И два письма, адресованные Квислингу, пришли одно за другим (лично от Нансена и от его секретаря) с просьбами принять это назначение[98]. В то время он был в Фюресдале у своих родителей, но вскоре снова отправился в путь, направляясь сначала в Женеву, а потом к своему новому месту работы. Мы узнаем от Александры, где находилась Мария в это время.
Рассказ Александры
Мадам Глайз и Жаклин впоследствии рассказали мне, что случилось после того, как я потеряла сознание. Увидев мое состояние, Жаклин вызвала свою хозяйку, и, несмотря на то, что мадам Глайз думала, что я просто устала с дороги и нуждалась в отдыхе и сне больше, чем в ужине, ей не хотелось, чтобы я оставалась в своей комнате в одиночестве и голодная. Также она, видимо, приняла во внимание, что я была расстроена отъездом мужа или друга. Поэтому после ужина она снова послала Жаклин наверх узнать, не появилось ли у меня желание поесть.
Жаклин вернулась и сообщила хозяйке, что она постучалась несколько раз в мою дверь, но, не получив ответа, не решилась войти в комнату без разрешения. Подумав, мадам Глайз решила выяснить сама, все ли у меня в порядке. Она тоже постучала в мою дверь и не получила ответа. Затем она тихо вошла, подошла к кровати и окликнула меня. Ответа опять не последовало. Это ее серьезно взволновало и она, включив свет, увидела, что случилось.
К счастью, эта пожилая дама не растерялась. Она увидела, что я еще жива и с помощью горничной остановила кровотечение. Ради сохранения репутации пансиона мадам Глайз сделала так, чтобы о случившемся никто никогда не узнал. Однако знакомый врач был незаметно приглашен. Он пришел сразу же и сделал все необходимое. Он сказал, что, несмотря на большую потерю крови, при хорошем уходе я выживу. Он согласился лично помочь мадам Глайз и Жаклин в уходе за мной в моей комнате.
Я оставалась в полусознательном состоянии несколько дней. Мое состояние ухудшилось, когда у меня поднялась температура и я начала бредить. После некоторого обследования врач пришел к выводу, что мое состояние было связано с сильным нервным потрясением, а не с каким-либо органическим заболеванием. Он снова заверил мадам Глайз, что со временем и при хорошем уходе такая молодая женщина, как я, выздоровеет.
Когда я наконец пришла в себя, то была глубоко тронута нежным уходом и вниманием этих двух женщин, для которых я была совершенно незнакомым человеком. Моей первой мыслью, когда я пришла в сознание, было: «Как я смогу начать свою жизнь с начала?». Но для этого мне нужно было желание жить, любовь к жизни. Но где найти такое желание и силы?
Те десять дней, которые я провела в постели после того, как пришла в себя, я видела только мадам Глайз и Жаклин. Мадам Глайз в основном жаловалась на все: от высоких цен на рынке до эгоизма ее сыновей и невесток, поэтому ее присутствие было не особенно воодушевляющим, но это было все-таки лучше, чем быть наедине со своими мыслями. Жаклин пыталась внушить мне свой оптимистичный подход к жизни и любви. Она советовала: «Не думайте о неприятных вещах, и все само собой уладится». Наконец настал тот день, когда я смогла подняться с постели и пройтись по комнате.
Постояльцам сказали, что я была больна и по этой причине не появляюсь в столовой. Но как только врач решил, что я уже достаточно окрепла, мне пришлось пройти тяжелое испытание — одеться и есть со всеми. Я всегда была худенькая, но теперь чувствовала себя скелетом, обтянутым кожей.
Видкун заплатил за второй месяц моего проживания в пансионе и за питание, но ему не удалось отправить мне деньги на личные расходы. Те 25 долларов, которые Видкун оставил перед уходом, я давно потратила на лекарства и оплату услуг доктора. Я писала ему, что быть без денег крайне затруднительно. Я не только не могла записаться в университет на лекции, но я даже не имела возможности брать книги из библиотеки. Мне пришлось занять немного денег у моей подруги Види на зубную пасту и на метро, но этих денег не хватило надолго, и мне приходилось оставаться дома или ходить пешком.
Как и в Осло в предыдущем году, мне помогали справиться с одиночеством и отчаянием долгие прогулки по Парижу. Я все еще была очень слаба, но иногда я так увлекалась моими открытиями новых достопримечательностей, что уходила от дома довольно далеко, а потом с трудом находила силы вернуться домой.
Видкун продолжал мне писать регулярно из разных балканских стран, и я стала надеяться, что со временем наши проблемы будут решены. Я писала маме, Нине и некоторым другим друзьям, что продолжаю ждать Видкуна в Париже, пока он ездит в свои служебные командировки, но я никогда не упоминала о том, что он говорил о разводе.
Пансион был спокойным и тихим местом. По ночам, когда я ворочалась в кровати, пытаясь отогнать мрачные мысли и справиться с бессонницей, я прислушивалась к тишине в доме и напряженно ждала, когда безмолвие нарушит шум поездов метро, проходящих через равные промежутки времени. Я слышала свое сердцебиение и старалась угадать, когда снова услышу шум очередного поезда.
В одну такую ночь в ноябре мой беспокойный сон был нарушен отдаленным звуком звонка в дверь, а затем длинным разговором в коридоре. В полусне я решила, что кто-то забыл свой ключ, и пришлось будить прислугу. Вскоре после этого я услышала стук в свою дверь.
«Пожар!» — подумала я, но до того, как я смогла что-нибудь сказать, дверь открылась, кто-то быстро вошел в комнату и произнес мое имя. Этот голос был похож на голос Мары Пасешниковой, но, конечно, этого не могло быть. Я включила лампу у кровати и увидела Мару, стоящую посередине моей комнаты.
Глава 21. МУТНЫЕ ВОДЫ
Заметки Кирстен Сивер
Хотя нансеновский паспорт Марии давал ей возможность покинуть Россию, все же во время поездки по Европе она столкнулась со многими трудностями. Позднее выяснилось, что Квислинг лично решил проблемы с французскими и австрийскими иммиграционными властями, документально подтвердив свой «брак» с Марией.
В письме, которое Квислинг написал Марии 18 ноября 1923 года из Софии, он посоветовал ей купить билет на Восточный экспресс, следующий из Парижа через Швейцарию, когда она поедет на встречу с ним в Вене, поскольку «норвежские граждане» не нуждались в швейцарской визе, и ей была необходима только австрийская виза. В знак подтверждения норвежского гражданства, которого на самом деле у Мары не было и быть не могло, он вложил два письма, которые были написаны на официальном бланке Лиги Наций и подписаны им самим. В одном из них на французском языке утверждалось, что «мадам Мэри Квислинг» является женой капитана Видкуна Квислинга, «Délégué de la Société des Nations», и владеет дипломатическим паспортом с таким-то номером. Также он просил военные и гражданские власти оказать всю необходимую помощь и защиту. Во втором письме, написанном на немецком языке, Квислинг обращался к австрийскому посольству в Париже с просьбой выдать австрийскую въездную визу его жене, Мэри Квислинг, которая ехала встретить его в Вене. У него был при себе их общий дипломатический паспорт[99]. Среди инструкций, которые Мария получала от него, была следующая: «Я очень надеюсь, что вы с Асей станете добрыми друзьями. Не забывай, Мария, что ты старше ее и ты взрослая женщина. Она — дитя. Будь к ней добра и снисходительна. Она — хорошая, у нее золотое сердце. Я очень рад, что ты, наконец, меня поняла. Это был для меня настоящий кризис, но я все объясню тебе позже. Я не думаю, что я слаб, но это повлияло на меня очень сильно».
Это также произвело большое впечатление на Александру, когда она прочитала это письмо через несколько десятилетий. Нет сомнений, что Квислинг был занят той осенью своей работой для Нансена и попытками разрешить свою сложную семейную ситуацию. Всего за шесть дней до того, как он написал Марии из Болгарии, он был в Женеве в качестве помощника Нансена по работе, связанной с переселением армянских беженцев. В его женевских инструкциях было четко указано, что это назначение требует постоянных разъездов, насколько частых, что человек со слабым здоровьем вряд ли смог бы справиться с этим. К тому же необходимо было вести утомительные переговоры с сомневающимися беженцами и с правительствами с их постоянными придирками. Еженедельные отчеты, которые Квислинг должен был отправлять в Верховный комиссариат, в архивах комиссариата отсутствуют.
Ровно через месяц после его прибытия в Женеву, 12 декабря, Квислинг написал майору Джонсону письмо из Белграда (куда он должен был прибыть 6 декабря), в котором извинялся за то, что не смог присутствовать на встрече 30 ноября. Он объясняет это тем, что был болен и провел в постели почти все время своего пребывания в Вене, и до сих пор не очень здоров[100]. Однако он, видимо, был не настолько болен, чтобы не встретиться с Марией. Да и Александра не заметила никакого ухудшения здоровья, когда встретилась с Видкуном и Марией в начале 1924 года.
Рассказ Александры
Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди от радости, когда я увидела Мару, которая стояла в моей комнате и оглядывала все вокруг. Я сразу же решила, что Видкун послал ее ко мне, чтобы рядом со мной был кто-то из знакомых!
— Это действительно ты, Мара? Как ты попала сюда? — воскликнула я и приподнялась в кровати, прижимая обе руки к моему быстро бьющемуся сердцу. — Ведь Харьков находится так далеко от Парижа!
Бросившись ко мне, Мара ответила:
— Да, но это длинная история. Я тебе все расскажу.
Затем она обняла меня и поцеловала с такой теплотой, что мне даже стало неловко, как обычно бывает, когда малознакомые люди слишком открыто выражают свои эмоции.
— Устраивайся на моей кровати как можно удобней и рассказывай обо всем. Когда ты уехала из Харькова и что делаешь здесь? Какие новости из дома? Я так рада тебя видеть!
Мы провели остаток ночи в разговорах о Харькове, о старых друзьях и, конечно же, о своей личной жизни. Как это обычно бывает со мной, я рассказала Маре гораздо больше о себе, чем это было необходимо, она же была более сдержанной. Она больше слушала, чем говорила, и затрагивала в основном лишь общие темы. Но я все-таки узнала, что она только что приехала из Харькова по поручению советских начальников Помгола. Она сказала, что является своего рода курьером, и привезла важные документы, которые нужны Видкуну в его новой работе на Балканах.
Из писем Видкуна я уже знала, что он, возможно, будет работать с Нансеном на Балканах, об этом он упоминал еще до того, как покинул меня в Париже. Мара также сказала, что работа заставляет Видкуна много разъезжать, поэтому некоторое время ей придется ждать дальнейших инструкций от него, после чего она получит другие необходимые документы в Париже и доставит их в его новое главное управление, где она будет работать секретарем.
Позже я узнала, что работа Видкуна была связана с несколькими тысячами армянских беженцев, которые спасались от турецкого преследования, и почти с таким же количеством русских эмигрантов, остатков побежденной Белой армии: офицеров, солдат и их семей, которые нашли убежище в Галлиполи и других лагерях на Ближнем Востоке. Советы теперь обещали им прощение, но большинство русских не верили этим обещаниям, поэтому предпочитали эмигрировать в Западную Европу, в Америку или даже оставаться в ужасных условиях заброшенных военных лагерей Первой мировой войны, которые им предоставили «благодарные» военные союзники. Все что угодно, лишь бы не подвергаться риску мести красных. Следовательно, нужно было долго уговаривать их, убеждать вернуться в Россию. Это и было задачей Видкуна.
Объяснения Мары казались мне вполне правдоподобными в то время. Меня не удивило, что она сделала советскую карьеру, ведь сказал же Ленин, что каждая кухарка может управлять государством. Наоборот, я считала, что Мару надо поздравить. С другой стороны, в глубине души я чувствовала себя уязвленной: ведь это Мара, а не я, вскоре увидит моего мужа и будет ему помогать.
Мара сообщила мне, что у нее имеются очень важные удостоверения Помгола и советский загранпаспорт. Однако в дальнейшем ее ожидали трудности, и это было неудивительно, поскольку к осени 1923 года Франция была единственной западноевропейской страной, которая разрешала въезд официальным представителям Советской России. Но в марте 1924 года и она закрыла свои границы для всех советских граждан. В то время ни одна страна не признавала Советскую Россию, поскольку все советские граждане и их деятельность считались подозрительными.
Мара сказала, что ее французская виза разрешает ей находиться в Париже короткое время, в течение которого она должна попытаться получить визу на Балканы для того, чтобы приехать к Видкуну. Естественно, в этом деле я никак не могла ей помочь. Я даже не знала, что для этого требуется, так как мой норвежский паспорт разрешал мне ездить и оставаться там, где я хотела. В конечном итоге Мара, кажется, устроила свои дела. Я была рада за нее и считала, что она добивается успехов благодаря своей способности убеждать. Например, ее впустили в пансион только потому, что она как-то сумела убедить швейцара в том, что она моя близкая подруга и ей необходимо увидеть меня.
Теперь она заявила, что хочет поселиться в моей комнате, поскольку в пансионе больше нет небольших и недорогих номеров. Мне эта идея была не по душе, но и возразить я не решилась, поэтому Мара обосновалась у меня. Я и не подозревала тогда, что она стала новой женой Видкуна, к тому же я чувствовала себя настолько изолированной от всех, кого я знала в Норвегии и в России, что искренне была рада видеть ее — единственное связующее звено с моей родиной.
Вскоре я узнала, что она не была настолько беспомощной, какой пыталась казаться. У нее, очевидно, было много денег, которые она щедро тратила на себя. Когда Мара поняла, что я заметила это, она сказала, что получает хорошее жалование и имеет достаточно денег для совершения различных покупок во время путешествия.
Мара пробыла в Париже примерно три недели, но я так ничего и не узнала о ее «служебных делах». Перед отъездом в Вену, где она должна была встретиться с Видкуном, она заняла у меня мой лучший чемодан. И я его больше никогда не видела. Но тогда, конечно, я этого не могла знать. Я попрощалась с ней так же дружески, как и несколько месяцев тому назад, когда она пришла на харьковский вокзал в день нашего с Видкуном отъезда. Я даже пообещала писать ей в Вену, надеясь, что она будет отвечать и сообщать мне новости о моем неуловимом муже.
И все-таки я подозревала, что за всем этим таится ужасная ложь. Мои подозрения вскоре подтвердились. Мара уехала в Вену, а я получила письмо от нашего общего приятеля из Харькова, который, изрядно рискуя, писал, что Мара — советский агент, работает на какой-то «Трест» и использует Видкуна для собственных целей. Несмотря на то, что я была политически малограмотна, чтобы понять все то, что я прочитала в письме, я пережила много тревожных дней, думая об этом предупреждении. Я боялась ошибиться, высказав необоснованные обвинения против Видкуна и Мары, я не хотела испортить мои отношения с ним. В то же время я должна была признать, что Мара может быть опасной.
Затем я получила письмо, отправленное из Вены, в котором говорилось, что Мара и, вероятно, Видкун вернутся в Париж в середине января. Осознание того, что Видкун может читать все письма, которые я писала Маре, нанесло еще один удар по моему и так ущемленному самолюбию. Мысль о том, что мой муж путешествует с Марой, оставив меня одну в Рождество, вызывала во мне сильную ревность. 17 декабря 1923 года я, совершенно расстроенная, написала Маре письмо.
«Моя дорогая девочка! Ты не представляешь себе, как я была рада твоему письму, а также узнать, что ты скоро будешь с нами. Я получила твое письмо во время ужина и так закричала от радости, что сидящие за столом люди решили, что я сошла с ума. Вчера я, Лили и Мушка пошли в замечательный ресторан выпить шампанского. Он был очарователен во фраке и выглядел, как они говорят, очень модно. По дороге домой у меня кружилась голова. Позавчера мы ходили в кино, а потом в ресторан, валяли дурака и много смеялись. Я не хочу долго рассказывать об этом. Когда приедешь, сама все увидишь. Наши рыцари счастливы, что ты приезжаешь. Я тоже в восторге. Мадам Глайз уже приготовила комнату для тебя, а профессор включил тебя в список студенток с 15 января. Ты сможешь заниматься ежедневно. Сообщи точное время твоего приезда, и мы тебя встретим. Как жаль, что в праздники мы не будем вместе. Я страшно скучаю по тебе, и как ты могла подумать, что я буду не рада твоему приезду.
Когда приедешь, расскажу тебе очень странные сплетни, дошедшие из Харькова до Парижа. Я смеялась до слез. Пишут, что ты работаешь на какой-то «Трест», но под чьим-то всемогущим покровительством. И злые языки говорят, что тебя несколько раз видели с капитаном, когда я была в Крыму. Ага, как вы смели, мадам, прогуливаться с моим мужем? Ну, погодите, как только приедете в Париж, я вам устрою такой скандал, что будет тошно.
Сегодня я получила телеграмму от тебя с обратным адресом в Бухаресте, но я не знаю, можно ли посылать тебе туда письма. Я отправлю это письмо в Софию, так как боюсь, что ты уедешь раньше. Поздравляю с праздниками и желаю тебе всего наилучшего! Целую тебя и моего неверного мужа Видкуна тоже. Жду тебя. Целую еще раз. Твоя Ася».
Какое счастье, что будущее нам неизвестно. Когда я написала письмо Маре как раз перед своим первым Рождеством в Париже, я не подозревала, что начинается новый тяжелый этап в моей жизни. Я считала, что в будущем эта завеса неопределенности и недоразумений спадет, и я снова вернусь к своей нормальной жизни с моим мужем. К жизни, где не будет места Маре.
Глава 22. ТРЕСТ
Заметки Кирстен Сивер
Письмо, которое Александра написала Марии 17 декабря 1923 года, было найдено среди ее бумаг. Душеприказчик Марии, адвокат Финн Трана, решил включить это письмо в архив Квислинга, находящийся в библиотеке университета в Осло, вместе с заказанным им переводом, который он изменил таким образом, чтобы содержание письма отражало то, что Мария и Квислинг открыто говорили о семейном положении Видкуна[101]. Хотя письмо ясно показывает, что Квислинг, по сути дела, вернул Александру в страну, из которой он ее якобы спас, Трана (который был женат на члене семьи Квислинга) был убежден, что Квислинг женился на ней для проформы, и единственной его целью было дать ей возможность покинуть Россию. Поэтому норвежский переводчик Трана в письме заменил слова «моего неверного мужа» словами «моего псевдомужа». Адвокат и не подозревал, что это письмо было важным совсем по другим причинам, нежели те, из-за которых он сдал его в архив Квислинга[102].
Задолго до того, как Александре стала известна вся информация о деятельности «Треста», а также сведения, содержащиеся в архивах Квислинга в Осло, она подозревала, что когда Квислинг отправил ее в Крым, он уже был вовлечен в сеть интриг настолько опасных и запутанных, что он скоро утратил контроль над развитием событий. Она также предполагала, что Мария была каким-то образом связана с этой игрой, потому что приятель Александры из Харькова писал, что в то время, когда она находилась в Крыму, Квислинга несколько раз видели в обществе Марии.
Также важно помнить, что Мария не появилась в жизни Квислинга до весны и в начале лета 1923 года. Если бы Квислинг был замешан в развивающихся интригах в более раннее время, то он не взял бы Александру с собой обратно на Украину, чтобы затем бросить ее на произвол судьбы в Париже. Александра и ее муж Джордж много лет, читая европейскую и российскую мемуарную литературу, пытались узнать, почему Квислинг разработал план, чтобы избавиться от Александры и представить Марию в качестве своей законной жены до того, как они во второй раз покинули Россию.
Планы Квислинга до его отъезда из России в середине сентября 1923 года не могли быть основаны на соглашениях с Нансеном, поскольку Нансен официально пригласил его поработать на Балканах 17 октября, то есть через несколько недель после того, как он выдал Марии нансеновский паспорт и бросил Александру в Париже. К тому же он явно заранее заплатил за комнату мадам Глайз.
Имеющиеся сведения позволяют предположить, что планы Квислинга строились на том, в чем он и Мария были замешаны вместе, и что высокопоставленные лица в украинском советском правительстве знали, чем они оба занимались. В противном случае Мария не смогла бы получить заявление Чубаря вместе со своим нансеновским паспортом. Однако нансеновский паспорт Марии и письма Квислинга той осенью к французским и австрийским властям относительно его «жены Мэри Квислинг» говорят нам только о том, каким образом Видкун и Мария сумели преодолеть первые трудности. Но не объясняют, почему они решили идти таким путем, и почему потом многие годы постоянно скрывали свое местонахождение.
Попытка узнать, что заставило Квислинга так рисковать своей репутацией, браком и карьерой, требует более тщательного изучения «Треста» и смысла заявления Александры о том, что Мара была замешана в его сложных играх.
Чтобы понять, почему украинские соорганизаторы «Треста» завербовали Марию в 1923 году, необходимо обратить внимание на тех людей, с которыми Мария работала в Харькове. Когда Александра прочитала архивные материалы, которая я [Сивер] нашла в Осло и в архиве Гувера, она была поражена частыми упоминаниями двух ее бывших начальников Помгола в 1922 году — Артамонова и Башковича.
Прошло много лет, прежде чем история «Треста» — организации, созданной в 1923 году по замыслу советской тайной полиции (ОГПУ), стала известна западным странам. В свое первое несчастливое Рождество в Париже Александра не только не знала о том, что Мария заняла ее место рядом с Квислингом, но она также не представляла себе масштабы тех советских интриг, которые теперь опутали ее собственную жизнь благодаря Марии. Совершенно не осознавая степень опасности, Александра, как будто ничего не случилось, в письме Марии спокойно сообщила о том, что ей известно о сотрудничестве Марии с каким-то «Трестом». По правде сказать, она была больше расстроена тем, что Мария и Квислинг проводили вместе время, когда Александра была в Крыму. У нее, конечно же, не было подозрений о связи Марии с ненавистным ей Башковичем, а также о том, что Мария под ложным предлогом «умоляла» получить должность, которую занимала Александра на коммутаторе в Помголе. Александра не знала, что Башкович остался в Помголе после событий, произошедших в марте 1922 года, которые должны были привести к смещению его с должности. Когда она увидела его на перроне в день отъезда из Харькова в 1923 году, она не предполагала, что еще с мая 1922 года он занимал более высокую должность и работал в другом здании. С этого же времени с ним начала работать и Мария.
По распоряжению Феликса Дзержинского, сотрудники ВЧК, впоследствии переименованной в ОГПУ, создали фиктивную подпольную организацию — Монархическое объединение Центральной России (кодовое название «Трест»), Через эту организацию они в течение нескольких лет «работали» с вождями русской антибольшевистской эмиграции, а затем заманили на советскую территорию двух злейших врагов советской власти — Бориса Савинкова и Сиднея Рейли[103]. Типичными приемами «трестовцев» были: проникновение обманным путем в ряды эмигрантов-монархистов, заверение их в том, что большевистская власть ослаблена и «Трест» поможет контрреволюционным деятелям совершать безопасные поездки в Россию, таким образом давая им возможность организовывать монархическое сопротивление большевикам.
Создавались псевдоантисоветские организации для того, чтобы узнать, кто клюнет на эту приманку. В прошлом данный метод был испробован царской секретной полицией и успешно применялся в течение нескольких лет. Очевидно, эта операция была самой успешной в истории шпионажа. В архивах КГБ содержатся многочисленные документы о деятельности «Треста».
«Трест» был хорошо замаскирован как Московская муниципальная кредитная ассоциация. По законам НЭПа, коммерческим фирмам была разрешена торговля за рубежом. Это позволяло «Тресту» получать деньги при помощи торговли, поскольку русские, выезжающие за границу под видом представителей Народного комиссариата торговли, могли приобретать визы и разрешения на временное проживание в европейских странах, обычно закрытых для советских граждан. Благодаря этому письма беспрепятственно переправлялись за границу и в Россию.
То же самое происходило с фальшивыми (а иногда и настоящими, но маловажными) документами, которые давали возможность ОГПУ получать иностранную валюту. Такие фальшивые документы фабриковали в России под покровительством ОГПУ, а затем продавали через своих агентов в Европе[104].
Кроме того, «Трест» воспользовался огромным спросом в Европе на любые новости из России. Берлин был центром такой деятельности[105]. Поэтому очень интересен тот факт, что Артамонов выехал из Одессы в Берлин в августе 1923 года, а затем в Варшаву в декабре. Таким образом, Артамонов находился в разных европейских столицах в то же самое время, что и Квислинг, и Мария Пасешникова (вместе с ним или порознь). Все эти поездки предпринимались в период активной деятельности «Треста» по передаче сообщений между Россией и странами зарубежья. Ответы из Москвы на сообщения, отправленные из Парижа или Берлина, могли быть получены в течение недели[106].
Чтобы обеспечить такую эффективность действий, требовались как деньги, так и курьеры, имеющие возможность свободно разъезжать под предлогом якобы законных поручений. Поэтому советские граждане, которые занимали официальные должности в Народном комиссариате торговли, такие как Артамонов, могли ездить не только из России за рубеж и обратно в Россию сравнительно свободно, но также разъезжать по Европе. Тем не менее путешествия по Европе могли вызывать много проблем у советских граждан, как показали трудности, связанные с паспортом и визой Марии. Более того, советские представители государственных организаций были легко узнаваемы и поэтому не подходили для выполнения секретных заданий. Доступ к европейскому дипломатическому паспорту или к любому европейскому паспорту был бы чрезвычайно полезен как в работе для получения денег, необходимых для деятельности «Треста», так и для контактов с белоэмигрантами.
Беспорядки на Балканах в 1925 году почти не отличались от тех условий, в которых Квислинг работал для Нансена в 1923–1924 годах, но это, видимо, не отпугнуло Марию, когда она приехала с документами, полученными от своего советского начальства. Просьба Чубаря к агентам ОГПУ и их коллегам на железных дорогах оказывать ей содействие в пределах России, а также ее нансеновский паспорт гарантировали Марии въезд во Францию. Но без дипломатического паспорта Квислинга, который, без сомнения, давал ему огромное преимущество, она не смогла бы ни ездить по Европе, ни оставаться во Франции для доставки документов и проникновения в белоэмигрантское движение с тем усердием, с каким она это делала. Без дипломатического паспорта Квислинга Мария Пасешникова вряд ли имела бы возможность скомпрометировать его таким образом, что он мог погубить свою карьеру, если бы все это стало известно Нансену или норвежским властям. Мужчина не может легко получить другое гражданство путем заключения брака, тогда как женщина в состоянии добиться этого, вступив в брак по настоящей любви или используя сексуальный шантаж.
Когда Квислинг и Александра в 1923 году вернулись в Харьков, Башкович и его соратники получили новую возможность привлечь нансеновского помощника. Это была блестящая идея — заставить Александру обратиться за помощью к Квислингу, в результате чего Мария получила работу на коммутаторе в Помголе.
Марию перевели в другое здание, чтобы она была ближе к Квислингу под видом знакомой его жены, которой он смог помочь, когда она так в этом нуждалась. Одним махом Мария стала не только находиться рядом с ничего не подозревающими Видкуном и Александрой, но теперь она могла еще и контролировать коммутатор, через который международные организации помощи по-прежнему были вынуждены совершать звонки, и она могла прослушивать их в любое время.
Привлекательные женщины часто использовались для заманивания мужчин в сети советской бюрократии, но Александра только со временем поняла, что появление Мары в ее жизни было результатом одурачивания Квислинга. Для нее стало очевидным, что Видкуна каким-то образом перехитрили. Но как это такого умного Квислинга могли так легко обвести вокруг пальца, ввиду того, что он неустанно говорил ей о верности и о необходимости избегать сплетен?
Вероятно, ответ состоит в том, что Башкович, начальник Марии, хорошо осознавал уязвимость Квислинга с момента его возвращения на Украину в марте 1923 года, когда их кухарка-шпион многократно замечала, что капитан и его жена не спят в одной кровати. Для того, кто ищет человеческие слабости для использования их в своих целях, этих сведений было достаточно, чтобы сделать неопытного Квислинга жертвой. Его репутация как помощника Нансена и воинское звание делали Квислинга уязвимым для шантажа.
Работа Марии секретарем у капитана, за которую он ее хвалил, вероятно, началась в конце апреля или в начале мая 1923 года. К этому времени она уже достаточно сблизилась с ним. 15 апреля Квислинг в письме Нансену жаловался, как трудно найти помощника, который будет ему необходим после того, как мисс Тидеманн вернется в Норвегию в конце следующего месяца[107].
Как показывают многочисленные документы 1922–1923 годов, Квислинг, нуждаясь в местных работниках, должен был использовать людей, одобренных местными советскими властями. Мария уже состояла на службе в Помголе, и было нормальным предложить ей работать с капитаном Квислингом.
Существует также рассказ Александры о том, как был нетерпелив Квислинг, отправляя ее с матерью в Крым. По словам приятеля Александры, Мария и Видкун проводили вместе время в ее отсутствие. Точная последовательность событий никогда не будет известна, но, скорее всего, соблазнение произошло до того, как Александра вернулась из Крыма. Были ли бесплатные билеты на поезд и пребывание в Крыму подарком «Треста», навсегда останется тайной, но можно предположить, что это так и было. Очевидно, что советские власти в Харькове спланировали все весьма тщательно.
Даже в свете новых данных все так же появляются новые вопросы. Просил ли Башкович красивую и честолюбивую Марию соблазнить Квислинга для того, чтобы она смогла поехать в Европу как жена капитана и советского агента или это была ее собственная идея? Как долго Мария работала на СССР после ее прибытия в Европу? И вел ли Квислинг лично активную деятельность за рубежом от имени Советской России, за исключением того факта, что его дипломатический паспорт был очень полезен Марии в ее работе для «Треста»?
Глава 23. МАСШТАБ ОБМАНА
Заметки Кирстен Сивер
21 января 1924 года, в день смерти Ленина, Видкун Квислинг написал своим родителям письмо якобы из Софии[108]. Вот отрывок из этого письма:
«Несколько дней назад Мария вернулась в Париж, так как находиться здесь ей нет смысла, к тому же все очень дорого. Мы путешествовали около двух месяцев и увидели почти все, что стоило посмотреть. Мне еще предстоит путешествовать довольно долго, и снова ездить вместе туда, где она уже бывала, было бы бесполезной тратой денег. Я хочу, чтобы Мария провела некоторое время с Александрой. Они добрые подруги, и у нас троих чудесные отношения. Странно, что даже самые близкие люди столь неверно истолковали единственный подлинно бескорыстный поступок, который я совершил в своей жизни. Это потому, что обстоятельства так необычны? Или оттого что бескорыстие так редко? Как бы то ни было, несмотря на сложности и горечь, я буду по-прежнему уповать на достижение своей цели, которая состоит в том, чтобы Александре было обеспечено достойное будущее».
В этом письме видно воплощение плана Квислинга — убедить родных и знакомых, что он заключил фиктивный брак, чтобы вывезти Асю из Советской России, а теперь его фиктивная жена дружит с настоящей. Но он отлично знал, что не было никакой близкой дружбы между Марией и Александрой. Кроме того, Мария в момент написания им этого письма была рядом с ним.
В своем письме он описал тяжелые условия работы на Балканах, говорил о каких-то семейных проблемах на родине, и выразил надежду, что они с Марией смогут увидеть еще много интересного, направляясь в Норвегию. Он упомянул, что ему необходимо съездить в Константинополь, возможно, еще и в Афины, и что на обратном пути он подумывает остановиться в Италии на пару дней.
В общей сложности восемь страниц болтовни, чтобы замаскировать главную цель письма — рассказ о том, что он находится якобы в Софии и не собирается принимать участия во встрече Марии с Александрой в Париже, которая, по его словам, состоялась несколько дней назад. На самом деле через два дня после того, как это письмо было написано, он вместе с Марией прибыл в Париж и был там несколько раз после этого в течение следующих двух недель. Он даже организовал все так, чтобы его почта приходила ему туда. В архиве Квислинга есть два конверта с почтовыми штемпелями и датами этого периода, помеченными указаниями о пересылке их из Софии в Париж[109].
Неразбериха в семейной жизни Квислинга давала достаточно оснований для того, чтобы скрывать истину от его порядочных родителей, но вряд ли это являлось единственной причиной засекречивать свои поездки в Париж в течение 1924 года. Он пытался скрывать свое местонахождение не только от своей семьи. 22 января 1924 года на официальном бланке он написал письмо барону Кауфману (представителю Лиги Наций в Салониках). В нем он объяснял, что только вернулся из своей поездки в Австрию и Румынию, поэтому лишь сейчас может ответить на вопросы, заданные бароном 28 декабря. Он ни слова не сказал о своем предстоящем путешествии в Париж[110].
Как только Квислинг отослал эти два письма из Софии, они с Марией уложили свои вещи и отправились в еще одну поездку, на этот раз из-за рождественского письма, написанного Александрой Марии. Вечером 23 января, в тот день, когда в европейских газетах появились сообщения о смерти Ленина, они уже были в Париже. Александра теперь расскажет о деталях этой встречи.
Рассказ Александры
Встреча с моим мужем, которую я с таким нетерпением ждала, вышла совершенно иной, чем я себе представляла. Я так и не получила ответа на мое письмо Маре, и мое волнение усилилось к концу января из-за отсутствия новостей от Видкуна и Мары.
От этих тяжких мыслей меня отвлекло известие о смерти Ленина 22 января 1924 года. Меня эта новость потрясла, несмотря на то, что слухи о его приближающейся смерти начали распространяться уже за несколько дней до его кончины. Это событие повлияло на всех, но на русских людей особенно. Парижские газеты прогнозировали грядущие перемены в советском режиме, вызванные этим событием, а также писали об ожидаемой борьбе за власть между Сталиным и Троцким. Хотя я обычно не интересовалась политическими делами, но все же не могла не думать о том, как это повлияет на меня и на маму.
День смерти Ленина отпечатался у меня памяти навсегда из-за того, что случилось позднее в тот день[111]. Я была дома и читала свежие французские и русские газеты, и тут в мою комнату бесцеремонно заявилась Мара. Обнимая меня, она ничуточки не была смущена: напротив, излучала самоуверенность.
— Мара! Почему ты не сообщила, что приезжаешь? Я ждала твоего письма. И где Видкун? — воскликнула я.
— Ну, Ася, неужели ты еще не поняла, что мы с Видкуном решили пожениться? Поэтому и приехали в Париж вместе.
Я была потрясена до глубины души. Я молча посмотрела на Мару, а затем с сарказмом произнесла:
— Итак, ты пришла ко мне, чтобы пригласить меня на свадьбу? Кажется, вы оба сошли с ума! Он, вероятно, забыл, что все еще официально женат? Почему он не пришел? Почему он прячется от меня? Он бросил меня здесь без каких-либо объяснений, и я хочу видеть его!
Несмотря на растущее негодование, я сумела сдержать себя и не повысить голос, не желая доставить Маре удовольствие увидеть меня потерявшей остатки самообладания.
Мара была несколько потрясена и ответила:
— Я поэтому и пришла сюда. Видкун хочет, чтобы ты пришла к нему завтра в гостиницу. Мы соберемся вместе и сможем обсудить создавшееся положение.
— Нет, я не вижу причин встречаться нам всем. Я не хочу иметь ничего общего с этим отвратительным делом и мне нечего больше сказать об этом. Надеюсь, Видкун знает, что делает, поэтому пусть он придет сюда сам и объяснится. Все, что я могу сделать — это выслушать его, — сказала я твердо.
— Ладно, я передам ему все, что ты сказала. Ты увидишь его завтра, — заявила Мара с вызывающей улыбкой. Она говорила еще некоторое время о каких-то мелочах, затем ушла, явно менее уверенная в себе, чем когда пришла ко мне.
Как только она удалилась, напряжение, которое поддерживало мою храбрость, спало, и это чуть не подкосило меня, лишь нарастающий гнев удержал меня на ногах. Я не столько была сердита на Мару, сколько взбешена неверностью Видкуна. Вне зависимости от того, какими чарами она обольстила моего мужа, как мог Видкун, такой принципиальный человек, попасть в эту ловушку? Это было ни с чем не сообразно, что мой муж готовится вступить в брак с другой женщиной, даже не начав разводиться со мной, и вдобавок ко всему посылает ко мне с таким известием свою любовницу. Это было настолько невероятным, что чем больше я думала об этом, тем меньше мне верилось в то, что сказала мне Мара. Но даже если учесть, что сказанное Марой могло быть только частью правды, мое положение в качестве жены было под серьезной угрозой. Более угрожающим было то, что, стремясь сломить мое сопротивление, Мара или ее мать могли информировать советские власти о происхождении моей матери и сделать ее заложницей. Я винила себя в том, что была так доверчива и так слепа.
Любой, кто когда-либо был предан или поставлен в такое глупое положение, кто должен был иметь дело с осколками своей разбитой жизни, поймет ту бурю противоречивых чувств, которые одолевали меня в тот день. Я была испугана и разгневана тем, что только сейчас ясно представила себе, как я беспомощна и зависима в моем нынешнем положении. Что мне делать? Что случилось бы со мной, если бы Видкун бросил меня без каких-либо средств к существованию?
Я поняла, что должна быть осторожна и попыталась успокоить себя, чтобы разобраться в том, что с первого взгляда казалось банальной ситуацией, легко объяснимой обстоятельствами. Видкун был очень неопытен во всем, что касалось женщин, а я была еще более наивной. Когда я оставила его одного, уехав в Крым с мамой и Ниной, мне не пришло в голову, что мой муж легко может стать жертвой женщины, которая помогла ему приобрести такого рода сексуальный опыт, полностью противоречащий моим принципам, но который при этом мог привлечь его. Такое происходит все время во всем мире. Просто я никогда не думала, что это может случиться с Видкуном и мной.
На следующее утро Мара пришла уже с Видкуном, чтобы отвезти меня к себе в гостиницу. Видкун пытался вести себя так, будто между нами ничего не произошло, но я заметила, что со времени нашей последней встречи он стал совсем другим человеком. Было ясно, что он ожидал неприятностей от меня и Мары, поэтому старался избежать их, маневрируя между нами и стараясь не затрагивать опасных тем.
Когда мы сели за стол в их номере в гостинице, Видкун начал издалека:
— Ну, Ася, так как Мара уже поговорила с тобой, и ты знаешь об изменениях в наших отношениях, как хорошие старые друзья мы можем спокойно обсудить наши действия. Я тебе говорил по пути в Париж, что хочу развестись с тобой, и теперь я вернулся сказать тебе, что женюсь на Маре. Кстати, можно уже сказать, что она моя жена, — он остановился и посмотрел на меня своими выпуклыми голубыми глазами, как будто хотел узнать, что я чувствую.
Я посмотрела ему прямо в глаза и ничего не сказала. Было ясно, что он чувствует себя очень неловко. Он продолжал поглядывать на Мару, как будто искал ее поддержки. Она только взглянула на него, но ничего не сказала. Тишина стала почти невыносимой, когда Мара, наконец, сказала:
— Хватит ходить вокруг да около, Видкун. У нас нет времени. Говори, о чем речь.
Это было впервые, когда я услышала, как она называет моего мужа по имени. Эта фамильярность вызвала во мне отвращение, и мне потребовалось сделать большое усилие над собой, чтобы не высказать Видкуну и Маре все, что я думаю о них обоих.
— Ася, в какой-то мере ты была подготовлена к этой новости, и теперь знаешь все. Хочешь что-нибудь сказать? — спросил Видкун.
Какая это заманчивая возможность! Все же я вспомнила, что обещала себе прошлой ночью оставаться спокойной. Я ответила:
— Что же я могу сказать? Особенно в этой ситуации, когда мы с тобой не наедине. Ты раньше никогда не спрашивал моих советов. Это ты уговорил меня выйти за тебя замуж. Мы оба пообещали друг другу любовь и верность до конца наших дней, и ты всегда мне говорил о святости брака. А после того, как ты уговорил меня любить тебя и доверять тебе, ты решил жениться на другой женщине, — я едва узнавала свой голос и с трудом продолжала. — Я просто не могу этого понять. Как ты можешь жениться на ком-то другом, не получив развода со мной? Но я знаю, что не могу изменить твоего решения. Разводись со мной. Делай, что хочешь. Что тебе нужно от меня? Что будет со мной? Я нахожусь в полной зависимости от тебя. У меня никого больше нет. А как насчет твоего обещания заботиться обо мне?
Подозреваю, что когда я задавала эти вопросы в попытке как-то упорядочить весь этот хаос, окружающий меня, Видкун аккуратно обдумывал каждое сказанное мной слово по своей педантичной привычке. Я думаю, он был рад, что я не плакала, не теряла самообладания и не устраивала каких-нибудь сцен. Он успокоился и, ходя из угла в угол, начал одну из своих речей:
— Давай не будем говорить о том, что мы не в силах изменить. Давай говорить о будущем, а не о прошлом. Уверяю тебя — у тебя нет причин волноваться. Я обещал заботиться о тебе, и сдержу свое слово. Пожалуйста, не забывай, что я все еще забочусь о тебе, как прежде, и хочу, чтобы ты была счастлива и жила в безопасности. Я даже думаю о возможности удочерить тебя.
Он остановился, и я решила, что он просто сошел с ума. Затем он продолжил:
— Во-первых, я бы хотел, чтобы ты получила хорошее образование. Я написал о тебе в несколько школ-интернатов для девушек, но они не принимают туда замужних или тех, кто был замужем. Кроме того, я считаю, что это не совсем то, что тебе нужно. Ты и так хорошо образована. Ты много читаешь и много знаешь, поэтому тебе необходима лишь домашняя подготовка, чтобы поступить в любой университет. Ты писала, что посещала лекции в Сорбонне, но я считаю, что хороший провинциальный университет был бы для тебя лучше и безопаснее: как, например, в Туре, который, я думаю, вполне подходит для тебя. Там очень красиво, а еще этот город знаменит своими яблоками. Я уверен, что тебе понравится там.
Его голос стал звучать тише, а мне стало казаться, что я вижу сон. Яблоки? Каким образом яблоки связаны с моим будущим?
Видкун возобновил свою речь:
— И тебе не нужно волноваться о своем паспорте. В Норвегии, как и в других цивилизованных странах, став однажды ее подданным, ты остаешься им навсегда, даже если позже выйдешь замуж и сменишь фамилию. Я узнавал об этом. И нет причин волноваться о нашем разводе. Есть страны, где можно получить развод очень быстро и вступить в новый брак с небольшой задержкой и минимальными формальностями, и я уже этим воспользовался, — он старательно избегал смотреть мне в глаза. — В Норвегии немного по-другому. Там требуется твое присутствие и согласие, да и сама процедура более сложная и дорогая. Но здесь, в Париже, это можно сделать в норвежской миссии. Я уже назначил время для встречи с ними. Мы сейчас туда поедем. Тебе только нужно сказать министру, что у тебя нет возражений. Я уверен, что этого будет достаточно, чтобы сменить твою фамилию в моем паспорте на фамилию Марии. Я все сделаю. Ты знаешь, что можешь мне доверять. Все ли тебе ясно? Ты готова ехать с нами в миссию?
Хотя, по всей вероятности, Видкун репетировал этот монолог в уме много раз, его голос не был абсолютно спокойным, и к концу своей речи он не выглядел столь уверенным, каким был в начале. Конечно, ведь у него было достаточно причин, чтобы нервничать и испытывать страх.
Для меня же эта сцена была совершенно унизительной потому, что Мария не дала мне возможности в такой критический момент остаться наедине с моим мужем. Она просто сидела, в полном молчании наблюдая за происходящим, и слушала. Она явно полностью контролировала ситуацию, в то время как Видкун был похож на деревянную марионетку.
Самые близкие люди имеют над нами наибольшую власть, поэтому могут причинить нам самую сильную боль, но именно от них мы имеем право ожидать лучшего отношения. Я только что перенесла самое худшее из того, что могло случиться со мной, и с болью осознала, что потеряла последнее уважение к Видкуну. Мне было жаль его, но в то же время я думала: «Какой он глупый! Какой презренный идиот! Он женился в первый раз, когда ему было почти сорок, и он едва знал, как справляться с одной женой, а теперь он связан со второй женщиной. Да еще какой женщиной!».
Наконец, я произнесла:
— Да, ты знаешь, что я тебе доверяла, как никому другому. Но это теперь неважно и у меня нет выбора. Я сделаю все, что тебе угодно.
Услышав мой ответ, Видкун и Мара вдруг стали более веселыми, оживленными и, видимо, потеряли ко мне интерес, поскольку начали спокойно говорить друг с другом главным образом о предстоящей поездке в миссию.
Я была в таком состоянии, что едва понимала, о чем идет речь. Единственное, что я отчетливо помню из их разговора, было то, что Видкун сказал Маре (мне было даже трудно в это поверить):
— Кстати, твоя фамилия Пасешникова немного банальна и проста. Сейчас у тебя есть возможность взять другую девичью фамилию, которая звучала бы более благородно. Слушай, давай сделаем вид, что Пасешниковой больше нет и теперь твоя фамилия Пасек. Это звучит по-европейски, к тому же она более короткая. Я знаю, что на Украине есть большая и многоуважаемая семья Пассек. Их фамилия пишется с двумя «с», но твоя будет звучать так же, и никто не будет знать разницу. Блестящая идея! Ты согласна? Возражений нет?
— Возражений нет, — ответила непринужденно Мара. Она оставалась совершенно спокойной, словно уже слышала раньше об этой «блестящей» идее.
Я смотрела на них обоих с изумлением. Становилось ясно, что я узнаю обо всех недостатках своего мужа только сейчас. Независимо от того, кому из них первому пришла мысль изменить фамилию Мары, было ясно, что эта идея получила полное одобрение Видкуна. С каких это пор он захотел быть связан с аристократами, к тому же таким обманным путем? Эта только что обнаруженная черта его характера показала его снобизм и пренебрежительное отношение к правде.
После этих приготовлений к визиту в норвежскую миссию мы отправились на встречу с министром. К этому времени я находилась в таком состоянии шока, смешанном с чувством отвращения, что ничто мне больше не казалось важным, и я была согласна на все. Тем не менее я полюбопытствовала, что еще придумал Видкун помимо фокуса с фамилией Мары. Он выглядел таким непредсказуемым и таким не похожим на себя, что у меня возникли опасения о психическом состоянии капитана. Не стал ли невменяемым этот человек — на данный момент единственный, на кого я могла положиться?
В миссии сначала все пошло по плану Видкуна. В назначенное время меня, его и свежеиспеченную мисс Пасек провели в кабинет министра или его поверенного в делах. Он приветствовал Видкуна очень дружелюбно по-норвежски. Затем, повернувшись ко мне, он сказал по-французски: «Возможно, вы меня не помните, госпожа Квислинг, но мы встречались с вами в прошлом году в Осло». Я ответила, что тоже его узнала. Когда Видкун представил ему по-норвежски Мару, поверенный в делах, как мне показалось, несколько удивился, но ничего не сказал, а только поклонился.
После этого последовала довольно-таки продолжительная беседа дипломата с Видкуном по-норвежски. Так как они говорили на своем языке, мы с Марой ничего не понимали. Через некоторое время я заметила, что разговор принял неприятный характер и перешел в спор. В конце концов поверенный в делах сказал мне по-французски, что хочет задать несколько личных вопросов. Я кивнула в согласии.
— Скажите мне откровенно, почему вы хотите развестись со своим мужем? — спросил он.
Я могла сказать ему только правду: что это было желанием Видкуна, а не моим, и что до сегодняшнего дня я не имела никакого представления о том, почему он вдруг принял такое решение, добавив, что в моем положении я не могла возражать.
Затем он спросил меня, обсуждала ли я это со своими родителями; наняла ли я адвоката и подписала какие-либо документы о расторжении брака. Я ответила «нет» на все эти вопросы. Видкун хотел что-то добавить, но его вежливо попросили не прерывать разговор. Поверенный в делах задал мне еще несколько тщательно сформулированных вопросов, и по мере того, как он узнавал мою историю, он все больше приходил в ярость.
После этого он опять заговорил с Видкуном по-норвежски, и вскоре между ними завязался горячий спор до того момента, как поверенный в делах снова перешел на французский, чтобы я могла понять, что происходит. Он говорил громко и с явным возмущением.
— Я хочу, чтобы вы оба услышали мое решение. Капитан, я внимательно рассмотрел вашу просьбу об изменениях в вашем паспорте и нахожу ваши доводы необоснованными. Нет никаких свидетельств о разводе с вашей женой. Согласно норвежским законам, Александра Квислинг является вашей законной женой, и закон признает в этом качестве только ее и никого другого. Если вы действительно снова женились и у вас вторая жена, то вы двоеженец, и я попытаюсь сделать так, чтобы вас привлекли в норвежском суде к ответственности за двоеженство. Лично я поражен, что вы, капитан, посмели привести эту другую женщину в мой кабинет вместе с вашей женой. Это все, что я хотел вам сказать.
К этому времени он уже кричал. Я видела, что Видкун тоже пришел в ярость, он сильно покраснел и начал резко возражать, но дипломат прервал его, встав из-за стола. Мы тоже поднялись. Поверенный в делах подошел ко мне, взял мою руку в свои руки и тепло попрощался со мной, посоветовав нанять хорошего адвоката. Затем, приобняв меня за плечи, он проводил меня до двери и пожелал успеха. И это было все. Даже если бы я сама хотела обратиться к адвокату, то у меня на это не было никаких средств.
Я знала, что по крайней мере на данный момент Мара не достигла своей цели, и это давало мне чувство удовлетворения. В то же время ее поражение в некотором смысле было и моим, так как нам обеим пришлось быть свидетелями унижения Видкуна. Я увидела, что мой муж, коим я все еще его считала, не только был мне неверен, но также был ненадежным, неуравновешенным, слабым и, очевидно, был способен обманывать людей, но я не знала еще, до какой степени.
За эти два дня у меня было так много потрясений, что я чувствовала себя душевно опустошенной и в моем сердце была тяжесть. Я была рада вернуться в свою комнату в пансионе, в атмосферу спокойствия и одиночества.
Этой ночью я долго не могла заснуть. Одна мысль не давала мне покоя: «Если Видкун решил избавиться от меня, почему он просто не оставил меня в России?».
Глава 24. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Заметки Кирстен Сивер
Кроме тех писем, которые Квислинг написал домой для подтверждения его «брака» с Марией Пасешниковой и «дружбы» Марии с Александрой, осталось очень мало переписки за 1924 год в архивах Квислинга и Нансена, относящихся к Видкуну Квислингу лично. Поэтому рукописная записка от г-на Коллинза, близкого помощника Нансена в Женеве, особо выделяется. Эта записка от 4 февраля 1924 года заканчивается следующими словами: «Надеюсь, что Ваши личные неприятности вскоре разрешатся»[112]. Знал ли г-н Коллинз, в каком затруднительном положении оказался Квислинг или же тот просто пожаловался на свое слабое здоровье или своей «жены». Последнее они с Марией использовали в качестве отговорки все чаще и чаще.
Всего несколько месяцев спустя, 18 апреля, Квислинг подал прошение на продление своего военного отпуска, которое было удовлетворено. Поводом для этого запроса послужило то, что на пути домой из Лиги Наций он задержался в Париже, так как его жена серьезно заболела[113]. Воспоминания Александры за этот период ясно показывают, что здоровье Марии было отличным, но, возможно, Квислингу нужно было время, чтобы разобраться со своими делами, поэтому он решил, что лучше будет сказать, что нездорова его «жена», а не он сам. Военные власти, как правило, испытывают недовольство, если офицер часто жалуется на состояние своего здоровья, тем более Квислинг уже использовал свое «плохое» самочувствие в качестве отговорки по крайней мере трижды в течение одного года.
Рассказ Александры
Моя спокойная жизнь в пансионе пришла к внезапному концу. Через несколько дней после посещения норвежской миссии Видкун вернулся на Балканы, не дав мне возможности обменяться с ним наедине хотя бы несколькими словами, а Мара бесцеремонно въехала в мою комнату со всем своим багажом. Мне никогда не нравилось делить комнату с чужим человеком, но я не смогла ничего сделать, чтобы не пустить Мару. Она объяснила, что у Квислинга не хватает денег на то, чтобы оплачивать две комнаты.
Это объяснение казалось правдоподобным, так как Видкун опять не оставил мне обещанных денег на карманные расходы[114]. По словам Мары, он дал ей небольшую сумму, которой хватало лишь на содержание нас обеих в пансионе. Несмотря на это, я не могла не заметить со временем, что даже при нашем скромном денежном положении у нее, казалось, был неиссякаемый источник наличных денег для ее собственных нужд.
Я оказалась под полным контролем Мары. Мое прежнее убежище у мадам Глайз превратилось в тюрьму. У меня не было никаких секретов, потому что Мара входила в мою комнату в любое время дня и ночи, словно хотела поймать меня на чем-то. Насколько это было возможно, я продолжала жить так, как привыкла, несмотря на то, что Мария следила за моей перепиской, за каждым моим шагом. Я до сих пор озадачена ее поведением, но, возможно, она надеялась застать меня с мужчиной (что было маловероятно, поскольку в то время я и думать не могла о мужчинах и сексе), или ей было интересно знать, с кем из России я веду переписку и какие у меня связи в Париже. Все эти предположения имели основания.
Капризы Мары не давали мне возможности заниматься своими обычными делами. Я не могла читать, так как она постоянно болтала, мешая мне сосредоточиться, когда я читала днем, и если же я пыталась читать в кровати перед сном, Мару беспокоил свет. Она никогда ничего не читала, кроме газет время от времени. Моя переписка, которая была единственной связью с моим прошлым и Видкуном, превратилась в ежедневное испытание моих нервов. Практически невозможно было получить или отправить письмо без ведома Мары. Я хотела сохранить письма от мамы, от моих друзей и Видкуна, но нужно было избавляться от них после прочтения, поскольку у меня не было ни ящика, ни сундука с замком, и я не могла ничего спрятать от Мары. Когда я писала письмо, часто Мара заглядывала через мое плечо.
Видкун, безусловно, знал о происходящем, так как каждый раз просил уничтожать его письма. Хотя письма от него все еще приходили достаточно регулярно, они становились все короче, и все то время, которое Мара пробыла у меня, он придерживался в них общих тем. Видкун жаловался, что он очень занят, но никогда не рассказывал, чем именно. Он постоянно уверял меня, что вскоре мы все будем вместе, и что все будет прекрасно, также он часто писал, чтобы я и Мара сблизились и стали хорошими подругами.
Однако его показной оптимизм не имел ничего общего с его реальным взглядом на сложившееся положение. Если он считал, что все так хорошо, то почему я находилась под надзором Мары, почему он изолировал меня еще больше, сделав невозможной связь с его кузиной Вивеке, моим самым близким другом в Осло, которая была в Париже в то же самое время. Спустя много лет я узнала, что именно этого он и хотел. Я не только не знала о пребывании Виви в Париже, но и Виви, как и вся ее семья и друзья, не были осведомлены о моем местонахождении. Если бы я знала тогда, что она рядом, я бы прошла весь Париж пешком, лишь бы найти ее и побеседовать о том, что происходит. Я нуждалась в доказательствах, что реальный мир все еще существует.
Хотя мое поведение не давало поводов для подозрений, все же постоянное присутствие Мары дало свои результаты. Мои нервы были совершенно расшатаны из-за потери частной жизни и контроля над своей судьбой — всего, кроме собственных мыслей. Без Мары я никуда не могла уйти, и она повсюду брала меня с собой. Она говорила, что ей нужно сменить обстановку, поскольку в пансионе мадам Глайз ужасно скучно, но мне было ясно, что она просто чувствовала себя неловко среди других обитателей пансиона. Кроме того, они говорили на языке, которого Мара не понимала. Они были моими друзьями и открыто выражали свое удивление и негодование по поводу моего явно ухудшившегося положения. Когда ее отношение ко мне стало более очевидным, они демонстрировали свою солидарность со мной и избегали общения с Марой при любой возможности.
Мои друзья не знали о «новой» девичьей фамилии Мары, потому что я никому не говорила об этом. Когда Мара по возвращении в Париж стала пользоваться фамилией Квислинг, сначала осторожно и главным образом за стенами пансиона, это вызвало некоторое недоумение у тех, кто совсем недавно знал ее под фамилией Пасешникова. Бывало, что нас обеих представляли новым знакомым как госпожа Квислинг и госпожа Квислинг, и сразу возникали неизбежные вопросы, но Мара объясняла, что мы состоим в родстве по браку с мужчинами Квислинг. Я находилась в таком подавленном состоянии, что мне нечего было добавить к этому.
Моя подруга Види в то время уже имела достаточное представление о моих семейных проблемах, и поскольку она была хорошо знакома с моим образом жизни, вкусами и привычками, то отлично понимала, в каком я была напряжении из-за постоянного присутствия Мары. Види невзлюбила Мару с самого начала и теперь относилась к ней крайне сдержанно. Она не вмешивалась в мои дела, но если мы оставались наедине, то Види спрашивала, как мои дела, ничего ли мне не нужно и не нуждаюсь ли я в какой-либо помощи. Каждый раз я отрицательно качала головой, помня данное Видкуну обещание всегда молчать. «Нет, спасибо, дорогая Види, у меня все хорошо, пожалуйста, не беспокойся. Я думаю, что справлюсь со своими проблемами сама».
Хотя Мара чувствовала холодное отношение к ней Види и других жильцов, было заметно, что это не слишком ее беспокоило. Она была в восторге от парижских магазинов, покупала себе все, что хотела, и могла часами примерять платья, костюмы, туфли и белье. Когда Мара расхаживала по нашей комнате в своей белой шляпке и грязном халате перед тем, как лечь спать или уйти куда-то, она производила неприятное впечатление. Но на людях она выглядела аккуратной. Ее прическа и макияж всегда были в порядке, она была в идеально выглаженной одежде, которая гармонировала с туфлями и сумкой. Одним словом, выглядела прекрасно и хорошо себя держала.
Я никогда не говорила с ней о Видкуне, даже когда она заговаривала о нем сама. Когда Мара говорила о нем, ее тон становился пренебрежительным, и все указывало на то, что она не уважала и не боялась его. А я держала свой язык за зубами.
Постороннему наблюдателю мы казались самыми близкими подругами, так как повсюду ходили вместе. К тому же в то время я ничего не знала о том, что происходило за моей спиной и, конечно, не могла заглянуть в будущее, поэтому меня утешала мысль, что я, а не она, все еще жена Видкуна. Это позволяло мне поддерживать с ней корректные отношения, что было необходимо, учитывая то, что мы жили в одной комнате. Бесполезные разногласия превратили бы мою жизнь в настоящий ад. Но я чувствовала, что с каждым днем, прожитым таким образом, мои силы постепенно покидали меня, и мои друзья в пансионе видели это и волновались за меня.
Как-то я была одна в комнате, читая одну из двух ежедневных русских газет, издаваемых в Париже, а Мара рассматривала рекламу в той же газете и постоянно прерывала меня замечаниями о том, что эти объявления рассказывали о жизни белоэмигрантов за границей. Вдруг она встала и заявила, что ей очень захотелось хорошей русской еды. Вырвав страницу с названиями и адресами русских ресторанов, разбросанных в ту пору по всему Парижу, она сказала, что мы должны начать посещать их немедленно. Первый русский ресторан, в который мы отправились, находился недалеко от пансиона. Он был небольшим, но с замечательной кухней, они очень гордились своим поваром, который прежде работал при царском дворе. В то время, вероятно, были сотни парижских поваров, которые с разной степенью правдивости уверяли, что в прошлом они готовили еду для царя или для какого-нибудь великого князя. По крайней мере во многих русских ресторанах было хорошее меню. Куда бы мы ни ходили, мы всегда съедали слишком много. Эти русские рестораны привлекали Мару не только очень вкусной едой, но и тем, что там она могла говорить на своем родном языке. Впервые в жизни Мара оказалась среди людей, которые были знамениты и занимали высокие посты в старой России. Сначала я думала, что ей просто нравилось новое окружение, но сейчас, когда я знаю значительно больше, мне кажется, что она искала людей, которых «Трест» надеялся заманить в свою ловушку. Если Мара рассчитывала узнать о моих «подозрительных» контактах, то вскоре она разочаровалась, потому что я никогда не встречала там своих знакомых из России.
Естественно, не все, кто говорил о своем благородном происхождении, были таковыми на самом деле, но в этой первой волне эмиграции в основном были выдающиеся люди, которые потеряли все во время революции и бежали за границу. Все в них говорило о прежней привилегированной жизни: их простые и элегантные манеры, знание иностранных языков и многое другое. Организаторам «Треста» было известно, что некоторые из этих людей принимали активное участие в подпольной работе, направленной на освобождение России от советского режима.
Теперь, когда у Мары появились новые интересы, она стала проводить время с молодым армянином, которого она встретила во время своего первого визита в Париж, и его друзьями. Я была очень рада этому, поскольку теперь у меня была возможность побыть несколько часов в своей комнате в одиночестве или побеседовать с друзьями из пансиона, которые расспрашивали меня о моих неприятностях. Все они, и особенно Види, недоуменно спрашивали, что сделало меня такой апатичной и подавленной, почему я выгляжу такой озабоченной и провожу с ними так мало времени, особенно после возвращения Мары? Я не знала, что ответить на их вопросы. Во-первых, они, вероятно, догадывались о том, что происходило, а во-вторых, я боялась, что если скажу что-нибудь или приму любое их предложение о помощи, то это приведет в ярость Видкуна и ухудшит мое положение.
В конце концов Маре надоели походы по магазинам и ресторанам, и она начала искать новые интересы среди русских эмигрантов и армянских друзей. Она бросила свои уроки французского языка и снова возобновила свой тщательный контроль над моей жизнью.
Из русской газеты или от знакомого Мария узнала о Русской студии искусства, которая совсем недавно открылась в Париже. Это была театральная школа, направленная на обучение людей для работы в киноиндустрии, которая уже тогда имела большую популярность и конкурировала с театром. Рассказывали много историй о людях, которые сделали головокружительную карьеру на этом новом поприще. Русская студия искусства гарантировала, что ее лучшие студенты будут рекомендованы режиссерам крупных международных кинокомпаний.
Мария вернулась полной энтузиазма после ее первого посещения Русской студии искусства. Несмотря на то, что стоимость обучения была достаточно высокой, она записалась сразу же и прошла вступительный экзамен. Она сказала, что мне тоже следует записаться туда.
«Ты действительно должна встретиться с новыми людьми и найти новых друзей, — сказала Мара. — И было бы так здорово, если бы мы смогли одновременно брать эти уроки и уроки актерского мастерства».
Хотя я была удивлена как приглашением Мары, так и неожиданным пренебрежительным отношением к дополнительным расходам, но все же согласилась пойти с ней. Через некоторое время я тоже выдержала вступительные экзамены в Русскую студию искусства, после чего меня представили однокурсникам и преподавателям. И большинство студентов, и скромный штат преподавателей были русскими эмигрантами. Если эта Русская студия искусства и была успешной до сих пор, то только благодаря тому, что в Париже еще было достаточно много русских эмигрантов, которым удалось спасти часть своего состояния и которые теперь мечтали о выгодной карьере в новой перспективной сфере искусства.
Студия занимала большой частный особняк, принадлежавший Айседоре Дункан, в престижном районе на правом берегу на Рю де ля Помп. В конце большого зала была огромная сцена с тяжелым бархатным занавесом. Сцена использовалась для наглядных показов во время лекций и для актерской практики. Дом был построен для Айседоры Дункан в то время, когда ей оказывал поддержку Зингер. В нем жила она и ее студенты, там она устраивала личные вечеринки, также дом служил в качестве студии для ее выступлений. К тому времени, когда я пришла туда, она была замужем за известным советским поэтом Сергеем Есениным и жила весьма бедно в Советском Союзе.
Я была настолько погружена в свои проблемы и так растеряна от того, что очутилась в таком месте, как Русская студия искусства, что не искала возможности познакомиться с другими учениками, поэтому помню всего нескольких моих сокурсников. Мара, однако, достаточно быстро образовала свой круг друзей (в основном это были мужчины) из актеров студии и студентов группы, в которой состоял и ее вездесущий молчаливый армянский друг. Она также подружилась с господином Никитиным, руководителем студии. Поговаривали, что он сотрудничал с кинематографической студией как актер и режиссер. Вместе с помощником он вел почти все занятия в студии.
Несмотря на то, что Никитин обращался ко всем, включая и меня, с уважением и вниманием, все же было что-то второсортное в этом учебном заведении. Мои занятия в балетной школе научили меня тому, что для достижения профессионального мастерства во всем, что называется искусством, требуется много лет упорной тяжелой работы. В Русской студии искусства не давалось достаточно времени для развития мастерства, не было должного уровня руководства и общехудожественной цели для этой разношерстной группы студентов.
Все чаще я спрашивала себя, что я, обученная балерина, делаю в этой школе клоунов. Примерно в то время, когда у нас должен был быть «выпускной вечер» (всего после нескольких недель обучения!), я узнала, что некоторые из моих знаменитых преподавателей балета теперь были в Париже, включая известного Мордкина, который еще в Харькове рекомендовал мне продолжать балетную карьеру. Хотя я и не танцевала два года, но я была еще так молода, что несколько месяцев упорных занятий помогли бы мне вернуться в отличную форму. Теперь мне нужны были только две вещи: деньги на занятия балетом и разрешение Видкуна возобновить мою карьеру. Как только я решила вернуться к балету, я написала Видкуну о своем намерении. Я объяснила ему, как много балет значил для меня, а также напомнила ему, что хотя вначале на это потребуется немного денег, позже моя карьера балерины сделает меня финансово независимой, и я заверяла его, что буду пользоваться своей девичьей фамилией.
Учитывая все недавние события и перемены в наших отношениях, я думала, что Видкун будет доволен, поэтому ждала его ответа с нетерпением, и он не заставил себя долго ждать. Прочитав ответ, я была потрясена: на все я получила категорический отказ. «Любая сценическая карьера небезопасна, ненадежна и, что наиболее важно, не подходит барышням из приличных семей. Я не позволю бросить тень на доброе имя семьи Квислинг. Даже если ты будешь использовать другую фамилию, это не гарантирует, что репортеры не будут пытаться узнать истину. Сейчас мы должны быть крайне осторожными, чтобы не привлекать внимание к нашей пока еще не разрешенной деликатной ситуации. Тебе нужно получить хорошую и надежную профессию. Я займусь этим, как только закончится моя командировка. Будь терпелива. Тебе не о чем беспокоиться. Я буду заботиться о тебе до конца своих дней и даже дольше, потому что ты — часть моей семьи, и я люблю тебя, как свою дочь».
Он закончил письмо своей обычной просьбой уничтожить его после прочтения. Я выполнила его просьбу, но сказанное им глубоко запало мне в душу. Он не только подчеркнул, что относится ко мне, как к своей дочери, но еще и разрушил все мои планы, желая и дальше контролировать мою жизнь. После этого я утратила надежду, которая поддерживала меня в течение последних недель. Лишившись каких-либо перспектив, я должна была взглянуть по-новому на мое нынешнее положение. Когда Мара въехала в мою комнату, отняв остатки моей независимости, я все же могла продолжать свое существование, так как у нее не было возможности контролировать мои мысли. Она не сумела лишить меня надежды на лучшее будущее. Это позволяло мне чувствовать себя достаточно независимой и свободной в ее присутствии, а также поддерживать вежливые отношения с ней. По правде говоря, Мара тоже прилагала усилия для того, чтобы наши отношения были дружелюбными, старалась быть веселой, насколько она это умела. Я старалась избавиться от мысли, что Мара украла не только мою личную жизнь, но и моего мужа.
Хотя мы все еще скрывали напряженность в наших отношениях, письмо Видкуна поставило на всем этом точку. Потеряв всякую надежду выбраться из своей тюрьмы, я утратила аппетит и похудела так, что на это стали обращать внимание. Вернулась моя бессонница, и у меня больше не было сил поддерживать веселое настроение. Я начала избегать людей, даже моих ближайших друзей из пансиона.
Вероятно, по настоянию других жильцов, Мара стала выражать обеспокоенность о моем ухудшающемся состоянии. Она говорила, что я не должна уединяться в своей комнате, что нужно заставлять себя выходить на улицу и общаться с другими людьми. Я нуждалась в развлечениях! Она также заверяла меня, что все скучают по мне в школе, и Никитин расхваливал меня. Он был уверен, что сделает из меня кинозвезду, если я буду продолжать работу под его руководством, и что я должна вернуться в студию.
Я не слушала ее и хотела только одного: остаться наедине со своими мыслями. Эти мысли были черны, как моя безысходность, но я чувствовала, что должна понять, что происходит со мной. Откуда появились эти ужасающие силы, полностью овладевшие моей жизнью? Я не могла больше думать, что все будет хорошо. Становилось все тяжелее и тяжелее. Глубоко во мне был пронзительный, но безмолвный крик боли, ярости и отчаяния: «Черт возьми! Черт возьми!». Несмотря на боль, причиненную мне Видкуном, я все-таки верила, что в глубине души он желает мне благополучия, и поэтому я должна доверять ему. Я была убеждена, что он оказался в своем затруднительном положении не по собственной вине. Мне казалось, что он ищет выход из сложившейся ситуации так же отчаянно, как и я.
Как-то вечером Мара вернулась в пансион раньше обыкновенного и застала меня в полутемной комнате в мрачном настроении. Она включила свет, взглянула на меня и сказала:
— Почему ты сидишь тут одна? Снова плохое настроение? Тебе надо выйти из этого. Вот, посмотри. Я принесла тебе кое-что из студии, — она вынула из сумки маленькую коробочку и протянула ее мне.
— Что это? — спросила я, не желая принимать подарки от нее.
— Это именно то, что тебе нужно — самое лучшее средство от твоего уныния. Возьми, и ты почувствуешь себя гораздо лучше, — сказала Мара, открывая коробочку, в которой был какой-то белый порошок.
— Нет, спасибо. Я не больна. Мне не нужны лекарства, — сказала я.
— Смотри, я покажу тебе, как это делается, — настаивала она. — Ты просто берешь щепотку этого порошка, вдыхаешь его через нос, и вскоре будешь чувствовать себя здоровой и в хорошем настроении.
Я вспомнила, что несколько лет назад слышала в России выражение «нюхать кокаин». Я думала, что это нечто вроде ароматических солей. Но взрослые считали, что нюхать кокаин — это опасно, и у меня создалось впечатление, что этого необходимо избегать.
— Это кокаин? — спросила я Мару.
— Да, что-то в этом роде. Ты знаешь, что даже доктора и зубные врачи пользуются теперь кокаином. Попробуй хоть чуть-чуть один раз, с тобой ничего не случится, это тебе не повредит и, возможно, избавит тебя от депрессии. Попробуй, не будь трусихой! — настаивала Мара.
И я подумала (если в тот момент это можно было назвать «думаньем»): «Кто его знает? Ведь даже мама пользовалась нюхательной солью, и у нее была такая малюсенькая хрустальная бутылочка нашатырного спирта, которую она подносила к носу, когда чувствовала слабость. Мама и мне давала понюхать, предупреждая, чтобы я не подносила бутылочку близко к носу. Запах был настолько сильный, что чуть не сбил меня с ног, а на глазах у меня выступили слезы». Все же Мара убедила меня, и я решила попробовать этот белый порошок. Я вдохнула его носом несколько раз, как она мне сказала, и вскоре стала чувствовать себя намного лучше — беззаботной и безумно счастливой.
Как раз настало время ужина, Мара и я вошли в столовую вместе. После того, как все уселись за стол, меня охватил безудержный смех. Все окружающее казалось мне очень смешным. Я смеялась так, что не могла даже поднять вилку или ложку, и вскоре мне пришлось опустить свою голову на стол. Сидящие за столом посмотрели друг на друга с недоумением и спросили, что случилось. Между приступами хохота я смогла объяснить, что не знаю, почему мне так смешно — это, вероятно, был тот порошок, кокаин, который Мара дала мне понюхать перед ужином. Внезапно мой истерический смех прекратился из-за того, что я начала задыхаться, как от острого приступа астмы, мое сердце выпрыгивало из груди и мне казалось, что я умираю.
Обычно спокойное и высокомерное поведение Мары перешло в панику. Она взяла меня под руки и попыталась вывести из комнаты, повторяя снова и снова по-русски, который понимали только я и Вида: «Все в порядке. Это скоро пройдет. Это у нее с сердцем. Все будет хорошо».
Тем временем некоторые из постояльцев встали из-за стола и стали помогать Маре. Кто-то открыл окно, кто-то пытался оказать мне первую помощь, а кто-то начал взволнованно требовать вызвать скорую помощь. Мадам Глайз, конечно, хотела избежать скандала, и, к счастью, я пришла в себя без помощи врача. Позже мне сказали, что это была идиосинкразия — в то время так называли реакцию на кокаин, и что я была близка к смерти.
Произошедшее со мной все же сыграло положительную роль, поскольку после этого Мара никогда больше не предлагала мне кокаин, также это показало всем обителям дома, что она намеревалась серьезно навредить мне. Даже те, кто в прошлом выражали некоторое беспокойство о моем здоровье, теперь были поражены и разгневаны этим. Действуя от имени мадам Глайз, Види в частном разговоре расспросила Мару о случившемся. Види осталась недовольна объяснениями Мары и сказала, что хочет сообщить об этом капитану Квислингу и попросить его оградить меня от такой опасной компании. «Если он не знает о том, что здесь происходит, то пришло время сообщить ему об этом», — сказала она.
Я была против этого и просила Види ничего не говорить Видкуну, но она и слышать ничего не хотела. Я была слишком наивна и не понимала, что моя жизнь действительно находилась в опасности. Види сказала, что ей так или иначе придется написать моему мужу, потому что он должен был ей деньги за ее услуги в качестве моей помощницы. Ни мне, ни Види в то время даже в голову не могло прийти, что Видкун на самом деле оправдывал действия Мары по отношению ко мне. Сама эта мысль была невероятной.
Более пожилые постояльцы пансиона демонстрировали свое недовольство Марой, игнорируя ее, а молодые люди выражали свое негодование открыто, продемонстрировав ей, что намерены сообщить французским властям «о преступной попытке Мары избавиться от меня с помощью наркотиков».
Мара не могла не обращать внимания на эти дискуссии. В то время как я находилась в апатии и в изнеможении и мне казалось, что все происходящее не касается меня, Мара торопливо писала письма, стараясь найти для себя поддержку. Несмотря на то, что я не была обеспокоена недавно случившимся, Видкун среагировал на это известие довольно быстро. Спустя три или четыре дня после эпизода с кокаином он вернулся в Париж и сообщил, что мы с Марой должны быстро упаковать свои вещи, расплатиться с пансионом и быть готовыми немедленно уехать из Франции. Он сказал, что заедет за нами через час.
Новости о нашем неожиданном отъезде вывели меня из полусонного состояния и быстро разошлись по всему дому. К сожалению, некоторых моих знакомых на тот момент не было в пансионе, поэтому мне не удалось лично попрощаться с ними, но я попросила Види передать им мой адрес в Осло, поскольку я думала, что мы едем в Норвегию. Несмотря на то, что мне было грустно покидать всех этих симпатичных людей, которые многим помогли мне, я почувствовала большое облегчение, если не счастье.
Наконец, что-то изменилось впервые за несколько месяцев. Без сомнения, Видкун намеревался отвезти меня обратно домой в Норвегию, где меня ждет тишина и покой и где я смогу заняться чем-то полезным. Как он и обещал, мой муж явился ровно через час и быстро усадил меня и Мару в такси. Несмотря на то, что в моих недавних мечтаниях не было Мары, я оставалась веселой до тех пор, пока не увидела, что наше такси направляется не на железнодорожную станцию, а в совершенно незнакомый район Парижа. В конце концов мы остановились перед маленькой гостиницей среднего класса с вывеской, гласившей: «Норвежская гостиница SVANE». Примитивно нарисованный лебедь болезненного синего цвета, который явно испытывал какие-то муки, украшал вывеску как своего рода зловещее предзнаменование.
Видкун поспешно сопроводил меня и Мару по лестнице на третий этаж в комнату, которую снял для нас. Он сразу же заявил, что ему необходимо возвращаться на Балканы, и исчез, не дав мне возможности спросить причину столь быстрого переезда и узнать его планы на будущее.
Я не нуждалась в помощи Видкуна, чтобы понять, как только он вышел из комнаты, что мне не предстоит вскоре сесть на поезд, уехать в Норвегию и жить счастливо без Мары. Никто в пансионе Мадам Глайз не знал, где я нахожусь, а на новом месте жительства никто не знал обо мне. Единственная перемена — это была перемена к худшему.
Глава 25. НИКИТИН
Рассказ Александры
Прежде чем уехать, Видкун попросил нас сидеть безмолвно, ждать дальнейших указаний от него и держаться как можно дальше от пансиона мадам Глайз, чтобы никто не узнал, что мы все еще в Париже. Для меня в моем подавленном состоянии это предупреждение было лишним. Моя глубокая депрессия в течение всего времени моего заключения в отеле «Сван», вероятно, является причиной, объясняющей, почему я так мало помню об этом периоде.
Я никогда не жила одна и всегда нуждалась в ком-то, кто бы заботился обо мне. Отель «Сван», возможно, и был достаточно хорошим, но его холодный и безликий вид действовал на меня угнетающе. Было очень тяжело находиться в этой маленькой комнате на третьем этаже с Марой, которую я все больше боялась, но в то же время мне было страшно оставаться одной. Когда Мары не было, я запирала и баррикадировала дверь. Моя боязнь была гораздо сильнее того страха и чувства одиночества, которые я испытывала маленькой девочкой, когда родители оставляли меня в полупустом интернате. Первые несколько дней мы с Марой ходили в дешевые рестораны, расположенные недалеко от гостиницы. Но потом Мара вдруг заявила, что у нас осталось мало денег и мы должны быть более экономными, предложив готовить у нас в номере. Я была уверена, что нам действительно нужно экономить, так как Видкун снова не оставил мне денег. Еда меня, в общем-то, не очень интересовала, потому что у меня не было аппетита. Вопреки правилам гостиницы мы обзавелись электрической плиткой, и за время нашего пребывания там ели овсянку, вареные яйца и пили чай. Мара дополнительно ела где-то в другом месте. Как только она убедилась, что я никуда не уйду, она стала проводить больше времени в студии у Никитина или где-то еще. Казалось, Мара была вполне довольна нашим цыганским образом жизни, что не было удивительным, поскольку она, в отличие от меня, сохранила свободу, своих друзей и у нее были деньги на свои нужды.
Этот период остался в моей памяти как самый ужасный в моей жизни, ведь я не знала, как долго все это продлится и чем закончится. У меня не было книг, только иногда французская газета. Я не получала писем, потому что все пересылалось в Осло, и я была отрезана от всего мира и от мамы. Я потеряла чувство времени, и мне кажется, что эти мытарства продлились три или четыре недели. Время от времени Видкун появлялся в Париже, но я никогда не знала о его приездах и о том, где он останавливался. Я видела его мало и только в присутствии Мары, когда он приходил в отель повидаться со мной. Мара, вероятно, встречалась с ним и в других местах, но продолжала жить со мной, даже когда Видкун был в городе. У меня создалось впечатление, что они не хотели выпускать меня из вида на долгое время.
Мой страх и нетерпение с каждым днем усиливались. Однажды, когда Мара была со мной в комнате, я вспылила:
— Это он создал такое невыносимое положение и не сдержал своего слова обеспечить мне приличную жизнь и возможность получить образование! — сказала я Маре. — Так больше продолжаться не может, необходимо что-то предпринять!
Мара, казалось, была встревожена моей вспышкой, но, к моему удивлению, не начала защищать Видкуна, а встала на мою сторону, критикуя «этого бестолкового человека», как она его назвала. Хотя она часто открыто демонстрировала отсутствие уважения к Видкуну, когда мы жили в пансионе, меня все же несколько поражало, когда она выступала против него. Ее презрение на самом деле могло быть настоящим, но что-то подсказывало мне, что она подстрекала меня на неосторожные высказывания. Она сказала, что разделяет мои чувства, но нам нужно быть терпеливыми до тех пор, пока Видкун не завершит все юридические процедуры. Кроме того, у него были трудности с его норвежским военным начальством, с Нансеном и Лигой Наций. Возможно, он скоро и вовсе потеряет свою привилегированную работу в этих организациях. Она также добавила, что это обязывает нас быть крайне экономными в наших расходах. Теперь было ясно, что Мара знала значительно больше о том, что происходило. Я, однако, не высказывала своего мнения, что проблемы Видкуна могли быть следствием появившихся слухов о его непристойных брачных отношениях.
После короткой паузы Мара сказала, что Никитин все еще спрашивает обо мне, так как я была у него самой талантливой ученицей, которую он знал. Я сказала ей свое мнение об этих ничего не стоящих комплиментах, которых я наслушалась в прошлом. Я также напомнила ей о многих русских эмигрантах, которых мы встречали в Париже, и которые хвалили нас за знакомство с капитаном Квислингом, верным помощником Нансена.
Мару было нелегко убедить. Она призналась, что студия Никитина, как и многие другие эмигрантские заведения, испытывает трудности, теряет учеников и не сможет долго просуществовать. К тому же только что скончалась жена Никитина, оставив его с маленькой дочкой. Ему было необходимо искать другой заработок, поэтому он стал собирать группу молодых актеров и актрис для поездки в Южную Америку, надеясь, что его бывшие состоятельные ученики помогут ему открыть свою школу и основать кинематографическую компанию. Там нет никакой конкуренции на этом поприще, и успех был почти гарантирован.
«Никитин хотел бы взять тебя, если ты сможешь оплатить проезд, — добавила Мара. — Все можно устроить, и тогда все твои проблемы будут решены и сбудутся твои мечты». Она, конечно, не сказала, откуда появятся деньги, но, как всегда, деньги у нее появлялись, как из водопроводного крана, который она то закрывала, то открывала по своему желанию. Я сказала, что эта идея совершенно нелепа, и она не столь глупа, чтобы предлагать мне это. Меня никогда не интересовала никакая друга карьера на сцене, кроме как карьера балерины, к которой я была совершенно готова. Если у меня нет возможности жить с моим мужем, то я хотела бы получить свободу и жить там, где я захочу. Когда мой муж взял меня в жены, он обещал заботиться обо мне, любить и быть верным мне. Вместо этого он предал меня, нарушил все свои обещания, и я просто устала от всего этого! Я больше не могу так! Я была очень раздражена этим разговором, и сказала Маре, что в состоянии сама найти себе подходящую школу, университет или место в первоклассной балетной труппе, если бы Видкун не возражал против моей карьеры даже под другой фамилией. Я спросила ее, почему она считает, что Видкун вдруг изменит свое решение и разрешит мне играть в каких-то второсортных фильмах, выпускаемых у черта на куличках.
— Потому что Южная Америка далеко, а здесь в Европе тебя многие хорошо знают как госпожу Квислинг.
— Забудь об этом. Все это звучит крайне странно. Я не покину Францию, если только не вернусь в Норвегию или к маме.
— Ну, делай как знаешь, — сказала Мара, пожав плечами. — Я только хотела помочь тебе.
Как-то, когда Мары не было дома, я позвонила в пансион Види. Она очень обрадовалась, услышав меня. Несмотря на то, что я не собиралась просить ее о помощи, я была рада услышать ее голос и знать, что кто-то заботится обо мне. Я недолго поговорила с ней, не сказав, откуда звоню, пообещала написать ей вскоре и попросила никому не говорить о моем звонке. Мой голос, видимо, выдавал мое взволнованное состояние, но Види ни о чем меня не спросила. Она сказала, что мой звонок останется между нами, и добавила: «Ты не думай об этом. Твой муж никого не смог обхитрить. Мы знали, что это был обман, и ты не уехала далеко. К тому же Мару видели в студии и в других ее излюбленных местах. Мы знаем, что вы живете вместе и догадываемся, где ты находишься. Береги себя, милая Ася, будь осторожна и не забывай, что у тебя есть верные друзья!».
Неожиданный визит Видкуна на время вывел меня из состояния застоя. Но все же Мара сделала все, чтобы присутствовать при этом, очевидно, зная, что он вернулся в Париж. Было также ясно, что он пришел исключительно по делу. Он явно чувствовал себя неудобно в нашей скромной маленькой комнатке, казавшейся еще меньше из-за его высокого роста.
Во время этого короткого визита он разговаривал в основном только со мной, уверяя меня, что был очень занят, заканчивая свою работу на Балканах. А сейчас он пришел поговорить о моих просьбах. Он понимал мое нетерпение вернуться к нормальной активной жизни, но объяснил, что, к сожалению, не в силах что-либо сделать до того, как юридические сложности с нашим браком будут урегулированы и он сможет вернуться в Норвегию с Марой. Он надеялся, что я не забыла о его попытке разрешить эту проблему, неофициально беседуя с чиновниками в миссии, когда мы втроем ходили туда в январе. И не его вина, что эти попытки не принесли желанных результатов.
Также он сказал, что мы еще можем избежать публичного скандала из-за развода, если я напишу официальное заявление, что не возражаю против раздельного проживания. Такое заявление каждому из нас дало бы возможность жить своей жизнью, и в будущем оформить брак с другим человеком. Мара сказала, что Никитин согласился дать мне свое имя за соответствующее вознаграждение, к тому же Никитин казался подходящим и достаточно порядочным человеком. Ведь это была наша последняя надежда.
Я потеряла интерес к этому разговору, и мне все стало безразлично. Я уже слышала слишком много нотаций Видкуна и запутанных планов выхода из этой сложной ситуации, и теперь я была так расстроена, что едва понимала, о чем он говорит. Но его последнее заявление все же задело меня за живое, и, прерывая его, я воскликнула:
— Постой! Постой! Какое ты или Мара имеете право решать за меня и обсуждать мои личные дела с незнакомыми людьми? И почему ты не можешь понять, что наш брак уже ничего не значит для меня, и я никогда, слышишь, никогда не выйду снова замуж фиктивно или по-настоящему! Ты можешь делать все, что захочешь! Женись на Маре или на ком-то еще. Я не могу тебе помешать, и вообще мне все равно! И не обвиняй меня в своих проблемах, ты их создал сам. Я никакого отношения к ним не имею!
Когда я остановилась, чтобы перевести дух, я заметила, как Видкун и Мара обменялись тревожными и удивленными взглядами, как заговорщики, пойманные на месте преступления. Мара хотела что-то сказать, но я еще не закончила свою тираду.
— Скажи мне, наконец, почему ты изводишь меня своими же ошибками? Чего ты боишься? Ты не маленький мальчик, ты должен знать, что фантазии здесь не помогут. Все знают, что ты женат на мне. Возможно, тебя будут спрашивать: «Послушайте, капитан, вы, видимо, обзавелись новой женой? А что случилось с той, которую вы привозили в прошлом году?». Что мешает тебе действовать честно и открыто, как делает большинство людей в таком случае? Почему бы не сказать: «Да, я признаюсь, что моя жена слишком молода для меня и у нас ничего не получается, поэтому я прошу развода у нее. Это не ее вина, мы остаемся хорошими друзьями, и я буду заботиться о ней». Это спасло бы нас всех от страданий. И как насчет твоих многочисленных обещаний? Как долго я должна жить здесь, как в тюрьме? Хуже того, я даже не могу поддерживать связь с собственной матерью. Как получилось, что ты, знаменитый капитан Квислинг, несешь ответственность за судьбы миллионов людей, но при этом не способен обеспечить своей жене приличные условия жизни?
Я больше не могла продолжать. Видкун просто смотрел на меня, не говоря ни слова. Полностью игнорируя меня, Мара сердито смотрела на него, но не нарушала вдруг возникшую тишину. Наконец после длинной паузы Видкун сказал:
— Ася, ты только что сама ответила на все вопросы. Я не могу действовать в этой ситуации, как все, именно из-за моего особого положения. Я обещал заботиться о тебе и сдержу свое обещание. Но мы должны быть осторожными до тех пор, пока эта проблема не будет разрешена разумным способом. Только тогда я смогу заняться тобой и твоими нуждами. Многое зависит от твоего благоразумия!
С этими словами он вытащил пачку бумаг из своего портфеля, положил их передо мной и сказал:
— Вот те бумаги, о которых я тебе говорил. Посмотри перед тем, как их подписать.
Я даже не шевельнулась. Я была не способна двигаться. Эти документы были мне совершенно безразличны. Видкун разделил бумаги на две стопки и положил их мне на колени:
— Давай, Ася. Просмотри их хорошенько, и скажи мне, если у тебя возникнут какие-то вопросы.
Я бегло просмотрела эти бумаги и заметила, что некоторые из них были на французском, а остальные на языках, которых я вообще не понимала — норвежский, насколько я помню, и еще какой-то, совершенно не знакомый мне. Я не могла сосредоточиться ни на одном, все были не понятны мне. Мои мысли были где-то далеко. Видкун возвышался надо мной, указывая на бумаги в моей руке.
— Эти документы должны быть подписаны сразу. Остальные ты можешь подписать позже, в присутствии свидетелей.
Мара, которая до этого не издала ни звука, вдруг оживилась:
— Нет, пусть она подпишет все сразу. В противном случае снова что-то может пойти не так. Нам не стоит рисковать.
— Но это было бы противозаконно, — в замешательстве запротестовал Видкун.
— Ничего. Не бойся, Видкунчик. Все это можно сделать в любое время даже в ее отсутствие. Мои друзья говорят, что за достаточно хорошую плату даже мэр сделает все, что ты захочешь.
Я взглянула на Видкуна с недоумением. Он явно был очень смущен внезапным вмешательством Мары. Внешне он выглядел так же, как обычно, но в то же время он казался мне совершенно другим человеком, чем тот, за которого я выходила замуж. Он был таким только в присутствии Мары. Видкун, раньше всегда уверенный в себе, теперь выглядел так, словно он потерял власть над собой.
Забыв о времени, я думала о том, сколько горя причинил мне этот человек, и вдруг услышала его встревоженный голос:
— Хочешь о чем-то спросить меня, Ася?
«О, да, — хотела сказать я. — Вспоминаешь ли ты о том, что когда-то мы были вместе? Думаешь ли ты о жизни, которая могла у нас быть? Думаешь ли ты о своем ребенке?».
— Дай мне ручку, — сказала я вместо этого.
— Спасибо, Ася, — вымолвил он с облегчением. — Ты можешь быть уверена, что ничего из этого тебе не повредит, и я всегда буду заботиться о тебе.
Я подписала несколько бумаг, и все. После этого меня, к счастью, оставили в покое. Я была в одиночестве несколько следующих дней и ночей, так как Мара проводила время где-то в другом месте и заглядывала ко мне изредка. Она не говорила, чем занимается, а я не спрашивала ни о чем.
К концу одного из таких длинных, беспокойных дней послышался стук в дверь. Это был Видкун, он пришел без Мары, чем очень удивил меня. У него был возбужденный и расстроенный вид, и он совершенно не был похож на себя. После нескольких минут обмена приветствиями, он, колеблясь, сказал, что искал случая поговорить со мной наедине. Затем он замолчал.
Наблюдая за тем, как он в молчании сидит, ерзая на стуле, я спросила его, что с ним происходит и чего он хочет.
Он встал, будто готовясь произнести речь, но вместо этого вдруг схватился обеими руками за голову и промолвил:
— Ася, я пропал. Мне конец. О, Боже, что же я наделал!? Зачем я ушел от тебя!? Зачем я вернулся в Россию!? Как я мог допустить такие ужасные ошибки!? Я знаю, что для меня теперь все кончено!
Его лицо было искажено. Встав на колени передо мной, он стал целовать мои руки, повторяя:
— Какой я дурак! Как я мог бросить тебя из-за этой женщины? Она погубила нас всех! Теперь у меня нет выхода!
Он положил голову на мои колени и зарыдал, как ребенок. Я замерла, словно громом пораженная, ведь это было совершенно не похоже на него, и я никогда даже представить не могла, что он способен на такие эмоции. Было ужасно видеть такого сильного человека плачущим. Нежно гладя его по голове, я не находила слов утешения. Затем он немного успокоился и вдруг резко вскочил.
— Ася, давай убежим отсюда! У меня осталось достаточно денег. Давай убежим вместе далеко-далеко, где нас никто не знает — в Америку, в Австралию, да куда угодно. Начнем новую жизнь. Собирай свои вещи и давай уберемся отсюда прямо сейчас.
Всего несколько недель назад, даже несколько дней назад, такое пылкое приглашение убежать с ним могло бы меня осчастливить и, возможно, я бы с радостью приняла его. Теперь же это были пустые слова. Что-то важное умерло во мне во время моей долгой и одинокой борьбы в Париже. Я сидела без движения и молчала.
Видкун был ошеломлен, если не сказать шокирован, моим молчанием. Такое потрясение вернуло ему самообладание. После того, как он успокоился, я спросила о его неприятностях, а также предложила свою помощь.
Видкун стыдливо ответил, что все мне объяснит позже, а в настоящее время мне нужно быть терпеливой и постараться помочь ему найти выход из нашего общего затруднительного положения. Затем он сменил тему разговора и спросил о моих планах на будущее: какая профессия мне нравится больше всего, что бы я хотела изучать и где бы я хотела жить — вежливые вопросы, на которые он уже знал ответы. Я думаю, что он готовился выйти с достоинством после своего эмоционального всплеска. Он все еще сидел на том же месте, когда Мара, по некоторым причинам, вернулась гораздо раньше, чем обычно.
Она была очень удивлена, увидев меня наедине с Видкуном, но к тому времени мы уже спокойно говорили о серьезных вещах, и у нее не было другого выбора, кроме как присоединиться к нашему разговору. Она едва успела задуматься о причине неожиданного визита Видкуна ко мне, как позвонил дежурный гостиницы и сообщил мне о том, что пришел какой-то господин и спрашивает госпожу Александру Квислинг.
Видкун и Мара были заметно встревожены этим.
— Кого ты ждешь? — спросил Видкун.
Я не имела ни малейшего представления, кто бы это мог быть, но предложила всем вместе спуститься в приемную и узнать, кто это. В приемной у лестницы стоял молодой адвокат, знакомый Мушки и Лили, которого я часто встречала в пансионе мадам Глайз. Я была уверена, что Мара его тоже узнала. Я очень обрадовалась, увидев его, и уже собиралась представить его Видкуну и Маре, как вдруг Видкун сделал шаг вперед. К моему ужасу он коротко и грубо спросил у этого молодого человека:
— Кто вы такой и что вам здесь нужно?
Адвокат смутился и тут же представился по всем правилам, после чего сказал, что пришел поговорить с госпожой Квислинг.
— О чем вы желаете говорить с ней?
— Я адвокат и хочу поговорить с госпожой Квислинг без свидетелей.
Видкун пришел в ярость:
— Это возмутительно! Какое вы имеете право? Как вы смеете беспокоить члена моей семьи без приглашения!? Ей нечего вам сказать! Я требую, чтобы вы оставили ее в покое! Убирайтесь отсюда! — он трясся от ярости.
— Вы пожалеете об этом! — сказал мой незваный защитник, пытаясь сохранить свое достоинство. — Я предупреждаю вас, что вы подозреваетесь в похищении и в сговоре с целью нанесения вреда молодой беззащитной женщине. И с этого момента я могу лично подтвердить, что вы удерживаете ее здесь вопреки ее желанию и препятствуете ее общению с другими людьми. Рапорт о вас будет подан в полицию и государственному обвинителю!
По сравнению с Видкуном этот француз был невысокий и щуплый, но он продолжал угрожать капитану, даже когда ему пришлось пятиться назад от наступающего на него Видкуна, который продолжал кричать: «Вон! Вон!».
Пока мы с Марой безмолвно наблюдали за этим удивительным состязанием, Видкуну удалось вытолкать француза за дверь. К счастью, в приемной не было других людей, и казалось, что никто не заметил происшедшего.
Я чувствовала себя ослабевшей от изумления, и не только из-за только что увиденной сцены, но и от внезапно обнаруженных в течение последних нескольких часов совершенно незнакомых сторон характера Видкуна. К тому времени, как мы втроем молча вернулись наверх в комнату, настроение у Видкуна снова переменилось. Казалось, он совершенно забыл о своем эмоциональном срыве. У него был мрачный и невозмутимый вид, полный решимости, как будто схватка с французом вернула ему уверенность в себе.
— Ну, кажется, все наши планы рушатся, — сказал он, глядя на Мару. — Теперь мы должны действовать быстро! У меня есть план для такого экстренного случая. Это рискованно, но должно сработать. Мара, ты больше не можешь здесь оставаться. Немедленно собирай свои вещи, ты уедешь со мной сегодня вечером. А ты, Ася, должна остаться здесь и ждать меня. Я вернусь через четыре или пять дней. Ни с кем не встречайся и ни с кем не разговаривай. Вот немного денег на расходы — с гостиницей я расплачусь сам. Не беспокойся. Все будет хорошо.
Меньше чем через час Мара и Видкун ушли, не сказав мне, куда они отправляются и как я могу связаться с Видкуном в случае необходимости.
Сидя в этой крошечной комнатке отеля, я чувствовала себя, как единственная спасшаяся после кораблекрушения, цепляющаяся за зыбкий плот, который тонет в огромном бушующем море. Я могла только молиться и думать.
Я боялась пропустить приход Видкуна или его звонок, поэтому старалась выходить всего на несколько минут, чтобы купить себе еду или газету. Мои друзья из пансиона не звонили. Возможно, Видкун попросил дежурного не переключать на меня телефонные звонки. Сама я не решалась им звонить из-за запрета Видкуна, к тому же я не хотела навязываться после произошедшего накануне инцидента.
Как-то от нечего делать я стала рыться в своем сундуке и нашла альбом Види. Я прочитала в нем множество сентиментальных и старомодных записей в надежде найти в них какое-то утешение или руководство к действию, но, конечно, не нашла ничего подобного. Я также обнаружила небольшую адресную книгу, которую мне дал Видкун перед моим отъездом в Москву в 1922 году и в которую он попросил меня записать адрес норвежской миссии в Москве и его родителей в Телемарке в случае, если мы потерям друг друга. На дне сундука я нашла несколько рекомендательных писем от моих друзей, у которых были родственники и друзья за границей, письма от мамы и от моих старых друзей из России. В одном из маминых писем я нашла имена и адреса некоторых моих друзей и родственников, живущих за границей, включая двух моих теток и папиных двоюродных братьев, которых я никогда не видела. Тетя Женя (Евгения) Катрутца жила в Ницце, а ее сестра тетя Катя (бывшая оперная певица Екатерина Хертца) жила в Румынии с ужасно избалованной дочерью Лизой Пущиной.
Я написала письмо маме, моим теткам и моей дорогой Нине. Я не рассказывала им о моих нынешних проблемах, сказала только, что, хотя я сейчас и нахожусь в Париже, но в ближайшее время покину Францию. Я попросила их писать мне и отправлять письма на адрес пансиона мадам Глайз или на мой «постоянный» адрес в Осло.
Прошло несколько дней, но Видкуна не было. В один из таких ужасных, бесконечных дней ко мне пришел еще один неожиданный гость, на этот раз преподаватель Русской студии искусства Никитин. Его обычно учтивая и даже подобострастная манера поведения сменилась наглой дерзостью. Вместо того чтобы поздороваться со мной, когда я спустилась в приемную, он медленно и нахально осмотрел меня и скромную обстановку комнаты, а затем произнес:
— Так вот где твой знаменитый муж прячет тебя! Но он не удерет от меня так легко на этот раз!
Его необычное поведение на миг лишило меня дара речи, что его явно развеселило. Я вспыхнула от возмущения, не предложила ему присесть и сама тоже осталась стоять.
— Что это с вами? Как вы смеете так говорить со мной? — сказала я наконец.
— Ничего особенного, — ответил он небрежно с заученными манерами бывалого актера. — Просто скажите, где он и его хитрая подружка сейчас. Эта прелестная парочка обманула меня. Сначала они уговорили меня участвовать в очень странной сделке, обещая золотые горы и другие блага, а потом исчезли, не заплатив мне оговоренную сумму. Но теперь я все понял, поэтому они у меня в руках! Им придется заплатить сполна. Ну, скажите мне, где они сейчас!
Я предположила, что он имеет в виду план, по которому он должен был заключить со мной фиктивный брак, но я старалась не показывать ту боль и возмущение от мысли, что мои личные дела обсуждались с незнакомыми людьми. Я просто сказала, что Видкун и Мара уехали несколько дней назад, не сказав мне, куда направляются. Также я раздраженно добавила, что не хочу ничего слышать об этих сделках Никитина с ними и что ему придется решать все свои вопросы с капитаном и не беспокоить меня своими жалобами. Это, однако, не остановило его.
— Но как вы сами? Неужели он оставил вам достаточно денег для ваших нужд? Кто оплачивает ваши счета в гостинице? — спросил он с некоторой озабоченностью.
Моим первым порывом было желание сказать ему, что это не его дело, но я тут же передумала.
— Вам не нужно беспокоиться об этом. Мои счета в гостинице оплачены заранее, и у меня достаточно денег на жизнь до того времени, когда вернется мой муж, — сказала я как можно более холодно.
Он посмотрел на меня насмешливо.
— Не будь дурой! Они обманули меня, узнав, что я им больше не нужен, а затем они избавились от тебя! Твой муж бросил тебя и никогда не вернется.
Глава 26. ДОМОЙ В ОСЛО
Заметки Кирстен Сивер
В письме к Хермоду Ланнунгу в конце августа 1924 года[115], относительно того периода, который Александра описывает в этой и предыдущей главе, Видкун писал: «Всю осень и зиму 1923 года я скитался по Балканам по заданию Лиги Наций… В марте я в основном находился во Франции (в Париже), где изучал вопросы, представляющие для меня интерес, и узнал кое-что о французских делах. Когда я уже направлялся домой, то поехал через Ютландию, которую я никогда прежде не видел и хотел посмотреть, а также посетил город Фредерисия, где находится могила Олафа Рая (он мой дальний родственник). Я пробыл там два или три дня».
Как видно, он не упоминает о событиях, произошедших в Париже той зимой, не рассказывает о неразберихе в своей супружеской жизни и не говорит о своем спутнике в этой неторопливой поездке домой через Ютландию.
До того как Ханс Фредрик Даль написал об этом этапе в жизни Квислинга, он собрал информацию, полученную от Арни Квислинга и Сигни, дочери доктора Нильса Квислинга, о том, как семья отреагировала на то, что в жизни Видкуна не одна, а две русские женщины. Известно, что отец Сигни просто рассмеялся, а вот майору Расмусу Квислингу было не до смеха — он назвал это «развратом». Даль продолжает: «Самые молодые из них поняли, что Видкун жил и работал в условиях, делающих норвежскую буржуазную мораль несколько абстрактной. Пастор и его жена предпочли не выражать свое мнение по этому поводу»[116].
Квислинг и сам прекрасно понимал, что его родители не смирятся так просто с той ситуацией, в которой он оказался. Конечно, Видкун подготовил их во время своего визита в Телемарк в октябре, когда он получил свое новое задание от Нансена. Из писем, которые он писал родителям осенью и зимой 1923–1924 года, становится ясно, что он уже известил их о том, что когда они в следующий раз встретятся с его женой, ее будут звать Мария, а не Александра, которую он просто спас тем, что вывез из России. Уже 21 января 1924 года он жаловался своим родителям[117]: «Странно, что даже самые близкие люди столь неверно истолковали единственный подлинно бескорыстный поступок, который я совершил в своей жизни».
Йорген Квислинг, которого в 1924 году все еще можно было считать самым «младшим» в семье, очевидно, не находился в заблуждении. За исключением Видкуна, он был единственным, кто знал, что Александра была беременна, когда покидала Осло весной 1923 года. Как отмечает Юритцен, Йорген неоднократно утверждал, что Видкун и Мария никогда не были официально женаты. Душеприказчик Марии, адвокат Финн Трана, также подтвердил, что среди многочисленных документов, оставленных Марией, никаких свидетельств о браке не было найдено.
Квислингу, вероятно, было нелегко, когда он встретился со своей семьей вновь в 1924 году.
Рассказ Александры
В смятении взъерошенный Квислинг вошел в мою комнату, упал на колени и зарыдал открыто и бесстыдно, сжимая и целуя мои руки, умоляя простить его. Обвиняя себя во всех страданиях, которые он причинил мне, Видкун сказал, что я единственный человек во всем мире, которого он действительно любил и доверял. Он никогда не покинет меня.
Я понятия не имела, где была Мара, но я настолько устала, что меня это совершенно не волновало. Важным для меня сейчас было лишь то, что Мары, моего мучителя, не было рядом, а Видкун был со мной. Без Мары и других посторонних людей мы, наконец, могли спокойно поговорить друг с другом.
Я чувствовала, что Видкун впервые до конца осознал, что все сделанное им полностью разрушило мою жизнь. Возможно, хозяин норвежской гостиницы рассказал ему о моих страданиях и отчаянии или Види написала ему об этом в письме. Во всяком случае Видкун никогда прежде не был таким обеспокоенным, нежным и внимательным, каким он был в этот момент и в последующие дни. Но, несмотря на свое раскаяние, он так и не объяснил, что заставило его лгать даже самым близким людям и совершать такие низкие поступки.
Я была уверена, что признание вины было искренним. В то же время я спрашивала себя, какой же из них был настоящим Видкуном: этот ласковый, эмоциональный человек, который хочет дать мне любовь и защитить от невзгод, или тот холодный, эгоцентричный тип, манипулирующий мною и моей жизнью в течение многих месяцев.
Моя усталость и эмоциональное изнеможение, очевидно, привели к полной смене ролей. Видкун оставался в очень возбужденном состоянии, а я была спокойна и бесстрастна в свете этого нового сближения с ним, словно я была посторонним наблюдателем того, как два человека пытаются собрать в одно целое свои жизни. Видкун говорил о том, как он себя чувствовал, а я сухо рассказывала о тех обстоятельствах, которые привели меня к нынешнему ужасному состоянию.
Когда Видкун узнал подробности о визите Никитина, он пришел в ярость и пообещал, что преподаст этому негодяю урок, который тот никогда не забудет. Я пыталась его успокоить, переменив тему разговора, и попросила его совета о том, что мне делать в будущем. Однако он не захотел обсуждать это и сказал, что необходимо отложить все мои планы до тех пор, пока я не отдохну и не поправлюсь окончательно в нашем доме в Осло. Сейчас были более неотложные дела, требующие внимания.
Он успокоился и присел на стул в молчаливом раздумье. Вдруг он, как всегда резко, сказал мне, чтобы я надела свое лучшее платье и собрала вещи. Через некоторое время Видкун выписал меня из гостиницы «Сван» и перевез в маленький пансион, который располагался в элегантном большом особняке, где он снял для меня маленькую студию на первом этаже. Мары не было. Вскоре я почувствовала себя, как дома. Тихая и спокойная атмосфера в компании заботливого Видкуна как нельзя лучше способствовала этому. После совместного обеда он ушел, сказав, что у него срочные дела, и обещал вернуться в ближайшее время.
Пока его не было, я думала о том, какие еще неожиданности ждут меня впереди. Очень скоро Видкун вернулся и сказал, что мне не о чем беспокоиться, так как он все устроил благодаря своим связям. Этот подлец Никитин получил по заслугам и ему придется уехать в Южную Америку с обещанием никогда не возвращаться в Европу. Что касается меня, то я не могу оставаться одна в Париже, а должна сопровождать Видкуна обратно в Осло, как и планировалось.
Я не возражала. Напротив, я была счастлива, что смогу вернуться к спокойной размеренной жизни в Норвегии и с нетерпением ждала возможности вновь увидеть своих родственников и новых друзей, которые остались там. Может быть, они смогут помочь Видкуну решить его личные проблемы. Больше всего я надеялась, что моя дорогая свекровь окажет свое благоприятное влияние на Видкуна. К вечеру того же дня, начавшегося столь мрачно и безнадежно, капитан и госпожа В. Квислинг, наконец, отправились в свое второе путешествие из России в Норвегию. Торопясь уехать из Франции, он, однако, позволил себе потратить много времени на поездку домой. Мы поехали поездом через Бельгию, Голландию, Германию и Данию, потом пересели на паром, следующий через Скагеррак в Норвегию. Обычно такая поездка длится всего несколько дней, но неспешный путь, выбранный Видкуном, занял у нас десять дней. Это было похоже на наше путешествие в медовый месяц из Москвы в Норвегию. Как и прежде, Видкун настаивал, чтобы мы останавливались в каждом большом и знаменитом городе, встречающемся на нашем пути. Как и раньше, он снимал самый лучший номер в самых лучших гостиницах, и мы ели в самых лучших ресторанах.
Единственной разницей были его нежность, галантность и внимание, что глубоко меня тронуло. Я наслаждалось заботой и теплом Видкуна. С того момента, как мы покинули Париж, к нему вернулось прежнее чувство юмора. Теперь он был спокойным и веселым.
Чем ближе мы подъезжали к Норвегии, тем сильнее было мое желание снова увидеть наш дом и вернуться к нормальной жизни. Я с нетерпением хотела узнать, есть ли письма от мамы и моих друзей, также я очень скучала по своим вещам: семейным фотографиям и письмам, маминым подаркам, по моей роскошной шубке и по всем прекрасным свадебным подаркам, которыми нам почти не удалось воспользоваться.
Видкун, однако, становился все более задумчивым, когда наше путешествие стало подходить к концу, и я стала часто замечать грусть и озабоченность в его глазах. В такие моменты он был особенно внимателен и нежен. Он говорил, что хорошо понимает мое нетерпение вернуться домой в Осло, но было несколько веских причин не торопиться. Мне нужно было восстановить силы до того, как мы приедем. Такое неторопливое путешествие также давало нам редкую возможность быть вдвоем без посторонних людей. Кроме того, он просто выполнял свое старое обещание показать мне Европу. Как бы вскользь он добавил, что это путешествие поможет мне узнать возможности обучения в небольших странах, через которые мы проезжаем.
— Возьми Бельгию, например. Многим эта маленькая страна не нравится, но она является одной их самых технологически и промышленно развитых стран и имеет самую большую населенность на квадратный километр в Европе. У бельгийцев самые лучшие профессиональные школы, и то, что французский — один из двух официальных языков, даст тебе возможность чувствовать себя там как дома. Имей это в виду.
Бельгия казалась мне страной промышленных чудес. Заводы, шахты, высокие дымовые трубы, извергающие грязный дым над унылым пейзажем с разбросанными сортировочными железнодорожными станциями. Брюссель имел некоторую провинциальную привлекательность, к тому же каким-то странным образом напоминал мне Харьков, но, увидев несколько подобных городов, я не почувствовала желания там жить. Хотя именно этого хотел Видкун.
— Нет, спасибо, Видкун. Бельгия, возможно, действительно прекрасная страна, но это не для меня. Если я слишком глупа, чтобы выучить норвежский язык для обучения в университете в Норвегии, мне следует забыть о возвращении в школу или продолжить свое образование во Франции, которую я люблю с детства.
Голландия была следующей. Хотя погода была отвратительной, это не помешало мне сразу же полюбить это очаровательную страну с ее каналами, ветряными мельницами и чистоплотными приветливыми людьми. Я бродила по Роттердаму, Амстердаму и другим древним городам и была так заворожена увиденным, что почти не замечала Видкуна. Видя мой восторг, он спросил с некоторой неуверенностью, не хотела бы я продлить свое пребывание в Голландии. Я рассмеялась над его абсурдной идеей. Как можно жить в этой волшебной стране, не родившись там и не зная ни слова из ее странного языка?
Оставив позади Голландию, мы быстро пересекли Германию и продолжили нашу поездку по Дании. Насколько я помню, Дания была очень красивой страной, и Видкун не упустил возможности показать мне все ее достопримечательности. Он долго рассказывал о важной роли этой страны в европейской истории, не забыв упомянуть о ее близкой связи с Россией из-за породнившихся царских семей. Он напомнил мне, что вдовствующая императрица Мария Федоровна, бывшая датская принцесса Мария Дагмар, сейчас живет в Дании с ее младшими внуками после их побега из Крыма.
Но опрятно выглядевший пейзаж, со всем его очарованием, казался чужим и совершенно не напоминал мне Россию. Я объяснила Видкуну, что когда я прежде думала о Дании, то представляла страну, где родился Ганс Христиан Андерсен. Видкун, однако, не был обескуражен. Через некоторое время я сказала, что все эти люди кажутся настолько успешными и счастливыми, разъезжая повсюду на своих велосипедах, что и мне захотелось присоединиться к этой занятой и деловой толпе. Это моментально вызвало еще одно предложение.
— Послушай, Ася, это нетрудно сделать. Если хочешь, мы купим тебе велосипед, и ты сможешь пожить здесь некоторое время. Фредериксхавн находится недалеко от Осло, поэтому я смог бы часто навещать тебя, — сказал Видкун полушутя-полусерьезно. В то же время его лицо выражало смятение и тоску.
Мое терпение подошло к концу, и я решила взять быка за рога.
— Послушай, Видкун, что это с тобой? Сначала ты бросил меня в Париже без какого-либо объяснения. Как только я стала привыкать к этому городу, ты вдруг решил перевезти меня обратно в Осло. А теперь, когда мы находимся всего в нескольких часах езды от него, ты снова пытаешься избавиться от меня. Я не понимаю тебя. Ты же знаешь, насколько несчастной ты меня сделал, да и ты сам не выглядишь слишком счастливым. Нет, дай мне закончить то, что я хочу сказать. Я всегда считала тебя мудрым и благоразумным человеком. Прошу тебя, скажи мне честно, наконец, что с тобой происходит?
Видкун внимательно выслушал меня, глядя на меня с грустью и болью в глазах.
— Ася, ты знаешь, что я был счастлив с тобой в эти последние дни, счастлив так, как не был долгое время прежде. Я бы хотел путешествовать с тобой без конца, вокруг света, только ты и я. И мне так жаль, что нам нужно возвращаться домой, а мне ехать в Телемарк!
Он выглядел таким несчастным, что я почувствовала сильную жалость к нему. В тот момент я была готова отправиться с ним куда угодно.
— Почему тебе нужно ехать в Телемарк? — спросила я.
— Ну, потому что Мара ждет меня там, — сказал Видкун ничего не выражающим голосом. Затем он сказал мне, что привез Мару прямо к своим родителям домой, не останавливаясь в нашей квартире в Осло. Больше он ничего мне не объяснял, а я ничего не могла сказать или сделать после этого. Я сама захотела узнать правду, но эта правда не принесла мне покоя. Единственным утешением было то, что Мара не жила в моем доме.
Несмотря на то, что я была потрясена услышанным, я все же почувствовала легкое волнение и облегчение, когда поздно вечером мы прибыли на Эрлинг Скалгссонсгат, 26. Здание было таким же, каким я его запомнила — желтым, большим и почти не отличимым от других домов в этом квартале. Это был наш с Видкуном дом, в котором мы провели первые месяцы нашего брака. В квартире было темно, поскольку электричество было отключено, но, к счастью, это был сезон «белых ночей», как говорят у нас в России. Я открыла тяжелые портьеры и распахнула окно. Тусклый свет ночного северного небосклона осветил комнату. Тем временем Видкун спустился вниз за остальным моим багажом. Вместо того чтобы войти в квартиру, он остановился у входной двери и сказал:
— Я очень тороплюсь, Ася. Мне нужно сразу же ехать в Телемарк.
Я была поражена этим неожиданным поворотом событий.
— Как, так сразу? Ты не можешь бросить меня здесь одну в такое позднее время без газа, электричества и даже воды. Если тебе действительно необходимо сразу уехать, не мог бы ты распорядиться, чтобы включили электричество и воду?
— Нет, слишком поздно, это можно будет сделать только завтра. Оставайся и спи крепко. Уже скоро будет утро. Позже управляющий сделает все, что тебе будет нужно.
Я видела, что он спешил уйти. Заверив меня, чтобы я ни о чем не беспокоилась, и пообещав вернуться как можно скорее, он оставил немного денег на столике в прихожей, дал мне коробку спичек, поцеловал в лоб и исчез.
После того, как Видкун ушел, я была скорее сбита с толку и рассержена, чем испугана. Все-таки я и прежде жила одна в этой квартире, к тому же у меня были друзья и родственники, с которыми легко связаться. Лучше последовать совету Видкуна и попытаться заснуть.
В прихожей я нашла огрызок свечи, зажгла ее и пошла в другие комнаты. Все постельные принадлежности были упакованы в чемоданы, но я чувствовала, что слишком устала, чтобы распаковывать их поздно ночью. Я только хотела смыть с себя дорожную пыль и попить воды, но воды не было. Все в квартире напоминало о нашем долгом отсутствии. Воздух был затхлый, всюду пыль, мебель накрыта простынями и в серебристом свете выглядела как-то нереально. Проходя по комнатам, я почувствовала дурноту. Сейчас все это не имело ничего общего с моими мечтами о возвращении домой, в мое безопасное и счастливое пристанище, где я была бы занята приятными семейными заботами.
Я провела большую часть этой ночи и другие ночи на нашем балконе, где мне иногда удавалось задремать. Иначе я совсем не могла бы спать, зная, что мой муж, который еще недавно всячески доказывал мне свою любовь, пытается убедить свою семью в том, что Мара — его настоящая жена. Как и в эту первую ночь дома в Осло, так и в течение многих лет впоследствии я ничего не знала о рассказах Видкуна и Мары о том, как он женился на мне фиктивно с единственной целью — вывезти меня из России. А после этого он получил развод, чтобы жениться на Маре.
Наконец, наступило утро. Электричество, газ и воду включили, что сделало мою жизнь более комфортной, но это не могло избавить меня от тяжелых мыслей, которые овладели мной после того короткого периода безоблачного счастья. В моей памяти по-прежнему были свежи парижские воспоминания, и я содрогалась от мысли, что мне снова придется иметь дело с Марой.
Шли дни, но мне никто не звонил. Мои попытки связаться с людьми, которых я знала, были безуспешными. Казалось, что все уехали из города на летние каникулы. В своем первом письме из Телемарка Видкун подтвердил это, сказав, что в это время года все норвежские города пустеют. Он просил меня быть терпеливой и ждать его возвращения. Как обычно, ни в этом, ни в последующих своих письмах он не упоминал о Маре. По приезде я нашла несколько писем, адресованных мне. Они были сложены в аккуратную стопку, и это говорило о том, что Видкун заезжал в квартиру до того, как привез меня в Норвегию. Письма были от мамы, от друзей из Парижа и России, а также от тети Жени, которая написала мне очень милое письмо. Она сказала, что безумно любила папу и маму, и была бы счастлива меня увидеть, если я снова когда-нибудь буду во Франции.
Письма от Видкуна приходили из Телемарка по меньшей мере раз в неделю. В них он давал мне много советов, но рассказывал очень мало новостей и ни слова не говорил о том, когда вернется. Я потеряла ощущение времени, но думаю, что пробыла в Норвегии четыре или пять недель, после чего моя жизнь неожиданно резко изменилась. В один прекрасный день Видкун и Мара без какого-либо предупреждения прибыли в Осло со всем своим багажом, грубо нарушив мой покой.
Глава 27. ИЗ КЛЕТКИ ДА НА ВОЛЮ
Рассказ Александры
Мара была в прекрасном расположении духа, очень загорелая, словно только что вернулась из отпуска. Она тепло меня приветствовала.
«Я так рада, что ты здесь, и что теперь мы будем все вместе!». Я едва оправилась от шока, увидев ее с Видкуном на пороге нашей квартиры, а это новое заявление о нашем ожидаемом проживании вместе совершенно меня поразило. Когда мое смятение немного утихло, я почувствовала отвращение. Одна мысль о том, что мы будем жить втроем под одной крышей после всего случившегося, казалась дикой. Я понятия не имела, что еще Видкун и Мара рассказывали о своем браке, кроме истории, украшенной деталями о нежной дружбе между всеми нами, а особенно между мной и Марой[118].
Семья и друзья Видкуна, вероятно, предпочитали верить ему, а не думать, что их любимец стал двоеженцем или нарушил брачные обеты. Ему также помогало то, что я не говорила по-норвежски, и, следовательно, не понимала, о чем говорили вокруг меня.
С того момента, как Мара вошла в дом на Эрлинг Скалгссонсгат, 26, она вела себя так, словно все происходящее было абсолютно нормальным. Чувствуя себя совершенно свободно, она таскала меня по всей квартире, рассматривая все до мелочей, выворачивая все наизнанку в доме, который был центром моих самых заветных мечтаний. И ее пренебрежительные замечания заставляли меня чувствовать, что я здесь лишняя.
Видкун никогда не говорил со мной о Маре, даже когда мы оставались наедине, она же часто на него жаловалась: «Он меня раздражает. Он скучный, он ничего не понимает и не чувствует, он мне действует на нервы». Я не хотела обсуждать ее отношения с человеком, который по-прежнему был моим мужем, и никак не реагировала на эти вспышки.
Отношения между мной и Марой были светскими и дружелюбными, но в ее отношении ко мне я чувствовала крайнюю осторожность, как будто я была пороховой бочкой, готовой взорваться в любую минуту. В течение этого времени Видкун был очень внимателен и даже нежен ко мне — так относятся к больному ребенку. Он держался как можно ближе ко мне, словно я нуждалась в защите, и открыто демонстрировал свою привязанность и заботу. Думаю, что я никогда не узнаю, было ли это необыкновенное внимание выражением искренней заботы и раскаяния или же он просто был осторожен и действовал в соответствии с выдуманной историей про дружбу между нами и про родительскую заботу о такой несчастной молодой девушке, как я, — жертве голода, войны и революции.
Мне стоило невероятных усилий жить с Марой и Видкуном под одной крышей, не зная об их истинных планах. Родственники Видкуна и мои норвежские друзья по-прежнему избегали общения. А я отчаянно искала собеседника, которому смогла бы довериться.
Все эти порядочные люди, которые так тепло встретили меня менее двух лет назад, одаривали меня подарками и вниманием, теперь молча принимали условия Видкуна и Мары для спасения его репутации. Так как я не знала о своей дальнейшей судьбе, меня очень смущало то, что все вокруг, казалось, смирились с этой гротескной ситуацией, с тем, что Видкун открыто держит жену и любовницу под одной крышей. Жена Йоргена Ингрид очень хотела помочь Видкуну разрешить проблему, которую он сам себе создал. Поэтому я воспользовалась первой же возможностью, когда мы остались с ней наедине, чтобы сказать, что необходимо предпринять какие-то действия для разрешения этой неприличной ситуации. Я сказала ей, что Видкун должен куда-нибудь увезти Мару хотя бы до тех пор, пока он не разведется со мной или не найдет другого выхода из ситуации. Я попросила ее и Йоргена как-то повлиять на Видкуна. Она обещала помочь.
На следующий день Видкун долго говорил по телефону. А после обеда подошел ко мне и озабоченным голосом сказал: «Ася, Ингрид говорит, что тебе неудобно жить здесь с Марой и предлагает временный выход. Она хочет поговорить с тобой об этом».
Я взяла трубку. Ингрид на своем неуверенном французском сказала мне: «Ася, дорогая, ты знаешь, что Йорген уже уехал на нашу дачу, и я тоже сегодня еду туда. Мы хотим предложить тебе пожить пока в нашем доме».
Так как она не очень хорошо говорила на французском, я решила, что она не поняла меня накануне. Считая, что она поддерживает меня, я хотела ей объяснить, что это Маре надо пожить где-нибудь до разрешения этой ситуации, а не мне, законной жене Квислинга! Я не хотела вдаваться в подробности, так как Видкун и Мара вертелись вокруг меня, прислушиваясь к каждому слову. Поэтому, поблагодарив Ингрид, я сказала, что позвоню ей позже.
Видкун просил меня не обижать Ингрид отказом от сделанного мне предложения, и настаивал, чтобы я переехала в их дом еще до отъезда Ингрид. Я решила не брать все свои вещи, взяв только еще не распакованные чемоданы, которые я привезла из Франции. Мара и Видкун, не теряя времени, отвезли меня и мой небольшой багаж, а затем быстро исчезли.
Это был последний раз, когда я видела Мару и свой дом в Осло. В тот момент я потеряла все свое имущество, за исключением тех вещей, которые я всегда брала с собой, когда путешествовала.
Дом Ингрид и Йоргена был таким же роскошным, каким я его помнила. Свои дни я проводила, расхаживая по комнатам и размышляя о превратностях жизни, стараясь достаточно сильно себя утомить, чтобы заснуть на кожаном диване, несмотря на мой постоянный безмолвный диалог со скелетом в углу кабинета Йоргена.
Я покидала дом только для того, чтобы купить себе еду, так как не хотела пропустить звонок или визит кого-либо, желающего связаться со мной. Но никто не приходил и не звонил по телефону, чтобы прервать мое кошмарное одиночество. В один прекрасный день ко мне без предупреждения приехал Видкун, приветствуя меня так, словно между нами ничего не произошло. Как всегда, он не рассказывал мне о Маре, о самом себе или о ком-либо другом, кого я знала, сказал только, что Йорген и Ингрид вернутся домой через несколько дней. Он также отметил, что я не очень хорошо выгляжу и что норвежская осень не полезна молодым людям с плохим здоровьем. Затем он добавил, что, поскольку у меня есть тетка в Ницце, для меня было бы неплохо провести некоторое время на солнечной Ривьере.
— Не хочешь ли ты поехать туда, Ася? — спросил Видкун.
Это беспокойство о моем здоровье, которое требовало моего отъезда из Норвегии, можно было расценивать только как желание Видкуна избавиться от меня. С горечью я ответила:
— Ну, может быть… Это зависит от того, какие еще варианты ты мне предложишь. Я согласна на все что угодно, только бы не сидеть здесь без дела. Но я никогда не видела тетю Женю, и не знаю, есть у нее место для меня. Думаю, можно ей написать и все узнать.
— В таких случаях лучше посылать телеграмму, так как ответ приходит очень быстро. Кстати, ты не будешь обременять свою тетку. Как я тебе уже говорил, я буду платить за твое проживание и питание, а также отправлять 25 долларов в месяц на твои личные расходы. Я также оплачу дополнительные расходы на учебу и другие непредвиденные нужды. Это даст тебе возможность быть независимой. Тебе не о чем беспокоиться! Я буду заботиться о тебе всю свою жизнь и обеспечу тебя после своей смерти. Большую часть своего имущества я оставлю тебе, но не хочу, чтобы кто-то другой знал об этом. Я помогу тебе встать на ноги. Прежде всего тебе нужно отдохнуть, восстановить свои силы и обрести спокойствие духа.
Он выглядел хорошим заботливым отцом. И, как и многие отцы, он не оставил мне выбора. Телеграмма была отправлена в Ниццу, и через день пришел ответ от тети Жени, в котором она писала, что будет очень рада моему приезду.
Когда Видкун пришел ко мне в следующий раз, он принес мой паспорт, немного денег, новый список инструкций и предостережений, а также кое-что из тех вещей, которые я попросила привезти мне. Большую же часть вещей, включая фотографии моих родных и меня в детстве, мои личные и семейные документы, мою шубу и другую зимнюю одежду, Видкун не привез. Он сказал, что зимние вещи не понадобятся мне в теплом климате Ривьеры, и было бы глупо брать с собой слишком много вещей на такое короткое время.
— Если получится так, что тебе будут необходимы какие-то твои вещи, я вышлю их почтой, — заверил он меня.
Видкун считал, что я должна сама позаботиться о своей поездке. Он сказал ободряюще, что в одном из самых больших агентств путешествий (мне кажется, он предлагал обратиться в агентство «Томас Кук») должны быть представители, говорящие по-французски. Затем он снова заговорил о деньгах, но на этот раз очень осторожно. Он спросил, хочу ли я, чтобы деньги переводились мне ежемесячно или же предпочитаю, чтобы он сразу положил большую сумму на счет в банке на мое имя, с которого я смогу брать деньги по мере надобности. Я ответила ему, что, поскольку у меня еще нет конкретных планов на будущее, к тому же я скоро вернусь в Норвегию, то предпочла бы получать деньги ежемесячно. Он одобрил мой выбор и дал мне достаточно денег, чтобы покрыть дорожные расходы, а также расходы на проживание и личные нужды в течение трех месяцев.
— Дай мне знать, если найдешь подходящее учебное заведение, и тебе понадобятся деньги для оплаты обучения или же появятся какие-либо другие непредвиденные расходы. Но самое главное — ты должна постоянно держать меня в курсе того, чем занимаешься. Ты должна писать мне каждую неделю, а по дороге в Ниццу отправлять мне письма на каждой остановке, чтобы я знал, где ты находишься и все ли с тобой в порядке. Заботься о себе и не принимай никаких важных решений без моего совета.
— Может, я смогу присоединиться к одной из русских балетных групп во Франции или записаться на уроки пения, — сказала я.
— Нет. Ничего подобного! Даже не думай о такой карьере — я не позволю, чтобы моя фамилия была таким образом опозорена! — ответил он, отрицательно качая головой и размахивая руками.
— Ты шутишь? Я просто не могу в это поверить! — воскликнула я в негодовании. — Что же такого позорного в профессии оперной певицы или балерины? Искусство благородно — это прекрасные достойные профессии! Ты же знал, что я была балериной, но все-таки женился на мне. Я уверена, что со временем смогу присоединиться даже к балетной труппе Дягилева. Или буду тренировать свой голос и стану певицей, как обе мои знаменитые тетки. В любом случае я могу выступать под своей девичьей фамилией или под любым другим выдуманным именем.
Видкун смотрел на меня с ужасом, а потом очень взволнованным голосом заявил:
— Забудь об этом, я тебе говорю! Нет ничего благородного в мире искусства, по крайней мере в той области, которая связана со сценой. У тебя есть норвежский паспорт, и не имеет значения, какую фамилию ты выберешь для выступлений на сцене — рано или поздно выяснится, что твоя фамилия Квислинг. Кроме того, несмотря ни на что, никогда не теряй свое норвежское подданство, это твоя самая надежная опора.
Я кивнула головой и улыбнулась, Видкун успокоился. Наш последний разговор друг с другом подходил к концу. У меня снова появилось чувство, что этот человек, который предал меня и причинил мне столько боли, все же был самым близким во всем этом страшном мире. Он стал частью меня. Я знала, что Видкун чувствовал то же самое. Вот почему мы всегда могли открыто говорить друг с другом. По этой причине я все еще доверяла ему и была убеждена, что он искренне желает мне добра, несмотря на то, что манипулирует моей жизнью.
Именно это чувство близости позволяло Видкуну управлять моей жизнью в течение пяти лет после этой последней встречи в доме Йоргена. В то время я не имела никакого представления о том, до каких крайностей доводят человека личные амбиции и политические манипуляции. До сих пор я не знаю, было ли его желание оставаться в тесном контакте со мной с помощью переписки лишь предосторожностью, целью которой было держать меня под постоянным наблюдением, или же это была искренняя забота о моем благополучии. Возможно, как это часто бывает, он руководствовался обеими причинами.
Несмотря на то, что меня пугала неизвестность и мне было грустно из-за всего произошедшего со мной за последнее время, все же я чувствовала невероятное облегчение от осознания того, что вскоре я смогу избавиться от всей этой путаницы вокруг меня. Я была на пути к моей тете Жене.
Последовав совету Видкуна, я пошла в бюро путешествий, где меня направили к человеку, который говорил по-французски. Он объяснил, что, поскольку в это время года очень многие едут во Францию, почти невозможно сейчас доехать туда прямым путем. Однако существовали иные способы добраться туда. Он рекомендовал ехать поездом до Бергена, а затем, насколько я помню, сесть на корабль до Бельгии, откуда я смогла бы на поезде доехать в Париж и Ниццу.
В ходе нашей беседы мы выяснили, что нам не нужно говорить друг с другом по-французски, так как мы оба из России. Мы перешли на русский язык, и агент объяснил мне детали моей предстоящей поездки. Он дал мне адреса хороших гостиниц в городах, где мне, возможно, нужно будет делать пересадку. Он также сказал, что у меня в дороге будут хорошие спутники, которым он недавно организовал путешествие тем же маршрутом. Одним из них будет дама из Норвегии, направляющаяся в Испанию, а другим моим попутчиком будет русский господин, некий граф Баранов, который будет ехать с нами большую часть пути.
Я сказала ему, что довольна его планами, после чего он начал выписывать билеты и спросил мою фамилию. Когда я сказала, что я госпожа Квислинг, он вскочил и набросился на меня с такой яростью, что в этот момент я была рада лишь тому, что у него не было пистолета, так как он мог застрелить меня, не колеблясь.
— Ага. Так вот вы кто! Квислинг? Жена капитана Квислинга? — заорал он, двигаясь в моем направлении.
— Да, я его жена, — промолвила я, пораженная его странной реакцией.
— Вы супруга этого ужасного человека? Этого изменника? Человека, который ненавидит свою собственную страну? Человека, который поклоняется большевикам и уже сам, вероятно, стал большевиком? Тот, кто постоянно ездит в Россию для поддержки этого бесчеловечного режима? Кто убеждает этих несчастных беженцев, остатков Белой армии, забытых в этих ужасных лагерях на Ближнем Востоке, вернуться в Советскую Россию, посылая их на верную смерть? Вы его жена и хотите, чтобы я продал вам эти билеты? Нет, мадам. Я не хочу иметь ничего общего с вами. Идите и ищите кого-нибудь другого, кто продаст вам эти билеты.
Я ждала, когда он остановится, чтобы перевести дух.
— Успокойтесь, пожалуйста. Вы, вероятно, плохо информированы — мой муж ездил в Россию, чтобы спасти людей от голода. Его направил туда Нансен. Я была там вместе с ним и знаю, что он всегда относился к коммунистам критически. Вы не понимаете, что говорите. Успокойтесь, пожалуйста! — повторила я снова. Меня стало смущать внимание окружающих, которых привлек наш громкий и взволнованный разговор. Я чувствовала себя сбитой с толку. Это был первый раз, когда я услышала, что кто-то обвинял Видкуна в симпатиях к коммунистам.
— Нансен — это Нансен, а Квислинг — это Квислинг. Ваш Квислинг ездил в Россию со времен большевистского переворота. Когда он был еще членом норвежской миссии, уже тогда он поддерживал дружеские связи с советскими главарями. Он по-прежнему продолжает иметь дела с ними.
Его разглагольствования привлекли внимание одного пожилого агента фирмы, который подошел к нам и заговорил с моим собеседником по-норвежски, очевидно спрашивая, что случилось. Они продолжали говорить по-норвежски несколько минут, после чего мой спаситель неодобрительно покачал головой и пожал плечами, вероятно, удивляясь странностям русских.
В конце концов я получила свои билеты. Как сидящая в клетке птица, которая увидела вдруг распахнутую дверцу в клетке, остановившись лишь на мгновение, я была готова выпорхнуть.
Глава 28. ПЕРВЫЕ ГОДЫ МАРИИ В КАЧЕСТВЕ ГОСПОЖИ КВИСЛИНГ
Заметки Кирстен Сивер
Имеющиеся сведения показывают, что Мария была в Европе до тех пор, пока не отправилась в Осло до приезда Александры летом 1924 года. В Норвегии она находилась до отъезда Александры в Ниццу в конце лета. Однако нет никаких сведений о том, что делала Мария долгое время после этого. Арве Юритцен нашел много пробелов, когда пытался выяснить, чем она занималась и где жила несколько лет как госпожа Квислинг. Он также заметил, что Видкун и Мария виделись очень редко после того, как Александра уехала в Ниццу, то есть со второй половины 1924 по 1928 год[119].
Те скудные сведения, которые Мария пожелала сообщить о себе за этот период, коротко представлены в записях, датированных начиная с 1952 года: «Почти три года я жила одна в Париже и в Норвегии, пока мой муж был в России. Квартира в Осло большей частью пустовала»[120]. Ясно, что она и Квислинг не проводили много времени вместе в те годы. Учитывая то, что Квислинг не имел постоянного места службы с лета 1924 года до следующей весны, когда он снова стал работать с Нансеном, возникает вопрос об источнике его доходов, которые давали ему возможность часто путешествовать вместо того, чтобы скромно жить с родителями в Телемарке или на Эрлинг Скалгссонсгат, 26.
В своей записной книжке в 1925 году Квислинг составил список дел, которые он должен был сделать перед тем, как отправиться в путешествие с Нансеном 29 мая. Исходя из этого списка, становится ясно, что он планировал оставить квартиру пустой, но Мария, видимо, была еще в Осло в период с 31 мая по 3 июня. За эти четыре дня, спустя всего девять месяцев после того, как Александру отправили во Францию, Мария написала письмо Квислингу, который только что уехал сопровождать Фритьофа Нансена в качестве его секретаря в поездке по Армении, где они должны были изучить возможности решения проблем с беженцами[121]. В своем письме она упомянула некоторых родственников Квислинга и детально описала признаки своих различных странных недугов. Она настойчиво требовала, чтобы он следил за своим здоровьем и не волновался о ней, а также забыл о каких-либо размолвках между ними. После этого Мария заговорила об Александре, и мы получаем некоторое представление о том, что же это были за разногласия.
Мария считала, что если Квислинг еще не писал Александре об употреблении таких выражений, как «дорогой папа»[122] и других нежных прозвищ такого рода, то он должен сделать это как можно скорее как для себя, так и ввиду «очень веских причин, которые у меня имеются». Короткий отрывок показывает тон остальной части этого письма:
«Я также советую тебе писать Асе как можно чаще, чтобы она смогла найти работу этим летом. Прошло уже почти 10 месяцев, а ей по-прежнему нечем заняться. Это ее окончательно испортит. Я даже не хочу говорить, как неприятно это, должно быть, для тебя. Я уверена, что она ненавидит работать, и если не повезет, то Бог знает, что с ней случится и что тебе следует делать с ней».
Квислинг не вернулся в Осло до 24 июля, по-прежнему не имея конкретных планов на будущее. Министр Урбю в Москве и Нансен в Осло попросили норвежские власти назначить Квислинга в московскую миссию, но в личном сообщении Нансену 20 августа премьер-министр назвал несколько причин, по которым его просьба не могла быть выполнена. Речь шла о том, что несколько месяцев назад Квислинг пожаловался Нансену, что его военная карьера пострадала из-за тех заданий, которые он выполнил для него. Что еще хуже, писал Квислинг Нансену, во время своего самого первого назначения он подцепил желудочное заболевание и заболел малярией. Нансен сказал Квислингу, а также министру, что сожалеет об этом[123].
Письмо, написанное матерью Квислинга 20 октября, дает понять, что Мария находилась в то время в Осло, и что она справила свой день рождения вместе с Квислингом 10 дней тому назад, 27 октября, однако Квислинг уже отбыл в Армению по новому назначению Нансена[124]. Мария, вероятно, покинула Норвегию сразу после отъезда Видкуна, поскольку очевидно, что она и Квислинг большую часть времени жили порознь, когда он работал в Армении, и она, по всей вероятности, говорила правду, утверждая, что весь тот период жила во Франции. Квислинг следил за тем, чтобы Мария регулярно получала денежные переводы. Эти денежные переводы требуют дальнейшего рассмотрения, так как они резко контрастируют с содержанием обращений к Александре и ее матери, а также потому, что они являются ключом, позволяющим узнать о местонахождении Марии.
В своей записной книжке за 1926 год Квислинг отметил, что перевел Марии 100 долларов 9 января и такую же сумму снова 12 февраля. После какой-то встречи в Женеве 16 марта он на неделю отправился в Париж, после чего уехал домой в Осло, куда прибыл 23 марта, а уже 27 марта он встретился с Притцем. Как только Видкун вернулся в Осло, он записал, что Мария в течение 6 дней получила 3000 норвежских крон. Не совсем ясно, эти деньги он отправил по почте или передал лично, хотя больше оснований предполагать последнее, так как есть причины думать, что Мария все еще была во Франции. Вскоре после этого он поехал обратно в Москву через Стокгольм и Ленинград, но 8 мая уже покинул Москву, направляясь на этот раз в Париж через Ригу и Берлин.
12 мая, в первый день пребывания Квислинга в Париже, Мария получила от него 200 норвежских крон, к которым он добавил еще 700 крон и 25 фунтов стерлингов. Это произошло 25 мая, за день до того, как он уехал из Парижа в Осло, очевидно, после двух недель пребывания с Марией. Ясно, что она не сопровождала его домой и на этот раз, потому что он напоминал себе о необходимости снова отправить ей деньги 19 июня, через 10 дней после того, как он перевел ей деньги по возвращении из Телемарка. Во время своего короткого визита в Осло Видкун был у брата Йоргена[125].
21 июня Квислинг вернулся в Москву через Стокгольм, куда прибыл 25 июня без особых задержек, на этот раз по заданию своего старого друга капитана Притца. До отъезда из Норвегии он заверил Нансена, что по-прежнему готов к его услугам для работы с беженцами, если это понадобится. Однако такой необходимости не возникало некоторое время. По словам Даля, у Квислинга в этом году происходило мало событий, а Мария продолжала жить во Франции[126].
Кажется, капитан Притц выступал в качестве посредника при следующей передаче денег, которые Мария получила 22 июля 1926 года[127]. Судя по дружелюбному и многословному письму к отцу Квислинга, которое Мария отправила 25 июля, она тогда находилась на севере Франции неподалеку от границы с Бельгией, но она писала, что не знает, как долго пробудет там[128]. Три других письма из того же архива показывают, что Мария не была ни в России, ни в Норвегии в этот период. В письме, которое Квислинг написал своим родителям из Москвы 20 августа 1926 года, он сообщал, что Мария говорила ему, что останется «там» до тех пор, пока он не решит, как они могут все устроить. 9 сентября он заявил, что Мария намеревается вернуться в Париж для посещения лекций в Сорбонне. Также ввиду того, что положение в России было крайне неопределенным, трудно было сказать, когда они снова смогут быть вместе. Через два с лишним месяца, 25 ноября, он писал, что часто получает известия от Марии и что, конечно, было скучно жить порознь. Однако его пребывание в России, по всей вероятности, не будет очень долгим, поэтому ей нет смысла приезжать к нему.
В этом есть много странного, ведь Александра ничего не знала о периодическом пребывании в Париже то Марии, то Видкуна. К концу ноября 1926 года Видкун и Мария не видели друг друга по меньшей мере полгода. В то же время есть все основания полагать, что Мария была очень довольна своей ролью супруги Квислинга (так, например, ее письма к Квислингу и заметки в его записной книжке показывают ее заботу о нем). При этом она не очень хотела ехать в Россию к своему мужу, который продолжал переводить ей регулярно 30 фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что родственники Квислинга обращались с Марией как с истинным членом их большой и дружной семьи, было ясно, что она предпочитала жить в Европе, а не в Норвегии. Нет ни одного документа, удостоверяющего место ее пребывания в 1927 году. Но наиболее разумным объяснением этому является то, что у нее были свои собственные дела во Франции не только в 1926 году, но и в течение большей части 1927 года.
Среди бумаг, оставленных Видкуном и Марией, есть только один документ, указывающий на то, чем Мария была занята в Европе. Это письмо, которое написала Александра 17 декабря 1923 года, где сказано, что Мария действовала как агент «Треста».
Как было указано ранее, вполне вероятно, что Мария получила задание, связанное с «Трестом», от ее украинских руководителей — интриганов, жаждущих власти, ввиду того, что в этой организации участвовал Артамонов, а его преемник в Харькове Башкович был последним начальником Марии. Также вполне возможно, что Квислинг знал, чем занимается Мария, иначе после того, как она получила письмо от Александры, они оба не бросились бы в страхе в Париж, намереваясь держать Александру под постоянным наблюдением. Неизвестно, как долго Мария работала в этом качестве, но поразительно, что она не вернулась в Россию до тех пор, пока «Трест» не был разоблачен. Согласно неопубликованной рукописи норвежского дипломата Арнольда Рестада, Мария вернулась в Москву в июне 1927 года и жила с Квислингом в гостинице.
Позднее этим же летом они переехали в здание британской миссии[129]. Это отражено в заметках в записной книжке Квислинга за 1927 год: отметив, что Мария получала деньги в январе, феврале и марте того года, он не упоминает ее в течение оставшейся части года.
В первые месяцы этого года в политической жизни произошло много событий, оказавших непосредственное влияние на «Трест». В апреле латвийский агент Эдуард Опперпут (как и Артамонов, бывший офицер царской армии) по прибытии в Финляндию признался, что является контрразведчиком ОГПУ. Таким образом, деятельность «Треста» была разоблачена. Эта организация распалась так быстро, что можно предположить, будто само ОГПУ ускорило этот процесс. Многие агенты «Треста» уже покинули этот корабль до 1927 года, и западный мир начал высказывать возрастающие подозрения об исчезновении в Париже высокопоставленного белого русского генерала в 1926 году и появлении фиктивного признания о его самоубийстве. Все эти происшествия имели прямую связь с прибытием Опперпута в Финляндию[130].
Было ли это связано с тем, что работа Марии уже закончилась, или были другие личные причины, но она решила, что ей пора покинуть Европу и быть вместе с Квислингом в Москве, где его только что временно назначили секретарем норвежской миссии.
Причиной этого назначения являлось то, что дипломатические отношения между Советской Россией и Великобританией были разорваны, и Норвегия взяла на себя защиту британских интересов, таким образом увеличив нагрузку на имеющийся состав миссии. Министр Урбю все еще был благосклонен к Квислингу, который уже находился в Москве, выполняя различные задания по поручению Нансена и Притца. Именно он устроил назначение Квислинга, что со временем привело к тому, что он стал ответственным за ежедневные дела Британии и переехал в здание британского посольства. Со временем, однако, Урбю потерял надежду серьезно привлечь Квислинга к дипломатической службе. Полгода спустя Министерство иностранных дел ясно дало понять министру, что это совершенно невозможно[131].
Тем временем Квислинг написал Нансену о своем новом назначении и поспешил заверить его, что он и дальше готов выполнять для него задания. В этом же письме он упоминает о возобновлении «красного террора», а также заявляет, что русские не хотят иметь ничего общего с иностранцами. Он был потрясен арестами и другими случаями репрессий, которые видел своими глазами, как он писал, и что даже теперь, спустя много лет, было ясно, что у него не осталось никаких иллюзий в отношении советского режима[132]. Одним из ярких примеров происходивших переворотов было исключение Троцкого из Коммунистической партии 29 июня — всего через несколько дней после того, как Квислинг написал письмо Нансену.
Работа Квислинга для Притца на этот раз закончилась, когда Притц в 1927 году решил прекратить свое участие в торговле лесом из-за нарастающей ксенофобии в Советской России. Это решение также положило начало так называемому «рублевому» скандалу, которой впоследствии преследовал Квислинга повсюду. Судя по тому, что писал Бенджамин Вогт, весной 1928 года советские власти подозревали, что Квислинг занимался незаконными сделками с советскими рублями от имени Притца, в результате чего Квислинга вызвали на допрос в ОГПУ. Говорят, что он вышел оттуда через четыре часа, находясь в сильном потрясении[133]. Даль, в свою очередь, считает, что если бы такой инцидент имел место, то это произошло бы весной 1927 года, одновременно с ликвидацией русских интересов Притца. Однако он не нашел никакого документального подтверждения, даже в архивах Министерства иностранных дел, что Квислинга той весной допрашивали советские власти. Даль также считает маловероятным, что Квислинга назначили бы в миссию 20 июня, если бы он, как говорили слухи, так опозорил себя в глазах советских властей. Этот последний аргумент достаточно разумный, но мы все же не знаем, был ли Квислинг допрошен в следующем году, возможно, в результате новых веяний в стране. Даль, наверное, прав в своем предположении, что советские чиновники усилили попытки очернить репутацию Квислинга лишь после его возвращения домой в Норвегию в конце 1929 года[134]. Из письма Квислинга от 2 февраля 1929 года своему бывшему русскому преподавателю, профессору Олафу Броку, становится ясно, что Квислинг явно отделял старый большевизм от нового сталинизма, который находил неприемлемым[135].
В записной книжке Квислинга за 1927 год помечено, что он выехал из России в Осло через Хельсинки и Або, куда прибыл в канун Рождества. Если Рестад был прав, говоря, что Мария жила с Квислингом с июня, то она должна была выехать домой вместе с ним и провести большую часть 1927 года в Норвегии, судя по письмам, которые писал ей Квислинг из Москвы, отражающим все более тревожное положение в Советской России.
В мае он написал, что русским женщинам стало труднее выходить замуж за иностранцев и получать выездные визы, даже при наличии иностранного гражданства. А 19 июля он заявил, что миссия в Москве больше не доверяет курьерской службе и теперь все члены миссии по очереди выполняют обязанности курьера. 30 августа, после восьми месяцев разлуки, Квислинг сообщил Марии, что ему, вероятно, придется остаться в Москве еще на некоторое время. Поэтому ей стоит подумать о том, чтобы приехать сюда и пожить здесь некоторое время до того, как она отвезет свою мать в Осло. Он также писал, что собирается ехать в Харьков на следующей неделе; ее мать должна была заполнить несколько бумаг, среди которых была просьба о выдаче ей выездной визы. Не менее интересной частью его письма было предупреждение Марии, что ситуация в России значительно изменилась. В сентябре Марии сообщили, что она может получить дипломатический паспорт в Осло, а также финскую визу и laisser passer (дипломатический документ, предоставляющий право свободного пересечения границы), а 4 октября Квислинг посоветовал ей получить и российскую визу через Министерство иностранных дел[136].
Паспорт Марии с визой российского посольства в Христиании, который ей выдали 1 декабря 1928 года, свидетельствовал, что гражданка Мария Квислинг имеет право въехать в Советский Союз через любой пограничный пункт и беспрепятственно путешествовать как супруга секретаря норвежской миссии[137].
Старшая Пасешникова так никогда и не поехала в Норвегию. Квислингу пришлось изменить свои планы и вернуться в Норвегию для встречи с Нансеном до того, как он взял Марию с собой, возвращаясь в Москву в ноябре 1928 года. Тут также стоит отметить, что во время их долгой разлуки до этого момента, видимо, у нее не было каких-либо причин для поездки обратно во Францию.
Последний год, который Мария провела на своей родине, прежде чем в конце 1929 года навсегда вернуться с Квислингом в Осло (к этому времени Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с Советским Союзом), не мог быть для них очень приятным. Даже учитывая то, что она жила с Квислингом в достатке в британском посольстве, и у них было достаточно денег, чтобы покупать различные произведения искусства. Те люди, от которых Мария привыкла получать поддержку, потеряли власть, НЭП кончился, коллективизация и сталинский террор укрепились. Квислинг получил прямое напоминание о сталинской ксенофобии в 1934 году, когда человек, которого он взял в качестве курьера в Харькове в 1922 году и который затем продолжал работать с иностранцами, написал Квислингу из Франции, что он стал инвалидом после трех лет, проведенных в лагере на Соловках[138].
Кроме того, работа Квислинга в Москве для Притца закончилась, и он уже не мог ожидать дальнейших указаний от Нансена. Нансен покинул пост верховного комиссара по делам репатриации армянских беженцев 8 сентября 1927 года, а спустя два года армянский план полностью свернули. У Квислинга не было никакого будущего в армии[139], и ему не удалось устроиться на дипломатическую службу.
Так что, когда Мария и Видкун в 1929 году накануне Рождества вернулись в Осло, их будущее выглядело неопределенным, но у них были семья и друзья, поддерживающие их, и Норвегия оставалась мирной страной во все более беспокойном мире. Этого, однако, нельзя было сказать о Китае, куда недавно прибыла Александра.
Глава 29. НОВАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРЫ
Заметки Кирстен Сивер
Когда ухоженный пригород Христиании остался позади и последний фьорд растаял вдали, Александра вдруг ощутила свободу, как тогда, когда впервые перестала чувствовать себя зависимой от Квислинга. Она поняла, что теперь вольна в выборе собеседников, и, наконец, ощутила себя собой.
Ее вспыльчивый агент из бюро путешествий был прав по крайней мере в том, что у нее будут интересные попутчики по дороге во Францию. Во время этой поездки она очень подружилась с говорящей по-французски молодой норвежкой Титти Киллингстад. Они переписывались до смерти Титти в 1978 году. Титти ехала в Барселону работать гувернанткой в семье датского консула. Александра описывала ее как красивую и энергичную, любящую веселье и приключения женщину, что совпадало с ее собственным настроением в то время. Они обе считали это путешествие началом нового и радостного этапа их жизни.
Вторым попутчиком группы, собранной бюро путешествий, был русский господин, который представился как граф Баранов. У него была своя история. До Первой мировой войны он был губернатором Нижнего Новгорода, властным и авторитетным, и нажил себе много врагов. Царское правительство обвинило его и еще нескольких человек, включая шведа Альфреда Нобеля, в финансовых спекуляциях, и он потерял свою должность. Нобель должен был ему деньги, и теперь Баранов возвращался домой из Христиании, где он встречался с Нобелем, и был в радостном предвкушении встречи с сыновьями во Франции.
Александра почувствовала облегчение, вернувшись во Францию, где язык и образ жизни были ей знакомы, но ее тревога возрастала по мере приближения поезда к Ницце, где ей предстояла встреча с тетей, которую она никогда не видела. Хотя тетя Женя была очень приветлива, она ничего не сказала о своем реальном положении, а Александра хорошо понимала свою нестабильную денежную ситуацию и опасалась, что будет обузой для тети.
Когда такси остановилось по нужному адресу, Александра увидела, что ее тетя живет в хорошем доме в приличном районе города. Но когда она вошла в дом, он напомнил ей пчелиный улей из-за количества жильцов. Первую ночь ей пришлось провести в ванной комнате. Оказалось, что давно истратив деньги, полученные от нефтяных промыслов, конфискованных румынскими властями, тетя Женя теперь обеднела и выживала только за счет сдачи в аренду своей жилплощади.
После приветствий, объятий и поцелуев Александра почувствовала, что тетя рада ей, но все же озабочена ее приездом. Александра подумала, что тетя Женя недоумевает, почему Александра без мужа и не знает, как долго тут пробудет. Александра еще раз повторила то, что писала в телеграмме из Осло: Видкун считал, что холодную зиму ей будет лучше провести в теплом климате. Оказалось, что причины беспокойства тети иные: она переживала, что Александра приехала потребовать отчет о своей доле от прибыли, которую ранее приносило семейное нефтяное дело, и которую она давно потратила. Александра успокоила тетю, что причина ее приезда была вовсе не в этом.
Александра так никогда и не призналась тете, что истинной причиной разлуки с Квислингом было появление другой женщины в его жизни. И этому было простое объяснение — она больше ничего не слышала о Марии и не получала никаких известий от нее. Квислинг писал Александре регулярно, как и она ему, но о Марии они не упоминали. Его письма всегда были написаны с доброжелательностью и заботой, как будто он поехал навестить родителей в Телемарк, а Александра ожидает его возвращения в их квартире на Эрлинг Скалгссонсгат, 26. Поэтому она невольно снова стала надеяться, что они смогут быть вместе как муж и жена. Ей стоило лишь взглянуть в свой паспорт, чтобы убедиться, что она все еще госпожа Квислинг, норвежская подданная, которая может жить во Франции без тех ограничений, с которыми обычно сталкивались российские граждане. Каждое письмо от Квислинга давало ей ощущение открытости и доверия — он интересуется ее жизнью и хочет в ней участвовать. Поэтому Александра в письмах употребляла нежные прозвища, надеясь на то, что он снова станет таким, как когда-то после их свадьбы. Мария знала о переписке Квислинга с Александрой, по крайне мере пока они жили под одной крышей. Между 31 мая и 3 июня 1925 года она написала Квислингу письмо, в котором требовала сделать что-нибудь с этой «паразиткой» Александрой и нежными прозвищами, которыми она называла Видкуна.
Рассказ Александры
В молодости я встречала многих известных людей, но никогда не пыталась прославиться или заработать на рассказах о них, хотя многие именно так и поступают. Например, о Маяковском, о его отношениях с Лилей, о ее сестре Эльзе Триоле написаны десятки книг. Мои рассказы о Видкуне — это рассказы о моей жизни, а не спекуляция его именем. Я не могу себе простить, что не попрощалась с ним перед его смертью. Но я ничего не знала, а узнала уже по факту. Мара молчала все эти годы, а через много лет заявила писателю, который писал о Квислинге, что впервые слышит мое имя и что на мне Видкун женат не был.
Я считаю, что говорить такое очень глупо с ее стороны. Хотя, возможно, в старости у нее нарушилась память. Мне не хотелось, чтобы правдивая история нашей с Квислингом жизни ушла вместе со мной. Поэтому я и решила написать об этом.
Мне сложно понять отношение Квислинга. Быть может, я надоела ему, а может, была слишком молода и скучна для него. Но мне кажется, я не заслуживала, чтобы он закончил отношения со мной настолько неожиданно, грубо и категорично. И вообще, как мог человек так кардинально измениться за месяц? Я могла бы понять, если бы, например, Мара забеременела, или если бы у них была большая любовь. Но ничего этого не было! У них так и не появились дети, а их семейная жизнь с самого начала была далека от идеала. Мне рассказывали, что они всегда были недовольны друг другом, ссорились, раздражались по любому поводу и никогда не производили впечатления счастливой пары. Капитан был старше Марии на 15 лет. Я до сих пор не могу понять, как им удалось официально оформить брак, поскольку брак со мной официально не был расторгнут. И вообще неясно, был ли их брак узаконен.
Капитан рыдал у меня в ногах и говорил: «Что же я наделал!». До сих пор я не понимаю, что он имел в виду. Возможно, он все-таки был влюблен в Мару, потом быстро остыл к ней, так же, как и ко мне, но не расстался с ней, так как два таких случая подряд привели бы к большому скандалу? Ведь тогда были другие времена, а Квислинг занимал большую должность и принадлежал к одному из самых уважаемых семейств в Норвегии. Помимо этого у Видкуна появились странности не только относительно личной жизни. Например, он стал интересоваться различной информацией, которая не имела никакого отношения к его работе, и это тоже выглядело нелепо: он вдруг начал изучать астрономию, биологию, физику, математику. Потому я не исключаю, что у него были какие-то психические проблемы. В нем всегда было что-то очень мрачное и роковое. Даже на фоне своих земляков, сдержанных и холодных норвежцев, он выделялся своей угрюмостью. Хотя я и была совсем юной, я чувствовала исходящую от него гнетущую ауру и даже что-то пугающее. А его лицо было до такой степени сдержанным и лишенным эмоций, что иногда напоминало маску с печальными и полными трагизма глазами. Уже тогда у меня мелькала мысль о его психическом нездоровье, а последующие поступки Видкуна заставили задуматься об этом еще больше. Мне не кажется нормальным, когда твой муж после совместного посещения Украины внезапно в вагоне поезда будничным тоном сообщает тебе, что хочет развестись, а после этого везет свою будущую жену в Норвегию, тебя оставляет во Франции, а сам уезжает на Балканы.
Когда я жила у своей тети в Париже, Квислинг уже давно находился снова в России. Он был против моего возвращения к маме и продолжал часто писать мне. Возможно, он хотел контролировать мою жизнь и быть в курсе всех моих дел. Когда я написала Квислингу, что собираюсь уехать в Китай, он одобрил эту идею, но настаивал, чтобы я оставалась норвежской подданной, а следовательно, его официальной женой. В Китае я познакомилась с прекрасным человеком Яковом Павловичем Рябиным, который сделал мне предложение. Я была в тупике и очень переживала, так как не могла официально развестись. Но Яков Павлович успокоил меня и все устроил: мы обвенчались в православной церкви, а поскольку в православной церкви я венчалась впервые, то первый брак аннулировали, и мне выдали другие соответствующие документы. Однако норвежское подданство все равно сохранилось за мной.
У меня был великолепный голос, и я неплохо преуспевала в балете, хотя мое образование в этом было мизерным. Но после замужества и переезда в Норвегию Видкун сказал, что я могу при желании спеть где-нибудь на приеме романс, но учиться для профессиональной сцены я не должна. Мой голос был подпорчен по глупости, когда я в жару на пляже обтирала себя льдом и клала лед в рот, после чего переболела ангиной. Но все же я могла бы неплохо петь. Однако мой муж говорил, что никогда не допустит, чтобы я выступала на каких-то подмостках под фамилией Квислинг. Этим он лишил меня хоть какой-то специальности, но когда расстался со мной, зная, что я не имею возможности зарабатывать, присылал мне мизерные деньги — 25 американских долларов в месяц. Позже я получала приглашение от Дягилева и от Рейнхардта. Последний хотел, чтобы я участвовала в постановке его знаменитой драмы «Чудо». Я хотела принять это приглашение, собрала вещи в поездку и проинформировала Квислинга телеграммой, но он категорически запретил мне это сделать. Однако впоследствии его запрет пошел мне на пользу: на Европу обрушилась война и горе, а я смогла спастись от этого, так как, убегая от бесконечного контроля своего экс-супруга, уехала со знакомыми в Китай.
Через некоторое время после моего возвращения из Парижа мы с тетей были вынуждены искать другую квартиру, так как наш хозяин собрался делать ремонт и попросил нас срочно съехать. У нас даже не было времени на поиски жилья. Но нам повезло, поскольку в это время у Софьи Павловны, тетиной приятельницы, не было квартирантов, и она предложила переехать к ней, пока мы не найдем себе что-то. Софья Павловна Фиглер происходила из рода очень богатых и знаменитых московских купцов. Она была вдовой, а ее единственная красавица-дочь жила в специальном заведении для душевнобольных, и надежды на ее излечение не было. Софья Павловна была очень милой и приятной в общении дамой. Они потеряли все, когда бежали с семьей из России, но совершенно неожиданно выяснилось, что у них есть шикарная вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра, купленная за много лет до революции. Вилла находилась в респектабельном и очень красивом районе. По соседству жили многие известные люди, например, английский писатель Сомерсет Моэм. Все материалы для постройки виллы привозились из России. Одна из комнат особенно впечатляла — стены и мебель в ней были из настоящего уральского малахита. Содержание и лечение дочери требовало больших затрат, и Софья Павловна жила за счет сдачи в аренду виллы обеспеченным туристам. Тогда многие бежавшие из России богатые люди выжили только благодаря тому, что у них осталась недвижимость за границей. Мы переехали к ней втроем: я, тетя Женя и тетина знакомая Ольга Александровна Колосовская. Это была одна из самых шикарных вилл, которые мне приходилось когда-либо видеть. Чудесный сад спускался к морю. Однако внутри вилла оказалась темной, мрачной и какой-то нежилой. Тетя Женя очень нервничала по поводу нашего безденежья и поиска жилья. Было такое, что она просыпалась, делала кофе, готовила завтрак и будила меня. Я смотрела на часы и понимала, что сейчас только 3 часа ночи, а тетя Женя была уверена, что уже утро, раз она проснулась. На самом же деле она не могла спать от волнения.
Наконец мы нашли квартиру в новом домике на окраине Ниццы в не очень хорошем, но новом районе. Мне было тоскливо. Квартира была бедной, все окна выходили на другой такой же домик с квартирантами. Над нами жила известная балерина Мариинского театра, позже переименованного в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова. С ней жил ее сын, Жорж Ган.
В Ницце было очень мало развлечений, поэтому основными были прогулки и чаепитие в гранд-отеле «Негреско» или в казино «Руль». «Негреско» — первоклассный отель, куда к 17:00 собирались пить чай и танцевать. Я читала, что он существует до сих пор. А ночью все ехали в казино «Руль», ужинали и играли в рулетку. Также мы ездили в Монте-Карло. У Макса Рейнхардта я познакомилась со многими людьми, которые часто приезжали в Ниццу, поэтому у меня было много знакомых. Денег у меня не было, поэтому я ездила развлекаться, только если меня приглашали. В Монте-Карло было запрещено играть в рулетку тем, кто не достиг 21 года. И хотя мне не было 19, но я была официально замужем, мне разрешали играть. Однажды я выиграла большую сумму, около 100 тыс. франков, но большую часть тут же проиграла. Я не умела обращаться с деньгами и не жаждала их, так как у меня никогда их не было. Сначала мы с мамой жили впроголодь на родине, потом мой муж не давал мне личных денег, а после расставания присылал мне копейки. Я очень редко покупала себе одежду. Лишь однажды купила бледно-розовое плиссированное платье в черные звезды, поскольку оно было уцененное: долго висело в витрине магазина и местами выгорело. Но мне не пришлось долго в нем покрасоваться. Когда я походила в нем несколько дней, ткань начала разлазиться по складкам — она не только выгорела, но и стала очень ветхой от длительного пребывания на солнце. Я как раз ехала в трамвае со своими друзьями-мальчишками, когда заметила это. И мы стали проводить по складкам пальцами сверху донизу и смеяться. Когда я пришла домой, тетя Женя даже испугалась, так как платье напоминало лохмотья. Других обновок я не могла себе позволить, ходила в том, что привезла с собой из Норвегии, где Квислинг купил мне немного одежды. Помню, что среди них был кожаный плащ. Тогда было модно, чтобы кожаные вещи выглядели старыми, поэтому я ставила на нем пятна кислой капустой, но плащ все равно выглядел шикарно. Я тогда мечтала о новых красивых туфлях. Иногда мне помогали экономить знакомые артисты: приводили меня в парикмахерскую, где их знали, и говорили, что я балерина из их театра — мне делали прическу очень дешево. Однажды моя знакомая помогла сделать шляпку, и мне все делали комплименты. Возможно, никто действительно не замечал, насколько я бедно одевалась, а может быть, не показывали вида. Несмотря на это, я часто нравилась людям, и скорее всего дело было в моей молодости. Иногда я даже замечала зависть со стороны других женщин, которые были одеты намного лучше меня.
Я переписывалась с мамой, и она была очень рада, что я живу с тетей — все-таки какая-то родная душа. Часто мне писал Квислинг.
Тетя Женя ничего не спрашивала из деликатности, но я сама рассказала ей о расставании с мужем. Она не стала лезть с советами, а пыталась помочь развеяться. Например, мы вставали на рассвете и шли на рынок в Старый город. Разнообразие рыбы и морепродуктов поражало, все было красивое и свежее. В Ницце был своеобразный климат: бывало, что в холодную погоду становилось жарко и душно. Эту жару приносил сирокко — ветер с песком из Африки. Летом же в Ниццу иногда приходил мистраль — северо-западный холодный ветер, от которого становилось зябко.
В нашем бедном районе было две шикарные виллы. Одна из них — напротив нашего дома. Она была окружена прекрасным огромным садом. На этой вилле жил Игорь Стравинский со своей первой семьей. Иногда я сталкивалась с ним в магазинчике, но знакомы мы не были. Когда Стравинский был дома, он все время играл на рояле, и звуки музыки были слышны у нас в квартире. Он наигрывал какие-то фрагменты, которые звучали очень негармонично и нас утомляли. Тогда он еще не был знаменитостью. Позже я побывала в Венеции на концерте симфонического оркестра, который состоял из знаменитых музыкантов, а дирижировал Тосканини. И тогда я впервые услышала цельные произведения Стравинского, которые он играл на рояле. Это было прекрасно. Второй раз я слышала Стравинского в гостях у Дягилева, он дирижировал. Они ставили «Царь Эдип». Музыка была новаторская и авангардная, поэтому критики разругали ее. Но я была в восторге, наверное, в силу своей молодости. Однажды у Дягилева за кулисами меня познакомили с Прокофьевым. В скором времени он уехал в Россию, и больше я никогда с ним не встречалась.
В Ницце была православная церковь. Эту церковь построил Александр II для княгини Юрьевской. Тетя Женя в церковь никогда не ходила, но у нее были русские приятельницы, которые регулярно посещали церковь, а после церкви заходили к тете в гости. Среди них была дама, которая жила у дочки в Италии. Граница Италии находилась недалеко от Ниццы, и по воскресеньям она приезжала в церковь, так как в ее городе православной церкви не было. Также среди приятельниц тети была мадам Коростовец, и когда я уехала в Китай, случайно познакомилась там с ее сыном и невесткой и очень подружилась с ними. Заезжала на чай после церкви жена адмирала Макарова, который погиб в Русско-японской войне. С тетиными приятельницами часто приходили их дочери или внучки моего возраста, и мы с удовольствием общались. Все эмигранты, как и мы, были очень бедными, и лишь одна семья из этого круга имела деньги. Это были Сатуровы. У них остались поместья с прислугой в Париже, куда они со временем уехали. Их сына звали Арсений, мы с ним дружили.
Когда мои молодые друзья разъезжались на учебу, мы переписывались, а летом все собирались в Ницце. Дни напролет мы проводили на пляже. Пляж в Ницце был в ужасном состоянии: каменистый и без песка. Вода была теплая и чистая, но раз в месяц туда спускали канализацию, и она на время становилась грязной. Но мы были молоды и не обращали на это внимания, просто не купались те несколько дней, пока вода не становилась снова чистой. Иногда мы плавали далеко в море на досках, не замечая сеток, которые защищали прибрежную зону от акул. Мы наблюдали за рыбами, ловили креветок и варили из них суп. К супу иногда покупали у уличных торговцев пирог и лук. У меня было много поклонников, но они не могли повести меня в ресторан, зато часто помогали мне и тете Жене по хозяйству. Время, общение и Ницца шли мне на пользу, я стала веселой и спокойной.
Я ничем не могла помочь маме и очень переживала по этому поводу. Когда я ей писала об этом, она отвечала, чтобы я и не думала об этом, так как она достаточно зарабатывает. Кажется, она делала искусственные цветы и продавала их.
Однажды к нам приехала тетя Катя — сестра тети Жени. Послереволюционный и послевоенный раздел Европы привел к полному разорению семьи тети Кати, однако у нее остались какие-то нефтеносные земли в Румынии. Тете Кате было больше шестидесяти лет, она никогда не была замужем. Она всегда выглядела опрятно, с аккуратной прической. У нее были светлые и очень умные глаза. Тетя Катя пережила погромы в Кишиневе и с тех пор до ужаса боялась людей в форме, которая хоть немного напоминала полицейскую. Тетя Катя в основном проводила время на кухне: готовила и курила крепкие сигареты «Капрал». Иногда я приходила и клала голову к ней на колени, а она гладила мои волосы, и мы разговаривали. Тетя Катя отговаривала меня ходить на свидания. Она говорила:
— Ты еще совсем ребенок, сиди дома.
— Не забывайте, что я замужем, — отвечала я. — А вы никогда не были замужем и ничего об этом не знаете.
— Ты думаешь, что я не жила с мужчинами и не знаю их? Ошибаешься. Я жила с мужчинами всю свою жизнь: с отцом и тремя братьями, поэтому все о них знаю. Братьев я вырастила.
И переубедить ее было невозможно. Позже она рассказала, что у нее был жених, которого она безумно любила. Но он ушел на войну с Турцией и там погиб, а тетя Катя так и не вышла замуж. Она обожала свою семью, особенно тетю Женю. Тетя Женя была замечательным человеком, добрым и открытым. Она светилась доброжелательностью и всегда умела уладить любые неприятности. Я больше никогда не встречала таких людей, и с теплотой вспоминаю те 4 года, которые я прожила с ней.
У тети Жени была квартирантка Ольга Александровна Колосовская. Она была богатой, интеллигентной и неплохой женщиной, но очень капризной, и иногда разговаривала с тетей очень грубо. А тетя Женя всегда говорила в таких случаях: «Я ее не виню, может быть, у нее неприятности или она себя плохо чувствует». Тетя никогда не судила людей. Мне она могла выразить неудовольствие, если я, например, шла на встречу с каким-то новым поклонником или красила губы. Тетю Женю все очень любили, у нее было много приятелей и друзей. Среди них были абсолютно разные люди по социальному статусу и материальному положению, но тетя ко всем относилась одинаково. Однажды одна знакомая даже попросила тетю взять на перевоспитание свою юную дочь, с которой не могла справиться. Девушка была избалована, но мы с ней подружились. У нее была модная стрижка и шикарные наряды. Мы делали вид, что ложимся спать, а когда тетя засыпала, одевались и убегали в ресторан на танцы. А утром возвращались до того, как тетя Женя проснется. Бывало, мы не успевали раздеться, и тетя спрашивала: «Что это вы так рано встали?».
Как-то я зашла в книжный магазин Поволоцкого, который издавал русские книги. Это был очень большой и знаменитый магазин в Париже. Там я познакомилась с Поволоцким, и он влюбился в меня, как сам говорил, с первого взгляда. Мне было очень интересно с ним общаться, так как он знал массу знаменитостей, например, Есенина и Айседору Дункан, белого эмигранта и поэта Сашу Черного. Каждый день Поволоцкий возил меня в рестораны завтракать. Помню ресторан «Рейн-Педо», где собирались известные люди и завсегдатаи. Туда было очень сложно попасть, и около полутора часов мы ожидали свой заказ. Мы завтракали вдвоем, а со знаменитостями он знакомил меня у себя в издательстве. Так я познакомилась со многими русскими писателями, которых читала еще в раннем детстве: Куприн, Осоргин, Зайцев, а также с более современными писателями. Кроме того, Поволоцкий дарил мне книги, причем с автографами авторов. Это были очень ценные подарки для меня, и я даже увезла их с собой в Китай. Часть со временем потерялась, часть мне не вернули после прочтения знакомые.
Вскоре начались неприятности с Поволоцким. Он приехал в Ниццу, чтобы повидаться со мной. Наш общий знакомый Саша говорил мне: «Зачем он тебе нужен? Ему за сорок и он женат!». В конце концов Поволоцкий пришел и познакомился с моей тетей. Оказалось, что жена его любит, она узнала обо мне и передала мне письмо, наполненное болью. Она писала, что знает — ее муж полюбил меня, а она очень страдает, и хотела бы встретиться и поговорить. Я ей ответила, что не вижу темы для разговора, так как ее муж приехал по собственной инициативе, я его не звала. В ответ она прислала телеграмму, что едет в Ниццу. Когда я сказала об этом Поволоцкому, он сразу же уехал в Париж, чтобы ее остановить. Тетя недоумевала, я пыталась скрывать суть этой истории от нее и говорила, что это просто мои знакомые, у которых проблемы в браке, и они хотят со мной посоветоваться. Жена Поволоцкого, Элен, все же приехала, и в результате мы с ней подружились. Мы много гуляли вместе, она успокоилась и уехала. Однако после ее отъезда Поволоцкий снова приехал. Он говорил, что не может без меня и решительно настроен развестись с женой. Я сказала, что это невозможно. Но он уговорил меня просто пообщаться еще какое-то время. Мы ездили на автомобиле на природу и устраивали пикники, а также ходили в рестораны на побережье. До сих пор я помню острый суп с рыбой и морепродуктами в «Ла Круагде», который у всех вызывал восторг, а мне от него стало плохо. Однако в эти прогулки я стала звать с нами Сашу.
Затем Поволоцкий опять уехал, и снова приехала Элен. Она рыдала, я ее успокаивала. Они прожили вместе 25 лет, и я очень ей сопереживала. В конце концов я очень резко объяснилась с Поволоцким, и их приезды прекратились. Но он стал писать, что готов помочь, если мне что-либо нужно. Он знал о моем тяжелом материальном положении.
Поволоцкий советовал мне уехать и устраивать свою жизнь. Я решила, что это правильней всего. Он написал письмо Видкуну, в котором пытался убедить его, что для меня лучше уехать в США, где больше возможностей учиться и работать. Поволоцкий представился моим другом, сказал, что заботится о моем благосостоянии. Насколько я помню, капитан ответил ему, что очень хотел бы поспособствовать моему отъезду в Америку. Также он выражал благодарность Поволоцкому за то, что такой занятой и уважаемый человек проявил интерес к моей судьбе. Я думаю, что эти письма должны сохраниться в архивах Поволоцкого.
Однако в консульстве США выяснилось, что поскольку я официально замужем, а уехать хочу одна, то должна предоставить письменное разрешение от мужа. На основании этого в визе мне было отказано, и я уехала из Парижа назад к тете в Ниццу. Теперь я понимаю, почему он не захотел помочь мне хотя бы тем, чтобы поехать со мной в Америку и вернуться. Ведь в то время они с Марой жили в России, и даже если бы он выразил такое желание, она ни за что ему не разрешила бы.
К тете Жене в гости приходила одна приятельница. Она была дочерью очень богатого купца, который в свое время бежал за границу. Он торговал рогожей, золотистой рогожей, которую использовали для упаковки подарков и декораций. Ему повезло: когда он бежал за границу, по случайности несколько его судов с рогожей пришли в Лондон и не успели вернуться в Россию. Благодаря этому он стал богатым человеком и в чужой стране, куда приехал без ничего. У него также была вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра, где он жил со своей дочерью и внуком Андреем Гордеевым. Второй его внук жил в Китае. Когда мы познакомились, Андрей в меня влюбился, и мы много времени проводили вместе — он даже составлял нам компанию в поиске квартиры. Андрей и его мать, моя тезка, Александра Андреевна, которой было сложно уживаться с авторитарным и скупым отцом, решили уехать в Китай ко второму сыну Александры Андреевны. После этого Андрей сказал, что хочет на мне жениться, и предложил уехать с ним в Китай. Конечно, я объяснила, что выйти замуж не могу, так как официально не разведена. Но мы называли друг друга женихом и невестой, и даже встречая знакомых на улице, я представляла Андрея как своего жениха. Но однажды я задумалась, что поступаю нехорошо. Андрей был интересным молодым человеком, у которого были все шансы жениться и создать семью, а я этого ему дать не смогла бы. Поэтому я с ним объяснилась, но он посоветовал все же поехать с ним в Китай, чтобы я могла начать новую жизнь.
Мне хотелось бы рассказать о человеке необычайно высоких моральных качеств. Когда я вижу где-нибудь изображения рыцарей в доспехах, то всегда вспоминаю Фермиана. Как я узнала позже, он происходил из рода графов де Фермиан. Де Фермиан — это старинный итальянский род. Мой друг был родом из старинного города Таормины, который находился на восточном побережье Сицилии. Фермиан был похож на австрийца: высокий, сухощавый, с утонченными чертами лица и очень белой кожей. В нем было какое-то старинное благородство. Фермиан был прекрасно воспитан и галантен, в нем чувствовалась культура древнего рода. Мы познакомились у Рейнхардта в Венеции, и Фермиан стал за мной ухаживать. У него не было семьи, он был художником. Но я думаю, что существовал он на средства, полученные по наследству, поскольку жил слишком роскошно для художника. У него был дом в Венеции, куда он всегда нас приглашал. Но при этом в нем был какой-то аскетизм и что-то монашеское. Фермиан относился ко мне с необычайным трепетом и лелеял меня, как хрустальную вазу. Вскоре я уехала к тете в Ниццу, но забыла дать ему свой адрес. И вот однажды ранней весной он приехал в Ниццу и сам разыскал меня. Это было на Пасху, и тетя стала угощать его творожной пасхой и куличом. Пасху тетя делала сама, а кулич принесли гости. Мы рассказывали Фермиану об этом празднике и его традициях. Тогда произошел неприятный эпизод — он сильно подавился куличом, и мы долго хлопали его по спине и приводили в чувства. Однако этот эпизод не стал преградой для нашего общения, и он стал приглашать меня на прогулки и в гости. У нас оказалась масса общих знакомых, например, музыкант Саша Вотиченко, который играл на тимпане. На тимпане традиционно играют венгры и цыгане, а Саша играл на нем классику: Баха, Глинку, Куперена. По средам мы посещали его музыкальные вечера, где бывали известные музыканты. Рубинштейн бесподобно играл на рояле. У Саши был аккомпаниатор Роже Галлэн, ученик Ванды Ландовской. Кроме этого, у Саши была очаровательная жена, американка Долли, и замечательный сын Тарас.
Во время одного из приездов Фермиана в Ниццу у него в гостях я познакомилась с претендентом на испанский престол — Доном Хайме Бурбоном. Ему было около пятидесяти, он был очень воспитанный и спокойный и рассказывал о своем роде Бурбонов и теперешнем испанском монархе Альфонсе XIII, который не имел права находиться на престоле.
Когда я уезжала второй раз с Кислингом из России, знакомая дала мне адрес своей кузины Маруси, которая жила в Ницце, и попросила передать ей письмо. Однажды я отправилась к ней в гости. Она была замужем за французом и жила в холодном буржуазном окружении. В их доме были закрыты жалюзи, чтобы солнце не проникало в комнаты и не портило мебель и текстиль. У Маруси был сын лет пяти. Вопреки привычкам своего мужа, Маруся иногда открывала окна. Она была очень веселая и милая. Прочитав письмо, Маруся загрустила, так как из него узнала, что ее сестры живут очень бедно, а она ничем не может им помочь — в те времена нельзя было отправлять посылки в СССР. Мы с Марусей очень сблизились. Ее муж был, кажется, коммивояжером и часто находился в разъездах. Когда он приезжал, начинались проблемы, поскольку он приставал ко мне. Но Маруся просила меня не обращать на это внимания и говорила, что он так вел себя со всеми ее подругами. Однако мне было неприятно, и мы старались видеться в его отсутствие. У Маруси была старшая сестра, княгиня Вера Волконская, которая была разведена со своим мужем. Она была больна туберкулезом. Вера привлекала мужчин и имела массу поклонников. Двое из них, испанец и русский, предлагали ей выйти замуж. Она говорила, что не может определиться, а в это время умело использовала их.
Иногда я ездила в Париж на свои скромные средства. Я жила с компанией молодых знакомых на Монпарнасе и ходила в кафе, описанные такими знаменитостями, как Хемингуэй: «Ротонда», «Дё Маго» и другие. Я также общалась с членами балетных трупп. В Париже я редко могла пробыть дольше двух недель из-за стесненности в средствах и вынуждена была возвращаться в Ниццу.
Однажды в поезде до Леона в вагоне-ресторане я познакомилась с известным художником-маринистом. Сейчас я не могу вспомнить его фамилию. Когда поезд сделал длительную остановку в Лионе, мы отправились смотреть город. Он показал мне какой-то знаменитый памятник и пригласил меня в кафе. Позже мы встречались с ним в Ницце.
Я дружила с Женей Миклушевской. Женя была замужем за производителем шоколада «Маниер». Ее брат, белый офицер, пытался за мной ухаживать и присылал глупые телеграммы в Ниццу, например такие: «В 12 часов 5 минут приезжаю на Trava Bleu». Я была знакома с Лифарем. Он был молодой и очень красивый мужчина. Хорошо знала балерину Ольгу Хохлову, жену Пикассо. Меня всегда хорошо принимали в компаниях, все восхищались моим умением вести себя и поддерживать разговор.
Заметки Кирстен Сивер
До конца своей жизни Александра очень спокойно относилась к деньгам, однако ей было тяжело в том материальном положении, в которое она попала после разлуки с Квислингом. Те деньги, что Квислинг дал ей в Осло, закончились, а он не сдержал своего обещания о регулярных денежных переводах. За вторую половину 1924 года он не прислал ей ни копейки, а в 1925 году она получила всего 3 перевода от мужа. 24 июня 1926 года Квислинг прислал Александре 50 долларов. Согласно записям Квислинга, в это время он посылал деньги Марии Пасешниковой в разных валютах: 200 долларов, 3905 норвежских крон и 195 фунтов стерлингов. Кроме того, четыре раза по 100 рублей передавал матери Марии, когда ездил в Россию.
Александра же имела только крышу над головой благодаря тете. К счастью, хотя тетя Женя не была богатой, у нее были состоятельные и влиятельные друзья, которые хотели помочь Александре найти работу, учитывая ее способности и французское законодательство относительно ограничений на оплачиваемую работу. Для Александры это означало возможность карьеры балерины.
Вскоре после ее приезда в Ниццу (осенью 1924 года) балерины, которые часто бывали у тети Жени, взяли Александру с собой в Париж, чтобы познакомить ее с Нижинским. Через некоторое время в Париже ее представили Дягилеву, который узнал, кто были ее русские преподаватели и где она танцевала. Увидев, как она танцует, он направил ее в Милан для экспресс-обучения под руководством знаменитого Энрико Чеккетти. Она жила в доме Чеккетти и занималась в его студии по пять-шесть часов ежедневно, пока он не сказал: «Ты готова. Возвращайся в Париж!».
На банкете по поводу возвращения Александры в Париж, устроенном ее друзьями, один из гостей сделал ей комплимент, сказав: «Все женщины будут твоими врагами. Будь осторожна во всем, что говоришь. Не доверяй никому и не критикуй никого». Осторожность и сдержанность и до этого были свойственны Александре после тех политических и личных предательств, которые она пережила, но совет друга все же оставил свой след. Меньше всего тогда она хотела внимания мужчин, если оно могло повлечь за собой ревность женщин и создать дополнительные трудности в ее и без того нелегкой жизненной ситуации. Она выбирала друзей с осторожностью и была благодарна судьбе за дружбу с такими людьми, как граф Фермиан и его окружение.
Дягилев пригласил ее в свою труппу, и Александра много занималась в его студии и выступала на сцене: танцевала в постановке под «Норвежский танец» Грига, а также в других постановках.
Зная мнение Квислинга о карьере на сцене, она пользовалась сценическим именем, но опасалась, что он все-таки узнает об этом из французских газет, которые публиковали рецензии. Когда она с гордостью написала Квислингу, что знаменитый танцовщик Волынин, партнер Анны Павловой, предложил Александре быть его партнершей, Квислинг прислал гневное письмо, запрещая ей это. Уже после Второй мировой войны Александра узнала, что в то время Квислинг и Мария представлялись всем мужем и женой. Поэтому вполне возможно, что дело было не в консервативных взглядах Квислинга относительно профессии балерины. Скорее всего он боялся разглашения в прессе информации о браке с Александрой.
Гораздо позже она узнала из записной книжки Квислинга за 1925 год, что с 30 октября по 7 ноября того года он находился в Париже, но ничего ей об этом не сообщил. Он также не воспользовался возможностью повидать Александру в 1926 году, хотя в его записной книжке было написано, что 16 марта он ехал на неделю в Париж. С 12 по 26 мая он вновь был в Париже после поездки в Москву, опять же не связавшись с Александрой[140]. Александра во время своего пребывания во Франции никогда не знала, где находится Квислинг. Он просил писать ему заказные письма на адрес дипломатической миссии в Хельсинки.
Можно предположить, что на момент, когда Волынин сделал ей предложение о сотрудничестве, а Квислинг высказался категорически против, Александра еще надеялась на примирение с мужем. Ее гнев и отчаянье еще не достигли того предела, который наступил через несколько лет и позволил обрести свободу. Александра приняла тяжелое решение и прекратила свою балетную карьеру.
Даже одного этого примера достаточно, чтобы понять, насколько Александра боялась публичности. Танцовщица Айседора Дункан, которая скромно жила в Ницце с 1925 года, погибла 14 сентября 1928 года по пути на вечеринку. Александра была неофициальной хозяйкой этой вечеринки. Дункан была задушена длинным шарфом, который попал в колесо ее открытой машины. Когда прибыла французская полиция и стала искать свидетелей, Александра незаметно ушла, опасаясь неизбежной огласки в связи со смертью такого известного человека.
Боязнь Александры столкнуться с людьми, знающими о ее связи с Квислингом, заставляла избегать общения с кем-либо из пансиона мадам Глайз Здесь играло роль не только обещание не привлекать внимание людей, данное мужу. Александра и сама не хотела чем-либо напоминать себе о тяжелых событиях 1923–1924 годов. Теперь у нее был другой круг общения, и она проводила время в другом районе Парижа, который находился далеко от бульвара Распай. Потому Александра не опасалась встретиться с кем-либо из своей прошлой жизни. Она никогда не думала о Марии и никогда не встречала ее, несмотря на то, что, по ее рассказам, Мария провела большую часть тех трех с половиной лет в Париже и в Нормандии, пока Квислинг был в России.
Александра так никогда и не узнала, Квислинг или кто-то другой нанял господина Каминского, чтобы следить за ее жизнью во время первого года их разлуки. За несколько лет до своей смерти Александра видела копию записной книжки Квислинга за 1925 год, где он записал адрес ее матери (Ирины Теодоровны Ворониной) в Ялте, датчанина Хермода Ланнунга и матери Марии (Натальи Пасешниковой) в Харькове. На следующей странице был записан парижский адрес господина Каминского. Кроме того, в среду 1 июля во время пребывания в Армении Квислинг сделал запись о назначенной на 9:30 утра встрече с Каминским[141].
Эта же записная книжка свидетельствует, что 27 октября Квислинг выехал в Армению по новому заданию Нансена. Он прибыл в Париж, откуда написал Нансену, что задержится там на три-четыре дня в связи с затруднениями в получении российской визы, а также потому, что должен дождаться приезда некоего господина Киндера[142]. Имея достаточно времени для встречи с Александрой, он не сделал попытки повидаться с ней. Квислинг и Мария, очевидно, были вместе в Париже, так как 3 ноября Мария написала в его записной книжке поздравления с Рождеством и Новым годом. Квислинг получал письма от Александры, где бы он ни был, через миссию в Хельсинки, чтобы контролировать ее.
Какое-то время Александра верила в возможность изменений к лучшему, несмотря на отказ от карьеры балерины. Венецианское имение ее друга графа де Фермиана было местом встречи музыкантов и художников. На устроенном графом бале-маскараде Александра получила первый приз за пантомиму «Механическая кукла». На этом же мероприятии присутствовал известный режиссер и драматург Макс Рейнхардт. После выступления Александры он пригласил ее на платные роли в нескольких пантомимах, а впоследствии на главную роль в своем спектакле «Чудо». Ссылаясь на то, что ей необходимо обсудить это с тетей, она вернулась в Ниццу, а Рейнхардт продолжал настаивать на своем предложении.
Совсем без денег, огорченная вынужденным отказом от балетной карьеры, она все-таки приняла предложение Рейнхардта. Затем Александра написала Квислингу, объяснила свои обстоятельства и уведомила о своем согласии участвовать в гастролях труппы Рейнхардта. Она знала, что Квислинг любит театр, и думала, что профессию актера ее муж сочтет более уважаемой, чем профессию балерины. Но Александра заблуждалась. Квислинг обрушил на нее такую ярость, что ей пришлось отказаться от роли в последнюю минуту.
Александра очень горевала из-за потери возможности иметь хорошо оплачиваемую и уважаемую актерскую профессию. Она расстроилась еще больше, когда у нее возникли проблемы со здоровьем: в связи с перегрузками на балетных занятиях и перенесенным в детстве ревматизмом ее стало беспокоить сердце. Когда врач сообщил ей об этом, Александра стала брать уроки пения. Тетя Женя поощряла талантливую племянницу, считая, что она могла бы с успехом повторить карьеру тетиной сестры. Тетя и ее друзья нашли отличных преподавателей для Александры, и теперь Рейнхардт хотел, чтобы Александра выступала у него и как актриса, и как певица.
Вряд ли здоровье Александры было настолько слабым, чтобы не позволить ей работать у Рейнхардта. Однако ему она сказала, что физически слаба для образа жизни гастролирующей актрисы и предпочитает более спокойную жизнь. Она не решилась открыть истинную причину ее отказа от роли в спектакле «Чудо» и от гастролей (категорический запрет Квислинга), так как боялась возможной огласки.
Александра не теряла надежды использовать свой музыкальный талант для улучшения своего материального положения, но хотела осуществить это другим, менее публичным способом, чем выступления у Рейнхардта. Но в один жаркий летний день, отдыхая со своими друзьями на пляже в Ницце, Александра подержала во рту несколько кусочков льда. За эти несколько минут она навсегда испортила свои голосовые связки.
Оптимизм Александры помогал ей переносить любые жизненные сложности. Она не теряла решимости и пыталась зарабатывать. Живя в Ницце, она много времени проводила в Париже, где вычитывала рукописи у известного издателя Поволоцкого. Эта работа очень нравилась Александре, а ее литературные познания позволяли хорошо с этим справляться. Также она все больше занималась живописью, к чему ее приобщил граф де Фермиан и его друзья.
Как подруга первой жены Пабло Пикассо, Ольги Хохловой, Александра имела возможность общаться с великим художником в Ницце. Он не только написал несколько ее портретов (много лет спустя она видела по телевидению один из них на аукционе), но также признал ее художественный талант и давал ей уроки. Со временем увлечение живописью превратилось в источник дохода. В последующие годы она выставляла свои работы в нескольких больших городах, включая Париж, а когда после Второй мировой войны поселилась в Калифорнии, стала одним из основателей авторитетного клуба искусств в Пало-Альто.
Дружба с актерами театра и балета, художниками и музыкантами делали жизнь Александры интересной и насыщенной, но воспоминания о пережитых личных драмах не покидали ее. В ней таилась скрытая грусть, которую разглядел граф де Фермиан, и это отобразилось на написанном им портрете Александры.
Воспоминания Александры свидетельствуют, что во Франции она дарила массу позитивных эмоций и энергии своим друзьям. А ведь все это она готова была отдавать своей семье. Поскольку она продолжала считать себя замужней, то давала понять своим многочисленным поклонникам, что может предложить только дружбу. Обычно они это принимали, включая молодого пианиста Артура Рубинштейна, который в то время жил в Париже в такой же бедности, как Александра и многие другие артисты из ее окружения.
Рассказ Александры
Я опять стала заниматься с Волыниным, который очень хотел со мной танцевать. Он был уже не молод, но еще выступал и поддерживал себя в форме, так как был партнером Павловой. Павлова умерла неожиданно, и тогда он открыл школу и всегда выбирал себе партнерш среди учеников. Но я и думать об этом не могла, ведь Видкун постоянно писал мне: «Не смей выступать».
У меня были старые балетные связи и знакомства, я знала Дягилева. Я ходила на балет и в театр, где меня познакомили с Эльзой Триоле. Она была из тех людей, которые жили за границей, но поддерживали связь с Россией, в отличие от белых эмигрантов. Тогда я не понимала, что общение с такими людьми было опасным, и мы с Эльзой очень подружились. Она была начинающей писательницей, очень остроумной, рассказывала массу интересных историй. У Эльзы были знакомства в посольстве СССР, она бывала на посольских приемах. Иногда Эльза говорила о матери, которая работала в советском торгпредстве в Лондоне.
Заметки Кирстен Сивер
За исключением тети Жени в Ницце, рядом с Александрой не было никого из родственников. Она постоянно беспокоилась о своей матери в Крыму и очень хотела уехать к ней в Россию, но Квислинг был против этого. Он отказывал ей в разрешении вернуться на родину даже после известий о сильном землетрясении в Крыму, разрушившем дом матери Александры. Она совершенно не понимала Квислинга, так как это полностью освободило бы его от ответственности за нее во Франции. Единственное, чем Александра объясняла его позицию — возможное отсутствие средств у него для покупки ей билета, поскольку он продолжал уменьшать количество пересылаемых ей денег.
Прочитав через много лет заметки в записной книжке Квислинга за 1927 год, Александра вспомнила, что он выслал ей 50 долларов для эмиграции в США 15 февраля этого года. Продолжая верить в его добрые намерения, она разрешила ему через друзей начать процесс для получения визы. Но эта затея провалилась, когда эмиграционные власти США узнали, что капитан Квислинг не намеревался ехать со своей женой. Он также, очевидно, не хотел дать Александре возможность связаться с Арни или с кем-либо другим из его родственников в США. После этих 50 долларов она не получала от Квислинга ни копейки до конца года.
Александра не знала, что в то время Квислинг проводил большую часть времени в Москве, иногда один, иногда с Марией. Позже Мария рассказывала, что в Москве в 1928–1929 годах они приобрели много картин, серебра, антиквариата, посуды, мебели и других дорогостоящих вещей. Однако она преувеличила. По фотографиям, сделанным в доме Марии в 1980 году после ее смерти, а также в списках, переданных согласно завещанию суду в Осло, Александра узнала многие из вещей, которые она покупала еще в 1923 году и которые привезла с собой.
Александра была озабочена не только своим положением. Ее мать, Ирина Теодоровна Воронина, написала Квислингу 24 июля 1930 года. Письмо было послано из Ялты, где она проходила лечение в связи с ухудшающимся зрением. В письме она указала, что проживает в небольшом городке Павлограде в Крыму, поскольку там жить дешевле. Вполне возможно, что из-за смены места жительства, а также продолжающихся военных действий на русско-китайской границе, которые затрудняли работу почтовой службы, она долгое время не получала известий от Александры. В своем письме Квислингу Ирина Теодоровна просила помочь Александре.
Со временем Александра и ее мать смогли восстановить переписку, но ненадолго. Военные действия Японии в Маньчжурии в 1931–1932 годах дестабилизировали положение в Китае, и в конце концов затронули Шанхай. В так называемое кровавое воскресенье (14 августа 1932 года) китайские самолеты совершили налет на японские военные корабли и позиции, а также сбросили бомбы на иностранные районы Шанхая. В результате погибло более двух тысяч иностранцев и китайцев. Эти события послужили началом для повсеместных военных действий в Шанхае, других городах и портах. Неизвестно, узнала ли об этих страшных событиях мать Александры, поскольку новости в СССР проходили тщательную цензуру. Крайне обеспокоенная отсутствием известий от дочери, Ирина Воронина снова обратилась к Квислингу. В письме она умоляла его сообщить хотя бы что-то о дочери. Это письмо от 16 января 1933 года было написано не ее рукой — Ирина Теодоровна потеряла зрение и просила кого-то писать под ее диктовку. В промежутке между двумя письмами матери к Квислингу Александра получила развод.
В 1931 году архиепископ Русской православной церкви в Китае признал брак с Квислингом недействительным на основании того, что муж бросил Александру в 1924 году, и она имела право выйти замуж за доктора Я. П. Рябина — врача с хорошей репутацией в иностранной общине в Шанхае. Получив образование в российских университетах и в Мюнхене, он в то время был главой Муниципального медицинского управления в Шанхае. Рябин был на несколько лет старше Александры, но еще молодым, и его гибель в автокатастрофе через три года совместной жизни была огромным ударом для Александры.
Александра осталась вдовой с маленьким сыном Арсением, который родился в декабре 1931 года. Несмотря на то, что ее финансовое положение было теперь более стабильным, она переживала по поводу своей дальнейшей судьбы и судьбы своего ребенка. До начала Второй мировой войны Александра могла переписываться с матерью, но не могла поехать к ней в Крым или перевезти ее в Китай. Снова одна со своими бедами и переживаниями она жила, как и во Франции — в окружении друзей, веселая и оптимистичная, но при этом не имевшая рядом никого, с кем могла бы разделить свои тревоги.
Александра продолжала писать Квислингу. Во второй половине 1929 года она сообщила капитану, что ее американские друзья предлагают отправиться с ними в кругосветное путешествие и затем поселиться в Америке, которая была страной больших возможностей по сравнению с большинством стран Европы, где экономическое положение продолжало ухудшаться. Знакомые тети Жени сказали, что еще большие возможности в Китае, и Александра хотела начать что-то делать в этом направлении. В Китае было много русских, особенно после 1917 года, и она писала Квислингу, что, возможно, отыщет людей, которые знали ее и ее родителей. Александра просила у мужа денег на билет.
Либо Квислинг все же пожалел ее, либо был рад отослать ее подальше, но он прислал деньги. В его записной книжке за 1929 год записано, что 20 февраля, 21 марта, 4 апреля и 11 июля он выслал Александре 260 долларов и 5 фунтов стерлингов. Эта же записная книжка фиксирует информацию о регулярных денежных переводах матери Марии. Это были последние контакты Александры с Квислингом. Она продолжала писать ему, совершенно не зная о его отношениях с Марией.
К тому времени Мария вновь жила вместе с Квислингом в Москве и, видимо, нашла некоторые письма, написанные ему Александрой. Эти письма, как и все остальные, были отправлены дипломатической почтой без опаски, что их может прочесть кто-либо, кроме Квислинга. Александра никогда не получила длинное письмо Марии, в котором та отреагировала на письма Александры[143]. Сложно сказать, намеревалась ли Мария отсылать это письмо или же просто написала его для самоуспокоения либо в качестве письменного подтверждения ее брака с Квислингом. Последняя причина наиболее вероятна, так как Мария очень хотела, чтобы было письменное свидетельство, подтверждающее, что она и Квислинг были женаты уже шесть с половиной лет.
Наконец, сумев купить билет на грузовое судно, Александра сообщила своей матери, что уезжает в Китай, поскольку это единственный способ попытаться устроить свою жизнь. Она писала, что не намеревается оставаться в Китае навсегда, но жить так, как сейчас, не пытаясь ничего изменить, она больше не может. Александра не знала, читают ли ее письма советские власти, поэтому не могла смело говорить матери о беспокойстве за нее, а также не могла объяснить ей, почему не может потратить эти деньги на дорогу в Россию, чтобы они снова смогли быть вместе. Причиной этой осторожности было недавнее предупреждение, которым Александра не могла пренебречь.
Среди ее знакомых в Париже и в Ницце было много русских эмигрантов, включая тех, кто бежал совсем недавно из СССР в связи с усиливающимся тоталитарным сталинским режимом. Эти люди потеряли веру в то, что советское государство было новой надеждой на лучшую жизнь.
Хотя Александра не проявляла особого интереса к политическим событиям, она была хорошо осведомлена об условиях жизни в России и продолжающихся попытках советских властей «заслуженно» наказать инакомыслящих и бывших аристократов. Мы упоминали, что это было основанием для создания «Треста», который к этому времени уже не существовал.
Поэт Владимир Маяковский разыскал Александру в Париже, чтобы передать письмо от ее старого друга Йоси Борца. Письмо на первый взгляд было ни о чем. Йося вспоминал об их старой дружбе, рекомендовал Маяковского, поэзию которого Александра очень любила. Однако в этом письме был глубокий подтекст: тонко и завуалированно Йося пытался предупредить Александру о существующей для нее опасности. В 1923 году он уже писал Александре по поводу Марии, ее связи с «Трестом» и намерений завести отношения с Квислингом. Но в этот раз Йося настолько осторожно излагал свои опасения, что Александра не могла понять, о чем он говорит. И только в день своего отъезда из Парижа (поздней весной 1929 года), когда поезд уже тронулся, Маяковский прямо озвучил ей то, о чем пытался предупредить Йося. Маяковский сказал: «Что бы ни произошло, не возвращайтесь в Россию. Даже если я Вам напишу, что надо возвращаться — это будет ловушка. Не слушайте меня. Не возвращайтесь. Прощайте». (Версия из дополнительной личной записи Александры: «Как бы я сам ни просил и ни умолял Вас в письме или в телеграмме вернуться — никогда не приезжайте в Россию, никогда!»).
Почти годом позже, 14 апреля 1930 года, Маяковский покончил с собой в Москве. Александра была уже в Китае, когда узнала о его смерти. Для нее это было ударом. Позже она получила письмо от него, отправленное на ее адрес в Ницце, которое тетя Женя переслала ей в Шанхай. Александра не решилась прочесть его. Она боялась узнать что-то страшное о его судьбе или увидеть просьбы приехать на родину, о которых Маяковский ее предупреждал. Кроме того, зная о непрекращающихся зверствах в СССР, Александра очень тревожилась о судьбе своей матери. Она долго носила запечатанное письмо в своей сумке, и, наконец, отдала его русскому православному священнику в Циндао. Священник скончался через несколько дней, и Александра так никогда и не узнала, что написал ей Маяковский в конце своей жизни.
Рассказ Александры
Капитан прислал мне деньги на дорогу в Китай. Сперва мы поехали к деду Андрея. Он жил с его матерью в своем доме в Баденхаузене в Германии. Мы жили там около месяца, было весело и хорошо. Когда, уезжая в Китай, мы сели в поезд до Гамбурга, в вагоне мы пустились с Андреем в пляс по коридору вдоль купе. В молодости с радостью отрываешься от стариков. Но с тетей Женей мне было грустно расставаться. И она грустила, хоть и не подавала вида. В Гамбурге мы пересели на пароход, который около месяца медленно плыл в Китай, останавливаясь по дороге во всех портах. Приехав в Шанхай, я отправилась в консульство Норвегии, чтобы зарегистрировать свой паспорт. Оказалось, что консул был в Москве, когда мы с Квислингом расписывались там.
Заметки Кирстен Сивер
После слов, сказанных ей Маяковским в Париже, Александра еще больше хотела уехать жить туда, где будет чувствовать себя в безопасности. Попрощавшись со своей тетей и друзьями, она отправилась в Китай, не подозревая, что попадет из огня да в полымя. Когда она приехала в Шанхай, в городе был кризис в связи с падением американского аукционного рынка, а куда-либо уехать она не могла из-за продолжающихся боев между китайскими, японскими и русскими войсками. Так Александра описывала ситуацию в письме Квислингу из Шанхая 25 ноября 1929 года[144]: «Мой родной, прости, что я так долго не писала, но дорога была утомительной, пароход сильно качало между Сингапуром и Шанхаем, поэтому я плохо себя чувствовала после приезда. Наше путешествие заняло 50 дней, и ты же понимаешь, что человек может устать после такого длительного пути. В дороге нас застала сильнейшая жара, ты даже не можешь себе представить, насколько было жарко. Расскажу немного о своей жизни. Живу я у Гордеевой. У них маленькая квартира: две комнаты и кухня. Сын Гордеевой с женой живут в одной комнате, а мы с Гордеевой — во второй. Я помогаю ей по хозяйству (убирать, готовить и тому подобное), поэтому плачу за проживание всего 60 мексиканских долларов (это немного больше 600 франков)! Жизнь здесь гораздо дороже, чем во Франции, и я уже начинаю сожалеть, что уехала из Европы. Я сделала это только потому, что хотела воспользоваться возможностью хоть как-то устроить свою жизнь. Чтобы найти здесь работу, необходимо хорошо знать английский. Я его изучаю, но у меня мало времени из-за домашней работы. Очень жалею, что уехала из России. Прошу тебя ответить мне как можно скорее — меня пугает, когда ты долго не отвечаешь. Вообще говоря, как-то глупо жить, не имея своего дома, и ощущать себя неудачником. Плюс ко всему у меня проблемы с сердцем. Мой дорогой, обязательно напиши мне. Как ты? Как твоя жизнь? Целую и обнимаю, твоя Ася». В конце она приписала: «Писал ли ты моей маме?».
Квислинг не написал матери Александры и не ответил на ее письмо. Александра написала ему снова 4 февраля 1930 года — к этому времени она была отрезана в Шанхае от всего мира почти три месяца. Хотя Александра жила с семьей Гордеевых, было ясно, что она не доверяла им получать свою почту, поэтому попросила Квислинга писать ей по другому адресу, поясняя: «Это самое надежное место, и письма там не потеряются». Александра также писала, что это был постоянный адрес Кругловой и что, конечно, было бы правильнее всего посылать письма в норвежское консульство в Шанхае, но она не знала адреса и не имела возможности его узнать. Александра обещала сообщить ему этот адрес в следующем письме. Однако следующего письма она никогда не написала. Вот текст ее последнего письма Квислингу, которое неожиданно обрывается на оторванной странице: «Дорогой мой! Ты совсем меня забыл и не ответил ни на одно из моих писем. Что это значит? Не болен ли ты? Что случилось? Я совершенно истощена. Ты знаешь — жизнь трудная и отвратительная, теперь я в этом уверена. Если бы ты только знал, как я устала. Я ничего не хочу больше, кроме отдыха и спокойствия, но теперь я должна постоянно думать, где еще заработать хоть немного денег. Я все еще живу у Гордеевых, но должна платить им за это. Здесь почти невозможно найти работу. Много русских прибывает из Харбина, и все они ищут работу. Я была терпелива все это время, не хотела тебе писать об этом и надеялась, что с Божьей помощью найду себе работу, но я больше не могу молчать, поэтому пишу тебе. Срок моего паспорта почти закончился, и я пошла в норвежское консульство. Когда консул узнал, что моя фамилия Квислинг, он был очень рад, так как знаком с тобой много лет, начиная с 1917 года, когда вы оба были в Петрограде. Он знает, что ты вывез меня из России и женился на мне[145]. Он спросил, как ты и чем занимаешься. Я очень доверилась ему, поскольку у меня здесь никого нет, и рассказала ему все — о своей тяжелой жизни и о том, как сложно найти работу. Он с сочувствием сказал, что решение приехать в Китай было ошибкой, потому что из-за войны сюда ринулось огромное количество русских, и страна охвачена безработицей. Он спросил меня, когда ты перестал писать мне и поддерживать меня. Я ответила, что пишу тебе постоянно и не знаю, что могло произойти и почему ты не отвечаешь. Консул оказался очень хорошим человеком и вызвался написать тебе сам, но я попросила его немного повременить».
Рассказ Александры
Позже я написала Видкуну, как я доехала, и что у меня заканчиваются деньги. После этого я никогда в жизни больше не получала от него писем, даже через консульство. Когда я уехала в Китай, он решил, что оттуда мне не вернуться, и что уже никто не сможет предъявлять ему какие-либо претензии. Не получить моих писем он не мог — я посылала заказные письма и телеграммы, и они не возвращались. Ему писали из норвежского консульства, но я не знаю, отвечал ли он на их обращения. Таким образом, он избавился от меня и от ответственности за меня. С конца 1929 года, когда я уехала, я больше никогда не получала от него никаких известий и не видела его. На этом закончились наши несчастливые отношения. У меня было ощущение, что он вырвал себя из моей души. И хотя подобное случается у многих людей, у меня все время было чувство нереальности происходящего. Все как-то не состыковывалось, не имело логики — ведь мы переписывались несколько лет, пока я жила в Европе, и его письма были искренними и ласковыми. Думаю, Мара должна была уничтожить нашу переписку с капитаном. Ведь много лет спустя она публично отрицала мое существование в жизни Квислинга, а значит — была заинтересована в уничтожении всех доказательств. Один журналист где-то отыскал фотографию, на которой мы с Видкуном были сняты в компании его родственников. На вопрос обо мне Мара заявила, что не знает меня и не помнит, кто я. Хотя к тому времени многие журналисты уже знали о моем существовании как официальной жены Квислинга. Не знаю, осознала ли она, насколько глупыми были ее заявления, так как у меня сохранились документы, кроме того, были живые свидетели. Не представляю, что она будет говорить, когда в прессе появится статья обо мне со всеми доказательствами. Возможно, она сошлется на преклонный возраст и проблемы с памятью. Вероятно, Мара думала, что меня уже нет в живых, так как за годы жизни в Китае и в США я никогда не давала о себе знать. Но все же заявлять, что меня не существовало никогда — бездумно с ее стороны. Я хотела бы, чтобы правду узнали, пока я жива.
Надеюсь, жизнь Мары сложилась хорошо и у нее все спокойно.
Несмотря ни на что, я сочувствую семье Квислинга. Поступки капитана сказались на всей его семье. Брат Видкуна, Йорген, был замечательным, умным и понимающим человеком. Может быть, капитан действовал не по своей воле.
Сейчас в русских и в эмигрантских журналах, которые я покупаю в Америке, часто встречаю статьи о людях, с которыми когда-то была знакома. А я и не догадывалась, что они были известны.
Заметки Кирстен Сивер
После смерти своего мужа в Шанхае Александра в курортном городе Циндао познакомилась с известным местным архитектором и консульским агентом Франции Владимиром Георгиевичем Юрьевым. Со временем они сблизились, и в 1936 году она вышла за него замуж. Благодаря этому она получила французское гражданство, он усыновил ее сына. От брака с Владимиром Георгиевичем у Александры детей не было: из-за неудачно сделанного аборта в 1923 году было чудом, что она родила своего единственного сына.
Впервые с начала Первой мировой войны Александра была финансово обеспечена и была счастлива обрести большую семью: мать ее мужа, его братьев, сестру, тетю, дядю и других родственников. Иностранная община в Циндао жила интересной и активной общественной жизнью, и Александра снова могла заняться живописью. Она очень ценила свою счастливую и беззаботную жизнь.
С началом Второй мировой войны японские власти, считая Александру и ее мужа членами иностранной дипломатической коммуны, заключили их под домашний арест на весь период войны. В то же время ни немцы, ни японцы не обманулись французским паспортом Александры, поскольку немецкие консульские представители прибыли узнать о ее браке с Квислингом и установить, не еврейского ли она происхождения.
Несмотря на то, что Александра и ее семья были в гораздо лучшем положении, чем огромное количество людей, которые погибли в концентрационных лагерях, домашний арест сделал для них войну бесконечной.
Ниже Александра описывает свою реакцию на новости о Квислинге после окончания войны: «Я получила страшный удар на приеме на американском военном корабле в нашей бухте Циндао в октябре 1945 года, когда кто-то мельком сказал, что Видкун Квислинг был недавно казнен в Норвегии за измену. Я потеряла сознание. Его тень к тому времени преследовала меня уже более двадцати лет и продолжает витать надо мной до сих пор».
После ухода американских войск из Китая, которые оставили его коммунистическим силам, в 1949 году Александра с мужем и 18-летним Арсением уехала в США с французским дипломатическим паспортом после получения долгожданной американской визы, которая была выдана до того, как были получены также прежде запрошенные новозеландские и австралийские визы. Муж Александры получил работу в архитектурной фирме в Сан-Франциско. Со временем он со своим знакомым из Циндао открыл строительную фирму в городе Пало-Альто, находящемся южнее Сан-Франциско. Их строительная фирма росла и процветала. Александра много помогала мужу в развитии его дела, а со временем смогла вновь заняться живописью и созданием коллажей. Она получила признание на этом поприще в США и за границей. Ее сын получил высшее образование.
Александра узнала, что Мария живет в одиночестве в старой квартире на Эрлинг Скалгссонсгат, 26. Все еще не зная о сплетнях, которые Мария и Квислинг распространяли о ней, Александра написала Марии несколько писем, отправленных заказной почтой, выражая свои соболезнования по поводу смерти Квислинга. Также она просила Марию, если возможно, вернуть ее документы, фотографии и другие личные вещи, которые она оставила, уезжая в 1924 году, и по которым скучает до сих пор. Александра была готова оплатить все необходимые почтовые расходы. Но каждый раз ее письма возвращались — адресат отказывался расписываться об их получении.
Когда в 1965 году английский писатель Ральф Хевинс опубликовал свою книгу о Квислинге «Пророк без чести» (Ralph Hewins, Prophet Without Honor, London, 1965), Александра прочла ее. В книге было много неправдивой информации относительно отношений Александры с Квислингом, а единственным источником этой информации была указана Мария.
До мая 1973 года норвежская почта пыталась доставить официальное письмо американского адвоката Александры, написанное Марии 21 февраля. В этом письме адвокат спрашивал среди других вопросов, действительно ли Мария была единственным источником информации об Александре в той книге, как отмечал ее автор Ральф Хевинс, и предлагал ей опровергнуть свои заявления. Мария никогда не ознакомилась с этим письмом, так как не пожелала его принять.
Источники
Архивные
1. Hoover Institution of War, Revolution and Peace, Stanford University, California, U.S.A. American Relief Administration (ARA) Archives, Russian Section. (The institution is abbreviated to «Н» in the Notes).
2. Norsk Folkemuseum Archives (Norwegian Folk Museum), Oslo, Norway.
3 Riksarkivet (The National Archives), Oslo, Norway Arkivet fra Nedre Slottsgate 3 Privatarkiv Frederik Prytz Privatarkiv Vidkun Quisling (The institution is abbreviated to «RA» in the Notes).
4 Public Record Office, Kiev, United Kingdom (now renamed National Archives) Records Relating to Special Operations Executive (SOE) Activity in Scandinavia, 1940–1945. Made available to the public 2 June, 1994.
5. Nasjonalbiblioteket, Oslo (National Library of Norway, Oslo, formerly Oslo University Library) Nansenarkivet (Nansen Archives).
6. Quislingarkivet (Quisling Archive) Fotografisamlingen (Photography Collection) (The instituion is abbreviated to «NB» in the Notes).
Печатные
1. Barth, Else Margarete. Gud, det er meg: Vidkun Quisling som politisk filosof. Oslo, 1996.
2. Coates, William Peyton and Zelda. A History of Anglo-Soviet Relations. London, 1943, vol. 2.
3. Dagens Nyheter (Stockholm, Sweden).
4. Dahl, Hans Fredrik. Vidkun Quisling: En forer blir til, Oslo, 1991.
5. Hartmann, Sverre. Forer uten folk. Oslo, 1959.
6. Hayes, Paul M. Quisling: The Career and Political Ideas of Vidkun Quisling. Indiana University Press, 1971.
7. Hoidal, Oddvar K. Quisling: A Study in Treason. Oslo, 1989.
8. Juritzen, Arve, Privatmennesket Quisling og hans to kvinner. Oslo, 1988.
9. Kettle, Michael. Sidney Reilly: The True Story of the World’s Greatest Spy. New York, 1983.
10. Knightley, Phillip. How the Russians Broke the Ace of Spies. Observer Review (London), April 12, 1992.
11. Lannung, Hermod. Min russiske Ungdom. Copenhagen, 1978.
12. Lockhart, Robin Bruce. British Agent. New York and London, 1933.
13. Lockhart, Robin Bruce, Jr. Reilly, Ace of Spies. Penguin Books, 1967.
14. Loveid, Cecilie. Maria Q. Oslo, 1994. Morgenbladet (Oslo, Norway).
15. Parmann, Oistein, ed. Maria Quislings Dagbok og andre etterlatte papirer. Oslo, 1980.
16. Rositzke, Harry. The KGB, The Eyes of Russia. New York, 1981.
17. Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten September 1945. Published by Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Oslo, 1987.
18. Vogt, Benjamin. Mennesket Vidkun og forraederen Quisling. Oslo, 1965.
19. Woyciechowski, S. L. The Trust. Zaria Press (Canada), 1974.
Дополнительные источники
Печатные
1. Seaver, К. A. In Quisling’s Shadow, Hoover Institution Press, Stanford, California, USA, 2007.
2. Seaver, K. A. Quisling’s unge hustru, Gyldendal Norsk Forlag ASA, 1999.
Архивные
1. Hoover Institution of War, Revolution and Peace, Stanford University, California, USA.
Примечания
1
Этот период был описан и задокументирован в Oddvar К. Hoidal, Quisling: A Study in Treason. Oslo, 1989, особенно стр. 313–379. Также смотрите, начиная со стр. 143, Hans Fredrik Dahl, Vidkun Quisling: En forer blir til. Oslo, 1991.
(обратно)2
Vidkun Quislings forsvarstale i lagmannsretten September 1945. Издано Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. Oslo, 1987, стр. 106. Цитата переведена К. А. Сивер.
(обратно)3
Sverre Hartmann, Forer uten folk, Oslo, 1959, стр. 52; Arve Juritzen, Privatmennesket Quisling og hans to kvinner. Oslo, 1988, стр. 11–32; Dahl, Vidkun Quisling, стр. 39–54.
(обратно)4
NB, Quislingarkivet, Ms. fol. 3920: I; Juritzen, Privatmennesket, стр. 26, 31 (со ссылкой на судебные материалы о Квислинге, Stenografisk referat fra straffesaken mot VQ, изданные Eidsivatings lagstols landssvikavdeling (Eidsivating Circuit Court, Dept, of National Treason). Oslo, 1946, стр. 328).
(обратно)5
Поэмы и черновики рассказа/новеллы и спектакля, NB, Quislingarkivet, MS. fol. 3920: III.
(обратно)6
Arnold Raestad, The Case Quisling. Неизданная рукопись передана в Норвежский национальный архив в 1961 году, Ms. 154, folio series, стр. 35. Рукопись Рестада содержит много ошибочных сведений, но, будучи опытным дипломатом, с хорошим знанием русско-норвежских отношений, он был осведомлен о деятельности Притца.
(обратно)7
Norsk Biografisk Leksikon, Prytz (by Benjamin Vogt, 1952); Dahl, Vidkun Quisling, стр. 62–63.
(обратно)8
RA, Privatarkiv Frederik Prytz, box 4, Militaere dokumenter 1898–1933.
(обратно)9
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 63; Juritzen, Privatmennesket, стр. 32, 34.
(обратно)10
Dahl, Vidkun Quisling, стр.61.
(обратно)11
RA, Privatarkiv Frederik Prytz, box 1, Foredrag holdt i Trondheim 25. april 1941; Benjamin Vogt, Mennesket Vidkun og forraederen Quisling. Oslo, 1965, стр. 43-4; Juritzen, Privatmennesket, стр. 34-8; Dahl, Vidkun Quisling, стр. 59–67.
(обратно)12
Hoidal, Quisling, стр. 19–20, о докладе Квислинга №12 til Det kgl. forsvarsdepartement (The Royal Department of Defense), RA, GA, Joumalsaker 1166.
(обратно)13
Dahl, Vidkun Quisling стр. 64–66. Описание положения в Петрограде в то время независимыми свидетелями смотрите Robin Bruce Lockhart, British Agent, New York and London, 1933, особенно стр. 157-63; Michael Kettle, Sidney Reilly; The True Story of the Worlds Greatest Spy, New York, 1983, стр. 24–44. Рассказ Кетла также содержит важные данные о капитане Кроми в тот период времени.
(обратно)14
RA, Privatarkiv Frederik Prytz, box 1, Foredrag holdt i Trondheim 25. april 1941.
(обратно)15
Некоторые данные получены от Владимира Георгиевича Юрьева, пережившего ужасы войны и революции в России. Он и его семья были в хороших дружеских отношениях с министром Удендийком как в России, так и в Китае. Также смотрите Lockhart, British Agent, especially стр. 318–319.
(обратно)16
NB, Quislingarkivet, Ms. fol. 3920: III: 2–3. Поэма «Летняя Ночь» (The poem Summer Night) датирована 12.07.1920 самим Квислингом. Черновик в прозе без заглавия и не датирован.
(обратно)17
Juritzen, Privatmennesket, стр. 38–40; Dahl, Vidkun Quisling, стр. 77–78; Hoidal Quisling, стр. 20–21.
(обратно)18
NB, Quislingarkivet, Ms. fol. 3920:XI:4.
(обратно)19
NB, Quislingarkivet, Ms. fol. 3920:X:2.
(обратно)20
NB, Quislingarkivet, Ms. fol. 3920:X:11. Переведено К. А. Сивер как можно точно с небезупречного перевода Марии на норвежский язык. Подчеркивать ее ошибки, однако, не имеет смысла, так как она выучила норвежский язык удивительно быстро. Все же складывается впечатление, что со временем она перестала совершенствовать свои навыки, поскольку жила одна и почти не соприкасалась с внешним миром.
(обратно)21
Permann, Maria Quisling’s dagbok og andre etterlatte papirer, Oslo 1980, стр. 16–17; Juritzen, Privatmennesket, стр. 63–64.
(обратно)22
Lockhart, British Agent, стр. 153–155.
(обратно)23
По старому стилю; 6-го ноября — по новому стилю.
(обратно)24
«Рабоче-крестьянская инспекция» — кратковременная попытка Ленина увеличить правомочия низших классов. Эта организация — нечто вроде нынешнего посредника по жалобам, на которого возлагаются функции контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.
(обратно)25
Н, Stanford University (California), ARA Russian Section, box 77, folder 4.
(обратно)26
H, ARA Russian Section, box 81, folder Printed clippings. Clip from the periodical Journal (Milwaukee, Wisconsin), February 22, 1922.
(обратно)27
H, ARA Russian Section, box 77, folder 4; box 121, folder Grove-Harrington (George P. Harrington, Resume of Operations Kharkov, 1922, dated July 31, 1922).
(обратно)28
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 81, со ссылкой на Straffesak, стр. 239.
(обратно)29
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 RUO1.
(обратно)30
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920: I; Nansen Archive, Ms. fol. 1988 RUO1.
(обратно)31
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 A5A. Я просматривала записную книжку Квислинга за 1922 год в Норвежском национальном архиве.
(обратно)32
Н, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen. Обе телеграммы были посланы из Нью-Йорка через Лондон.
(обратно)33
Н, ARA Russian Section, Ukraine — Miscellaneous Clippings. Вырезка из лондонской газеты Star.
(обратно)34
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 RU3B.
(обратно)35
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 RU3B; H, ARA Russian Section, Ukraine-Childfeeding.
(обратно)36
H, ARA Russian Section, box, nos. 27, 127.
(обратно)37
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 RUO1, letter dated May 16,1922.
(обратно)38
H, ARA Russian Section, box 147, nos. 27, 32 (переписка между ARA в Москве и ARA в Харькове в марте 1922 г.); box 121, Reports.
(обратно)39
Н, ARA Russian Section, box, 147, nos. 27, 32 (переписка между ARA в Москве и ARA в Харькове в марте 1922 г.); box 121, Reports.
(обратно)40
Н, ARA Russian Section, box, 84, folder 7; box 122; box 123; box 124 no. 2; box 145 no. 30.
(обратно)41
Документы этого периода показывают, что Башкович часто отсутствовал на долгих инспекторских объездах в своем районе, но также ясно, что он был очень занят в Харькове, где в то время продолжал работу с иностранными организациями по оказанию помощи как Доктор Баткис, занимался повседневным делопроизводством в харьковском Помголе. Н, ARA Russian Section, box 146, no. 30, письма от ARA в Харькове ARA в Москве.
(обратно)42
Н, ARA Russian Section, box 120, no. I; box 113, folder Student Feeding.
(обратно)43
Woyciechowski, The Trust, Chapter 23.
(обратно)44
H, ARA Russian Section, box 121, Reports and Grove Correspondence.
(обратно)45
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1.
(обратно)46
H, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen (доклад г-на Рамсэйера в ARA об инспекторском объезде Мелитополя вместе с Квислингом и Горвином); статья в Dagens Nyheter, September 3, 1922; Morgenbladet, September 5.
(обратно)47
Смотрите, например, статьи о переговорах Притца в Лондоне в Morgenbladet (Oslo), September 14,15,16 and 20,1922; Vogt, Mennesket Vidkun, стр. 63–64.
(обратно)48
Александра никогда не встречалась с Притцем, и Квислинг ни разу не упомянул о нем. Позднее ей показалось это несколько странным, так как много лет эти двое мужчин были так близки друг с другом.
(обратно)49
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1 (письмо от Ф. Якхеллна, 23 июня 1923 г., в котором он также ясно указывает, что Квислинг был информирован о польских претензиях). Тот же архив содержит черновик письма, которое Квислинг написал Нансену неделей ранее, выражая в нем свое возмущение польскими обвинениями.
(обратно)50
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1 (letter from N. Ytterborg, 29 August, 1923).
(обратно)51
Morgenbladet, September 11, 1922. Сам Уркхарт уже имел большой опыт ведения таких переговоров. Кроме того, у него были свои рудники в Сибири. Lockhart, Btitish Agent, стр. 303.
(обратно)52
«…[il] est tombé malade d’un entercolite». NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V:1.
(обратно)53
Review in Morgenbladet, October 1922.
(обратно)54
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1, (письмо Нансена к Фрику, 4 января 1923 г. Нансен пишет, что Квислинг был у него, и что он, видимо, быстро идет на поправку, но К. до сих пор был тяжело болен, однако сказал, что сможет вернуться в Россию, если Нансен пожелает этого); Ms. fol. 1988, А5А (письмо Квислинга к Нансену, 9 марта 1925 г. Черновик этого письма находится в Quisling Archive, Ms. fol. 3996:3).
(обратно)55
Dagbladet, March 5, 1988, стр. 10–11, интервью с доктором Гансом Энгом.
(обратно)56
Н, ARA Russian Section, box 145, no. 28 (письмо Харрингтона); box 121, folder Office Memoranda, no. 10 (about the holiday).
(обратно)57
RA, Vidkun Quisling’s pocket diary for 1922.
(обратно)58
Handels- og Sjofartstraktat mellom Norge og De Socialistiske Sovjetrepublikkers Forbund, 15. desbr. 1925. Автор благодарит Гунвор Першус и Кетиль Райтхог из Норвежского МИДа за копию соглашения 1925 г. Также см. NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, R1A (письмо от Якхеллна, 22 июня 1922 г.).
(обратно)59
William Peyton Coates and Zelda Coates, A History of Anglo-Soviet Relations, London, 1943, vol. II, стр. 129, 755.
(обратно)60
Vogt, Mennesket Vidkun, s. 74.
(обратно)61
RA, Arkiv fra Nedre Slottsgate 3. Визитная карточка консула Гренволда вложена в письмо, которое Александра написала Квислингу из Шанхая 4 февраля 1930 г.
(обратно)62
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XII:4.
(обратно)63
Интервью проведено по телефону 29 марта 1983 г.
(обратно)64
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RU3B and RU6A.
(обратно)65
Н, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen. Information No. 26, International Committee for Russian Relief (Comite Internationale de Secours a la Russie); RA, Vidkun Quisling’s pocket diary for 1922.
(обратно)66
H, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen. Information No. 29, International Committee for Russian Relief (Comite Internationale de Secours a la Russie).
(обратно)67
Арве Юритцен пишет, что Квислинг приобрел квартиру на Эрлинг Скалгссонсгат за 11 000 норвежских крон 10 января 1922 года. Иными словами, через девять дней после его возвращения из Хельсинки. Причиной того, что Александре и ему пришлось ждать несколько дней, прежде чем въехать в эту квартиру, было то, что она сдавалась в течение его пребывания в России по делам Нансена. Juritzen, Privatmennesket, стр. 41.
(обратно)68
Morgenbladet, September 17 and 19,1922; NB, Nansen Archive Ms. fol. 1988, RUO1 (telegram from Nansen to Repomer, August 22, 1922).
(обратно)69
Morgenbladet, September 26 and 30, October, 1922; NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1 (letters of October 5 from Frick in Geneva and October 9 from Jayne in Oslo, letter of October 18 from Jayne to Frick).
(обратно)70
H, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen.
(обратно)71
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUO1 (письмо Нансена к Фрику 4 января 1923 г.).
(обратно)72
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, F6C
(обратно)73
Morgenbladet, December 16, 1922. Замечание Ланнунга не является преувеличенным.
(обратно)74
Н, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen (письмо от В. Н. Хаскелла из Москвы В. Лайману Брауну из Нью-Йорка 19 февраля 1923 года, а также газетные вырезки, включая перевод статьи в «Пролетарской правде» (Киев) 31 января).
(обратно)75
Н, ARA Russian Section, box 146, no. 30.
(обратно)76
Н, ARA Russian Section, box 146, no. 30.
(обратно)77
Состояние Ленина в то время было настолько серьезным, что Джон Горвин в нансеновском управлении в Москве выразил свою заботу и соболезнование в письме товарищу К. Л. Ландерсу (посол Советского Союза при всех иностранных организациях по оказанию помощи) 18 марта 1923 года. Н, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen.
(обратно)78
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RUL6. (1-го апреля в «Правде» появилось заявление, что пересылка пакетов из-за границы является незаконной, и, начиная с 15-го апреля включительно, посылки не будут доставляться в Россию. Н, ARA Russian Section, box 77, folder 4).
(обратно)79
H, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen.
(обратно)80
H, ARA Russian Section, box 80, folder Nansen.
(обратно)81
В записках, которые Квислинг сделал для лекции, вероятно, осенью 1922 года, он отмечал, насколько Россия зависела от богатой Украины, и выражал мнение, что революция 1917 года служила доказательством возрастающего западного влияния на Россию, и поэтому была положительным явлением. NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V:3.
(обратно)82
Parmann, Maria Quisling Dagbok, pp. 29–30. Цитаты переведены К. А. Сивер.
(обратно)83
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XI:4.
(обратно)84
NB, Quisling Archive, Brevserie nr. 1 (Letter Series no. 1). Цитаты переведены К. А. Сивер.
(обратно)85
Parmann, Maria Quislings Dagbok, pp. 30–36.
(обратно)86
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:X:11.
(обратно)87
H, ARA Russian Section, box 84, folder 7 (письма от Джона Р. Эллингстона в Москве, 10 и 24 мая 1923 года).
(обратно)88
Смотрите, например, замечания Хермода Ланнунга о его собственных очень выгодных покупках на Украине и в Крыму. Lannung, Fra min russiske ungdom, стр. 166–167.
(обратно)89
Смотрите письмо от посланника Пер Пребенсена 31 марта 1951 года. Это письмо было написано по просьбе Марии, которая практически продиктовала то, что ему следовало написать. NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:X.
(обратно)90
Lannung, Min russiske ungdom, стр. 160–162. Цитата, стр. 160, перевела К. А. Сивер.
(обратно)91
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 73–74.
(обратно)92
Vogt, Mennesket Vidkun, стр. 43; see also Lockhart, British Agent, стр. 217–233.
(обратно)93
H, ARA Russian Section, box 88, folder Rostow/Russia.
(обратно)94
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V:1.
(обратно)95
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 98.
(обратно)96
Juritzen, Privatmennesket, стр. 71–73; Norsk Folkemuseum’s archives.
(обратно)97
Александра Воронина замечает: «Насколько я помню, ее звали Жаклин, но после стольких лет я не уверена».
(обратно)98
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988 A5A (телеграмма от Джонсона 16 октября 1923 г., а также от Аслауга Гронтведта 18 октября).
(обратно)99
NB, Quisling Archives, Ms. fol. 3920:XI:3.
(обратно)100
NB, Quisling Archives, Ms. fol. 3920:V (письмо от Л. Вольфа 12 ноября 1923 г.; письмо от В. К. 12 декабря).
(обратно)101
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XI:9. Эта папка в настоящее время включает в себя английский перевод Юрьева и норвежский Сивер, в дополнение к тому, который был составлен переводчиком Трана.
(обратно)102
Как Александра, так и ее норвежский адвокат Лapc Тобиассен получили полный отчет о встрече К. А. Сивер с душеприказчиками Марии Квислинг Финном Трана и Ральфом Фоссумом в Осло 24 марта 1982 года.
(обратно)103
Phillip Knightley, How the Russians Broke the Ace of Spies, Observer Review, April 12, 1922, стр. 49–50. Найтли пишет, что впоследствии все, за исключением одного человека, кто был ответственен за заключение и убийство Рейли, потеряли поддержку Сталина и были расстреляны.
(обратно)104
Kettle, Sidney Reilly, стр. 108-10; Lockhart, Reilly, стр. 138–151, 154-70; Woyciechowski, The Trust, Chapter 23.
(обратно)105
Robin Bruce Lockhart, Jr., Reilly, Ace of Spies, Penguin Books, 1967, стр. 149-50.
(обратно)106
Kettle, Sidney Reilly, стр. 110-11.
(обратно)107
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RU3B.
(обратно)108
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XI:9.
(обратно)109
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V.
(обратно)110
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:VI.
(обратно)111
Александра прочитала о кончине Ленина 23 января. Этих сведений не было ни в «Нью-Йорк Таймс», ни в «Таймс» (Лондон) до этого дня.
(обратно)112
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V.
(обратно)113
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XI:3.
(обратно)114
Quisling received no salary after February 12, 1924. NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V.
(обратно)115
Lannung, Min russsike ungdom, стр. 165. Цитата переведена К. А. Сивер.
(обратно)116
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 104. Цитата переведена К. А. Сивер.
(обратно)117
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XI:9. Цитата переведена К. А. Сивер.
(обратно)118
В 1987 году Арве Юритцен взял интервью у Ханны Трап Майер, приятельницы Александры в Осло, в котором она рассказала об успехе задуманного Видкуном и Марой плана. Она очень хорошо помнила, что когда Видкун представил Мару как свою жену летом 1924 году, никто не поставил эту информацию под сомнение, тем более что Мара и Александра выглядели как близкие подруги, а также потому, что Александра никогда не подавала вида, будто что-то неладно. Juritzen, Privatmennesket, стр. 86.
(обратно)119
Juritzen, Privatmennesket, стр. 141.
(обратно)120
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:X.
(обратно)121
RA, Arkiv fra Nedre Slottsgate 3.
(обратно)122
Александра думала, что это могло быть неверным толкованием «Пупси», одного из ее ласковых прозвищ Квислинга.
(обратно)123
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, A5A; Ms. fol. 3996: 3; Quisling Archive, Ms. fol. 3920:V.
(обратно)124
RA, Quisling pocket diary for 1925.
(обратно)125
RA, Arkiv fra Nedre Slottsgate 3, box 1 (благодарственное письмо от Йоргена и Ингрид, 21 июня 1926).
(обратно)126
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 123-25, 131.
(обратно)127
В записной книжке Квислинга за 1926 год записано 22 июля: «Притц попросил передать М. 30 фунтов стерлингов».
(обратно)128
Juritzen, Privatmennesket, стр. 142-44; RA, Arkiv fra Nedre Slottsgate 3, box I: 16–35; 3B, section 2, part 2.
(обратно)129
RA, Arnold Raestad, The Case Quisling, Ms. 154, folio series, typewritten, стр. 37–38, 43–44. Этот документ, который прислали в Норвежский национальный архив в 1961 году, был попыткой Рестада записать сравнительно достоверную информацию о характере Квислинга и объяснить его путч в 1940 г. Рестад, вероятно, получил информацию о прибытии Марии в Москву от служащих норвежской миссии.
(обратно)130
Lockhart, Reilly, Асе of Spies, стр. 171-73; Kettle, Sidney Reilly, стр. 108-09,136-39; Harry Rositzke, The Eyes of Russia, New York, 1981, стр. 99.
(обратно)131
Hoidal, Quisling, стр. 38–39, со ссылкой на архивы Министерства иностранных дел, folder K5g 22а (письмо от Нильс Урбю от 12 января 1928 года; письмо от Ивар Ликке от 21 января 1928 года). Квислинг переехал в здание британского посольства 12 августа 1927 года, в соответствии с записями, сделанными в его записной книжке за 1927 год.
(обратно)132
NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988: A1+A1B, folder LII.
(обратно)133
Vogt, Mennesket Vidkun, стр. 68.
(обратно)134
Dahl, Vidkun Quisling, стр. 123-31.
(обратно)135
NB, Quisling Archive, Brevserie (Letter Series) no. 337.
(обратно)136
UB, Quisling Archive, Ms. fol. 3920:XII:1.
(обратно)137
Арве Юритцен нашел этот паспорт также в архивах Norsk Folkemuseum. Визу подписала Александра Коллонтай, советский посол в Норвегии.
(обратно)138
RA, Arkiv fra Nedre Slottsgate 3, box 1 (письмо от Раевского от 21 января 1934 года). NB, Nansen Archive, Ms. fol. 1988, RU3B.
(обратно)139
NB, Quisling Archive, Ms. fol. 3996:3.
(обратно)140
Карманный дневник Квислинга за 1925 год, норвежские национальные архивы.
(обратно)141
Карманный дневник Квислинга за 1926 год, норвежские национальные архивы.
(обратно)142
Карманный дневник Квислинга за 1925 год, норвежские национальные архивы.
(обратно)143
Черновик этого письма также находится в NB (Ms. fol. 3920:XI:3). Александра прочла его в первый раз, когда Арве Юритцен попросил ее высказать свое мнение об этом письме для книги, над которой он работал. Так как Мария описывает Александру в возрасте 24–25 лет, а также на основании таких данных, как заявление Марии, что она и Квислинг были женаты шесть с половиной лет, Александра датирует черновик 1929 годом.
(обратно)144
Все четыре письма находятся в Норвежском национальном архиве.
(обратно)145
Л. Гренволд был в то время норвежским генеральным консулом в Шанхае. Он сказал Александре, что помнит тот прием для нее и Квислинга в Норвежском торговом представительстве в Москве в августе 1922 года, на котором он присутствовал.
(обратно)

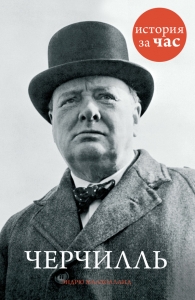
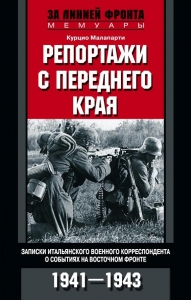



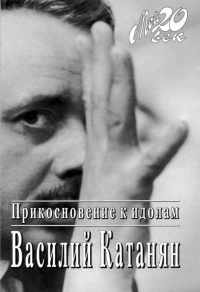
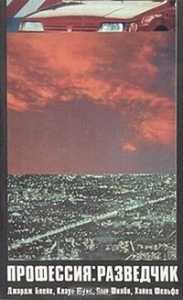
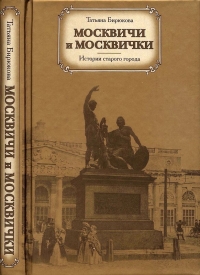

Комментарии к книге «Из Харькова в Европу с мужем-предателем», Александра Андреевна Юрьева
Всего 0 комментариев