Марк Поповский ДЕЛО АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА
А. Д. Сахаров О КНИГЕ МАРКА ПОПОВСКОГО "ДЕЛО ВАВИЛОВА"
Дело почти сорокалетней давности, одно из сотен тысяч фальсифицированных, бездоказательных дел тех страшных лет — в силу ряда причин представляет большой интерес для современного читателя в СССР и на Западе. Одна из причин — личность и огромные научные заслуги героя книги академика Николая Вавилова. Другая — особое место дела Вавилова в трагедии лысенковщины, этого, вероятно, самого уродливого явления в истории науки нашего времени. Но, быть может, самое главное — типичность дела для глубинных процессов и отношений в советском обществе того времени, где бы ни происходило действие — в научном институте, в застенке следователя, в камере смертников или в тюремной прозекторской. Книга Поповского — суровая, правдивая. Недаром он пишет, что некоторыми своими действиями, будучи субъективно абсолютно честным и беспредельно преданным науке и интересам страны человеком, Вавилов сам в каком-то смысле вырыл ту яму, в которую упал в конце своего жизненного пути. Вместе с тем книга показывает истинное, не искаженное официальной ложью, лакировкой и полуправдой величие Николая Вавилова.
Поповскому удалось совершить журналистский подвиг — настойчивостью, а иногда и хитростью получить из рук бдительных высокопоставленных чиновников (слегка растерявшихся в октябре 1964 года) одно из "хранимых вечно" следственных дел — дело № 1500 академика Вавилова, сохранить свои записи, сделанные в невинных с виду школьных тетрадочках, и донести их до нас. Это, вероятно, единственное дело НКВД такого значения, которое стало открытым. Мы узнаем, как вел свои бесчисленные допросы ретивый следователь Хват, и понимаем, как в то же время десятки тысяч следователей решали ту же самую задачу, оправдывая пословицу "Был бы человек, а дело найдется". Мы читаем копии доносов и секретных "экспертиз", сыгравших роковую роль в деле, и узнаем фамилии доносчиков, узнаем их дальнейшую, вполне благополучную и благопристойную судьбу в обществе, которое пришло на смену сталинскому, унаследовав от него слишком многое.
Я сожалею, что не был знаком с этой книгой, когда Марк Поповский находился еще в СССР. Эти строки — дань моего уважения автору книги.
Андрей Сахаров
Пролог ГОРЯТ ЛИ РУКОПИСИ?
Наука должна громко заявить, что она не пойдет в Каноссу. Она не признает над собой главенства какой-то сверхнаучной, вненаучной, а попросту ненаучной философии.
К. А. ТимирязевМожно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно; о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности — непростительно.
Мишель МонтеньЭта книга писалась в глубокой тайне. Десять лет, с 1964 по 1974 год, я вынужден был напряженно следить за тем, чтобы невзначай не потерять листок из рукописи или не проговориться в частном разговоре о своих литературных замыслах. "Рукописи не горят!" — сказал один из наших самых блестящих современников, но мой собственный, полученный в Советском Союзе опыт был прямо противоположным. Я не мог рисковать тайной, которая мне открылась. Странная это была тайна: мои знакомые в Москве и даже некоторые официальные лица знали, о ком я пишу, но никто не догадывался, что именно я собираюсь рассказать о своем герое. Документы, которые я добыл, никогда прежде не попадали в руки советских писателей. И никто на моей родине не мог бы себе представить, что такие документы вообще могут быть обнародованы.
Первая заочная встреча с будущим героем книги произошла у меня в начале 50-х годов, вскоре после смерти Сталина. По поручению московской газеты я поехал в командировку в один из южнорусских городов. То была рутинная газетная поездка, не предвещавшая никаких неожиданностей. В городе этом жил, правда, высланный туда еще до второй мировой войны старый ученый-генетик, имеющий среди своих коллег весьма высокую научную репутацию. С ним стоило встретиться.
Я позвонил ему, как только освободился, и получил приглашение на чай. Я заранее представлял себе этот длинный чай с многочисленными закусками, за которым провинциальный биолог и его жена, тоже когда-то причастная к науке, будут выспрашивать меня о московских новостях и ворчать на трудности местной жизни. Но все произошло совсем не так, как я предполагал. И говорить в тот вечер пришлось главным образом не мне, а моим хозяевам.
Еще до того, как мы втроем уселись за круглый столик, я обнаружил на стене в столовой очень меня заинтересовавший фотографический портрет. На фотографии изображен был плотный, коренастый, лет сорока мужчина, обладатель, судя по всему, завидного здоровья и неплохого характера. Он улыбался, да так счастливо, так безмятежно, как в наш век улыбаются разве что дети. Я сказал об этом хозяину дома. "Да, — почему-то со вздохом ответил он, — Николай Иванович это умел…" И пояснил, видя мое недоумение: "Перед вами мой учитель, академик Николай Вавилов, великий биолог и путешественник". — "Биолог?" Я был удивлен. Уже лет за десять перед тем начал я писать очерки и статьи о людях советской биологической науки, знал многих знаменитых и незнаменитых ученых, но о Николае Вавилове слышал первый раз. "Может быть, он и не биолог, а физик? — неуверенно заметил я. Одно время президентом Академии наук был физик Вавилов…" Грустные глаза старого ученого стали еще более печальными. "Нет, — ответил он, покачивая большой лысой головой, — нет, это не тот. Физик Сергей Вавилов был младшим братом Николая, моего учителя. А то, что вы его не знаете, — не чудо, с тех пор как его арестовали, никто не рискует произнести вслух его имя".
Седая маленькая дама, хозяйка дома, резко вмешалась в разговор. "Сколько раз я твердила — портрету Николая Ивановича тут не место. Хочешь хранить его — храни у себя в столе. Мало ли у нас было неприятностей? Забыл, сколько раз мы висели на волоске? Удивляюсь, как тебя еще оставили на работе… А все из-за Вавилова. Ты ведь знаешь, сколько врагов у Николая Ивановича и какие это враги!" Свой монолог супруга профессора произнесла почему-то шепотом, тревожно поглядывая на окна и двери. "Мне нечего бояться, — мрачно парировал муж. — Я не украл и не убил. А Вавилова со стены не сниму. Он тут и при Сталине висел…" Супруги замолчали, явно недовольные друг другом. Я, очевидно, затронул старую семейную распрю.
Впрочем, муж и жена не слишком долго дулись друг на друга. Сперва осторожно поглядывая на подругу, а потом все более смелея, старый ученый стал рассказывать про своего дорогого учителя. Да, Николай Иванович арестован. В тюрьме. Где — неизвестно. Кто говорит, что видели его в Сибири, но большинство сотрудников склоняются к тому, что еще в самом начале войны расстреляли его в Москве. "Но за что же? — не унимаюсь я. Что он сделал?" Жена профессора жестко подбирает губы и сердито гремит чайной посудой. Хотя Сталин умер и в обиход наш вошло неодобрительное словосочетание "культ личности Сталина", она не желает, чтобы в ее доме упоминали о тюрьмах и расстрелах. Не ровен час, вернутся старые времена… "Расскажи лучше, какой Вавилов был знаменитый. Ведь его весь мир знал", просит она мужа.
Этот человек с ребяческой улыбкой действительно был поразительно знаменит в 20-30-е годы. Ботаник, генетик, агроном, географ и путешественник, он, в поисках интересовавших его культурных растений, объехал более пятидесяти стран. Был первым в мире европейцем, который с караваном прошел труднодоступный Кафиристан (горную провинцию Афганистана в районе Гиндукуша). Это произошло в 1924-м, а два года спустя вавиловский караван уже пересекал Эфиопию. Позднее ученый исходил Южную и Центральную Америку, Канаду, США, Европу, бывал в Японии, Корее, Западном Китае. А уж собственную страну изъездил он вдоль и поперек. Удачлив был поразительно. Его самолет потерпел аварию в Сахаре. Летчик-француз посадил машину чуть ли не у самого логова льва и совсем потерял голову от страха. А Вавилов развел костер и всю ночь отгонял ходившего рядом хищника. В Абиссинии (Эфиопии) на караван напали разбойники. Вавилов проявил себя искусным дипломатом, откупился и вывел людей и вьючных лошадей из, казалось бы, безвыходной ситуации. В Сирии интересующие его колосья пшеницы собирал он под огнем восставших друзов — только чудом спасся от пули повстанцев.
Слава сопутствовала ему. Имя ученого не сходило со страниц мировой печати: с ним беседовал будущий император Абиссинии Хайле Селасие, члены британского кабинета и французские министры. "Вавилов — на вершине Анд!" писала советская газета "Известия", "В гостях у японских ученых" откликалась "Правда"; "Вавилов: посылки с семенами из Палестины и Сирии", "Пензенские колхозники назвали именем профессора Вавилова свою артель"… Его изданная в 1926 году книга "Центры происхождения культурных растений" становится крупным событием международной научной жизни. О ней пишут не только в научных журналах, но и в широкой прессе. "На днях я… прочитал труд проф. Н. И. Вавилова "Центры происхождения культурных растений", просмотрел составленную им карту земледелия СССР — как все это талантливо, как значительно…" — писал в те годы Максим Горький в письме к П. С. Когану. Оценка, данная известным писателем, совпадает с официальной Вавилову присуждена была в 1926 году высшая научная премия страны, премия имени Ленина. В том же 1926 году его избрали членом высшего государственного органа: Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).
Не обошли его своим признанием и коллеги по науке. В тридцать шесть лет Вавилов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, пять лет спустя — действительным академиком. Кстати, был он тогда самым молодым в академии: ему едва исполнился сорок один. Почти одновременно его избирают своим членом Академия наук Украины, Британская ассоциация биологов и Британское общество садоводов, Академия наук в Галле (Германия) и Чехословацкая академия сельскохозяйственных наук… Доклады Вавилова с интересом слушают делегаты международных конгрессов в Риме, Кембридже, Берлине и Итаке.
Увлеченные воспоминаниями, хозяева мои готовы были говорить о своем учителе без конца. Остыл чай, затихли за окнами вечерние улицы южного города, а они все продолжали упиваться рассказами о самом главном человеке своей жизни. Из сундука добыты старые снимки и письма. Вот фотография, сделанная на семенном рынке в южноамериканском городке в самом начале 1930-х. Вавилов покупает семена и, конечно, смеется. Вот он со спутником верхом в раскаленной пустынной местности где-то в Персии. Белый сухой зной так и пышет со старой фотографии. А у Николая Ивановича на лице счастливая победоносная улыбка: вот-де куда добрался (он тогда искал какую-то особо ценную персидскую пшеницу). Вот типично вавилонское письмо к приунывшему сотруднику: "Впереди нужно сделать горы: заставить расти у нас (в СССР) хинное дерево, заставить яблони цвести от семян через несколько месяцев, персики плодоносить месяца через три-четыре после посева семян… Задач перед физиологом и физиологией — гора. Жду от вас подвигов".
Сотрудники-мужчины глубоко уважали его энергию и талант, а большинство женщин — сотрудниц вавиловских институтов — были в него тайно влюблены.
В числе личных друзей советского академика в 30-е годы оказались самые светлые головы мировой генетической и агрономической науки. Достаточно назвать хотя бы агронома Холла и генетика Дарлингтона из Англии, французского академика-ботаника Шевалье и г-жу Ф. де Вильморен, Баура и Гольдшмидта из Германии, генетиков Моргана, Меллера из США, Ацци из Италии, Федерлея из Финляндии. Они действительно оказались верными друзьями. В 1929 году Баур и Гольдшмидт приехали в Ленинград на генетический съезд и в своих речах дали самую высокую оценку всего того, что делал Вавилов и вавиловцы. Профессор Эрвин Баур в 1927-м гостеприимно сопровождал Вавилова по горным районам Германии. По просьбе советского академика талантливый американский генетик Герман Меллер несколько лет работал в Институте генетики АН СССР, организовал новую лабораторию, дал толчок новому направлению генетики: исследованиям в области искусственного мутагенеза. Крупнейший знаток хлопка американец Сидней Харланд, несмотря на слабое здоровье, приехал в 1933 году в СССР и объехал вместе с Вавиловым хлопкосеющие районы страны. Его доклад наркому земледелия СССР помог перестроить на новых началах советское хлопководство.
Специалист по экологии сельскохозяйственных растений Джироламо Ацци изучал русский язык, чтобы читать труды коллег из России, и прежде всего самого Вавилова. Работы русского растениевода, организовавшего в СССР так называемые географические посевы, увлекли Ацци, и он начал пропагандировать эту идею в масштабах планеты. Когда Вавилов вздумал посетить Алжир, Марокко и Сирию, то власти не пожелали впускать "красного профессора" во французские владения. Тогда крупнейшие ботаники и генетики, включая г-жу Вильморен и академика Шевалье, использовали свои связи, дошли до министров и президента Франции и в конце концов добыли для своего русского товарища необходимые визы. Так же энергично, хотя и с меньшим успехом, боролись за колониальные визы для Вавилова английские ученые — генетик Сирилл Дарлингтон и почвовед Джон Рассел. А крупнейший британский агроном Даниэль Холл рекомендовал избрать русского коллегу в члены Лондонского Королевского общества.
"Ну, хорошо, — не слишком деликатно перебиваю я своих хозяев. — Но что же все-таки с ним случилось? Неужели после всех героических экспедиций, наград и научных достижений человека вот так просто взяли и бросили в тюрьму?" Сейчас, тридцать лет спустя, я отлично понимаю, что мои слишком прямолинейные вопросы травмировали этих немолодых, измученных страхом людей. Но в середине 50-х годов, когда происходила эта беседа, мне не было и тридцати пяти. Я относился к той счастливой возрастной группе, которую по молодости не замучили в 1937-м, по счастливой случайности не убили во время войны 1941–1945 годов и, опять-таки по причинам необъяснимым, не бросили в лагеря в 1949–1952 годах, когда Сталин устроил очередную послевоенную "чистку". Непуганый, я сохранил совсем иную психологическую конструкцию, чем мои собеседники, старики ученые, родившиеся в начале века и вкусившие не только ужасы сталинизма 30-х и 40-х годов, но и террор 20-х. Так что же все-таки случилось? Почему академик Вавилов, первый агроном и биолог страны, попал в немилость к властям? Я чувствовал в груди холодок профессионального восторга, азарт биографа и журналиста, который чует след удивительных открытий. Они непременно должны быть, эти открытия, ибо между улыбающимся, полным счастья и жизни лицом на фотографии и ужасными подозрениями, которые высказывали мои собеседники (по одной из версий, тело расстрелянного Вавилова было в тюремных подвалах растворено в серной кислоте), лежало белое, ничем не заполненное пространство, пустыня неведения, которую предстояло заполнить реальными фактами. Испуганные старики ничего не могли сообщить, кроме странных и малодостоверных слухов. (Впрочем, позднее, когда я узнал подлинные обстоятельства ареста и гибели Вавилова, они оказались пострашней самых фантастических домыслов.)
Вернувшись в гостиницу, я принялся и так и сяк обдумывать слышанное. После смерти Сталина и знаменитого разоблачительного доклада Хрущева на XX съезде партии (XXII съезд был еще впереди), казалось, ничто не должно было помешать мне рассказать правду о погибшем гении. Надо, не откладывая, искать людей, знавших Николая Ивановича, его родственников, поднимать архивные материалы. Сейчас самое время открыть людям глаза на злодеяния минувшей эпохи. И не медлить: свидетели умирают, документы теряются, детали событий истираются в людской памяти. На следующий день я зашел с этой идеей в институт к моему вчерашнему собеседнику. Спасибо, дескать, за разговор, решил писать биографическую документальную книгу о Николае Вавилове. Старик поглядел на меня с интересом: "Вы не нашли более простого метода для самоубийства?" — "Но почему же?" — "Разве не запомнили, что моя жена говорила о врагах Вавилова…" — "Но вы рассказали и о его друзьях". — "С той только разницей, что друзья Николая Ивановича — ученые и порядочные люди, а враги…" Подозрительно оглядев свой кабинет, профессор проворчал нарочито невнятно: "А враги — весьма могущественные люди, которым все эти съезды — нипочем. Да и друзья Николая Ивановича едва ли станут с вами слишком откровенничать…"
Он оказался прав, этот битый жизнью старик. Книга моя о Вавилове была завершена только восемнадцать лет спустя, а по-русски издать ее удается лишь сейчас, через тридцать лет. После памятной поездки в южнорусский город, где довелось мне впервые повидать улыбающийся портрет Николая Вавилова, я начал искать бывших учеников и сотрудников покойного академика и склонять их к воспоминаниям. Сотрудники и ученики благодарили за честь, но обещали встретиться "как-нибудь на досуге". Досуга же ни у кого не находилось до той самой осени 1964 года, когда в результате очередного кремлевского переворота рухнул Никита Хрущев. Сменилось руководство партии, и, как часто бывает в таких случаях, новые вожди, свалив все прошлые грехи на предшественника, чуть-чуть ослабили политические вожжи. Возникла вторая после смерти Сталина оттепель, этакая серенькая и сыренькая политическая погодка, когда еще не все было запрещено, и оттого советский человек полагал себя какое-то время живущим в обстановке великих свобод. В первые послеоттепельные месяцы мне удалось наконец выслушать и записать десятка два свидетельств по делу Вавилова. Позднее число опрошенных дошло до ста. Но главное, за полтора года послехрущевскои оттепели я успел прорваться в архивы.
Архивы в СССР охраняются не менее строго, чем военные склады. Боязнь утечки политической, экономической и социальной информации так велика, что архивы превращены в некие крепости, где самим охранникам не разрешают прикасаться к "опасным" бумагам. И все же весной 1965 года, через двадцать пять лет после ареста академика Вавилова, я был допущен (о, чудо!) к его бумагам. Сначала удалось исследовать архив Всесоюзного института растениеводства (ВИР) в Ленинграде. Вавилов основал этот институт в 1921 году как первый элемент будущей Академии сельскохозяйственных наук. Затем последовали архив Географического общества СССР (Николай Иванович возглавлял общество с 1932 по 1940 год), Архив Академии наук СССР и Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Есть неизъяснимое наслаждение в разгадывании исторических шарад, в том, чтобы из намеков и полунамеков, оброненных в письме или документе, из случайной реплики современника и невнятицы официальной бумаги сложить в конце концов цельную картину минувшей жизни. Особенно такой величественной и сложной, как жизнь Николая Вавилова. Уже в бумагах 20-х годов начала для меня просвечивать трагедия 1940-го. Две столь несхожие между собой половины биографии академика постепенно начали сближаться. С каждой новой пачкой просмотренных архивных папок становился все яснее тот механизм, который привел знаменитого ученого в тюремную камеру. Становилось ясно, отчего у человека с таким открытым лицом и мальчишечьей улыбкой возникли столь опасные и сильные враги. Почему эти враги не желали ничего другого, как только умертвить его.
Правда, все то, что произошло после ареста, за стенами тюрьмы по-прежнему оставалось для меня тайной. Но я и не надеялся раскрыть ее. За всю историю советской власти ни один историк никогда не видел документов о внутренней жизни следственных камер и расстрельных дворов. И тем не менее случилось невозможное: тяжелые двери архива КГБ ненадолго приоткрылись предо мной. В апреле 1965 года в Москве, в Генеральной прокуратуре СССР, мне выдали десять толстых папок с надписью "Хранить вечно" — дело государственного преступника Н. И. Вавилова. № 1500.
Там было рассказано, как и почему академик был арестован, какие бумаги были взяты на обыске в квартире и институте, как его допрашивали, кто на него доносил, к чему его приговорили и как он погиб.
Получить эти секретнейшие из секретных бумаг помогла не только политическая послехрущевская оттепель, но и сложная игра, которую я вел с властями более десяти лет. Я писал биографии. В СССР ни одна биография сколько-нибудь значительного писателя, ученого, художника не обходится без трагедий. В моих книгах редакторы отсекали исторические факты точь-в-точь по то место, где начинались трагедии. Никто не разрешил бы мне в книге о бактериологе Владимире Хавкине написать, что он был сионистом и не пожелал вернуться из эмиграции в СССР; что создатель первых в мире антибиотиков Игнатий Шиллер был затравлен в СССР антисемитами и умер неведомым миру; что гениальный эстонский хирург Арнольд Сеппо, умеющий делать уникальные живые человеческие суставы, четверть века подвергался травле, а методы его не распространялись только оттого, что доктор Сеппо однажды не поладил с секретарем парторганизации. Этих фактов в моих книгах не было, я соглашался на это, и такое согласие расценивалось властями как моя абсолютная лояльность. Лояльность мне и помогла.
В самом начале 1965 года я написал в секретариат Союза писателей СССР вполне официальное и законопослушное письмо: я вот работаю над книгой о великом советском ученом Вавилове, лауреате премии Ленина, и прочая и прочая, но возникла закавыка: в конце жизни у моего героя были какие-то неприятности с компетентными органами, хотя ныне он реабилитирован; так нельзя ли познакомиться с его следственным делом. Нет, нет, не для того, чтобы описывать, не дай бог, действия наших славных чекистов, а единственно для того, чтобы узнать причину ареста: был ли Вавилов арестован в результате научных споров, которые он вел со своими противниками, или дело его сугубо политическое. Предназначалось письмо некоему Воронкову секретарю Союза писателей по организационным вопросам. На этой должности в писательской организации пребывает, как правило, полковник или генерал КГБ, надзирающий за писателями, так сказать, изнутри. Воронков получил мое письмо в разгар "оттепели", навел справки, узнал, что книги я пишу какие требуются, в политической нелояльности не замечен, и отправил мое ходатайство заместителю Генерального прокурора СССР с припиской, что, мол, писатель Поповский человек вполне "наш", если можно, то дайте ему посмотреть, что там ему для работы надо. И дали.
Следует пояснить, что и чиновник КГБ, сидящий в недрах Союза писателей, и высокопоставленный чиновник прокуратуры, к которому пошла моя просьба, отлично знали, что никакие описания карательной деятельности тайной полиции СССР на страницы советских книг никогда не попадают. Надзор за этим возложен на цензуру, которая также является одним из отделов КГБ. Так что опасаться меня в этом отношении не приходится: что бы я ни написал — цензура вымарает. Ну, а познакомить "благонамеренного" писателя с материалами, которые имеют какое-то отношение к его герою, — это в оттепельные дни в качестве поощрения считалось возможным. Короче, в один для меня прекрасный день я был приглашен в кабинет заместителя Генерального прокурора СССР Малярова и после краткого допроса (я продолжал утверждать, что следственное дело Вавилова нужно мне только для общей ориентации) получил доступ к сверхсекретным бумагам.
Мне выдали пропуск, и я стал ходить в прокуратуру каждое утро, как на службу. Брал я с собой из дома чистую школьную тетрадку. С тетрадкой этой проходил в кабинет какого-то крупного чиновника юстиции и садился за стол, стоящий напротив его стола. Чиновник в своем темнозеленом шитом мундире, с усами и бакенбардами, был похож на швейцара в богатом доме. Он очень торжественно доставал из личного сейфа очередной том вавиловского дела и молча клал передо мной. Мое присутствие в кабинете явно было ему неприятно. Но так как времена после падения Хрущева оставались неясными, туманными, то старый служака, хотя всем видом своим и выражал мне свое презрение, не смел оспаривать приказа начальства, которое зачем-то разрешает писателю смотреть секретные бумаги. Так мы и сидели друг против друга молча, предаваясь взаимной антипатии.
Впрочем, слишком много думать в эти дни мне было некогда. Получив очередной том, я принимался лихорадочно списывать наиболее важные документы в свою тетрадку. На следующий день снова и снова. Так продолжалось до девятого тома. Девятый том мой "швейцар" достал и положил передо мной с особенно значительным выражением лица. Подавая мне бумаги, он впервые открыл рот и швейцарским же голосом предупредил меня, что я имею право знакомиться только с первой половиной тома, дальше смотреть не разрешается. Для пущей ясности прокурор перегнул том пополам. Я кивнул головой, сел поудобней за свой стол и сразу углубился во вторую, запрещенную часть тома. Чиновник беспокоился не зря: передо мной лежали рапорты агентов советской тайной полиции, которые в 30-е и 40-е годы ежедневно подавались из недр Академии наук СССР в соответствующий отдел НКВД. Но самое непристойное состояло в том, что писали рапорты не штатные сотрудники, а завербованные профессора и академики!
Я начал торопливо выписывать тексты доносов на академика Вавилова, а также сообщения, что именно сказал академик Лузин (математика) академику Комарову (ботаника) об аресте академика Вавилова (генетика). Я совершенно забыл в этот момент про своего визави. Когда минут через пятнадцать, оторвавшись от волнительных бумаг, я случайно взглянул в сторону "швейцара", то поразился произошедшей с ним метаморфозе. Он смотрел на меня почтительно, если не сказать подобострастно. Даже улыбаться пытался, но как-то неуверенно. Что с ним случилось? Ведь надлежало ему негодовать на человека, который, будучи гостем Генеральной прокуратуры СССР, позволяет себе игнорировать распоряжения ответственных лиц. Но у этого полковника юстиции ход мыслей был прямо противоположный: мою наглость расценил он как знак того, что где-то наверху (на самом верху!) я получил право никого не слушаться и никому не подчиняться. А раз так, то ухо со мной надлежит держать востро, ибо неизвестно еще, кто именно за мной стоит… Проще всего было бы ему выяснить, каковы мои полномочия, спросивши об этом у своего начальства, но чиновник беспокоить вышестоящих не решился. Так и просидели мы с ним несколько дней в новом качестве: скромный литератор вызвал у всесильного прокурора страх и беспокойство. Вот она, вечная российская ситуация, на которой наш великий Гоголь построил сюжет бессмертного "Ревизора"!
Возвращаясь из прокуратуры домой, я тотчас снимал с моих тетрадок копии и выносил подлинник из дома, чтобы спрятать его у друзей. Только полгода спустя в прокуратуре поняли, что, допустив меня к бумагам Вавилова, совершили серьезный промах. Я начал выступать с докладами о репрессированном биологе и время от времени ссылался на бумаги, полученные из архива КГБ. Одно из таких выступлений получило особенно сильный резонанс. Дело было в Ленинграде, во Всесоюзном институте растениеводства, там, где Николая Вавилова знали десятки людей. Подробности из дела № 1500 вызвали у слушателей глубочайшее волнение. Я видел лица в слезах, названные мною по именам доносчики выскакивали из зала под шип и улюлюканье своих коллег. Конечно, в КГБ очень быстро узнали подробности этого необычного вечера. Меня пригласили в Генеральную прокуратуру, и генерал юстиции Терехов, надзиравший за следствием в органах государственной безопасности, ссылаясь на "жалобы трудящихся", сделал мне "отеческое внушение": "Что же вы, Марк Александрович, так себя ведете… Мы ведь показали вам секретные документы как писателю; мы были уверены, что если вы что-нибудь и напишете, то цензура проконтролирует вас. А вы в обход пошли, обманули наше доверие, делаете публичные доклады о секретных бумагах. Нехорошо, Марк Александрович, некрасиво…"
Вот до каких высот либерализма доходила в 1965 году Генеральная прокуратура СССР. Но, правда, очень скоро ошибки были исправлены и промахи изжиты: в следующем, 1966 году в Москве были осуждены на многие годы лагерей писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Они печатали свои произведения в обход цензуры за границей и тем самым тоже обманывали доверие советских властей. Мне на этот раз повезло, я остался на свободе. Правда, подзатыльник получил, наказали меня за публикацию повести "Тысяча дней академика Николая Вавилова". В повести этой (она опубликована была в провинциальном журнале "Простор" — № 7 и 8 за 1966 г.) ни слова не было о тюрьме и следствии. Речь шла лишь о трех годах жизни Николая Вавилова перед арестом — 1937–1940. Но кое-какие детали будущей трагедии там уже проглядывали. Трагедии в СССР под запретом: по прямому указанию ЦК КПСС меня приказано было не печатать вообще.
* * *
Повесть "Тысяча дней академика Николая Вавилова" заканчивалась арестом академика. Мне рассказали об этой операции непосредственные участники событий. Цензура вымарала детали. Однако главное в повести состояло не в этом, а в том, что, опираясь на факты, я засвидетельствовал, как и кто готовил арест и убийство моего героя. Практически убивала машина НКВД, но пистолет наводил человек вроде бы из другого ведомства. Лицо сугубо гражданское, респектабельное, международно известное. Академик и лауреат многочисленных Сталинских премий Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) многократно упоминается на страницах следственного дела № 1500.
Но и без юридических источников я, как и все мои соотечественники, был хорошо знаком с этим именем. Мы читали о нем в газетах и слышали по радио, идеи академика Лысенко излагались в школьных и институтских учебниках, их пропагандировали по телевидению. Мы знали, что он великий народный ученый, который принес стране невиданные урожаи. При этом опирается он не на сомнительные открытия буржуазной науки, а на замечательный опыт простых советских людей — колхозников-опытников. Его открытия всегда имеют практический смысл и являются результатом диалектического марксистско-ленинского подхода к вопросам биологии и сельского хозяйства. Лысенко был любимцем партии и народа. Депутат Верховного Совета, орденоносец, Герой Социалистического труда, он был избран в Академию наук в 1939-м, одновременно с товарищем Сталиным и товарищем Молотовым.
После смерти Сталина звезда академика Лысенко как будто слегка закатилась. Он перестал занимать пост президента ВАСХНИЛ. Но очень скоро Хрущев вернул ему свое расположение и снова сделал президентом ВАСХНИЛ. Основополагающие статьи Лысенко и его приближенных стали появляться на страницах газеты "Правда". У меня (да и не у меня одного) в 60-х годах накопилось уже достаточно материалов для предания академика Лысенко суду, пусть не уголовному, но хотя бы суду общественности. Я, в частности, имел достаточно документов, чтобы доказать, что именно Лысенко подготовил арест Вавилова, разгромил его научную школу, лишив советское общество огромных научных и практических ценностей. Но пока жив был Хрущев, ни одна газета, ни один журнал не осмеливались публиковать что-нибудь подобное. Лишь некоторым академикам (Кедрову, Семенову) разрешено было корректно оспаривать научные основы того учения, которое Лысенко называл мичуринским.
Из повести "Тысяча дней…" явствовало, однако, что действия Лысенко надлежит обсуждать не в научном форуме, а в уголовном суде. Я приводил десятки примеров его аморализма, стоящего на грани (а точнее, за гранью) преступления. Когда повесть была напечатана, меня пригласили в ЦК КПСС для беседы (очевидно, в отдел науки или сельского хозяйства). Мне показали десятка два "писем трудящихся": доктора и кандидаты наук, заведующие кафедрами и директора институтов, не скрывая своей симпатии к Лысенко, негодовали по поводу моей повести и призывали ЦК наказать автора. Меня и наказали: два года не печатали…
В эту пору я затаился, притих, хотя и продолжал тайно писать биографию Вавилова. После 1968 года (события в Чехословакии) опасность попасться с этой рукописью в руки КГБ стала еще более реальной. На мою беду, западные газеты, хотя и с опозданием, обратили внимание на повесть "Тысяча дней…". Пересказы и рецензии на нее появились в газетах Австрии, Югославии, Швейцарии, а под конец в лондонской "Тайме". Меня в моей квартире навестил агент КГБ, предупредил уже не столь отечески, как в прокуратуре, но все еще корректно, чтобы я не вздумал использовать известные мне секретные факты в разговорах с иностранцами и тем более в своих статьях и книгах. После этой беседы я понял: ореол "официозного" писателя больше не защищает меня. Мне больше не доверяли, за мной присматривали, как говорят в России, ко мне "подбирали ключи". И подобрали, хотя и не сразу.
В 1969 году я закончил первый вариант своего труда. Начиная с 1970 года рукопись "Беда и вина академика Николая Вавилова" появилась в обращении среди московской и ленинградской интеллигенции. В океан самиздата я ее не выпускал, но несколько экземпляров книги постоянно курсировали по стране: верные люди увозили их из Москвы в Среднюю Азию, в Киев, в Воронеж, на Дальний Восток. Думаю, что прочитали о трагедии Вавилова в те годы никак не меньше пяти-семи тысяч человек. Мое имя на рукописи, разумеется, не значилось.
Я между тем продолжал пополнять и расширять свою книгу. За второй редакцией 1971 года последовала третья — 1974 года. Для редактирования, а по сути для серьезной переработки биографии академика Вавилова мне понадобились мои тетрадки с записями из следственного дела № 1500. Я достал их из тайника и принес домой. Так они у меня и лежали среди других бумаг на книжной полке, сложенные в старенькую кожаную папку. Несколько раз я укорял себя за беспечность, особенно после того, как в 1976-м предъявили мне в Московской прокуратуре обвинение в "краже юношеских дневников академика Вавилова". Обвинение было чудовищное, как большинство обвинений, состряпанных КГБ. Я не мог украсть этих дневников уже по той причине, что Николай Иванович Вавилов в юности дневников не вел. Ежедневные записи начинал он делать, только отправляясь в экспедиции. Но для тех, кто организует провокационные процессы и стремится любым способом бросить неугодного писателя в тюрьму, факты — наименее важный элемент обвинения. КГБ нужно было предъявить мне уголовное обвинение, и прокуратура такое обвинение мне предъявила.
Утром 3 июня 1977 года в мою квартиру на улице академика Павлова в Москве ворвались милиционеры. За их спинами топтались несколько штатских женщина-следователь, понятые и какой-то молодой, красиво одетый господин, который в конце концов оказался в этом спектакле главной фигурой. Капитан КГБ Богачев был выдержан в песчаных тонах: желтоватый заграничный кожаный пиджак, бежевые брюки, желтые волосы, почти белые ресницы. В тон своему костюму он протянул мне желтую бумажку, оказавшуюся ордером на обыск.
В ордере говорилось, что искать у меня надлежит дневники Вавилова, которые я якобы украл десять лет назад у частного лица. Но капитан Богачев знал подлинную причину, ради которой он ворвался в мой дом. Представился он мне как специалист по литературным и книжным делам, и действительно было видно, что обыски такого рода — его стихия. Была даже какая-то артистичность в этом молодом жандарме. Он легкой походкой проходил вдоль книжных полок, плавным движением касался корешков то одной, то другой "подозрительной" книги, выдергивал то один, то другой казавшийся ему сомнительным том. Столь же артистично извлекал он листы из моих рукописных папок и не без изящества увязывал отобранные рукописи. Увез он с собой в тот день пятнадцать килограммов бумаг, и в том числе машинописные копии стихов Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой, проповеди архиепископа Луки Войно-Ясенецкого (1877–1961), несколько книг духовного содержания и еще что-то в том же роде, по его мнению, подозрительное.
Но главная добыча, за которой охотился специалист по вопросам литературы, буквально выскользнула из его рук. Обыск продолжался четыре часа. Задремал сидевший у двери милиционер, уныло слонялись по квартире две соседки, которых, оторвав от дел, милиционер взял в качестве понятых. Начал уставать и бодрый капитан Богачев. Он перебирал на полке бумаги, дошел до старенькой кожаной папки и лениво спросил меня: "А здесь что?" — "Ненужные бумаги, отработанный пар", — нарочито равнодушным тоном ответил я. И капитан отложил папку, ту самую, за которой пришел, ту, где лежали семь синих школьных тетрадок с выписками из дела Н. И. Вавилова, дела № 1500. "Эх, капитан, капитан, плохо вы работаете", — хотелось мне сказать на прощанье этому одетому во все заграничное пижону. Но если бы даже Сергей Богачев не просчитался и открыл папку, то в судьбе рукописи о Николае Вавилове он и его хозяева все равно ничего уже изменить не могли: и сама рукопись, и копии документов из дела № 1500, и даже фотографии, изображающие, как зимой 1967 года мы с профессором Б. искали могилу академика Вавилова на Саратовском кладбище, — все это давно уже было переслано с верными людьми за граничу. Там только ждали команды, чтобы все это печатать.
Следующие пять месяцев я ждал, какое именно решение примет относительно меня КГБ: арестует или предпочтет не раздувать еще одно "липовое" судебное дело и позволит эмигрировать. Власти остановились на эмиграции. В последний день перед выездом я привез на досмотр мешок своих рукописей. Это была моя маленькая хитрость: перед агентами КГБ я положил на стол рукописи, не имеющие никакой политической окраски, все главные бумаги давно уже были сняты на пленку и высланы из страны. Я лишь хотел установить прецедент, хотел добиться, чтобы писателю хоть раз разрешили законно вывезти свои собственные произведения. С прецедентом ничего не получилось: слоновья кожа КГБ оказалась непробиваемой. Впрочем, через сутки это уже не имело никакого значения — вечером 6 ноября 1977 года мы с женой гуляли по улицам свободной Вены.
Летом следующего, 1978 года в Нью-Йорке до меня добралось письмо академика Андрея Сахарова. Лауреат Нобелевской премии мира и борец за права человека в СССР уже после моего отъезда прочитал ходившую по рукам рукопись о Вавилове и прислал в Америку предисловие к будущей книге. Но одновременно показал свои когти и КГБ. Мы с женой жили тогда в гостинице "Грейстоун" на Бродвее. Я несколько раз заходил в небольшой писчебумажный магазин рядом с гостиницей (Herman's Book Shop, 2277 Broadway, New York, New York), где делал копии с разных документов. Днем 18 сентября я снова зашел в этот магазинчик и попросил девушку-сотрудницу снять три копии с подлинника вавиловской рукописи. Девушка была занята в тот момент другой работой и попросила оставить рукопись. Но на следующий день, когда я пришел за своими бумагами, копировальщица растерянно объяснила мне, что она сделала мою работу еще вчера, но за ночь рукопись и три копии — изрядная пачка бумаг в 850 страниц — куда-то исчезли. Хозяина магазина в городе не оказалось, продавец старался успокоить меня, дескать, отыщется, произошло недоразумение. Хозяин вернулся только через несколько дней. Этот мрачный немолодой американец встретил меня крайне враждебно. Не слушая объяснений, заявил, что никакой рукописи у него нет и никогда не было, что меня никто из его сотрудников никогда в глаза не видел. Тогда я пошел в глубину магазина в тот закуток, где стоял копировальный аппарат и работала копировальщица. Она снова подтвердила, что помнит меня и знает, что я сдавал свои бумаги. Но подошедший хозяин закричал: "Она ничего не помнит!", и девушка испуганно забилась в угол копировальной комнаты.
Что все это могло означать? По мнению моих американских друзей, вся ситуация абсолютно нетипична для американского магазина. Публично оскорблять сотрудницу, грубить покупателю — ни один нормальный предприниматель не позволил бы себе этого. Очевидно, нашей встрече предшествовали какие-то обстоятельства, из ряда вон выходящие. Или хозяина магазина запугали и отняли у него рукопись (что маловероятно), или, что более достоверно, его подкупили. Сделать это могли только советские агенты. Продав рукопись, мистер Герман, естественно, вынужден был изображать из себя оскорбленную невинность. Отсюда нервозность и грубость… Конечно, я попытался привлечь к этому странному эпизоду внимание полиции, но стражи закона отнеслись к пропаже более чем равнодушно и посоветовали обратиться в суд. По счастью для меня и к несчастью для агентов КГБ, экземпляр выкраденной рукописи не был единственным…
…Я дописываю эти страницы в Нью-Йорке в августе 1980 года. Мне вновь вспоминаются профессор-генетик из южнорусского города и наша с ним беседа о его учителе Вавилове летом 1956 года. Он настоятельно не советовал мне торопиться с работой над биографией академика Николая Вавилова. "Может быть, лет через двадцать, — сказал он, — положение в нашей стране переменится и писать о Николае Ивановиче будет не так опасно…" С тех пор прошло более чем двадцать пять лет. Пятнадцать лет миновало с той весны, когда, по словам А. Д. Сахарова, слегка растерявшиеся после падения Хрущева чиновники прокуратуры добыли для меня из архивов КГБ дело № 1500. Наконец, миновало более сорока лет со дня ареста академика Вавилова. Его схватили во время ботанической экспедиции в городе Черновцы 6 августа 1940 года. Не думаю, что в ближайшие десятилетия на моей родине произойдут сколько-нибудь серьезные перемены. Это прочная конструкция, и надо, чтобы очень много людей во всем мире и в самой России узнали очень много правды о режиме для того, чтобы там произошли какие бы то ни было благотворные перемены.
Пока в России — без перемен. Но что-то, вероятно, меняется, если вы можете сегодня держать в руках книгу о замученном русском гении. Очевидно, изменились мы сами, современники, не согласные больше молчать и скрывать ложь эпохи. С некоторым удивлением гляжу я на томик, на пути которого стояло так много препятствий. А может быть, рукописи действительно не горят?..
1980 г.
Глава 1 СЧАСТЛИВЕЦ ВАВИЛОВ 1925–1929
Скажи мне, кто твой друг…
В пору, о которой сейчас пойдет рассказ (между 1925 и 1929 годами), Николай Иванович Вавилов был человеком редкостного везения.
Фотографии тех лет рисуют ученого человеком рослым, коренастым, обладателем завидного здоровья. Темные небольшие усы, просторный лоб, всегда блестящие, очень живые глаза, жизнерадостная улыбка, быстро переходящая в глубокую сосредоточенность.
"Был он веселым, подвижным, — вспоминает профессор E. H. Синская. Самая походка у него была легкая, быстрая… Несмотря на то, что он всегда куда-то бежал, он легко и останавливался, притом, остановившись так на всем ходу, мог долго проговорить "со встречным. Если вопрос его сильно интересовал, он как бы забывал обо всем, а когда разговор заканчивался, мчался дальше. Сотрудники привыкали ловить его на лету" [1].
Ленинградский график Н. Б. Стреблов, карандашу которого принадлежат наиболее удачные, по общему мнению, портреты Вавилова, жаловался: выражение лица Вавилова меняется в тончайших нюансах так быстро и так часто, что художнику трудно уловить самое характерное. Стреблову тем не менее удалось запечатлеть главные черты вавиловской натуры: динамизм, целеустремленность, сосредоточенность. Полный творческих замыслов и энтузиазма, профессор готов одаривать ими всякого, кто душевно обнищал.
Он верил во все то, о чем писал, во всяком случае, искренне верил, что ученый обязан стремиться к подвигам. Его собственные экспедиции 20-х и начала 30-х годов — непрерывный подвиг. Маршруты искателя культурных растений проходят по самым диким районам мира. Поломка самолета над Сахарой; ночь, проведенная по соседству со львом; встреча с разбойниками на берегах Голубого Нила; сбор пшеничных колосьев в зоне восстания друзов… Родные и товарищи узнают о подобных эпизодах лишь случайно, в пересказе Николая Ивановича они звучат как мимолетные забавные приключения. Но подлинно близкие к Вавилову люди видят: тяготы экспедиций, опасности дальних дорог вместе с радостью познания составляют главную радость его жизни.
В тридцать шесть лет Николай Иванович избран членом-корреспондентом Академии наук СССР; в "Памятной книжке" академии за 1929 год Вавилов уже значится академиком. Доклады профессора Вавилова с интересом слушают делегаты международных конгрессов в Риме, Кембридже и Берлине.
Не хватит ли? О, вполне достаточно. Хотя здесь приведена лишь малая часть знаков общественного и научного признания, хлынувших на ученого после 1925 года. Пожалуй, кое-кто уже захлебнулся бы в этом потоке. Но Вавилов слишком мало придает значения внешним формам почета. Да, он удовлетворен. Но и только. Награды — лишь побуждение к дальнейшей работе. Так отвечает он президенту Географического общества, получив медаль "За географический подвиг", так пишет избравшим его иностранным академиям. Денежная премия тоже оставляет его спокойным. 8 октября 1926 года во время экспедиции он пишет из Иерусалима: "В газете "Дни" вычитал о получении премии. Сама по себе она меня не интересует. Все равно пролетарии. Но за внимание тронут. Будем стараться".
"Стараться", пожалуй, не совсем точное слово. Николай Иванович и без того работает на полную мощь, работает, как некая интеллектуальная фабрика, без передышки, во все возрастающем темпе. За пять лет пройдены тысячи и тысячи километров по дорогам пяти континентов; собрана уникальная по числу образцов коллекция семян и плодов культурных растений; основан крупнейший в стране научно-исследовательский институт; подготовлена и осуществлена организация Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. И при всем том — ни дня без строчки: за те же пять лет в научных журналах на русском и иностранных языках появляются пятьдесят публикаций профессора Вавилова.
"Считаете ли вы, месье, что ваша жизнь сложилась удачно?" — спросил его корреспондент парижской газеты после возвращения из очередной экспедиции. Ни на секунду не задумываясь, ученый ответил утвердительно: "Да, очень". Это сказано вполне искренне. Да и почему не считать жизнь удачной? Во второй половине 20-х годов все складывалось для Николая Ивановича как нельзя лучше.
Никогда — ни прежде, ни потом — не чувствовал он себя таким нужным людям, государству, науке. Никогда не был так свободен в поступках, решениях. Жизнь не стала более легкой, скорее наоборот, но она до краев наполнилась творчеством, трудом, любовью. Да, и любовью. Пришел конец мучительной неопределенности в отношениях с женой. Екатерина Николаевна Сахарова, с которой прожил он около пятнадцати лет, осела с сыном Олегом в Москве, у родных, Вавилов — в Петрограде. Со стороны казалось, что дело только в отсутствии удобной квартиры. Но квартиру директор института получил, а Екатерина Николаевна не спешила расстаться со столицей. Современники вспоминают о Сахаровой как о женщине умной, образованной, но суховатой и чрезвычайно властной. Интеллектуальная связь между супругами была, очевидно, наиболее прочной и длительной. В письмах из Америки (1921 год) Николай Иванович подробно обсуждает с женой события политической, научной жизни, рассказывает о прочитанных книгах. В 1920–1923 годах Сахарова перевела, а Николай Иванович отредактировал несколько специальных сочинений, в том числе блестящую книгу английского естествоиспытателя Р. Грегори "Открытия, цели и значение науки". Но образ жизни Вавилова раздражал Екатерину Николаевну. Николай Иванович приехал. Николай Иванович снова уезжает. Николай Иванович навел полный дом гостей и толкует с ними до глубокой ночи. Никогда не известно, сколько в семье денег: профессор одалживает сотрудникам различные суммы и при этом не считает нужным запомнить, сколько дает и, главное, кому… Так Екатерина Николаевна жить не могла. А Николай Иванович по-другому не умел. Несколько лет длилось какое-то подобие семейных отношений. Деликатный по природе, Вавилов старается не допустить разрыва. Заботится, чтобы семья имела все необходимое, засыпает сына подарками, на лето забирает Олега в Детское Село. Получает приглашения и Екатерина Николаевна, но, как правило, покинуть Москву отказывается.
А жизнь идет своим чередом, на смену умирающему чувству приходит новое, молодое. Эту миловидную девушку можно встретить на старых любительских фотографиях. Елена Ивановна Барулина — первая аспирантка профессора Вавилова. Бог знает, когда уж оно зародилось, их чувство. Во всяком случае, Елена Ивановна, коренная волжанка, саратовка из строгой религиозной семьи, преодолевая отцовский запрет, уехала в Питер с первой же группой саратовских сотрудников Николая Ивановича. Хватила она в чужом городе лиха, но не отступила, не убежала под отцовский кров. Скромница. Труженица. С утра до ночи на полях, в лаборатории, за книгой. Их роман долго сохранялся в тайне. Только в 1926 году, когда разрыв с Сахаровой стал реальностью, Елена Ивановна и Николай Иванович открылись друзьям. Ждали свадьбы, но никакого торжества так и не состоялось. "Жених" готовился к дальней экспедиции и скоро умчался в более чем годовую поездку по Европе, Азии и Африке. А его подруга погрузилась в исследование мировой коллекции чечевицы (впоследствии Елена Ивановна стала крупным знатоком этой культуры). Супруги встретились лишь через двенадцать месяцев, в мае 1927 года, и не в Ленинграде, а в Италии, куда Николай Иванович пригласил жену на две недели.
Много раз потом собирала Елена Ивановна экспедиционные чемоданы своего беспокойного мужа, много раз пришлось ей встречать праздники в одиночестве, а в будни терпеть в своем доме нашествие невероятного числа гостей. Но дело мужа, привычки мужа всегда были для нее священными. Кандидат и доктор наук Елена Ивановна Барулина осталась той же верной, скромной — на все годы их знакомства.
И друзьями Николая Ивановича судьба не обделила. Сначала наиболее близкие люди оставались в Москве. Но постепенно круг близких начинает расти и перемещаться из столицы в Ленинград, где Вавилов организовал институт, известный ныне как ВИР — Всесоюзный институт растениеводства. Туда перебираются наиболее талантливые биологи страны. Из Киева — цитолог Григорий Левитский, из Ташкента — специалист по бахчевым Константин Пангало, из Тифлиса — ботаник Петр Жуковский. Из Москвы — талантливый генетик Георгий Дмитриевич Карпеченко. Ближайшие сотрудники, они становятся и ближайшими друзьями директора. Эта нераздельность личных и творческих симпатий — одна из типичных черт Вавилова. За пределами науки друзей он заводить не умел. Но уж те, кто попадал в "ближайший круг", оставались на всю жизнь.
Да, все, решительно все складывалось как нельзя лучше. И по личному, и по большому государственному счету. В 1925 году торжественно отпраздновано было двухсотлетие Российской Академии наук. Постепенно выходило из употребления словечко "спецы". Все чаще стало звучать уважительное: учёные. Возрождались международные связи: для русских исследователей открылся путь общения с иностранцами на международных конгрессах и конференциях. Появилась возможность беспрепятственно знакомиться с мировой научной литературой. Вавилов в восторге: единство, неделимость мировой науки — его любимый тезис. Он оказался одним из первых советских биологов, кого стали приглашать на международные научные встречи. Личное общение с коллегами — это великолепно. Вместо абстракции идей — живые лица, интонации, взрывы смеха после неудачного доклада и аплодисменты, награждающие талантливого экспериментатора или блестящего оратора. Присутствуя на конгрессах, легче понять, кто есть кто, после международных встреч не чувствуешь себя одиноким в науке: усилия твоих сторонников и противников, работающих над общей проблемой на разных материках, рождают азарт, увлеченность, желание добиваться собственных успехов. Он чутко ловит каждый звук в международном научном оркестре.
"Пишите о том, что творится нового, — просит он в декабре 1925 года своего командированного в Германию сотрудника. — Что подумывает Гольдшмидт: он большой олимпиец, но все же наиболее интересный в Берлине. Что делает Баур? Над чем сидит Винклер? Что поделывает Леман, Рейман? Нет ли чего любопытного по межвидовой гибридизации?" И снова в другом письме: "Зайдите при случае к злаковедам: Харланду, Боллу, Корренс, Лейти. В 1932 году, живы будем, всех увидим".
Он и сам неизбежно входит в круг чьих-то интересов и симпатий. Уже после двух-трех международных конгрессов обаятельный и общительный профессор из Ленинграда становится среди своих коллег фигурой весьма популярной. Ему охотно прощают несносный русский акцент (Вавилов и сам любил подшучивать над несовершенством своего английского произношения). Но зато каждое выступление его полно оригинальных мыслей и наблюдений. "Никто не видел такого количества и такого разнообразия культур, какое видел и изучил Вавилов", — публично заявил один почтенный ботаник, и с этим согласился весь мировой синклит растениеводов и генетиков.
Начиная с 1925 года научный биологический мир земного шара полностью признает профессора Вавилова фигурой первого ранга. Эта оценка относилась не только к его личности, но и к тому высокому научному уровню, на котором оказались в эти годы руководимые им агрономия, ботаника, генетика, физиология и география культурных растений России. После доклада на Пятом генетическом конгрессе в Берлине в сентябре 1927 года Николай Иванович, обычно склонный весьма скромно оценивать свои заслуги, не без удовлетворения сообщил жене: "Мы не очень сбоку". На самом деле доклад "Мировые центры сортовых богатств (генов) культурных растений" был принят изощренной аудиторией буквально с восторгом. Но полтора года спустя иностранные гости, прибывшие в Ленинград на Всероссийский съезд по генетике и селекции, констатировали, что советская наука пошла еще дальше. "Сейчас основные генетические работы имеются на немецком, английском и русском языках, — заявил журналистам директор Берлинского института наследственности и селекции Эрвин Баур. — Но работы на русском языке быстро прогрессируют и даже превосходят научную литературу Запада". Еще более решительно сформулировал свое мнение делегат Финляндии доктор Федерлей: "Опубликованные в СССР труды по генетике и селекции превосходят работы, изданные в странах Запада".
Счастье? Да, это оно, нелегкое, напряженное счастье искателя, который понял, как много ему дано, и рад, что сведущие люди заметили его первые удачи. Но эпоха великих экспериментов вскоре вовлекла Николая Ивановича в опыт еще более поразительный. Через две недели после возвращения из Афганистана в письме к П. П. Подъяпольскому он мимоходом бросает: "Мотаюсь между Питером и Москвой. Заставили устраивать Всесоюзный институт прикладной ботаники. Выйдет из этого что или не выйдет, толком еще не знаю". Вавилов явно скромничал. Он отлично знал, что мощный институт, возникающий на месте небольшого Отдела прикладной ботаники, — как раз то учреждение, которое необходимо ему, чтобы осуществить наиболее заветные свои цели. О таком институте он мечтал еще пять лет назад, перебираясь из Саратова в Петроград. Но едва ли полагал, что когда-нибудь удастся организовать научный центр столь крупного масштаба. Открытие Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур превратилось в событие государственное.
"20 июля, в 3 часа дня, в Кремле, в зале заседаний Совнаркома РСФСР, открылось первое торжественное заседание ИПБ и НК, — сообщила газета "Известия" [2]. — Зал заседаний был украшен диаграммами, живыми редчайшими культурными растениями.
На заседание прибыл Председатель ЦИК СССР тов. Червяков; прибыли представители союзных республик, виднейшие академики-профессора, делегаты государственных организаций и практики-специалисты, работающие в области ботаники и новых сельскохозяйственных культур… В своем приветственном слове тов. Червяков отметил, что Институт прикладной ботаники и новых культур создан по завету В. И. Ленина и учрежден в ознаменование образования Союза ССР.
Такова действительно была воля Ленина. И о ней подробно поведал присутствующим бывший личный секретарь его, ставший управляющие делами Совнаркома Николай Петрович Горбунов. Так оно и было. В 1919 году Ленин прочитал книгу Гарвуда "Обновленная земля" и загорелся мыслью тотчас перенести в Советскую Россию достижения американских селекционеров и земледелов. Перенести — это казалось тогда так просто. Надо только назначить для исполнения ответственных и достаточно компетентных лиц. Так возникла идея Сельскохозяйственной академии — учреждения, которое должно заняться научной заменой сортов на полях страны.
Первый съезд Советов в декабре 1922 года облек идею вождя в узаконенное решение:
"Организовать в Москве, как в центре нового государства трудящихся, Центральный институт сельского хозяйства с отделениями во всех республиках в целях объединения научных и практических сил для быстрейшего развития и подъема сельского хозяйства союзных республик..."
И вот в переполненном Кремлевском зале Н. П. Горбунов произнес торжественные, хотя и не слишком вразумительные слова: "Во исполнение завета обновления сельского хозяйства Союза, данного Владимиром Ильичем Лениным…" И зал дрожит от рукоплесканий. Денег, правда, на академию пока нет, но институт — первое звено будущей сельскохозяйственной академии. Стыдиться устроителям не приходится: в России рождается научное учреждение самого высокого класса. Голос Горбунова буквально грохочет, когда он называет имена тех, кто отныне призван руководить сельскохозяйственной наукой страны:
"Директор института — профессор Николай Иванович Вавилов, ученый мирового масштаба… пользующийся громадным научным авторитетом как в нашем Союзе, так и в Западной Европе и Америке.
Заместитель директора — профессор Виктор Викторович Таланов, организатор Екатеринославской и Западно-Сибирской областных станций. Ему Союз обязан введением лучших сортов кукурузы, суданской травы и других кормовых трав.
Заместитель директора — Виктор Евграфович Писарев… один из крупнейших русских селекционеров…
Заведующий отделом плодоводства — профессор Василий Васильевич Пашкевич, глава всех садоводов Союза.
Заведующий отделом пшениц — Константин Андреевич Фляксбергер, лучший в мире знаток пшениц…
Заведующий отделом сорных растений — Александр Иванович Мальцев, первым положивший начало изучению у нас сорной растительности…"
Бюджет у института пока крошечный: на все про все — и на опыты, и на закупку заграничных семян — триста с небольшим тысяч рублей в год. Зато в двенадцати точках страны от Мурманска до Туркмении, от Москвы до Сухума ученым переданы опытные станции, совхозы, отделения, сотни и даже тысячи десятин отличной земли, где можно развернуть генетическую, селекционную, интродукционную работу. Северокавказское отделение на Кубани, совхоз Калитино под Ленинградом, Каменно-Степная опытная станция в Воронежской губернии, отделения на Северной Двине, в Детском Селе — где еще есть у сельскохозяйственной науки такой простор, такие возможности?
"Да здравствует обновленная Советская земля! Да здравствует союз Науки и Трудящихся!" — провозглашает докладчик, и зал снова рукоплесканиями выражает свой восторг.
Встреча и дружба с Горбуновым — еще одна жизненная удача Николая Вавилова.
Институт возник на совершенно особых началах. Он не подчинялся ни Наркомату земледелия, ни Академии наук. Средства он получал от Совнаркома и подчинялся лишь правительству СССР. Н. П. Горбунов, управляющий делами Совнаркома, к многочисленным обязанностям своим вынужден был прибавить еще одну: он стал председателем совета института, а по существу — своеобразным правительственным комиссаром по делам сельскохозяйственных наук. Директор института был подотчетен только ему.
Могли ли подумать рукоплескавшие в 1925-м в честь вновь открытого института, что через десять-пятнадцать лет после торжеств почти все, кто составил гордость этого учреждения, пойдут в тюрьмы, заклейменные кличкой "враги народа". Был схвачен и расстрелян Николай Горбунов, трижды сидел в тюрьме и погиб после очередной посадки старый профессор Виктор Таланов. Профессору Виктору Писареву в тюрьме угрожали смертью, если он не даст показаний на академика Вавилова. Сгинул в тюрьме знаток сорной растительности Александр Мальцев, погиб и сам Николай Вавилов… Но все это впереди, а пока музыка играет, гости аплодируют, советская наука отмечает один из первых и наиболее неомраченных своих праздников. Для Николая Ивановича это тоже один из самых светлых дней жизни.
Институт для Вавилова — не имение и не просто дом, куда он двадцать лет ходил на службу. Институт — гордость его, любовь его, часть его души. Все знали: путешествуя за рубежом, Николай Иванович посылает домашним короткие открытки, а институт получает от него обстоятельные, длинные письма. Директор подробно пишет сотрудникам о находках, трудностях, о победах и поражениях и требует столь же подробных и искренних ответов. Он любит соратников по научному поиску независимо от их ума, способностей, должностного положения. Любит и знает всех по имени-отчеству, помнит домашние и служебные обстоятельства буквально каждого лаборанта, привратника и уборщицы. Институт — его семья, нет, скорее ребенок, с которым он — отец — связывает не только сегодняшний свой день, но и то далекое будущее, когда он сам уже не надеется жить на свете. "Строим мы работу… не для того, чтобы она распалась завтра, если сменится или уйдет в Лету директор. Я нисколько не сомневаюсь, что Центральная станция [институт в Ленинграде. — М. П.] будет превосходно существовать, если даже на будущий год в горах Абиссинии посадят на кол заведующего".
Слова относительно Абиссинии совсем не случайно приведены в письме Николая Ивановича к профессору Пангало. В это время шла подготовка к экспедиции, которая началась в 1926 году.
Глава 2 "ПОВОРОТ В ПОЛИТИКУ…"
Жалуются на научные академии, что они недостаточно бодро включаются в жизнь; но это зависит не от них, а от способа обращения с наукой вообще.
И. В. ГётеВ Ленинграде, в Архиве Академии наук СССР, хранятся старые записные книжки Николая Ивановича, те, что зовутся академическими. Потертые, прожившие долгую "карманную" жизнь, они содержат адреса и телефоны институтов, списки академиков и членов-корреспондентов. В самой старой из них можно прочитать, что доктор биологических и сельскохозяйственных наук Н. И. Вавилов избран в действительные члены академии в январе 1929 года и что возглавляемый им Институт прикладной ботаники и новых культур помещается в Ленинграде на улице Герцена, 44. Но главный интерес для историка представляет, очевидно, не официальная часть, а те календарные листки в конце, что предназначены для заметок. Вавилов имел обыкновение щедро вдоль и поперек исписывать эти странички.
Вся жизнь его — личная, научная, общественная — возникает в скупых неразборчивых записях. Заседания многочисленных комиссий Академии наук присутствовать; ответить немцам и чехам: Академия наук в Галле и Академия сельскохозяйственных наук Чехословакии избрали его своим членом-корреспондентом. "23 января — выступление в ЦИКе". Это тоже часть жизни: девять лет, с 1926 по 1935 год, беспартийный профессор оставался бессменным членом центрального исполнительного органа страны, участником самых ответственных совещаний и встреч "в верхах". А на соседней странице нетвердой детской рукой "заказ" сына-школьника: "Олегу привезти "Путеводитель по Кавказу" Анисимова". Со старшим сыном Олегом (в 1928 году от брака с Еленой Барулиной родился второй — Юрий) у Николая Ивановича большая дружба. Переписка между ними не прерывается даже тогда, когда отец пересекает океаны и материки. Летом отец и сын вместе ездят по опытным станциям и институтам, которые инспектирует Вавилов. Не каждому мальчику так везет: объехать на машине весь Кавказ, Крым, Среднюю Азию, побывать в гостях у садовода Мичурина! В 1929 году, однако, совместную поездку пришлось отложить: директор института готовится в экспедицию на Дальний Восток. В записной книжке — длинный список книг по сельскому хозяйству и экономике Маньчжурии и Японии. Листаем странички календаря: перед отъездом отослать письма друзьям, их по-прежнему много и за рубежом и на родине. "Дарлингтону, Бзуру, Писареву, Воронову". А ниже — дважды подчеркнутое слово: "Завещание". Что поделаешь, путешественнику по дальним странам надо предусмотреть все.
С точки зрения личных успехов 1929 год был для Николая Ивановича годом поистине феерическим. Над головой ученого, которому не исполнилось и сорока двух лет, разразился золотой ливень почета, славы, признания. За один год он стал членом четырех Академий наук, членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, президентом ВАСХНИЛ и членом коллегии Наркомзема. Международный аграрный институт в Риме избрал членом Международного совета экспертов, а Британская ассоциация биологов — своим почетным членом. Вавилову устраивают овацию две тысячи делегатов Всесоюзного съезда генетиков и селекционеров, его речи звучат на XVI партконференции и на V съезде Советов… И тем не менее я позволю себе утверждать, что не многочисленные знаки общественного внимания и даже не великолепная по результатам экспедиция в Западный Китай, на Формозу (Тайвань), в Японию и Корею были главными событиями внутренней жизни прославленного академика в 1929 году. О главном молчат записные книжки, о нем почти ничего не говорится в письмах. До предела загруженный, стремительно плывущий в потоке неотложных государственных дел, Николай Иванович лишь с самыми близкими друзьями, да и то урывками, говорит о проблеме, которая становится для него самой насущной, самой главной.
Еще в марте 1928 года в письме к селекционеру Т. А. Рунову он как бы мимоходом обронил: "Теперь поворот в политику. Будем изучать колхозы, совхозы. Была довольно бурная сессия президиума совета (руководящего органа ВИРа) в январе. В результате решено усилить коммунизацию Института. Понемногу она идет… Все события отрадные" [3]. Поворот в политику Вавилова отнюдь не пугает. Коммунизация? Отлично. У него нет решительно никаких разногласий с советской властью. Государство дает деньги на институт, на экспедиции. Не всегда достаточно, но дает. Н. П. Горбунов председательствует в совете института, Сергей Миронович Киров, секретарь Ленинградского областного комитета партии, согласился выступить на съезде генетиков и селекционеров. Говорил умно, горячо. Обещал ученым поддержку. Нет, отношения с властью по-прежнему вполне дружелюбные. Вавилова беспокоит другое: как наладить связи с крестьянством, с теми, для кого, собственно, и существует институт. Тут все куда сложнее. Русская сельскохозяйственная наука, которая и до революции стояла не ниже европейской, а теперь и подавно, как-то не находит в селе большого спроса на свои достижения. Николай Иванович знает, как жадно тянутся к новому американские фермеры. Даже немецкие, даже наиболее отсталые в Европе французские крестьяне и те после первой мировой войны начали избавляться понемногу от извечного равнодушия к научным новинкам. Как бы сделать так, чтобы интерес этот проник и в сознание русского земледельца?
Прежде всего надо, чтобы сами биологи не забывали о долге перед крестьянством. Огромный плакат перепоясывает стол президиума на съезде генетиков и селекционеров в январе 1929 года: "Шире в массы достижения науки!". Гостя съезда, немецкого профессора Эрвина Баура, лозунг изумляет, но Вавилов пользуется правом председателя, чтобы и во вступительном слове снова повторить полюбившийся ему тезис.
В душе он понимает: одних усилий науки недостаточно. Надо, чтобы сам хлебороб заинтересовался выгодой от применения новых удобрений, сортов, машин. Есть, конечно, и у нас в деревне свои опытники-любители. Около пяти тысяч таких умельцев ведут переписку с Институтом растениеводства в Ленинграде, высевают образцы сортовых семян, присылают отчеты о своих экспериментах. Но в целом, жалуется Вавилов друзьям, русское крестьянство обладает "низкой поглотительной способностью" по отношению к агрономической науке. Термин этот, заимствованный из почвоведения, по мнению Николая Ивановича, наилучшим образом отражает отношения, которые сложились в первое десятилетие после революции между научной агрономией и массой земледельцев.
Как одолеть бескультурье, заскорузлость русской деревни? Вавилов полагает, что для этого нужно выпускать больше агрономов, печатать больше популярной сельскохозяйственной литературы. Надо еще убедить партию, ЦИК, Наркомзем вкладывать больше средств в агрономическую науку… С этой несколько наивной, но искренней идеей Вавилов выступает на дискуссии, посвященной повышению урожаев в стране (1928 г.). Он ратует за то, чтобы власти увеличили выпуск агрономов и зоотехников, чтобы укрепили "интендантскую часть" науки — снабдили лаборатории и научно-исследовательские институты новейшим оборудованием. Говорит он и об едином плане подъема сельского хозяйства, об единстве командования, но для него речь идет в основном о научном плане, о командовании ученых. Как именно агрохимики, селекционеры и генетики станут управлять земледелием страны, Николай Иванович представлял себе, видимо, туманно. Куда более естественно звучала в его устах другая, произнесенная на той же дискуссии фраза: "Мы, опытники, часто находимся в трудном положении, когда мы начинаем думать об организации масс" [4].
Все это говорилось в 1928 году. Год этот был для советской деревни роковым. Сталин готовил в селе ломку. Боясь независимого, богатого крестьянина, он собирался отнять у русского, украинского, белорусского мужика ту самую землю, ради которой крестьяне поддержали революцию. Все это делалось под видом плана кооперации, коллективизации. Многих деятелей агрономии, даже принявших революцию, предстоящий переворот в деревне насторожил. Старые земские агрономы, опытники-селекционеры, профессора с кафедр земледелия — те, кто знали и любили землю, понимали, насколько консервативно это древнейшее из человеческих производств, — были серьезно озабочены. Будет ли крестьянин, лишенный личной собственности на землю, относиться к ней так же любовно, заботливо, как прежде? Не забросит ли поле, не покинет ли деревню?
В конце 1929 года эти сомнения высказал Николаю Ивановичу профессор экономики сельского хозяйства Н. П. Макаров. С Вавиловым связывало их родство (Макаров в прошлом был женат на сестре Николая Ивановича) и давняя дружба. К тому же, как ученые, оба они имели прямое отношение к селу, к земледелию. Сразу после возвращения Николая Ивановича из Японии друзья встретились, зашли пообедать в ресторан, и тут экономист Макаров поведал биологу Вавилову о том, какие серьезные события разыгрались за последние месяцы в деревне: коллективизация, высылка сотен тысяч лучших, наиболее хозяйственных крестьян, нависающая над страной угроза голода. Земледелие производство консервативное. Оно требует реформ, но реформ осторожных, говорил Макаров. Прежде чем разрушать ту систему, которая кормила и кормит народ, надо проверить, отрегулировать, испытать систему колхозов и совхозов. Иначе крестьянин бросит землю, побежит в город, вместо прогресса коллективизация принесет сельскому хозяйству кризис [5].
Вавилову рассуждения друга не понравились. "Не так все плохо, — бросил он. — Если даже часть мужиков уйдет в город — беды не будет. В Америке фермеры тоже разоряются, а хлеба, молока и мяса в США — завались". И тут же, чтобы проиллюстрировать свою мысль, напомнил цифры. В США с 1910 по 1920 год в город ушло более 17 миллионов фермеров, а посевные площади возросли, производство продуктов питания увеличилось. Наука — вот главная сила! Пусть будут колхозы, совхозы, что угодно, только бы новые хозяева взялись за землю по науке…
Тридцать пять лет спустя, передавая мне этот разговор, профессор Макаров горестно разводил руками. Увы, погруженный в проблемы науки, Николай Иванович не мог, не умел охватить взглядом крестьянскую Россию, ему была чужда ее психология, ее судьба. А между тем все произошло именно так, как предсказал экономист. Кризис отечественного сельского хозяйства, начавшийся на пороге 1930 года, длится уже пятьдесят лет. Коллективизация привела к страшному голоду 1932–1933 годов. На второй год пятилетки пришлось ввести карточную систему, которая продолжалась до 1935 года. Но и позднее дела деревенские не намного улучшились. К 1940 году производство зерна все еще не догнало уровня 1928 года. Значительно меньше, чем в доколхозную эпоху, страна производила и мяса, и молока. А на душу населения граждане СССР и сегодня получают меньше продуктов земледелия, нежели в конце 20-х годов.
За свою правоту профессор Макаров расплатился двадцатью пятью годами тюрем, лагерей и ссылок, Вавилову ошибка его обошлась еще дороже. Но все это было потом, а в январе 1929 года, выступая на Всероссийском агрономическом съезде в Москве, Николай Иванович все еще был полон иллюзий. Главная мысль его доклада — сделать советскую деревню краем передовой сельскохозяйственной науки. Ученый призывает создать "приводные ремни" от институтов и опытных станций к сельскохозяйственному производству. Но каковы они, эти "приводные ремни", как колхозники, в отличие от крестьян-единоличников, отнесутся к рекомендациям ученых, — ему не ясно. Слов о пользе науки за прошедшие годы было сказано больше чем достаточно. Сельскохозяйственная академия все еще не создана. Оснащение агрономических и биологических лабораторий тоже отстает от Запада. Предстоят ли перемены? Собирается ли правительство всерьез помочь ученым? Берет ли оно сельскохозяйственную науку на вооружение, готовясь к коренным переменам в селе?
На размышления, однако, год 1929-й давал мало времени. События развивались стремительно. После Агрономического и Генетико-селекционного съездов, которые прошли в январе, в апреле открылась XVI партийная конференция, а в мае V съезд Советов СССР. Вожди призвали к безотлагательному переустройству всего сельского хозяйства на кооперативных началах. Интересно проследить, как буквально за считанные недели изменился тон публичных выступлений Вавилова.
В январе — все зыбко, неустойчиво. Единственная твердыня — сама наука. В апреле группа ученых обращается к партийному руководству с предложением своих услуг. Они еще не знают, как наверху отнесутся к их призыву, но убеждены: молчать дальше нельзя. "Пятилетний план, принятый конференцией, и тезисы, выдвинутые в докладе Михаила Ивановича Калинина, охватывают организационную [курсив мой. — М. П.] сторону проблем, — говорит от имени своих коллег академик Вавилов. — Мы пришли сегодня для того, чтобы обратить ваше внимание на другой сильный рычаг, который не должен быть забыт в грандиозной работе, открывающейся перед нами. Этот рычаг — агрономическая наука" [6].
Роль просителя не мешает Николаю Ивановичу откровенно сообщить партийным боссам, что огромные задания пятилетки — освоение новых земель, создание зерновых фабрик — застали науку неподготовленной. Предстоит многому поучиться за границей, многое постигать самим. Но прежде чем послужить стране, наука сама потребует крупных капиталовложений. Надо строить новые институты, расширять старые, разворачивать сеть опытных станций, особенно на Дальнем Востоке, в Казахстане, на Урале, на Севере. Свое краткое обращение Вавилов завершил словами: "Мы пришли заявить о полной готовности научных работников всемерно содействовать реконструкции сельского хозяйства на новых началах". Ему ответили аплодисментами. В верхах решили: от ученых может быть польза.
Вавилов счастлив: какая она все-таки понятливая, эта советская власть. Доклад его в мае на съезде Советов носит уже совсем иной характер. На сцене Кремлевского Дворца вывешена большая, только что составленная карта земледелия СССР. Николай Иванович, вооружившись указкой, говорит о конкретных сортах и культурах, которые следовало бы ввести в обиход отечественного земледелия, о необходимости продвигать посевы на Север, укреплять пригородные хозяйства вокруг промышленных центров. Ученый деловит, он похож на учителя, ведущего очередной урок. Минувший месяц принес окончательное успокоение. И не только ему одному. Партийная конференция одобрила инициативу деятелей науки. Совнарком принял специальный декрет о всемерном расширении научно-агрономической работы в предстоящей пятилетке. И в довершение сам Михаил Иванович Калинин с трибуны съезда призвал ученых помогать стране строить социалистическое сельское хозяйство. Вавилов принял все эти резолюции и заверения с присущей ему искренней доверчивостью. Новая колхозная деревня должна резко увеличить свою "поглотительную способность" по отношению к науке. Об этом заявляют официальные документы правительства, это публично гарантирует всесоюзный староста М. И. Калинин. Приводным ремнем между селом и научно-исследовательским институтом становится сама советская власть с ее политикой коллективизации. Какие могут быть сомнения?
Письмо командированному в Америку другу молодости генетику Г. Д. Карпеченко дышит оптимизмом: "Верим и исповедуем, что жизнь построим, несмотря ни на что. Темп начинается по линии тракторизации, освоения посевных площадей такой, что, пожалуй, и скептики скоро начнут верить. Трудностей до черта, но все в движении. Во всяком случае, возвращался я из Японии с удовольствием" [7].
Будем искренни: человек громадной научной эрудиции, Вавилов не разобрался в событиях, которые обрушились на земледельческую Россию в 1929–1930 годах. Он умел самозабвенно работать на благо государства, но не владел даром разгадывать хитросплетения мысли государственных деятелей. Вина его, впрочем, не так уж велика. В те годы мало кто понимал, что Сталин преднамеренно разоряет деревню, что, раздавив своих политических конкурентов, вождь, с одной стороны, стремится обезопасить себя от появления класса богатых и потому независимых крестьян, а с другой стороны, стремится обеспечить молодую индустрию дешевыми рабочими руками. Профессор Вавилов, который принял советскую действительность в ее идеальных лозунгах и не очень-то задумывался о смысле этих лозунгов, очевидно, не мог даже допустить существования столь кощунственного плана. В том же тридцатом году, рассказывая сотрудникам о поездке в Японию, Николай Иванович, между прочим, сказал: "Эволюция земледелия так же, как и эволюция человечества в прошлом, есть накопление мудрости и глупости, предрассудков, рутины наряду с истинно глубоким опытом и наблюдательностью людей земли. Исследователям древних стран приходится проделывать большую работу по отделению добра от зла" [8]. Различить "добро" и "зло" в сельском хозяйстве Японии, отделить в нем прогрессивные начала от рутины и предрассудков Николаю Ивановичу удалось без труда. А чтобы разобраться в трагической судьбе земледелия России, понадобились ему годы и годы. В конце концов он понял, что именно произошло с "глубоким опытом и наблюдательностью людей земли" нашей страны. Но едва ли ученый мог даже представить себе то, чему стали свидетелями мы люди 70 — начала 80-х годов, когда великая земледельческая держава, при царе поставлявшая на мировой рынок больше половины экспортного зерна, стала сама покупать хлеб за границей.
…Темп — любимое слово начала тридцатых годов. "Выше темпы индустриализации!", "Шире темпы коллективизации!" — взывали плакаты. На каждой газетной странице — цифры с множеством нулей — планы добычи угля, планы выплавки стали, будущие пуды и центнеры пшеницы и ржи. Эти миллионы, миллиарды поражают, гипнотизируют. Мания крупных цифр объемлет эпоху. Весной 1929 года Вавилов с удовлетворением признал на XVI партконференции, что по освоению земель взяты темпы "совершенно исключительные". За пятилетие намечено освоить 15 миллионов гектаров. Его беспокоило только, что научные работники недостаточно подготовлены к выполнению такой грандиозной программы. Но проходит год, и число 15 миллионов отброшено далеко назад.
7 июня 1930 года в кабинете наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева происходит совещание представителей науки с руководителями Наркомзема. Обычное деловое совещание. "Давайте поговорим о расширении площадей, предлагает нарком и развертывает перед присутствующими свои заметки. — У нас сейчас должно быть по плану 131 миллион гектаров… На будущий год мы берем задание по расширению площадей на одиннадцать процентов, значит, примерно на 14 миллионов гектаров. Следовательно, в будущем году мы будем иметь 145 миллионов га" [9].
Присутствующие — директора научно-исследовательских институтов, опытных станций, ответственные работники аппарата — поддерживают наркома одобрительными репликами. Никого не удивляет, что план, недавно еще рассчитанный на пять лет, вдруг предлагается выполнить за год. "Темп нарастания площадей, — продолжает Яковлев, — можно взять такой: 18 миллионов гектаров в 1931 году, в 1932 году — миллионов 20 и в 1933 году тоже миллионов 20. Это значит, примерно 50 миллионов прибавится посева за 3 года" [10]. И опять никого не поражает, что страна, только недавно сменившая соху на плуг, едва заложившая свои первые тракторные заводы, предполагает дополнительно запахать гигантскую площадь, равную половине пашни Соединенных Штатов Америки.
Нам, потомкам, известно, чем кончились эти расчеты. Если к посевным площадям 1930 года — 131 миллион гектаров — прибавить, как планировал нарком Яковлев, 18, 20 да еще 20 миллионов га, то к 1933 году СССР должен бы засевать 189 миллионов гектаров. Но загляните в статистический справочник: не только в 1933-м, но и в 1940-м сельскохозяйственные угодья Советского Союза составляют всего 150,4 млн. га. В год смерти Сталина, то есть еще семнадцать лет спустя, посевные площади страны составляли только 157 миллионов гектаров. Даже через четверть века после совещания в кабинете Яковлева, когда были выпущены сотни тысяч тракторов, комбайнов и грузовых машин, потребовалось величайшее напряжение всего народа, чтобы поднять предложенные Хрущевым 13 миллионов гектаров целины. Но в тридцатом ветер энтузиазма сметает с пути любые "объективные трудности". И нарком, и остальные участники беседы абсолютно уверены: какое бы задание ни последовало, они выполнят его. Выполнят, во-первых, потому, что это необходимо для экономики, обороны, жизни СССР, а во-вторых, потому, что тракторы и комбайны для освоения новых земель, конечно же, будут созданы, ведь заводы сельскохозяйственных машин уже строятся. А строители — рабочие, инженеры, проектировщики — тоже горят страстным энтузиазмом…
Одержимые мечтатели тридцатых годов! Их воспевали потом не раз. Но поэты и прозаики искали своих героев лишь на строительных площадках Магнитки и Комсомольска. А между тем мечтатели сидели в ту пору и в кабинетах наркомов, и в академических креслах. Весной 1930 года народный комиссар земледелия СССР, в прошлом большевик-подпольщик, Яков Аркадьевич Яковлев прислал Николаю Ивановичу Вавилову просьбу… Нет, он не поручал академику разрабатывать очередной перспективный план растениеводства, не требовал дать заключение о мерах борьбы с суховеем. Нарком просил ученого пофантазировать, нарисовать картину будущего сельского хозяйства Советского Союза. Николай Иванович был в это время занят, что называется, выше головы. В Москве заканчивались приготовления к первой сессии только что родившейся Академии сельскохозяйственных наук, в Ленинграде проходили заседания городского Совета, депутатом которого был избран Вавилов, в своем институте Николая Ивановича ждала большая научная и редакционная работа, а в Сельскохозяйственном учебном институте в г. Пушкине шел курс его лекций для студентов. К этому надо добавить, что Вавилову предстоял в недалеком будущем также доклад на Международном ботаническом конгрессе в Лондоне и экспедиция в Центральную Америку.
И тем не менее ученый нашел время для раздумья о будущем. "Ваша идея мне по душе", — пишет он Яковлеву и посылает несколько страничек, где излагает свои соображения. В этом удивительном документе нашлось место всему: размышлениям о распашке новых земель в СССР, о "всемерной индустриализации земледелия", о расцвете агрономической науки в ближайшем будущем и даже о предстоящем духовном прогрессе крестьянина-коллективиста. "Сам хозяйствующий человек является важным фактором вершения ближайших судеб земледелия, — писал Вавилов. — Стремление к экспансии, колонизация, которая характерна для нашей истории и которая определила в значительной мере русскую историю, — ныне находит свой естественный выход. Объединенному в коллектив хозяйствующему человеку открывается почти беспредельный простор в смысле продвижения его инициативы, предприимчивости, "жадности к земле". То, что было недоступно даже сильной индивидуальности, может быть реализовано объединенными усилиями коллектива" [11]. Так полагали мечтатели 30-х годов…
…Темпы, темпы!
В 1834 году сорокатрехлетний Майкл Фарадей публично объявил, что отныне, желая сохранить свое время и здоровье, он отказывается от всяких научных экспертиз и отклоняет любые приглашения на обед. Через год великий физик добавил, что он не станет также делать служебных физических и химических анализов. Еще год спустя последовал отказ сотрудничать в президиуме Королевского института. А с 1838 года Фарадей установил правило, по которому три дня в неделю он никого у себя не принимает.
Как изменилась за сто лет жизнь ученого! В сорок три года Вавилов сообщает другу: "Я тут окончательно задавлен. По подсчету минимальному, имею восемнадцать должностей" [12].
"С 1929 года, — вспоминает ближайшая сотрудница ученого, — Николай Иванович стал жителем обеих столиц, и Ленинграда и Москвы… Напряженность и динамичность его жизни достигли возможного для человека предела. Одно за другим следуют совещания, съезды, бесконечные поездки, кроме экспедиционных, еще по всякого рода организационным делам, посещение многочисленных опытных станций и институтов в целях консультации…" [13] Тот же темп поддерживается через год и через два. В 1933 году Вавилов пишет профессору Н. В. Тимофееву-Ресовскому: "Замотался, так как половину времени живу в вагоне, носясь между Москвой и Ленинградом" [14]. Но мало кто знает, что академик не прекращает работу и в поезде: покупает оба места в купе международного вагона и добрую часть ночи проводит за чтением книг и правкой рукописей. Чему же отданы главные силы его в эти годы?
…В записной книжке Вавилова есть несколько страничек, которые, без сомнения, привлекут внимание историков науки. Не сразу можно сообразить, что означают набросанные рукой ученого квадраты, прямоугольники, круги, соединенные между собой стрелками. Но если не полениться и, вооружившись лупой, разобраться в сложной, исписанной мелким неразборчивым почерком конструкции, то станет ясно: перед нами схема будущей Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Перелистываешь листок за листком и воочию восстанавливаешь ход мысли ученого, видишь, как творился один из важнейших эпизодов отечественной агрономической науки.
Варианты, варианты… Автору хочется придать своему детищу блеск, размах, поставить его в ряд лучших научных учреждений мира. Предусмотрены журнал с обязательным переводом статей на несколько языков, международное представительство, библиотека, которая должна собрать все богатство мировой сельскохозяйственной литературы. С другой стороны, Вавилов стремится освободить академию от лишних административных звеньев. В своей схеме он отсекает, зачеркивает их и тут же вновь восстанавливает. В чем суть этого внутреннего борения? Очевидно, перед умственным взором исследователя стоит виденный в Вашингтоне "город агрономической науки, в котором с трудом находишь среди лабораторий, оранжерей и музеев административные учреждения" [15]. Но американский Департамент земледелия занят в основном деятельностью рекомендательной. Его бюллетени, выставки, музеи сообщают, что найдено, выведено, открыто. И только. Можешь покупать семена, приобретать новые удобрения, можешь жить по старинке: дело хозяйское. На пороге 1930 года, когда Сталин начал тотальную концентрацию политической и экономической власти, такая форма стала для СССР неприемлемой. Академия создается как орган строгой централизации науки. Для того чтобы руководить усилиями тысяч ученых, планировать, координировать их деятельность в масштабах страны, внедрять науку в производство, нужен большой надзирающий, планирующий, координирующий аппарат. Николай Иванович вынужден чертить новые квадраты и прямоугольники: секции, отделения, бюро. А рядом столбцы фамилий: будущие академики новорожденной академии.
И тем не менее я остерегался бы называть академика Вавилова единоличным создателем проекта ВАСХНИЛ. Первоначальную схему столько раз обсуждали в разных инстанциях, ее так долго, так упорно переделывали и перекраивали, что едва ли вообще кто-нибудь может претендовать на авторство. Во всяком случае, когда в мае 1930 года делегаты первого пленума Академии сельскохозяйственных наук собрались в Москве в только что отстроенном здании Наркомзема, им было представлено нечто такое, что не имело подобия во всей истории мировой агрономии. Эпоха великих темпов — вот кто подлинный творец проекта академии. Это она, фантазирующая и фонтанирующая цифрами эра 30-х годов, предписала ученым создать за считанные месяцы пятьдесят институтов и сто восемьдесят зональных станций! [16]
С первого взгляда проект академии представляет вроде бы пир науки, ее безраздельное торжество. Отныне ни одна даже самая скромная, самая незначительная область земледелия не вправе ускользнуть от взора исследователей. Рядом с привычными для нашего уха названиями — Институт зернового хозяйства, Институт кукурузы, Институт по производству овощей, Институт плодоводства и виноградарства — возникают Институт сои, Институт по цикорию, Институт кролиководства, Лаборатория по изучению вопросов искусственного вызывания и прекращения дождя. Созданы также Бюро по водорослям, Лаборатория по ионификации и Центральная научно-исследовательская станция верблюдоводства.
Зачем понадобились эти учреждения, вызывающие у нас сегодня улыбку? К чему было созидать громаду академии, которая, как видно даже постороннему наблюдателю, превратилась в неуклюжую, трудно управляемую махину? Задать эти вопросы значительно легче, чем на них ответить. У каждой эпохи, как и у каждого возраста, — свои болезни. Творцы юной академии болели той же гигантоманией, что и вся страна. Они чувствовали себя первотворцами и, подобно природе на заре созидания жизни, творили мастодонтов и плезиозавров. Старые формы представлялись негодными. Страна взялась реконструировать сельское хозяйство в самые сжатые (мы бы теперь сказали "космические") сроки. Надо было предложить такую научную структуру, при которой ученые с предельной быстротой передали бы совхозам, колхозам, предприятиям перерабатывающей промышленности самые совершенные приемы и методы. От ученых ждали, что они как можно скорее изучат почвы и растительность на громадных пространствах и тем помогут планировать общегосударственные мероприятия. Что столь же быстро они передадут колхозам сортовые семена важнейших культур и новейшие приемы обработки земли. Растущая промышленность нуждалась в высоких урожаях сахарной свеклы, хлопка, льна, каучуконосов. И это тоже ставилось в зависимость от деятельности институтов Академии сельскохозяйственных наук. А конструирование сельскохозяйственных машин? Мелиорация? Лесоводство? Освоение пустынь и продвижение земледелия на север? Партийные вожди требовали, чтобы ученые все взяли под свой контроль и при этом сами оставались под партийным контролем. Творцам проекта академии предстояло учесть весь этот сложный, подчас противоречивый комплекс приказов и распоряжений. И ученые, идя навстречу власти, строили здание, по облику своему напоминающее Вавилонскую башню, — нечто многоэтажное, громадное, индустриального вида.
Вавилов охотно, с открытым сердцем принимал "социальный заказ". Он, вероятно, понимал, что возводимая им стройка несовершенна, но как человек своего времени верил — это временные трудности. "Мы только начинаем возводить леса… — говорил Николай Иванович на VI съезде Советов в марте 1931 года. — Еще многие не видят контуров этого будущего здания, его видят только те, кто строит его. Кругом много непорядка, мусора, кое-где непролазная грязь. Так бывает на всякой стройке. Из-за мусора кое-кому не видно величия будущего грандиозного здания".
Вавилов говорил это искренне. Он всю жизнь стремился к душевной цельности, а на рубеже тридцатых годов этой цельности ничто как будто не противоречило. Что же до реальной конструкции будущей Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, то она виделась своему творцу как повторение конструкции государственной: все управление наукой должно идти сверху вниз — от строго специализированных научно-исследовательских институтов до колхозных полей. Представляя свой проект первому пленуму ВАСХНИЛ, Николай Иванович разъяснял коллегам: "Те грандиозные сдвиги в нашей стране, которые мы сейчас имеем, требуют пересмотра, реорганизации, реконструкции опытного дела, видоизменения его и, прежде всего, отхода от энциклопедизма, универсализма к специализации".
Смысл вавиловской идеи состоял в следующем. В России, как в США, издавна существовала система областных опытных станций. Немногочисленные чаще всего сотрудники этих провинциальных учреждений годами и десятилетиями ставили на делянках опыты, копили знания о местных почвах, климате, сортах. И на основе своих наблюдений давали рекомендации крестьянам окрестных районов. Труженикам науки из глухих углов приходилось, естественно, быть универсалами и энциклопедистами в масштабах своего края, становиться по необходимости селекционерами, почвоведами, фенологами. Местный ремесленный универсализм Вавилов предложил заменить универсализмом отраслевым, индустриальным. В системе академии было создано три с половиной десятка крупных исследовательских институтов, каждому из которых надлежало охватить целую отрасль земледелия. Институт сахарной свеклы, например, брал на себя обязательство организовать селекцию лучших сортов свеклы, предложить свекловодам рациональную агротехнику, создать совершенную технологию для сахарных заводов. А также заниматься экономикой, защитой растений и метеорологией применительно к своей культуре. Такую же работу должны были выполнять Институт лубяных культур, Институт хлопкомасличных культур и другие. Их назначение — самым тесным образом связать между собой сельское хозяйство, науку и промышленность. Некоторые институты даже создавались прямо при заводах и фабриках.
Все это шло вразрез с традициями и просто возможностями естественных наук. Но не президент академии был в конечном счете виноват в столь несовершенной, если не сказать дикой, системе. Ему самому все труднее с каждым годом было объяснять партийным чиновникам, что наука может и чего не может даже в стране строящегося социализма. Охваченные стремлением переделать окружающий мир по своему усмотрению, обуянные мыслью о своем всемогуществе, советские власти в начале 30-х годов начинают рассматривать ученого лишь как простой рычаг, подсобное приспособление на строительной площадке эпохи.
Творцы Академии сельскохозяйственных наук очень скоро ощутили на себе пресс малограмотного "высшего начальства". В Наркомземе, ЦИКе, в ЦК партии стали придавать значение только исследованиям сугубо прикладным, поддержку начали оказывать только тем лабораториям и институтам, которые готовы немедленно решать проблемы сегодняшнего дня. Как ни увлечен был Николай Иванович ритмом эпохи, как ни предан духу и букве "социального заказа", но отдать теорию на растерзание голому практицизму он согласиться не мог. Президент академии готов примириться с тем, что две тысячи научных работников были мобилизованы на весенние посевные работы и тысяча двести ученых выехали на уборочную. Как это ни печально, он готов найти смысл даже в том, что специалисты высокой научной квалификации, покинув лаборатории и опытные делянки, заняты осмотром полей в колхозах и совхозах [17]. Все это, очевидно, меры временные. Но есть для Вавилова истина постоянная: "Практическое семеноводство, практическое животноводство кровно заинтересованы в достижениях теоретических наук" [18]. Без специальных институтов, которые будут одаривать науку новыми идеями, вести оригинальные исследования, вырабатывать единые научные методы, академия существовать не может. Вавилов призывает, настаивает, требует. Не сразу, но к его голосу все-таки прислушались. Рядом с отраслевыми возникло несколько общих институтов, призванных ведать такими разделами агрономической науки, как растениеводство, животноводство, механизация сельского хозяйства, агропочвоведение. "Институты синтеза" — называет их Николай Иванович. И хотя руководителю большого учреждения, как и отцу большого семейства, не рекомендуется иметь избранников, общие институты, и прежде всего Институт растениеводства, становятся любимцами президента. Может быть, оттого, что отстаивать эти острова научной мысли в будущей стихии крайнего практицизма президенту было особенно трудно.
Но в целом президент ВАСХНИЛ, пожалуй, доволен делом своих рук. Конечно, академия не идеальна. Как шинель новобранца, она кое-где топорщится, жмет (не без этого), но в новом обличии агрономическая наука как-то сразу стала строже, собраннее, стала ближе по духу к готовому в поход государству. "Нет никакого сомнения в том, — говорил Николай Иванович в апреле 1931 года на Всесоюзной конференции по планированию наук, — что в самое короткое время эта новая система устранит то несоответствие между исследовательской работой и запросами жизни, перед которыми оказалось наше сельское хозяйство. Нет сомнений в том, что новый мощный коллектив исследователей, работающий по определенному плану, заряженный энтузиазмом социалистического строительства, приведет к огромным практическим результатам".
Однако общественный энтузиазм академика Вавилова не заслоняет от него реальный мир и реально существующие препятствия. Деньги дает страна ученым все более щедро. Но вот беда — в Советской России, с ее гигантскими планами, оказалось мало людей, владеющих научными знаниями. Подготовить ученого — труд громадный и долгий. Не без некоторого раздумья президент ВАСХНИЛ принимает решение: за пятилетие обучить в институтах академии пять тысяч исследователей по разным научным дисциплинам. Эти тысячи молодых генетиков, селекционеров, почвоведов, зоотехников надо подготовить на ходу, не останавливая и не замедляя ни на день работу научно-исследовательского механизма. Даже для возросшей вдвое сети советских опытных станций это нелегкое задание. Одна надежда на хорошо обученную, богатую опытом старую агрономическую интеллигенцию. Она уж не пожалеет сил, чтобы вырастить себе смену. Вавилов верит: если напрячь силы, пять тысяч столь необходимых земледелию специалистов можно выучить. Он публично заявляет об этой государственной задаче, и его слушатели — ученые и агрономы-практики обещают не пожалеть сил на доброе дело.
Но времена меняются. Серьезных ученых старой школы остается все меньше. Советская система начинает скоростным способом выращивать начальников нового типа, людей, не перегруженных ученостью, но зато готовых исполнять любое распоряжение сверху. В науке повсеместно возникает новая фигура — маленький человек на высокой должности. Маленький человек непременно хочет прослыть большим. Маленький человек слушает: кругом говорят о темпах, о размахе, о больших масштабах. И он тоже начинает повторять эти модные слова. В один прекрасный день вновь назначенный вице-президент ВАСХНИЛ, некто Бурский, заявляет, что вместо пяти тысяч ученых в области сельского хозяйства можно легко подготовить пятнадцать-двадцать пять тысяч. И не за пять лет, а всего за два года. Все очень просто. "Мы выдвигаем сейчас лозунг: призыв десяти тысяч рабочих в науку сельскохозяйственную и дальше (надеемся получить еще) примерно около 15 тысяч научных работников. Как этот лозунг осуществить? Мы строим крупные научно-учебные совхозы. В эти совхозы мы собираем со всего СССР лучших изобретателей и рационализаторов. Получается концентрация мозговой энергии специального коллектива над одним вопросом, и мы ускоряем движение вперед, ускоряем нашу научную мысль на десятки лет вперед… Крупный совхоз позволяет концентрировать пятьсот лучших изобретателей, тысячу лучших изобретателей. Такой коллектив действительно может выдвинуть дело сельскохозяйственной науки на десятки лет. Никакой институт растениеводства я не променял бы на научно-учебный совхоз, где собран опыт и энергия наших сотен лучших работников" [19].
Чепуха? Но речь произнесена профессором, одним из руководителей академии на совещании президиума ВАСХНИЛ. Кое-кому из присутствующих предложение приходится по вкусу. Просто. Доступно. Скоро. Слышатся реплики: "Правильно! А кто сказал, что ученый должен непременно кончать институт?" Начинаются подсчеты: во что обойдутся научные совхозы, из какого бюджета их питать. Еще немного, и президиум проголосует за соответствующую резолюцию. Вавилов изумлен. Да что это за наваждение? Невооруженным глазом видно: кроме демагогии речь докладчика ничего не содержит. Сначала сдержанно, потом все более раздражаясь и негодуя, Николай Иванович начинает втолковывать "маленькому человеку" и его сторонникам общеизвестные мотивы о том, что "скоростной выпуск" ученых — недопустимая профанация науки, что тому, кто собирается заниматься исследовательской работой, нужны не только личные способности, но также немалый круг конкретных знаний. Для усвоения этих знаний нужно время, увы, довольно много времени. Тут уж ничего не поделаешь, человеческий организм имеет предельные возможности для восприятия и запоминания.
Предельные?! Оппоненты радостно хватаются за недавно вошедшую в моду политическую формулу. Звучит как заклинание: "Теория предела", "предельщики", "наши силы беспредельны". Политические лозунги эпохи пущены в ход для того, чтобы доказать недоказуемое: если призвать в науку ударников и рационализаторов от станка, то проблема научных кадров в масштабах страны будет решена. Николай Иванович с трудом отбивает атаку. Пока он стоит во главе академии, — исследователей, творцов науки будут готовить только в научных учреждениях.
Но "маленький человек" упорен. Ему во что бы то ни стало нужно создать иллюзию активной деятельности. Вчера он предлагал научные совхозы, сегодня призывает превратить в гиганты и без того донельзя раздутые научно-исследовательские институты академии. Он упирает при этом не столько на конкретные доказательства, сколько на политическую фразу: "Борьба за крупную фабрику социалистического земледелия в области производства соответствует борьбе за крупную социалистическую фабрику сельскохозяйственных наук" [20]. Смысла — никакого, но фразеологическая упаковка сверхвыдержанная. Вавилов отбивает и эту атаку. Институты останутся институтами, не заводами, не фабриками, а центрами научного творчества. Но в пору общественной ломки сверхрадикалы всегда в большинстве. И не так-то часто академику Вавилову случалось одерживать над ними победы.
Тот внутренний спор, который в 1929 году Николай Иванович начал на страницах своей академической книжки (то мысленно растягивая, то сжимая структуру будущей академии), продолжался до последнего дня, пока он руководил ВАСХНИЛ. В письмах к друзьям в 1931–1934 годах ученый жалуется на то, что академия невероятно раздулась, обюрократилась, потеряла гибкость. Замечает ли он, что то же самое происходит со многими другими научными учреждениями? И только ли с научными? Ведь скоростными методами бюрократизировалась вся жизнь страны. Ни у кого не вызвала удивления, например, информация о том, что в Баку, Москве, Орджоникидзе и Козлове 7 ноября 1932 года открыто пять научно-исследовательских институтов. Никто не задается вполне естественным вопросом: неужели все пять научных учреждений были полностью готовы именно к этой дате? А рядом не менее странное сообщение: "В Ленинграде открылся Единый художественный университет, в котором обучается до 10 тысяч работников искусства" [21]. Десять тысяч — вот это да! Знай наших. Таких "гигантов науки" возникало в те годы немало. То и дело появлялись исследовательские институты, не имеющие ни помещений, ни достаточного количества научных работников, лишенные самого необходимого оборудования. Зато журнал "Социалистическая реконструкция науки" (именуемый для краткости "СОРЕНА") в каждом номере извещал об открытии десятков новых научных учреждений.
Жертвой спешки, недостатка специалистов, невыполнимых плановых заданий становятся и институты ВАСХНИЛ. В 1931–1934 годах академик Вавилов еще не осознает общих причин беды, а может быть, не решается публично заявить о них. Для него более естественно взвалить вину на себя. "Сам плохой администратор, я чувствую себя лишь на положении консультанта и пытаюсь всячески отойти от роли президента, которая сейчас очень трудна" [22], - пишет он профессору П. Н. Константинову. От президентства его, однако, не освобождают. Остается смириться и наблюдать, как непрерывно и неудержимо разрастается его недавно еще такое скромное детище.
К 1934 году в систему Академии сельскохозяйственных наук входит уже 407 опытных учреждений. Здесь работают одиннадцать тысяч научных и технических сотрудников. Современников все еще восхищает эта громада, но в какой-то момент становится ясным: она абсолютно неуправляема. Это вынужден публично признать даже сам творец ВАСХНИЛ. "Система сельскохозяйственной науки выросла в гипертрофированную громоздкую организацию, подменяющую Народный комиссариат земледелия", — заявил Вавилов в докладе, посвященном шестилетию академии [23]. Очередная ломка оставила "в живых" 78 институтов из 111. Зато возросло число областных комплексных станций. Снова президент мечется по стране: ревизует, согласовывает, обследует. Снова в его московском кабинете до глубокой ночи идут дебаты по поводу штатных единиц, бюджета, помещений, научных планов. И опять Николай Иванович, по собственным его словам, "несущий ответственность за многие ошибки и, может быть, более других сознающий свои ошибки" [24], мастерит новый вариант всесоюзного научного механизма.
Через несколько лет, в годы так называемого культа личности Сталина, давнюю "ошибку" квалифицируют как вредительство, ученому предъявят обвинение в злостных попытках подорвать, разрушить советскую науку. Потом пройдет еще несколько лет, ученого реабилитируют, и камня на камне не останется от давних обвинений. Имя академика Вавилова будет отмыто и очищено от клеветы и наветов. А ошибка? Была ли ошибка? Думаю, что добравшийся до этого места читатель и сам уже может ответить на роковой вопрос.
…По существу, к 1934 году академик Вавилов, сам того не желая, достиг зенита, нет, не научной, но должностной карьеры. Он был неоспоримым первым лицом советской биологической и сельскохозяйственной науки, главным представителем ее на международной арене и основным правительственным экспертом в двух таких важнейших областях государственного значения, как сельское хозяйство и организация науки. Он использовал свое высокое положение для того, чтобы открыть в стране еще один институт — Институт генетики. Для этого учреждения Николай Иванович подбирал особенно квалифицированные кадры: генетика была его любимой наукой. Вскоре новорожденный институт стал по составу научных работников действительно уникальным. Из Америки в Москву приехали "отец искусственного мутагенеза", будущий Нобелевский лауреат Герман Меллер и его ассистент из Аргентины доктор Офферман, а также другой ученик Моргана — доктор Бриджес. Из Софии Дончо Костов, уже зарекомендовавший себя крупными открытиями по полиплодии. Посетить СССР для чтения лекций согласился и такой видный английский генетик, как Сирилл Дарлингтон.
Мне видятся две силы, которые в начале 30-х годов влекут в Советский Союз наиболее талантливых ученых мира. Прежде всего, конечно, магнетически действовала сама личность Вавилова. Его обаяние было неотразимым. Треть века спустя, когда я вступил в переписку с теми, кто приезжал в СССР, я получил несколько писем, полных безграничной любви к Николаю Ивановичу. Американский генетик Меллер (он подписал свое письмо по старой памяти "Герман Германович") признался: "Я всегда в высшей степени восхищался Николаем Ивановичем и любил его" [25]. А американский генетик Сидней Харланд утверждает даже: "Я был другом Вавилова, вероятно, самым большим другом его за пределами Советского Союза" [26].
Но была еще одна причина, заставлявшая западных интеллектуалов стремиться в Советский Союз в те годы. Запад был охвачен левыми настроениями. Экономический спад в США, приближение фашистской диктатуры в Германии ориентировали интеллектуалов мира на симпатию к СССР. Советский Союз представлялся им государством будущего, страной единственно справедливого общественного порядка. Не станем укорять их за излишнюю наивность, Сталин вел хитрую игру, которая совратила немало лучших людей мира. Из СССР на Запад не проникало никакой реальной информации. В Америке и Англии ничего не слыхали о страшном голоде на Украине в 1932–1933 годах, голоде, который унес миллионы жизней. Туманно звучали сообщения о коллективизации, о высылке на север сотен тысяч так называемых "кулаков", а по существу лучших, наиболее трудолюбивых и культурных сельских хозяев. Не знали на Западе и о массовых арестах агрономов, селекционеров, зоотехников — специалисты сельского хозяйства должны были отвечать за развал земледелия, последовавший в результате коллективизации. Кое-какие сведения, конечно, на Запад проникали, но левонастроенная американская и европейская интеллигенция не желала слышать о "родине социализма" ничего дурного. Симпатии к социализму, к советской системе считались хорошим тоном.
Коммунист и интернационалист профессор Герман Меллер не только организовал в Москве лабораторию мутагенеза и тем дал толчок к развитию нового направления советской генетики, но и живо интересовался марксизмом и даже публиковал в Ленинских сборниках работы о роли диалектического материализма в биологии. Он охотно обучал советских коллег, боролся против расистских бредней германских и итальянских генетиков на международных конгрессах. А когда началась война в Испании, член-корреспондент Академии наук СССР профессор Меллер уехал под Мадрид драться с фашизмом.
В 1933 году, желая помочь молодому советскому хлопководству, Вавилов пригласил в Советский Союз доктора Сиднея Харланда. "Доктор Харланд очень крупный теоретик-генетик, стоящий на уровне мировых достижений и прекрасно ориентирующийся в вопросах эволюции и управления растением" [27], - заявил Николай Иванович, представляя своего спутника сотрудникам Закавказского хлопкового института в азербайджанском городе Гандже. Это было сказано 21 сентября 1933 года. Два генетика, русский и американец, добрались до Азербайджана, проделав на поезде и на машине путь в несколько тысяч километров по хлопковым плантациям Южной Украины, Северного Кавказа, Кубани. День они провели на полях института, а поздним вечером азербайджанские ученые собрались, чтобы послушать выступление гостей.
Вавилов представил американского коллегу, приготовился переводить. От Харланда ждали строго научного генетического доклада. И вдруг, стряхнув с себя усталость и недомогание (в дороге он сильно болел), генетик заговорил совсем о другом: "Я считаю себя так же, как и вы, настоящим пролетарием. Я считаю, что капитализм в целом — враг цивилизации. Я посетил много советских институтов. В них меня поражает молодость. В лабораториях Англии преобладают старцы в возрасте 65–80 лет, в большинстве глухие, которым незачем говорить: они не воспринимают то, о чем говоришь, они потеряли ощущение новых идей. Вы же молоды и полны энтузиазма. Я рад говорить с вами, потому что вы молоды" [28].
Высказавшись о роли науки на Западе и в СССР, Харланд перешел к специальным вопросам. Но люди, которые через три с лишним десятка лет пересказывали мне его выступление в азербайджанском городке, лучше всего запомнили первую часть речи.
Как это ни горько признать, но, помимо своей воли, честный, погруженный в науку академик Вавилов исполнял в сталинской политической игре роль подсадной утки, этакого загонщика западной интеллигенции в сети московской пропаганды. В этом отношении он занимал в сталинских планах то же место, что и писатели Максим Горький и Илья Эренбург. В результате их активности Сталин приобретал за границей все больше сторонников, а словам беженцев из СССР, которые пытались сообщить миру правду об ужасах сталинского режима, никто на Западе не хотел верить.
…В апреле 1932 года болгарский гражданин Дончо Костов плыл из Стамбула в Одессу. Он искал прибежища в Советском Союзе, ибо ни на родине, ни в охваченной кризисом Европе ему, генетику, нечего было делать. Добираться из Софии до Ленинграда пришлось тайком, через Турцию: царская Болгария не имела дипломатических отношений с СССР. Месяцем раньше Николай Иванович Вавилов в следующих выражениях представлял будущего сотрудника президиума Академии наук: "Работы его выявляют широкий взгляд автора по вопросам генетики, цитологии, физиологии. Ему удалось экспериментально синтезировать некоторые виды табака… Надо определенно сказать, что это направление работ представляет для нас большой интерес, так как оно выясняет пути получения новых форм с помощью отдаленной гибридизации…" [29]
Жена Дончо Костова со слов мужа так описала первую встречу болгарского генетика с Вавиловым.
Не знакомый со страной, не зная русского языка, Костов с тревогой и серьезными опасениями вступил на ленинградскую землю. Телеграмму он не послал, и никто его не встретил. Вдобавок на Московском вокзале ученый не нашел транспорта в сторону Института растениеводства. Шел дождь. Весь четырехкилометровый Невский проспект Костов прошагал пешком. "До ВИРа добрел он промокший, в плачевном виде. В вестибюле около раздевалки увидел толпящихся людей. Спросил у швейцара: "Где можно найти академика Вавилова?" — "А вот он стоит спиной к вам". Стоящий впереди обернулся, и Дончо увидел карие, внимательно-вдумчивые глаза. Услышав, что перед ним Дончо Костов, Николай Иванович широким жестом обнял его и просто, ласково, как будто старому знакомому, сказал: "А мы вас давно ждем…" После этого Николай Иванович взял Дончо Костова под руку и повел в зал, а затем на сцену в президиум. "Вот к нам приехал болгарский ученый доктор Дончо Костов, приветствуем его". И захлопал. Присутствующие в зале поддержали. Услышав аплодисменты, увидев приветливые улыбки вокруг себя, Костов освободился от тревог и сомнений. Именно в этот момент и на всю жизнь полюбил он Николая Ивановича Вавилова, советских ученых и весь Советский Союз. Никакие мелочи и неприятности в дальнейшем не трогали его" [30].
Анна Костова-Маринова в своих воспоминаниях возрождает истинные черты вавилонского характера. Только так и мог встретить Николай Иванович научного единомышленника, талантливого товарища по своей работе. "По окончании заседания, академику Вавилову было бы естественно распорядиться, чтобы Дончо Костова обеспечили гостиницей, — пишет мемуаристка. — Но, заметив некоторую растерянность болгарского гостя, Николай Иванович повез Дончо Костова к себе домой, где и продержал несколько дней, пока тому не устроили прекрасную комнату в Доме ученых" [31].
Так началась многолетняя дружба двух генетиков. Вавилов создал отличные условия для работы Костова, не раз брал его с собой в экспедиции по стране, представил к званию члена-корреспондента Академии наук СССР. Ему не пришлось пожалеть о затраченных силах: исследования Костова, опубликованные в русских и зарубежных журналах, принесли честь и славу приютившим его русским друзьям. Болгарский ученый до конца жизни (он умер в 1949 году) сохранил симпатии к советской науке, к одному из лучших представителей ее, академику Вавилову. Вернувшись на родину, он добился того, что Софийский университет избрал советского растениевода и генетика почетным доктором. А еще год спустя, по настоянию Костова, Объединение научных работников Болгарии пригласило Николая Ивановича Вавилова в гости прочитать лекции и познакомиться с флорой страны. Приглашение опоздало: Вавилов уже сидел в тюрьме.
Свое мировое значение русская генетическая школа утвердила окончательно в 1932 году на VI Международном конгрессе в США. Академик Вавилов не только получил приглашение возглавить советскую делегацию, но занял на конгрессе кресло вице-президента. Русские экспонаты на выставке, развернутой на время конгресса, привлекли особое внимание. Еще бы! Оказалось, что советские исследователи знают о растительности американского материка больше самих американцев, а их познания о культурных растениях Азии и Африки не уступают по полноте сведениям, которыми располагают ботаники и растениеводы основных колониальных держав. Всесоюзный институт растениеводства прислал на выставку в живом виде все мировое разнообразие типов кукурузы, собранных отечественными экспедициями. Сотрудник Вавилова H. H. Кулешов составил уникальную карту распределения сортов кукурузы по всем континентам. Ленинградцы С. М. Букасов и С. Ю. Юзепчук представили множество неизвестных науке видов картофеля, которые они открыли в Перу, Колумбии, Боливии и Мексике. Г. Д. Карпеченко показал уникальные гибриды крестоцветных растений, и в том числе гибрид редьки и капусты. Оригинальные материалы представила лаборатория генетики Всесоюзного института растениеводства. Не очень склонный обольщаться в делах науки, Николай Иванович, вернувшись из Америки, имел полное право сообщить своим коллегам: "Удельный вес нашей страны (в области генетики) за последние годы несомненно возрос… из двадцати пяти докладов на общих собраниях пять были посвящены советским докладам… Думаю, что не ошибусь, если скажу, что тематика, выдвинутая советским коллективом, представит интерес для наших товарищей по работе за границей" [32].
Передо мной старая почтовая открытка, посланная в Ленинград из американского города Итака. На открытке — добротные корпуса Корнельского университета, как бы плывущие между зеленью подстриженного газона и голубизной безоблачного неба. Здесь в августе 1932 года повстречал Вавилов весь цвет мировой биологии. Здесь крупнейший генетик Европы Р. Гольдшмидт, председательствуя на заседании, где выступал русский делегат, должен был признать, что "в изучении культурных растений Ленинградский институт нашел новые чрезвычайно плодотворные пути". Здесь же, в Итаке, возникла у некоторых делегатов идея провести следующую встречу по генетике в Советском Союзе.
Все это говорило о том, что, как и на предыдущем V Генетическом конгрессе, который проходил в Берлине в 1927 году, "мы — не очень сбоку".
Глава 3 ШКОЛА РОМАНТИКОВ
Мы — педагоги, преподаватели ради любви к делу. Ибо каждый из нас видит смысл жизни в том, чтобы сделать побольше, проложить тропу поглубже, и то, что мы сделали, накопили, передать стране, которой мы преданы.
Н. И. Вавилов.
Из речи в ВИРе 15 марта 1939 года
Николай Иванович — гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник.
Академик Д. Н. ПрянишниковВ 1909 году Шведская академия наук присудила очередную премию Альфреда Нобеля германскому химику Вильгельму Оствальду. Казалось бы, этот факт не имел никакого отношения к судьбе студента Николая Вавилова, который учился тогда на третьем курсе сельскохозяйственного института. И тем не менее друзья в те годы не раз слышали от него восторженные рассказы о Нобелевском лауреате. Интерес студента к знаменитому химику объясняется просто: Оствальд кроме прочего был видным философом и историком науки. В том же году, когда ему присудили премию Нобеля, он выпустил в Берлине книгу "Великие люди". Жизнеописание шести величайших физиков и химиков XIX века читал Николай Иванович взахлеб. Литературные портреты Дэви, Фарадея, Либиха, Жерара, Майера и Гельмгольца очерчены были великолепно. Но особенно пленили Вавилова последние главы, где Оствальд взялся ответить на вопрос, что такое вообще гений в науке, какие условия способствуют и какие глушат гениальность.
Биографии великих людей всегда были для Николая Ивановича излюбленным чтением. Достигнув всемирной известности, директор ВИР, президент ВАСХНИЛ и Географического общества СССР все еще продолжает увлекаться жизнеописанием Леонардо да Винчи, Эйнштейна, великих естествоиспытателей и художников прошлого. Судьбы предшественников для него не просто занятные истории. В их мужестве он черпает собственные силы, поддерживает примерами из прошлого себя и своих близких. "Хочу Вам послать… биографию Микельанджело, написанную Роменом Ролланом, — пишет он неизлечимо больному другу, саратовскому врачу П. П. Подъяпольскому. — Вы обязательно должны ее прочесть, написана она замечательно. И когда Вы прочтете ее, то забудете все горести. Я повесил у себя в кабинете Давида и Моисея Микельанджело и, когда бывают неприятности в жизни, всегда вспоминаю Микельанджело, как он тащит мрамор с Апеннинских гор, будучи брошен, полуизгнанником, в болезни, высекая то, что никто еще не превзошел" [33].
Но книга Оствальда была для Николая Ивановича большим, нежели еще один сборник хороших биографий. "Великих людей" он читал и перечитывал много раз. Почему? Позволю себе высказать догадку: книга открыла Вавилову правду о нем самом.
Суждения Оствальда о гениальности сводились к следующему.
Способности великих людей выявляются очень рано. Выдающиеся химики, физики, биологи порождали главные свои открытия в юности. Майер, Джоуль и Гельмгольц — творцы принципа сохранения энергии — опубликовали свои идеи, не достигнув двадцати восьми лет от роду. В том же возрасте реформировал анатомию Андрей Везалий (XVI век). Карл Линней (XVIII столетие) описал систему размножения у растений еще раньше — в двадцать четыре года. Людвиг, Гельмгольц и Дюбуа, которые в середине XIX века положили начало современной физиологии, имели за плечами в среднем по двадцать пять лет.
По мнению Оствальда, школьные и даже институтские наставники мало чем помогают будущим преобразователям науки. В лучшем случае они не мешают бурному развитию своих выдающихся питомцев. Главные учителя потенциальных гениев — книги. Фарадей сделался переплетчиком, не имея иной возможности утолить жажду чтения; Либих упоминает, что в юности проглотил все книги придворной библиотеки, а Гельмгольц, который свои математические познания приобрел исключительно посредством книг, долгое время служил помощником библиотекаря. Надо ли напоминать, какую роль книги сыграли в жизни Ломоносова, сколько читали Гумбольдт, Дарвин, Пастер, Менделеев!
Много места уделяет Оствальд великой энергии, которая нужна для всякого большого открытия. Для него это не абстрактная "творческая сила", а вполне реальная величина, которую можно исчислить в точных цифрах. Говоря об энергии научного созидания, он даже переходит на язык техники. "Великий человек — это аппарат, могущий производить великие работы. Величины этих работ зависят, во-первых, от количества энергии, которую этот аппарат в состоянии поглощать извне… В этом отношении почти все люди равны, поскольку они здоровы и нормальны. Во-вторых, работа зависит от количества сырой энергии, превращенной в те специфические формы, в которых происходит работа великого человека по отношению ко всей поглощенной энергии. И чем выше этот коэффициент, тем больше будет сделано великим человеком" [34]. Этот коэффициент, по мнению Оствальда, и есть главное отличие гения от остального человечества, во всяком случае, в смысле количества творческого труда.
Но если высокий коэффициент полезного действия (КПД) — общая черта гениев науки, то по творческой характеристике Оствальд делит их на две сильно разнящиеся категории, на классиков и романтиков. Их различает скорость умственных процессов. У романтиков умственные процессы протекают много быстрее, чем у классиков. Темп умственной пульсации играет, оказывается, немаловажную роль в творческой судьбе исследователя. В отличие от медлительных и несколько замкнутых классиков "романтик творит скоро и много и поэтому нуждается в обстановке, которая воспринимала бы исходящие от него импульсы. Создать такую обстановку ему удается легко. Ибо он полон воодушевления и умеет его передавать другим. Так он привлекает к себе более или менее значительный круг участников, которые с охотой и благодарностью воспринимают исходящее от него воздействие и преисполняются его энтузиазмом" [35].
Романтики, продолжает Оствальд, чаще всего хорошие учителя, создатели больших школ, организаторы крупных коллективов. У них всегда изобилие идей, планов, проблем, которыми они охотно одаривают свое окружение. Они беззаботно обнажают перед сотрудниками и учениками ход своих мыслей, механизм открытий. В то время как классики устами Ньютона надменно твердят, что измышлять гипотезы — не дело ученого, романтики фонтанируют гипотезами, домыслами, даже научными фантазиями…
Что касается взаимоотношений со своей эпохой, то у романтиков и классиков опять-таки разные вкусы. "Романтики — это те, которые революционируют науку, классики же непосредственно этого обыкновенно не делают, хотя следствием их работы часто оказываются коренные перевороты". Оствальд, правда, тут же оговаривает, что в основном на современников влияет личное обаяние ученого-романтика. Поэтому-де романтики кажутся более значительными для своего времени, но случается, что, дожив до старости, они видят, как безнадежно устарели их открытия, как оттесняют их другие столь же пылкие исследователи.
Студенту из Петровского сельскохозяйственного института, которого за блестящие научные успехи, общительность и талант организатора товарищи окрестили "Красным солнышком", было всего лишь двадцать три года, когда он прочитал "Великих людей". Понял ли он, что, рисуя характер ученого-романтика, Оствальд в значительной мере предрекал и его, Вавилова, будущее? Думаю, что понял. Никто не слышал, что Николай Иванович когда-нибудь говорил о своих личных талантах, но сам он, конечно, знал себе цену. И понимал, что цена эта высока. Нескромность? Отнюдь. Скорее нужно говорить о болезненной скромности великого генетика. Он сохранил ее, достигнув самых высоких вершин мирового научного признания. И все-таки прекрасно знал, какими мощными резервами творческой энергии располагает. Больше того, никого не оскорбляя, не задевая ничьих интересов, Николай Иванович время от времени склонен был публично блеснуть своим мастерством исследователя. Английские биографы Вавилова именовали эту черту Showmanship — артистизм, стремление и умение показать свое дарование. Однако книга, открывшая Николаю Ивановичу так много, далеко не всегда годилась в качестве путеводной звезды. Даже в юности будущий агроном не принимал ее без оговорок. Внука крепостного русского крестьянина коробили размышления немца-аристократа о бесталанности славян и малых потенциальных возможностях "нижних" слоев общества. Романтик в науке, Вильгельм Оствальд в области социальных симпатий явил, увы, классический образец прусско-юнкерского мышления. И тем не менее отдадим ему должное, именно Оствальд предсказал начинающему агроному его будущее в науке, объяснил прошлое и возвысил в собственных глазах.
Вавилов-ученый сложился рано. В двадцать семь, вернувшись из Англии от Бэтсона, он уже привез по существу готовую докторскую диссертацию по иммунитету пшениц. Закон гомологических рядов был опубликован, когда автору не исполнилось и тридцати трех лет. А в своем черновом приближенном виде закон возник еще на шесть лет раньше. Если бы не гражданская война, очевидно, и Теория центров появилась бы на свет значительно раньше: мысли о ней Николай Иванович высказывает уже в 1917 году в письмах из Саратова.
А учителя? Вавилов всегда с нежностью говорил о них, он охотно вспоминал лекции своих профессоров: Тимирязева, Вильямса, Прянишникова, школу В. Бэтсона, уроки, "дедушки русской селекции" Рудзинского. Но благодарность тем, кто сопутствовал ему в годы студенчества, более говорит о добром сердце ученика, нежели о роли, которую педагоги сыграли в его жизни. Стоит проследить за тем, какие научные идеи стали для Вавилова основополагающими, и мы убедимся: Николай Иванович не так уж много извлек из преподанных ему уроков. Вильям Бэтсон не признавал хромосомную теорию, в свою очередь, Вавилов никогда не принимал всерьез учение о травопольной системе земледелия своего профессора В. Р. Вильямса. Может быть, селекционные идеи он усвоил от своих наставников? Тоже нет. "Мне очень совестно, когда вы называете меня своим учителем, — писал Вавилову селекционер Рудзинский. — Ведь мы лишь совместно работали на станции, и я много раз больше заимствовал от вас, чем вы от меня" [36].
Среди преподавателей Петровской академии агрохимик Дмитрий Николаевич Прянишников был, пожалуй, наиболее близок Вавилову. Сохранилось много фотографий, писем и иных документов, свидетельствующих о дружбе учителя и ученика. Младший даже рекомендовал старшего в члены Академии наук СССР. И все-таки не умнейший и добрейший Дмитрий Николаевич заронил в душу студента главные научные идеи. Он был лишь первым, кто понял, что Николай Вавилов гений. А гений в науке начинается, как заметил Оствальд, с того Эвереста книг, который он способен освоить самостоятельно. Одержимым книголюбом он был уже в студенческую пору. "Какую массу он читал! — вспоминает однокурсница Вавилова Лидия Петровна Бреславец. — Помню, из месячной командировки привез целый чемодан книг и, возвращая их, сказал: "Извините, что задержал, но зато все прочел".
Чемоданы, набитые книгами, фигурируют во многих воспоминаниях современников. Всех поражала скорость, с которой Николай Иванович поглощал литературу. Эта почти неправдоподобная быстрота объяснялась тем, что читал Вавилов тогда, когда другие обычно отдыхают: по ночам, в дороге. Он дня не мог прожить без книг и постоянно вовлекал других в свои книжные интересы. Так было и в юности, и потом, когда стал он академиком.
Читал Вавилов по-английски, по-немецки, по-французски, брал из библиотеки для ознакомления итальянские, испанские и португальские книги и журналы. Читая, специальным значком отмечал главы и статьи, представляющие особый интерес для сотрудников его многогранного и многолюдного института. По сей день в вировской библиотеке можно увидеть журналы и книги тридцатых годов с характерной пометкой директора — for competence — "для сведения". А рядом следы иных рук, иной эпохи: кто-то черной тушью вымарывал "неподобающие" места, замазывал имена "неподходящих" авторов…
Была в книголюбии Николая Ивановича еще одна черта, резко отличающая его от большинства собирателей книжных богатств. Ему была органически чужда скаредность накопителя. В студенческом блокноте, помеченном 1908 годом, оттиснута печать: "Книжная торг, при кружке люб. естествозн. М. С. - X. И. Заведующий". Заведовал торговлей сам Вавилов: закупал литературу, вел бухгалтерию. Суть "предприятия" сводилась к тому, что на деньги, которые жертвовали (или временно ссужали) кружку некоторые профессора Петровки, закупалась естественнонаучная литература. Необеспеченные студенты, члены кружка, приобретали потом эти книги в своей лавке по сниженной цене. Сам заведующий лавкой, сын богатых родителей, мог бы, конечно, покупать нужные ему книги и без скидки. Но он тем не менее принял на себя эту возню с гривенниками и пятиалтынными, таскал из центра города в далекое Петровско-Разумовское пачки закупленных томов и даже время от времени покрывал из собственного кармана недостачу, которая возникала из-за недобросовестности некоторых "покупателей". Зачем? Тут начинается область домыслов. Можно сказать только одно: больше, чем собирать книги, Вавилов любил их пропагандировать, раздаривать, посылать друзьям, сотрудникам, близким. Это осталось у него навсегда. Радость от общения с книгой была неполной, если он не мог приобщить к ней других. Почти каждое письмо (особенно если оно направлено в провинцию) Вавилов заканчивает припиской о том, что отправил адресату оттиски новых статей или недавно появившиеся книги. Жена Дончо Костова вспоминает: "Если Николай Иванович, приехав из Ленинграда, задерживался в Москве в воскресный день, то всегда посещал нас после своих прогулок по книжным магазинам и всегда с подарком — книгами и билетами в театр" [37]. Для той же цели служила личная библиотека академика. Это собрание, уникальное по богатству и разнообразию литературы, было предоставлено в полное распоряжение сотрудников его института. "Мы могли приходить и рыться в книгах в любое время, даже если хозяин дома отсутствовал", — рассказывает бывшая вировка О. Н. Сорокина. Вавилов даже пенял некоторым сотрудникам на то, что они не берут у него книг. Когда ботаник В. В. Маркович, не по своей воле вынужденный жить за пределами Ленинграда (он был выслан за религиозные симпатии), пожаловался директору, что институтская библиотека неохотно присылает книги в Малую Вишеру, Вавилов ответил: "Кое-какие книги вы можете брать у меня дома; я менее строг. Различное отношение в библиотеках вызывается тем, что вировская библиотека используется чрезвычайно, а моя ищет читателей" [38].
"Поиск читателей" не всегда, однако, оборачивался для сотрудников только благостной стороной. Тот, кто по лени и нелюбопытству уклонялся от чтения, встречал в лице директора института решительного противника. Вавилову ничего не стоило объявить на ученом совете: "Я вчера просматривал журнал посетителей нашей библиотеки и убедился, что доктор наук (такой-то) не был там три года. Давайте попросим профессора объяснить нам свое поведение" [39]. Сотрудницу, которая подала ему для публикации недостаточно квалифицированную статью, Вавилов отчитывает еще более резко: "Чувствуется, что вы не видели литературы, которая есть в Ленинграде. Это по меньшей мере неудобно, ибо она есть, и я, по крайней мере, ее видел и знаю. Это раз навсегда надо исправить и вообще библиотеки Ленинграда надо знать" [40]. Последнее слово ученый подчеркнул трижды. Для него исследователь, который не знает, что есть в библиотеках, подобен малограмотному.
Рассказ о книгах и книголюбах привел нас к новой теме: какова она школа ученого, каковы принципы, в которых исследователь воспитывает своих спутников и продолжателей? Удивительная эта материя — научная школа!
Трудно представить себе искателя, который втайне не мечтал бы сплотить коллектив научных единомышленников, продлить себя в этом мире делами и энергией своих учеников. А между тем даже самым блестящим звездам науки не всегда это удавалось. Почему?
Вильгельм Оствальд говорит, что школу, коллектив учеников вокруг себя создают только романтики. Классики якобы склонны к лабораторному одиночеству.
Но мне кажется, что секрет успешного образования научных школ надо искать не в этой формуле. Догадываюсь (повторяю, это только догадка), что школа, коллектив научных единоверцев прежде всего отражает нравственное лицо учителя. В характере хорошего научного шефа я бы искал прежде всего такие трудноизмеримые величины, как совесть, честность, любовь. Да, да, любовь к людям, к ученикам. И деликатность. И трудолюбие… И… впрочем, вернемся к нашему герою. И попробуем довериться профессору Оствальду, который настойчиво утверждает, что молодой романтик, при всех равных обстоятельствах, будет все-таки лучшим учителем, нежели исследователь классического типа. Для Николая Вавилова, кстати сказать, вывод этот вполне подходит.
Вокруг него всегда было тесно: в Петровке в годы студенчества, потом на Селекционной станции у Рудзинского, затем в Саратове. Едва получил кафедру, как именно у него оказалось больше аспирантов (тогда они назывались по-другому), чем у старых профессоров. А через три года, в двадцать первом, Вавилов привез в Петроград уже совершенно определившуюся школу поборников закона гомологических рядов, единомышленников по части географического подхода к розыскам культурных растений. Сейчас уже едва ли возможно сосчитать число вавиловских научных "детей", "внуков" и "правнуков". Несомненно одно: школа Вавилова — едва ли не самая многочисленная в истории русского естествоиспытания. По крайней мере, несколько сот человек возросли в науке под непосредственным влиянием Николая Ивановича, его идей, его взглядов, его личности. И личности…
"Я часто задумываюсь над тем, что такое было в нем, в этом искреннем, даже подчас наивном человеке, что заставляло делать все по его воле. Только очень мелкие и злобные лица пытались, и то исподтишка, выступать против… Но девяносто пять процентов окружающих его сотрудников беспрекословно и с радостью выполняли все его указания" [41]. Чувство удивления, которое звучит в словах старинного друга Вавилова Лидии Петровны Бреславец, повторяется и в письме другого близкого к Николаю Ивановичу человека — саратовского профессора земледелия Николая Максимовича Тулайкова. "Управлять людьми Вам удается как-то очень легко, несмотря на то, что количество их исчисляется всегда многими сотнями. Умение подойти к человеку и умение извлечь из него все, что он вообще может дать, — талант, данный Вам в изобилии. Умея это сделать, Вы еще лучше умеете внушить своим сотрудникам желание сделать также все, на что они способны" [42].
Впрочем, ни профессор Л. П. Бреславец, ни профессор H. M. Тулайков в ВИРе не работали и наблюдали Вавилова-учителя как бы со стороны. А что вспоминают о вавилонском "управлении" коренные вировцы?
Жизненный уклад ученого годами оставался неизменным. Если его не вызывали по делам в Москву, то, как правило, в десять-одиннадцать утра Николай Иванович Вавилов появляется в вестибюле института со своим до отказа набитым портфелем. Здороваясь, никогда не перепутает и не забудет имени-отчества сотрудника, с удовольствием перебросится дружелюбной шуткой со старым приятелем — институтским привратником. Похоже, что он вовсе не торопится усесться за свой директорский стол. Охотно заходит в читальный зал просмотреть свежие поступления или забежит на несколько минут в какой-нибудь отдел ("Вы знаете, что в Чили вышла книга по хлопчатнику? Не слыхали? Так поспешите в библиотеку и прочтите сегодня же!"). Потом беседы с сотрудниками, аспирантами, приезжими гостями, во время которых из-за высоких белых дверей директорского кабинета плывет густой баритон и раздается без различия возраста и должности обращение "батенька". ("Видел, видел вашу работу, батенька. Явно удалась. Старайтесь". Или: "Подготовьте материальчик, батенька, что нового, какие мысли, а мы забежим и вас провентилируем".)
"Вентиляция" напоминает нечто среднее между экзаменом для профессоров и симпозиумом по всем аспектам изучаемого в отделе растения. Обстановка самая непринужденная, даже с шуточками, но тому, кто не знает литературу, не видит в работе перспектив, приходится туго от прямых беспощадных вопросов директора.
Собрания и заседания в ВИРе с легкой руки Николая Ивановича длятся не более пятнадцати-двадцати минут (исключение делается для ученых советов). Единственное сборище, которое продолжалось подолгу, — обед, или, точнее сказать, ужин, ибо начинался он не раньше семи вечера. Обедать к себе домой директор тащил не только сотрудников, приехавших с опытных станций ("Ну где же Вы, батенька, сыщете себе прокорм в такое время?"), но и ленинградцев-вировцев, с кем не успел договорить или решить какое-нибудь институтское дело. Тут за столом дебатировались все проблемы подряд: от новейших биологических теорий до хозяйственных промахов на отдаленной станции. Посетители засиживались до полуночи, зато все остальное время хозяин дома считал уже своим личным: с двенадцати ночи, усевшись в кабинете, начинает он просмотр новой литературы, работу над очередной монографией, сборником, статьей.
Летом программа несколько меняется, но не перестает быть столь же насыщенной. В шесть утра Вавилов уже шагает по росным полям опытной станции в Детском Селе под Ленинградом и громко выражает свое удивление, если в этот, мягко говоря, ранний час не застает на делянках руководителя эксперимента, А если события переносятся на опытную станцию ВИРа куда-нибудь на юг — Отрада Кубанская, Майкоп, Дербент, — то директор института не стесняется поднимать научных сотрудников и пораньше. "Жизнь коротка, друзья, завтра в четыре утра прошу пожаловать…"
В годы вавиловского директорства такой напряженный ритм жизни никого не удивлял.
"Сижу я как-то в конце августа 1928 года в институте, — рассказывает генетик А. И. Купцов. — Смеркалось. Зажег лампу. Вдруг входит Николай Иванович: "Милый мой, мне для "Земледельческого Афганистана" нужно снять веточку масличных крестоцветных. Доставьте-ка их из Детского Села". "Хорошо, говорю, завтра они у вас будут". — "Да не завтра, а сейчас надо!" — "Но ведь скоро девять часов, в Детском Селе я буду в десять-одиннадцать, вернусь около полуночи, даже за полночь, кто же будет фотографировать в это время?" — "А я уже договорился с Александром Сидоровичем (фотографом), он обещал к утру все сделать". — "Ну, тогда хорошо". Еду в Детское. Разыскиваю и бужу нужных сотрудников, зажигаем фонари, едем на коллекцию. Веточки выбраны, срезаны, доставлены фотографу. Часам к десяти утра Вавилов рассматривает готовые снимки и доволен, они сразу же идут в цинкографию. Вот при таком темпе работы за месяц-два был создан капитальный труд "Земледельческий Афганистан"" [43].
Сегодня трудно вообразить в стенах того же ВИРа ситуацию, описанную профессором Александром Ивановичем Купцовым. Но в 20-30-х годах в Ленинграде такая "трудовая" ночь казалась вполне естественной. "Работали мы не по часам, — вспоминает одна из старейших учениц и сотрудниц Николая Ивановича Е. А. Столетова. — Часто, проходя мимо здания ВИР, можно было видеть и в двенадцать и в час ночи освещенные окна: в это время Николай Иванович и сотрудники работали по своему доброму желанию. Мы не любили выходных дней. В выходные мы старались проникнуть в здание института с черного хода. Бывший комендант здания Яковлев ворчал на нас: "Хоть бы в выходные дни посидели дома да отдохнули…" Я вспоминаю, как, бывало, поздно вечером Николай Иванович прибежит к нам в отдел и кричит: "Ну, переплетчики, что нового у вас? Рассказывайте!" А то вбежит с корзиной пирожных, уговаривает: "Берите больше, самые свежие, только из кондитерской" [44].
Е. А. Столетову дополняет вировец К. И. Пангало: "Характерной спецификой Института растениеводства времен Николая Ивановича была особенная праздничная атмосфера, общее бодрое, приподнятое настроение у коллектива сотрудников; не могу сказать про других, но я всегда уходил домой по окончании работы с каким-то светлым и радостным чувством".
Готов свидетельствовать: авторы не покривили душой. Все это писалось через десять-пятнадцать лет после того, как академика Вавилова уже не было в живых; в пору, когда самая причастность к его научной школе расценивалась почти как знак политической неблагонадежности. И все-таки ни годы, ни гонения не стерли из памяти вавиловцев романтического и прекрасного образа их учителя и друга.
Что же такое пленяло учеников в облике учителя?
В институте знали: директор любит ВИР. Даже не любит, а скорее, влюблен, страстно влюблен в это главное произведение своей творческой жизни: в идеи, в людей, в стены института. Даже в далеких экспедициях, бродя по Африке, поднимаясь в Кордильеры, директор продолжал думать о своем дорогом ленинградском детище. В тот день, когда великолепный многопалубный "Леконт де Лилль" готовился выйти из Марселя, чтобы плыть к берегам Африки, и когда пассажир второго класса профессор Вавилов, казалось бы, мог думать только о вожделенной Эфиопии, он отправил в Ленинград открытку, где были, между прочим, такие слова: "Держите знамя института, храните его от посягательств с чьей бы то ни было стороны. Жив буду, привезу новые гены" [45]. Так было всегда. Ни впечатления увлекательных путешествий, ни трудности дальних дорог не заслоняли от Николая Ивановича его милого детища.
Когда из Африки, Азии или Америки запрашивал он о судьбе института, письма его становились по-отцовски нежными и гордыми. "Издали еще виднее, дорогие друзья, что дело делаем… Мир баламутим. И к сути дела пробираемся. Институтское дело большое и всесоюзное и всемирное" [46], писал он в 1932 году из Перу. А еще раньше из США: "Ну, как корабль институтский? Идет по волнам? Издали кажется, что идет неплохо. Лишь бы зуду поменьше, чуткости побольше и веры в большое дело" [47]. Но столь необходимой научному организму чуткости в тридцатых годах уже явно не хватало. Непрерывные реорганизации ВАСХНИЛ сказывались и на Институте растениеводства, который входил в состав академии. Письмо Вавилова к своему помощнику, вице-президенту ВАСХНИЛ А. С. Бондаренко, посланное в те же дни, полно неподдельного волнения; тон его почти умоляющий: "Доходят до меня пока не явные сведения тревожные о реконструкции ВИРа. Моя просьба быть бережным с этим, не сомневаюсь, лучшим из мировых учреждений по растениеводству.
Без директора удержитесь от ломки. Научные учреждения спаять не легко. Вижу по Америке, как при колоссальных средствах плывут научные корабли без руля и без ветрил". И не очень-то надеясь, что его просьбу уважат, Николай Иванович пускается на одну из своих наивных хитростей, обращается к аргументам, которые кажутся ему наиболее убедительными для собеседника-администратора. "Издали особенно хорошо видно, что даже "политически" мы сильное учреждение. В своей сфере мы неплохо иллюстрируем силы Советов" [48].
Вировцы всегда чувствовали на себе неотступно пристальный, строгий и вместе с тем дружелюбный взгляд шефа. Знали: Николай Иванович может явиться на работу с рассветом, никем не замеченный, он обойдет с подвала до чердака все здание, обнаружит самые тщательно скрываемые непорядки, следы самых искусно замаскированных огрехов. И тогда берегись, недобросовестный! Какое бы высокое положение он ни занимал, ему не спастись от директорского разноса. Правда, само понятие "разнос" носило в вавиловское время несколько иной характер, нежели приобрело в позднейшие исторические эпохи. Представлялось совершенно невероятным, чтобы директор института кричал на сотрудника. Высшая форма начальственного негодования выражалась в том, что Николай Иванович приглашал провинившегося в кабинет и, выразительно глядя в глаза собеседника, тихо, почти шепотом бросал ему: "Мне стыдно за Вас". Этих слов не на шутку боялись. Они означали, что сделано нечто действительно возмутительное, недопустимое и сотруднику надо срочно исправлять ошибку. Исправляли охотно, без обиды, без надрыва. Это тоже было традицией.
"Николай Иванович сказал…", "Николай Иванович просил…" — эти слова имели в ВИРе поистине магическую силу. И не трудно понять почему. Один из сотрудников принес как-то директору на подпись служебное письмо, которое начиналось общепринятой формулой: "Предлагаю Вам…" — "Вот привыкли приказывать…" — полушутя, полусерьезно проворчал Вавилов и, зачеркнув начальную строку, вписал: "Очень прошу Вас…" Он не боялся просить, ибо знал, что просьбы его исполняются незамедлительно. По глубочайшему убеждению академика Вавилова, в науке нет места генералам и прапорщикам, творчество уравнивает всех честных искателей. А раз так, пусть даже канцелярская формальность не нарушает этого главного этического закона науки.
С формами канцелярскими у него вообще отношения были натянутые. Переписка директора ВИРа, президента ВАСХНИЛ абсолютно не соответствует принятому административному стандарту. Сколь бы серьезных вопросов ни касались письма к сослуживцам, они неизменно сохраняют дружелюбную, чуть ироническую интонацию, ту самую, что была принята на ученых советах и даже на профсоюзных собраниях института. Вот, уезжая на две недели в Лондон, Николай Иванович шлет трем сотрудникам распоряжение: "Безотлагательно изготовить статьи для тома, посвященного льну". Приказ как приказ. И под пером любого, пусть даже самого доброжелательного директора в этом месте полагается поставить точку. А если и сделать приписку, то лишь в том смысле, что, дескать, "в случае непредставления в срок" и т. д. и т. п. У директора ВИРа иная манера.
Обстоятельно оговорив сроки сдачи рукописи, необходимые фотографии и рисунки, Вавилов заканчивает приказ словами: "Должен выйти шедевр, равного которому до сих пор еще в мировой литературе не появлялось. Без воды. Обще-интересно. Самую суть за чуб". Надо ли сомневаться, что после такого письма сотрудники напрягли все силы, чтобы действительно сделать шедевр. Ведь об этом просил Николай Иванович.
Задержка рукописей — одна из наиболее частых причин, когда директору приходится браться за перо. Выходит "Культурная флора СССР" — любимое издание Вавилова. Выделена бумага. Издательство получило приказ форсировать производство. Остановка за рукописями. Николай Иванович в один день рассылает авторам почти два десятка писем. Дело спешное, важное, можно сказать, государственное, но тон обращения между старшим и младшим остается все тот же:
Якушевскому: "Дорогой Ефрем Сергеевич… Забудьте всех своих жен и детей и незамедлительно соберите все силы для того, чтобы закончить труд" [49].
Крейеру: "Дорогой Георгий Карпович… Должен быть создан замечательный том по лекарствам. По этим видам Вы имеете полную возможность проявить свои знания. Жить Вашей работе сто лет и более" [50].
Профессору Пангало: "Дорогой Константин Иванович… Я не первый раз обращаюсь к Вам по поводу "Культурной флоры". Это дело чести Института, это итог великих дел, и надо его двинуть незамедлительно… Прошу сообщить о том, как Вы распределите свое время и когда сможете закончить том, которого ждет весь мир" [51].
Не так уж много сказано. Но за шутками и типично вавиловскими преувеличениями каждый из двадцати адресатов услышал вполне серьезное напоминание учителя: "Мы — коллектив, школа. Мы все вместе в ответе за общее наше вировское дело".
Не думайте, что директорские письма никогда не бывали резкими. Еще как бывали! Глупость, безграмотность, нечестное отношение сотрудника к работе вызывали у Николая Ивановича вспышки неподдельного гнева. Но, даже возмущаясь, он оставался человеком удивительно непосредственным и учителем до мозга костей.
"Мне передали рукопись сборника… — сообщает Вавилов ботанику профессору М. Г. Попову. — Статьи… чрезвычайно размазаны, настолько, что их читать невозможно даже растениеводу. С этой писательской дизентерией надо бороться и экономить бумагу, которой сейчас чрезвычайно мало… Для следующих сборников внушите, чтобы народ писал сжатее, обобщеннее, ибо наука не есть только набор фактов, но есть и синтез их" [52].
Пропустить в печать слабую статью, допустить к лабораторному столу малограмотного, серого ремесленника — значит снизить общий уровень школы, уровень науки в стране. Академик Вавилов рассматривает либерализм в этом случае как должностное преступление. "Ряд кандидатских работ из Саратова не удовлетворяют требованиям, которые поставлены Академией (ВАСХНИЛ), — пишет он в декабре 1934 года профессору Г. К. Мейстеру. — Я не принадлежу к числу строгих экзаменаторов и, будучи профессором, передавал это дело ассистентам. [Я] и сейчас, вероятно, более снисходителен, чем другие. Однако в ряде кандидатских работ из Саратова для меня ясно: товарищи недостаточно освоили литературу, особенно иностранную… Библиография приводится буквально возмутительная… ни года, ни тома, ни заголовка статьи, не говоря уже о транскрипции иностранных фамилий… То, что мы требуем, не есть экзаменационная горячка, а есть минимальные научные требования. Поднимать уровень нужно…" [53]
Письменно ли, устно ли общается Вавилов с учениками, он всегда думает об этом интеллектуальном, научном уровне, всегда остается педагогом. Будто между прочим, будто случайно разыгрывает он перед научной молодежью целые театральные действа. Так бывало не только в ВИРе, но и в Институте генетики, в президиуме ВАСХНИЛ, в Географическом обществе. Вспоминая талантливое выступление арабиста академика Крачковского в Географическом обществе, Николай Иванович говорил молодым географам: "Вот у кого надо поучиться, как доклады делать. Ведь два академических часа! Без перерыва… А слушали как? Ведь никто не шевельнулся… Он тебе в науку не лезет… Она из него!" Скучная, бессодержательная речь пусть даже "солидного" профессора тоже немедленно вызывает острый комментарий. "Вот тут у себя в институте был я на одном докладе, — рассказывал Николай Иванович молодежи. — Выступал ученый с опытом. С регалиями полный порядок, а вот как начал говорить, так я и не знал, когда же это ученое наваждение закончится. Вот я теперь уже забыл, в каком это рассказе говорится, что посадили одного семинариста в карцер, а он там сидит и думает: "Эх-ма! Не придется мне сегодня у попадьи блинов есть". Точь-в-точь как я на этом докладе. Сижу и думаю: ведь так и поглупеть недолго. Честное слово!" И, повышая и без того громкий голос так, что на свежего человека, сидящего в соседней комнате, это производило впечатление разноса, Николай Иванович чеканил: "А ты должен сделать доклад так…" Он набирал полную грудь воздуха в свои богатырские легкие, после чего следовала пауза и разрядка: "Вот у Ломоносова, небось, на докладах о попадье с блинами не думали. Настоящую науку творили!" [54]
Встречаясь с бойцами старой вавилонской гвардии, я часто слышал о симпатичном, мягком характере Николая Ивановича, о неповторимом его обаянии, доброте. Все это верно. Учитель был добр. Но есть и другие свидетельства. Они гласят, что христианское всепрощение, розовая ангельская благость вовсе не были типичны для главы школы. Человек большого темперамента, он остался страстным и в своих симпатиях, и в антипатиях. То, что молва именует обаянием ученого, было по сути выражением его глубокого интереса к людям, стремлением понять духовный мир каждого, с кем ему приходилось сталкиваться. В тесном общении он загорался сам, и внутренний свет его, свет интереса к собеседнику, составлял для окружающих суть вавиловского обаяния. Но вот человек, бывший до того в сфере его притяжения, оказался недостойным, мелким, фальшивым. Вавилов не произносит громких слов, не извергает проклятий и заклятий. Просто наиболее внимательные наблюдатели замечают, как решительно сразу обрывается внутренняя связь между Николаем Ивановичем и отвергаемым, как гаснет для недостойного свет вавиловского обаяния. И порой — навсегда.
Но резким Вавилов мог быть и с людьми близкими ему. Он откровенно презирал трусов. Не раз получали от него взбучки и те сотрудники (и даже друзья), которые жаловались, что работа их утомляет. Вернувшись из Минска, куда Вавилов послал ее читать лекции, Лидия Петровна Бреславец пожаловалась Николаю Ивановичу на усталость: в Минске ей приходилось вести многочасовые занятия. "И тут я увидела, как изменилось его лицо, — вспоминает профессор Бреславец. — Оно стало не на шутку сердитым. Как можно устать, если делаешь свою работу?!" Подобные эпизоды были очень редки. Зато все помнят, когда учитель в большом и малом оказывался подлинным спасителем своих сподвижников.
Ранней весной 1933 года, вернувшись из американской экспедиции, Николай Иванович узнал об арестах, которые произошли в ВИРе. "Свалилась гора событий изумительных, — сообщает он академику Сапегину. — Выбыло двадцать человек из строя, начиная с Г. А. Левитского, Н. А. Максимова, В. Е. Писарева и т. д., и чем дело кончится, ни для кого не ясно" [55]. Речь шла об аресте самых ярких, талантливых ученых — селекционеров, цитологов, физиологов. Вавилов был абсолютно убежден в невиновности своих сотрудников и вовсе не собирался скрывать мнения на сей счет. В различные инстанции полетели его письма с требованием как можно скорее разобраться в деле арестованных сотрудников. Директор института дал попавшим в беду коллегам самые лучшие характеристики. Он потолковал с М. И. Калининым, обратился в Центральный Комитет партии. И можно уверенно говорить: эта мужественная защита сыграла немалую роль в оправдании выдающихся ученых-растениеводов. Профессора Левитский, Максимов, Писарев и другие были выпущены на свободу и вернулись в институт.
Правда, хлопоты такого рода далеко не всегда приводили к счастливому концу. Но Николай Иванович никогда не оставлял попавших в беду сотрудников без поддержки. В архиве института по сей день хранятся сотни его прошений, характеристик, запросов о тех, кто был брошен в тюрьмы и лагеря в годы так называемого культа личности.
Незабываемое впечатление составляет переписка директора с ботаником В. В. Марковичем. Пожилой ученый и путешественник Маркович, автор ста пятидесяти работ, был арестован, как пишет Вавилов, "в связи с его религиозными воззрениями и связями" [56]. "О Вас мы не забыли, Вы нам нужны", — пишет Николай Иванович Марковичу в мае 1933 года и одновременно в другом письме просит начальника лагеря, где ученый отбывает заключение, предоставить ему легкую работу, создать условия, которые позволили бы ботанику составить отчет об экспедициях на остров Яву и в Индию. В начале 1934 года Вавилов ходатайствует о помиловании Марковича, спустя полгода такая же просьба поступает в другую инстанцию. Ученого не помиловали, не освободили, но Вавилов продолжает борьбу. Он посылает сотруднику деньги, посылки, подбадривает его, как может. В мае 1935 года он поздравляет коллегу с семидесятилетием: "Дата замечательная, вроде аттестата зрелости. Не забывайте о том, что Дарвин на семидесятом году вступил в расцвет своей деятельности. Привет — прожить сто лет!" [57]
В заботе одного ученого о другом не было ничего от благотворительности. Выйдя из заключения, Маркович действительно написал труд, который так заинтересовал Вавилова: четырехтомный отчет о поездках в тропические страны. Труд, по сей день не утерявший значения для селекционеров. Попечения о талантливом ботанике Николай Иванович не оставил и позже. Последнее ходатайство о снятии с Марковича судимости послал Вавилов на имя М. И. Калинина менее чем за три недели до того, как был арестован сам.
Архивные папки хранят и другие знаки вавиловской заботы о людях ВИРа. Неисчислимы письма директора, в которых он просит повысить пенсию одному сотруднику, дать путевку на курорт другому, квартиру — третьему. Для него нет обязательств важных и неважных. С равным энтузиазмом Николай Иванович пишет письма в министерство земледелия Мексики с просьбой помочь экспедиции Букасова и в ленинградскую пошивочную мастерскую, чтобы Левитскому сшили вне очереди костюм. Но как бы ни было скромно вавиловское послание, оно обязательно пронизано живым, идущим от души чувством.
"Я думаю, что научная работа неотделима от личной жизни. В этом особенность существования научного работника, — делится Николай Иванович со своим сотрудником Сергеем Букасовым, который пересекает Мексику и готовится отправиться в Перу и Колумбию. — У меня был большой соблазн… самому ехать в Южную Америку. Я этого не сделал, отчасти доверяя Вам, отчасти имея в виду дать Вам исключительную возможность… Большего нельзя сделать для научного работника, как дать ему в кратчайшее время выявить все свои способности, дать максимум для продолжения в его научной работе. Некоторый риск, трудности путешествия… ничто перед тем интересом, который открывает исследование нетронутых стран" [58].
Рядом с эпическим раздумьем о судьбах научного творчества в архиве хранятся записки чисто служебного характера, которые, однако, говорят нам об их авторе не меньше, чем письма коллегам-профессорам. "Надо шофера А. И. Байкова одеть потеплее, ему приходится много времени ждать на холоду в машине и мерзнуть. Прошу Вас приобрести для него теплую шубу и валенки… Если трудно это сделать формально, то придется за мой счет" [59]. Или: "Паки и паки ходатайствую о выделении… небольшой суммы для премирования рабочих и техников, которые работали по хине. Они проделали, безусловно, большую работу, оклады получают низкие, и надо их подбодрить… Нельзя ли так, чтобы было твердо, решительно и бесповоротно?" [60]
Искренние, лишенные бюрократизма отношения между директором и коллективом, которыми так дорожили вировцы, у вышестоящих инстанций вызывали постоянные нарекания. В середине тридцатых годов в Наркомземе, а потом и в президиуме Сельскохозяйственной академии поползли слухи об излишнем либерализме, якобы процветающем в Институте растениеводства, о неоправданной мягкости директора. Один ретивый чиновник как-то даже выразил академику Вавилову свое неудовольствие в связи с тем, что, инспектируя институт, не обнаружил приказов о взысканиях. Свидетели этого конфликта вспоминают, что обычно сдержанный Николай Иванович на этот раз не на шутку вскипел: "Я считаю приказной режим в науке непригодным", — резко оборвал он администратора. Неприятный разговор задел какие-то, очевидно, очень сокровенные чувства в душе ученого. Он несколько раз возвращался к этой теме, и всякий раз она его остро возбуждала. Даже через несколько недель, все еще переживая инцидент, Вавилов заметил своему заместителю в Институте растениеводства: "Там, где отдают жизнь, отношения надо строить на иной основе" [61]. Для него это была аксиома. Вавиловский ВИР не мог, не способен был существовать по тем административным канонам, на которых настаивали наезжающие ревизоры. Стиль, укрепившийся в лабораториях и на опытных станциях института, был, по существу, личным стилем директора, неотделимой природной частью его характера.
Была в его натуре еще одна черта, которая также помогала теснее сплачивать вавиловскую школу. Ничто так не радовало Николая Ивановича, как весть о новом интересном исследовании, проделанном сотрудниками. День становился праздничным. Директор спешил рассказать о новости посетителям, секретарям, а если под рукой никого не было, мчался в ближайший отдел и уже с порога кричал: "Товарищи, послушайте…" С легкой руки Николая Ивановича этот интерес к творчеству товарищей проник в каждую лабораторию. Вировцы охотно, открыто и публично обсуждали каждое новое сделанное в институте исследование, постепенно это превратилось в традицию. Исключение не делалось даже для директора. Его статьи, доклады, монографии подвергались столь же требовательному разбору, как и труды рядовых сотрудников. Да он и не потерпел бы лицеприятства в делах научных. Как, впрочем, не терпел всю жизнь и надутого академизма.
"Пошлю Вам скоро пук своих стихов, в нем Вы найдете, надеюсь, кое-что нужное, во всяком случае, первый набросок новой теории центров. Над ней я потрудился. Ваши критические замечания будут особенно полезны" [62]. Это писалось сотруднику, стоявшему на несколько должностных ступеней ниже директора института, президента ВАСХНИЛ; писалось по поводу главного труда жизни академика Вавилова, его классической "Теории центров".
Мысль о благодетельности широкого "перекрестного опыления" в науке, о том, что необходимо объединить разрозненные усилия учеников в общий котел, в единый фонд идей, особенно увлекала Николая Ивановича в последние годы жизни. В 1937–1938 годах в Институте растениеводства и Институте генетики велись многочисленные исследования по пшенице. Цитолог Левитский, генетик Карпеченко, систематики Фляксбергер и Якубцинер и другие с разных сторон подступали к проблеме наследственности у главной сельскохозяйственной культуры человечества. Проводили такие исследования и в других институтах. Но вести из лаборатории в лабораторию доходили скупо, медленно. Из-за этого опыты то и дело дублировались, творческие силы ученых тратились попусту. И тогда Николай Иванович заговорил о пшеничном клиринг-хаузе. Банковское учреждение, служащее для встречных взаимных расчетов, биолог взял за образец той системы учреждений, которую следовало бы, по его мнению, ввести в науку. Действительно, если организовать некий центр, куда станет срочно поступать вся свежая информация из всех "пшеничных" лабораторий, то можно размножить ее на ротаторе и тотчас же рассылать заинтересованным сторонам. Авторство каждого исследователя при этом сохранится, но итоги его поисков начнут оплодотворять труды остальных участников клирингового союза.
Может показаться, что для растениевода, увлеченного генетикой пшениц, речь шла лишь о более рациональной организации научных исследований. Но это не так. Вавилов знал: бескорыстный клуб творцов невозможен без высокой чистоты помыслов каждого участника. Для него клиринг-хауз был предприятием одновременно научным и нравственным. И по мере своих сил знаменитый академик пытался убедить товарищей по науке в необходимости новых отношений в науке, отношений, основанных на бескорыстном доверии друг другу.
Не вина Николая Ивановича, что этот принцип организации научной работы в СССР так и не привился. В 1936–1937 годах на горизонте советской биологической науки уже восходили иные величины с иными научными и нравственными мерками…
Глава 4 САДОВОД МИЧУРИН, АГРОНОМ ЛЫСЕНКО И РОЖДЕНИЕ "ПРОГРЕССИВНОЙ БИОЛОГИИ"
Ничто так не поучительно, как заблуждение гения.
Академик П. Л. КапицаПора, однако, познакомить читателей с другими героями дела Вавилова, самым непосредственным образом причастными к дальнейшим драматическим событиям.
Всякий, кому сегодня не менее сорока пяти лет, помнит время, когда каждый разговор об успехах советской сельскохозяйственной и биологической науки начинался и кончался здравицей в честь Ивана Владимировича Мичурина и Трофима Денисовича Лысенко. Из одной газеты в другую кочевали такие словосочетания, как "передовая мичуринская биология", "указания академика Лысенко", "мичуринский дарвинизм", "Мы не можем ждать милостей от природы…" и т. д. Людям более старшего поколения памятно и то, как в конце 30-х годов родились словечки "мичуринец" и "антимичуринец". Терминология эта, поначалу не очень понятная широкой публике, очень скоро вышла за пределы специальных изданий и научных аудиторий. Школьные учителя на уроках биологии, лекторы-популяризаторы, журналисты на страницах общей прессы быстро растолковали непосвященным, что термин "мичуринец" к термину "антимичуринец" относится так же, как белое относится к черному, рай к аду, мед к дегтю. С годами термины "мичуринский", "мичуринец" приобретали все более политический смысл. В конце тридцатых, в начале сороковых годов слова эти означали уже не только "научно состоятельный" и "сторонник верного направления в биологии", но также и "политически лояльный". Мичуринизм стал государственным взглядом на биологическую науку и сельское хозяйство, а всякое опровержение или сомнение в доктрине садовода Мичурина рассматривалось как политический выпад. Одним из первых антимичуринцев, то есть противников покойного Ивана Владимировича Мичурина, был объявлен в середине 30-х годов Н. И. Вавилов. Произносились против него в те годы и другие хулы, но сначала разберемся с этой. Вавилов враг Мичурина? Так ли?
Впервые Николай Иванович встретился с Иваном Владимировичем в сентябре 1920 года. В Воронеже только что закончился Всероссийский съезд по прикладной ботанике. Организатор съезда воронежский профессор Сократ Константинович Чаянов (впоследствии один из организаторов советской сельскохозяйственной науки) предложил гостям навестить плодовый питомник в недалеко расположенном городке Козлове. Энтузиазма это предложение не встретило: время было неспокойное, голодное, делегаты стремились поскорее добраться до родных домов. Но Чаянов настоял на своем, и специальный железнодорожный вагон доставил агрономов из губернского Воронежа в уездный Козлов. Делегаты съезда не пожалели о поездке: сад Мичурина, его опыты всех заинтересовали. Но условия, в которых трудился талантливый садовод, заставили даже привычных к спартанской скромности провинциальных опытников развести руками. "Мы вспоминаем убогую обстановку станции в начале революции, убогую избушку, в которой жил и работал один из самых замечательных плодоводов нашего времени. В запущенном саду приходилось с трудом разыскивать замечательные гибриды. Не было рук, чтобы привести сад в порядок", — писал впоследствии один из участников поездки [63]. Автором этих строк был Вавилов.
В том году, когда тридцатитрехлетний саратовский профессор впервые навестил Козлов, Ивану Мичурину было уже шестьдесят пять. Большая часть жизни осталась позади, жизни тяжелой, одинокой, нищенской. В России о его опытах, поисках, сортах знали единицы. Даже Тимирязев, написавший превосходный очерк об американце Бербанке, ничего не слышал о русском Бербанке. В первые годы революции Иван Владимирович особенно нуждался в помощи. Сад стоял без изгороди, не было рабочих. Да что рабочих! У плодовода-новатора не было средств на то, чтобы прокормить семью. "Каждый из нас по окончании рабочих часов садится поставить ту или иную заплату на башмак, сапог или одежду, а затем нужно еще заработать что-либо на стороне на содержание семьи, так как получаемого жалования не хватает на десятую долю расходов…" — писал Мичурин профессору Чаянову 25 сентября 1922 года [64]. Садовод не упомянул при этом, что, изыскивая средства к существованию, вынужден паять прохудившиеся ведра и принимать в починку пишущие машинки.
Именно в эту тяжкую для Ивана Владимировича пору на помощь пришел Вавилов. Еще в первый свой приезд он познакомился с идеями козловского самоучки и понял, что перед ним талантливый и пытливый искатель. Когда по документам и письмам начала 20-х годов прослеживаешь отношения двух растениеводов, то совершенно ясно видишь цель ленинградского профессора: открыв для себя Мичурина, Вавилов стремится как можно шире распространить известность провинциального садовода. Это очень по-вавиловски: полюбившиеся ему чужие исследования Николай Иванович популяризует даже охотнее, чем свои собственные. Между ленинградским институтом и плодовым питомником в Козлове идет оживленная переписка, обмен растениями. Николай Иванович составляет перечень всего опубликованного Мичуриным. Он просит садовода написать для журнала итоговую статью и принимает эту статью к печати. Наконец, он направляет в Козлов известного плодовода В. В. Пашкевича опять-таки для того, чтобы тот описал научную деятельность Мичурина.
Но Вавилову и этого мало. Мичурин бедствует, необходимо помочь ему практически, немедленно. В начале 1922 года Николай Иванович выступил на Всероссийском совещании по опытному делу с речью, в которой призвал Наркомзем РСФСР как можно скорее поддержать питомник Мичурина. В Народный комиссариат земледелия отправлено письмо: повод самый уважительный — надо отметить сорок пять лет научной деятельности выдающегося русского селекционера. Послав письмо, Николай Иванович следом сам едет в Москву "проталкивать" свой меморандум. И вот, наконец, хлопоты завершены. Девятого октября 1922 года коллегия Наркомзема принимает решение:
"1. Выдать И. В. Мичурину особый акт, во-первых, с указанием его государственных заслуг, выразившихся в многолетней работе по выведению ряда ценных сортов плодовых растений… во-вторых, пожизненно закрепляющий за ним земельный участок, на котором расположен его сад.
2. Выделить И. В. Мичурину — 500.000 рублей дензнаками 1922 года в его личное безотчетное распоряжение…
3. Поручить Редакционно-издательскому отделу НКЗ собрать и издать все труды Мичурина с его биографией и портретом под общей редакцией профессора Н. И. Вавилова…" [65]
Это постановление сыграло важную роль в жизни Ивана Владимировича. Дом и сад его были освобождены от налогов, нужда отступила, а через год он был назначен директором значительно расширенного питомника имени Мичурина. Еще год спустя вышла его первая книга. Во вступлении Иван Владимирович писал, что сводка работ его за сорок шесть лет смогла увидеть свет только благодаря усилиям профессора Н. И. Вавилова. Перу Вавилова принадлежит и тепло написанное предисловие. Незадолго перед тем Николай Иванович вернулся из США, где, между прочим, навестил садовода Бербанка. Свое предисловие построил он на сравнении труда двух умельцев-самоучек: "Условия труда русского оригинатора неизмеримо труднее, но много поразительно сходного в духовном облике того и другого. Оба более сорока лет трудятся над общим делом. Оба пришли к тому, что пути достижений в создании новых пород, пути улучшения современных сортов растений лежат в широком привлечении со всех концов земли растительных форм, в широком применении скрещивания их между собой, в скрещивании диких форм с культурными… Как тот, так и другой на склоне лет, после полувекового упорного труда продолжают быть искателями, дерзающими идти вперед" [66].
Параллель между русским и американским плодоводом подчеркивал Николай Иванович несколько раз и позже. В январе 1929 года по его предложению в Козлов была послана телеграмма: "Первый Всесоюзный съезд по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству приветствует советского Бербанка, творца новых форм, полезных для человека, и желает новых сил и здоровья в Вашей ценной для Союза работе". По постановлению съезда телеграмму составил и подписал Вавилов.
А как относится к своему ленинградскому доброжелателю Иван Владимирович?
Агроном П. С. Лебедева, близкий друг Мичурина, пишет: "Впервые я услыхала о Николае Ивановиче из уст И. В. Мичурина… В этом году Н. И. организовал чествование Ивана Владимировича по поводу пятидесятилетия его работы. Я приехала к И. В. после юбилея, и он в первых же словах начал меня укорять: "Что же ты не приехала на юбилей вовремя, ведь у меня был Николай Иванович Вавилов. Ты знаешь, какой это человек: умница, большой ученый, прекрасной души. Ведь он мою работу выдвигает, так помогает в расширении наших работ. Он так поддерживает нас. Как он любит все новое! Вот где ты его теперь увидишь?!" [67]
Молодому А. Н. Бахареву, будущему своему секретарю и другу, Мичурин в начале 1925 года рассказывал: "Вавилов — выдающийся деятель науки, светлая голова… Путешествует по всему свету и собирает нужные нам растения… И ведь что удивительно, владеет чуть ли не дюжиной языков… Ну и прямо скажу, сочувственно относится к нашему делу" [68].
Через несколько лет, в июне 1932 года, Бахарев оказался свидетелем встречи, которую он подробно описал:
"…К дощатой, почерневшей от времени беседке, возле которой остановился Мичурин, подошла группа мужчин. Гость оказался не один. С ним были вице-президент академии Александр Степанович Бондаренко и директор Сельхозгиза… Николай Иванович взял с собой сына Олега, мальчика лет двенадцати, в пионерском галстуке, в кепи, с фотографическим аппаратом…
Иван Владимирович и Николай Иванович, тепло улыбаясь, с радостными восклицаниями пожимали друг другу руки как старые добрые друзья… Иван Владимирович пригласил гостей на скамью, находившуюся в прохладной тени мощных кустов японской сирени… Я мыслил встретить в Вавилове сухого, чопорного, недоступного ученого. Но Николай Иванович, которого я видел впервые, удивил меня своим на редкость гармоничным сочетанием прекрасных манер и простоты в обращении, что как-то сразу располагало к нему и создавало атмосферу теплоты и сердечности.
Весь остаток дня мы сопровождали Мичурина и гостей по всем уголкам живой "зеленой лаборатории"… Показал Иван Владимирович президенту и свои сорта винограда, и абрикоса, и миндаля — этих южан, прекрасно акклиматизировавшихся под холодным небом Тамбовщины…
Николай Иванович взял плодик вишни, выдавил каплю сока и, посмотрев на нее перед лучом солнца, воскликнул:
— Рубин! Истинный рубин… — дегустируя с восторгом плоды этой вишни, Николай Иванович теплым взором окинул Ивана Владимировича и потом озабоченно заговорил:
— Если бы мы могли выполнять заказы народного хозяйства на выведение нужных сортов всех сельскохозяйственных растений, как это делаете вы, Иван Владимирович, мы в одно десятилетие оставили бы далеко позади селекционеров Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Размножайте эту вишню как можно скорее и как можно больше…
С экспериментальной базы Научно-исследовательского института в Селекционно-генетическую станцию имени И. В. Мичурина мне пришлось ехать в старомодной обширной и спокойной коляске с Николаем Ивановичем и его сыном Олегом. По дороге Николай Иванович расспрашивал меня о здоровье Ивана Владимировича, о его бытовых нуждах и просил в затруднительных случаях обращаться прямо к нему.
К вечеру второго дня пребывания в Козлове Николай Иванович перед возвращением в Москву снова посетил Ивана Владимировича… Иван Владимирович принял гостей в своей рабочей комнате.
— Все, что я видел в молодых садах, питомниках, экспериментальных участках, в лабораториях, в музее радует тем, что мудрый прогноз Ленина о громадном государственном значении ваших работ, Иван Владимирович, сбывается…" — сказал Вавилов. И, как всегда, когда хотел показать ценность какого-то учреждения, добавил, что Козлов "станет Меккой для селекционеров всего мира" [69].
Сохранилось немало и других свидетельств о дружбе двух растениеводов. По просьбе Вавилова американские семенные фирмы посылали Мичурину нужные ему семена и посадочный материал. В библиотеке Ботанического института АН СССР в Ленинграде я видел экземпляр второго тома мичуринских "Итогов полувековых работ". На титульном листе характерным почерком Ивана Владимировича выведено: "Многоуважаемому президенту Академии сельскохозяйственных наук СССР академику Николаю Ивановичу Вавилову на добрую память от автора — И. В. Мичурина. 8 апреля 1933 года".
Последний раз Вавилов приехал в Мичуринск в сентябре 1934 года. Город вместе со всей страной праздновал шестидесятилетие научной деятельности знаменитого плодовода. Медь оркестров, галстуки пионеров, яркие костюмы гостей с Украины, Кавказа и из Средней Азии сливались с золотом и багрянцем плодоносных садов. Вечером 20 сентября в городском театре состоялось чествование великого садовода. Первое слово от имени двух академий произнес Вавилов: "Академия наук и мы, научные работники, все мы гордимся иметь в своей среде Ивана Владимировича Мичурина. Его подвиг показывает, как надо жить и как надо работать". Слова о том, что Мичурин достоин быть в среде членов Академии наук СССР, не случайно прозвучали в тот день. Через несколько месяцев, первого июня 1935 года, в протоколе общего собрания Академии наук СССР появилась запись: "Непременный секретарь доложил заявление двенадцати действительных членов Академии наук об избрании в почетные члены И. В. Мичурина". Первым подписал заявление Вавилов. Он же составил его текст. Вечером того же дня состоялось тайное баллотирование кандидатуры нового академика. Мичурин был избран почетным членом АН СССР сорока голосами. Против голосовало четыре человека.
Неделю спустя, 7 июня 1935 года, Мичурина не стало. Все газеты страны опубликовали траурное сообщение. На следующий день в "Правде" вышла статья Вавилова. Называлась она кратко — "Подвиг". Крупнейший биолог-теоретик Советского Союза не только высочайшим образом оценил подвиг Мичурина-практика, но и воздал должное мичуринскому теоретическому наследию. "Его труд проникнут материалистической философией, и многие положения его совершенно оригинальны. Во всех своих трудах Мичурин зовет к самостоятельности, к творческой работе".
Такова правда об отношениях между Вавиловым и Мичуриным. Казалось бы, из приведенных фактов мудрено сделать вывод о том, что Вавилов "антимичуринец". Но нашлись люди, которые заявили тем не менее, что хотя Николай Иванович и не был личным врагом Ивана Владимировича, но он противник, враг теоретических принципов Мичуринской селекции, а посему…
Проверим и это обвинение.
Обращаясь к молодежи, восьмидесятилетний старец, призванный мастер селекции Иван Мичурин, призывал молодых исследователей спорить с ним, а если у оппонентов есть свои собственные проверенные наблюдения, то, не стесняясь, опровергать его, Мичурина, взгляды. В этих словах весь Иван Владимирович — человек труда, собственными руками добывающий факты науки, с достоинством и симпатией глядящий навстречу новому поколению.
Спорить с учителями — великая традиция науки. Физиолог Клод Бернар оспаривал теории горячо любимого своего руководителя Мажанди, хирург Николай Пирогов опровергал своих предшественников в хирургии, Леон Орбели далеко не во всем соглашался с великим Павловым. Старая академическая формула "просят возражать", которой пользуются в научных журналах для того, чтобы разжечь дискуссию, могла бы послужить эпиграфом к истории любой науки. Позволительно даже утверждать, что только в противоборстве с прежде установленными истинами и развивалось от века человеческое знание. Больше того. Именно несогласные, упрямцы, готовые подвергнуть проверке любой тезис предшественников, достигли в науке более всего.
Вавилов был из упрямцев. В книге английского естествоиспытателя Р. Грегори [70], которую он отредактировал и снабдил предисловием, приведены слова, с которыми он, несомненно, был солидарен: "Прогресс заключается в поправках, вносимых в предыдущие исследования. Вот почему так важна для прогресса науки критика". Чувство критики не покидало Николая Ивановича при общении с самыми знаменитыми исследователями. Обучаясь в Англии, он высказывал свое несогласие с Дарвином, исписывая обложки и поля книги великого биолога весьма резкими замечаниями. Даже любимый учитель Вильям Бэтсон не избег нелицеприятной критики дотошного ученика. По поводу одной из последних бэтсоновских статей Вавилов со всей откровенностью заявил: "Мистер Бэтсон, как говорят в Туркестане, "кончает базар" и уже потерял то свойство, которое особенно нужно в научной работе: "жизненную подвижность"…" [71]. Короче: в научных спорах Вавилов на лица не взирал. Его принцип на этот счет, очевидно, состоял в том, что научный анализ, научная проверка должны быть тем строже, чем крупнее открытие. Открытия селекционера Мичурина относились к весьма значительным. И Николай Иванович несколько раз давал требовательный и доброжелательный анализ творчества садовода.
Особенно обстоятельно изложил Вавилов свое мнение в статье "Праздник советского садоводства" [72]. Он проследил три последовательных этапа, которые прошел Мичурин от первых неудачных экспериментов до полной победы своего метода. После того как длительная акклиматизация южных сортов не оправдала себя, Иван Владимирович обратился к отбору сеянцев, взращенных из семян лучших, опять-таки, южных сортов. Снова неудача. Только после этого он понял, что продвинуть плодоводство на север нельзя без скрещивания южан с северянами и без дальнейшего жесткого отбора.
Крупнейшая заслуга Мичурина, по мнению Вавилова, состояла в том, "что он, как никто в нашей стране, выдвинул идею отдаленной гибридизации, смелой переделки видов растении путем скрещивания их с другими видами и научно и практически доказал правильность этого пути" [73]. Именно по этому мичуринскому направлению развивалось и развивается современное плодоводство. Именно этим путем И. В. Мичурин вывел около 350 различных сортов яблонь, груш, слив, абрикосов, персиков, винограда.
Вторая идея, которую так же очень высоко оценил у Мичурина Вавилов, была идея "широкой мобилизации сортового материала для скрещивания". В маленьком Козлове, раньше чем в самых блистательных питомниках мира, начали использовать для улучшения местных сортов дикорастущие, холодостойкие и болезнеустойчивые формы плодовых деревьев из Сибири, Канады, горного Китая, Тибета, с Дальнего Востока. "И. В. Мичурин первый понял исключительное значение смелого, широкого привлечения диких и культурных форм из трех основных очагов плодоводства в умеренных зонах, именно из Северной Америки, Юго-Западной Азии (включая Закавказье и Северный Кавказ) и Восточной Азии" [74]. Кто, как не Вавилов, великий собиратель растительных ресурсов земли, творец мировой коллекции семян культурных растений, мог понять эту сторону поисков Мичурина? По существу, оба растениевода, независимо друг от друга, пришли к выводу, что отечественное сельское хозяйство (и в том числе русский сад) нужно обновить за счет растительных богатств земного шара.
Об этой великолепной находке Мичурина Николай Иванович не раз напоминал вировцам. Отправляя в том же 1934 году группу сотрудников на Дальний Восток, он как бы в укор себе говорил: "Просто неприлично становится… Абиссинию мы понимаем, а на Дальнем Востоке занимаемся болтологией, и кончилось тем, что [тамошний] материал [для гибридизации плодовых] вовлек Мичурин…" [75]
Однако, сторонник хромосомной теории наследования признаков, Николай Иванович не мог согласиться со всеми приемами и выводами селекционера-плодовода. В частности, он совершенно не мог принять утверждение Мичурина о том, что так называемые вегетативные гибриды (потомки двух сращенных между собой различных растений) полностью подобны гибридам, полученным половым путем, то есть в результате скрещивания. (Кстати сказать, современная биология окончательно опровергла "учение" о вегетативной гибридизации как ненаучное. Высшая аттестационная комиссия СССР даже не рассматривает диссертации, написанные на эту тему.)
Почему у Мичурина, современника Моргана и Меллера, могли возникнуть такие ошибки?
Надо напомнить, что, хотя наиболее значительные открытия в генетике, те, что полностью перевернули старые представления о переносе наследственности, были сделаны в тридцатых годах нынешнего столетия, Мичурин, которому перевалило уже за семьдесят пять, не мог следить за быстро развивающейся мировой наукой. Тут нет его вины. Русский селекционер-самоучка и без того внес в биологию немалый вклад.
Было, однако, в работе Мичурина много и ненаучных, интуитивных приемов, методов, стоящих на грани "чудотворства". Представление о таких приемах дает устный рассказ саратовского селекционера Николая Ананьевича Тюмякова, который навестил Козлов в 1926 году.
"Горшков [ближайший сотрудник Мичурина. — М. П.] обратился к Ивану Владимировичу: "Иван Владимирович, когда же мы займемся браковкой сеянцев?" Мичурин поднялся: "Пошли сейчас". Взял свою тросточку, пошел. Был он в солидном возрасте, но пошел быстро. Пришли на посадки молодежи [76]. Иван Владимирович остановился, что-то делает. Я спрашиваю, что это он делает? "А это он метку свою ставит", — отвечает Горшков. Я заинтересовался, подхожу. Иван Владимирович… остановился около одного [деревца], потрогал рукой почку, пощупал лист и говорит: "Немного кисловат будет, ну ничего". Вытащил из кармана ленту свинцовую, она у него заготовлена была, номера пробиты, оплел вокруг веточки и пошел дальше…
Я потянул за руку Горшкова, шепотом спрашиваю: "Возраст сказывается?" Иосиф Степанович в ответ: "Нет, говорит, мы сами так думали. Но вот опыт его такой. Пощупает: "Кисловат будет, ну ничего." И представьте, старик не ошибался". Я говорю: "Ну, а завтра что будет?" — "Да вот пять меток он поставил, это значит, завтра я их высажу, а остальные мы выкорчуем и выкинем. Кисловаты или не кисловаты, это будет известно через несколько лет, а мне, говорит, площадь сейчас нужна"" [77].
Эпизод, рассказанный селекционером Тюмяковым, едва ли нуждается в комментариях. Его дополняет генетик Н. В. Тимофеев-Ресовский. Еще в 1923 году на Всероссийской сельскохозяйственной выставке он по просьбе Вавилова пытался объяснить Мичурину, что такое генетика. Разговор продолжался довольно долго, но, несмотря на все усилия Тимофеева-Ресовского, втолковать садоводу суть идей Менделя и Моргана так и не удалось [78]. Тем не менее вокруг Ивана Владимировича нашлись люди, пожелавшие представить его безгрешным теоретиком. Они решили использовать возникшую в 30-х годах всенародную симпатию к Мичурину, для того чтобы создать в Козлове научно-исследовательский институт генетики. Очевидно, кое-кому не терпелось погреть руки на славе великого садовода. По этому поводу президент Всесоюзной сельскохозяйственной академии Н. И. Вавилов писал видному плодоводу В. Л. Симиренко: "Товарищи из Козлова используют всуе имя И. В. Мичурина. В писаниях Ивана Владимировича при всех его больших заслугах есть много элементов ненаучности, так же, как и у Бербанка. Дискутировать эти вопросы можно только в спокойной обстановке при достаточной подготовленности аудитории и судей, что, как Вы знаете, бывает не всегда… Одно дело большие заслуги Мичурина, ценность выведенных им сортов и ценность Ивана Владимировича самого как труженика, пятьдесят лет упорно и талантливо работающего, а другое дело — научная селекция, научное плодоводство. Для Ивана Владимировича они вовсе не были обязательны; по существу, его работа была его индивидуальным делом, с института же мы спросим науку. И то легкомыслие и, по-видимому, небольшой багаж, который свойствен ряду товарищей в Козлове, найдет объективную оценку в стране если не сегодня, то завтра" [79].
В этой оценке, думается, нет для Мичурина ничего обидного. Вавилов как крупный биолог-теоретик с одобрением относится к практическим достижениям селекционера Мичурина. Но при этом он откровенно обнажает ряд ненаучных, слабых мест мичуринской теории. Вавилов заметил, что в работах Мичурина биологические теории по существу играют очень малую роль. Как и американец Лютер Бербанк, селекционер из русского города Козлова очень многого добился в своем саду за счет своей интуиции и огромного опыта. Да Мичурин и сам, как всякий крупный исследователь и человек, никогда не выдавал свои взгляды за истину в последней инстанции. В той самой первой своей книге, что была издана при участии Вавилова, Иван Владимирович писал: "Я нисколько не претендую на какую-то выставку новых открытий или на опровержение каких-либо установленных авторитетами науки законов, я только излагаю мои заключения и доводы на основании личных, практических моих долголетних работ в деле выведения новых сортов плодовых растений, причем, очень может быть, впадаю в некоторых случаях в ошибки неправильного понимания различных явлений и жизни растений и приложения к ним хотя бы законов Менделя и других учений последнего времени, но такие ошибки неизбежны при всяких работах, большого значения иметь не могут, так как впоследствии, вероятно, будут исправлены другими деятелями".
Нет, Мичурин не мог обижаться на своего научного оппонента академика Вавилова. Читая полные благородства строки Ивана Владимировича о тех, кто с полным правом придет, чтобы поправить его ошибки, понимаешь: это традиция, великая традиция науки. Здесь приглашают к спору, но не к ссоре, к возражениям, но не к драке.
* * *
Трофим Денисович Лысенко был на одиннадцать лет моложе Вавилова. Он родился на Украине в селе Карловка в 1898 году. Учился в школе садовода и в Сельскохозяйственном институте в Киеве, работал на Белоцерковской опытной станции. С 1925 года работал он в азербайджанском городке Ганджа (ныне Кировабад), ведал в Институте хлопка бобовыми и высевал их чуть ли не через каждые пять дней в течение всего года. На полях того же института ставили свои опыты вировцы. Профессор Вавилов слышал от них об экспериментах Лысенко и живо заинтересовался этими опытами.
Надо заметить, что уже тогда (ему не было еще и тридцати) Лысенко умел производить на окружающих впечатление личности незаурядной. "Длинный, худой, весь постоянно выпачканный землей. Кепку надевает одним махом, и она всегда у него торчит куда-то вбок. Словом, полное пренебрежение к себе, к своей наружности. Спит ли вообще — неизвестно, мы выходим на работу — он уже в поле, возвращаемся — он еще там. Все время копается со своими растениями, все время с ними. К ним он очень внимателен. Знает и понимает их вообще прекрасно, кажется, умеет разговаривать с ними, проникает в самую душу их. Растения у него "хотят", "требуют", "любят", "мучаются"…" Так писал своим родным в декабре 1928 года сослуживец, а в будущем близкий друг Лысенко Донат Долгушин. И в том же письме: "Это настоящий творческий ум, новые оригинальные идеи так и прут из него. И каждый разговор с ним поднимает в голове вихрь интересных мыслей. Он всегда в своей работе, энтузиаст отчаянный. Наблюдателен невероятно" [80].
Надо полагать, Вавилова привлекли в Лысенко те же черты, что и Долгушина: он любил самостоятельно мыслящих и увлеченных. О взглядах своего нового знакомца знал Николай Иванович в те годы очень мало, почти что ничего. Он не знал, например, что агроном из Ганджи принципиально не читает мировую биологическую литературу (этому мешало, кроме прочего, незнакомство с иностранными языками) и особенно презрительно относится к исследованиям генетиков. "Многое из того, что мы проходили в институте, например о генетике, он [Лысенко] считает "вредной ерундой" и утверждает, что успех в нашей работе зависит от того, как скоро мы сумеем все это забыть, "освободиться от этого дурмана"", — писал Донат Долгушин. По поводу подобных воззрений друзья даже шутили: "Лысенко уверен, что из хлопкового зерна можно вырастить верблюда, а из куриного яйца — баобаб…" (В каждой шутке есть доля истины. Но кто бы из молодых шутников 1928 года мог подумать, что через двадцать пять лет их друг совершенно серьезно напишет, что в его опытах из зерна пшеницы получилось три растения различных родов: пшеница, ячмень и рожь!) [81]
Обычно нетерпимый к биологической неграмотности, Вавилов при первой встрече не обратил внимания на странные взгляды собеседника. Его больше заинтересовала гипотеза Лысенко, о которой Донат Долгушин рассказывает так: "Он [Лысенко] установил, — и это не подлежит теперь никакому сомнению! что все озимые растения, которым, как принято думать, необходим зимний покой для того, чтобы они в следующем году зацвели и дали семена, — на самом деле ни в каком "покое" не нуждаются. Им нужен не покой, а холод, сравнительно небольшая порция (но не ниже нуля!) пониженной температуры.
Получив эту порцию, они могут развиваться без всякого перерыва и дадут семена. Но эта порция пониженной температуры может сыграть свою роль, даже когда растение еще не растение, а едва наклюнувшееся зерно. Таким образом, если, например, семена озимой пшеницы слегка замочить и, продержав некоторое время на холоде, посеять весной, то они нормально разовьются и дадут урожай в то же лето, как настоящие яровые!
Представляете себе, дорогие мои, что это значит? Сокращение вегетационного периода растений, перемещение многих культур на север и черт знает что еще! Это, несомненно, открытие и — крупного научного значения… Вот какой у нас Лысенко!" [82]
Восторг Доната Долгушина по поводу агрономического приема, который вскоре стал известен как яровизация, понять нетрудно. Вчерашнему выпускнику сельскохозяйственного факультета яровизация действительно могла показаться открытием новым и значительным. Труднее объяснить позицию Николая Ивановича. Правда, при первом знакомстве Вавилов оценил яровизацию значительно более сдержанно, чем приятели Лысенко. Разная потребность растений в низкой температуре? Интересный факт. Директор института даже нашел ему применение; по этому различию удобно будет классифицировать растительные богатства, собранные в ленинградской коллекции. "Учитывая, в частности, этот признак, — говорил Вавилов, — мы станем лучше районировать (распределять по климатическим зонам) наши сорта и культуры". Ни о каком продвижении южных растений на север пока нет и речи, но опыты Лысенко Николай Иванович оценивает тем не менее как яркие и самобытные. Это в его духе: поддержать, ободрить всякого подающего надежды.
В 1929 году молодой агроном Лысенко получил приглашение выступить с докладом на Всесоюзном съезде генетиков и селекционеров в Ленинграде. Для провинциала, почти не имеющего печатных работ, это была немалая честь. Хотя съезд именовался всесоюзным, присутствие многочисленных гостей из-за рубежа (таких видных биологов, как Р. Гольдшмитд и Э. Баур из Германии, Федерлей из Финляндии) превратило его по существу в международный форум генетиков. Научный уровень докладов был чрезвычайно высок. Недаром иностранные гости писали тогда, что "опубликованные в СССР труды по генетике и селекции превосходят все работы, изданные в странах Запада" [83].
Доклад Лысенко (сделанный совместно с Д. Долгушиным) восторгов, однако, не вызвал. В прениях видные физиологи растений указали на то, что лысенковская яровизация — отнюдь не новость: о "холодном проращивании" писал советский ученый Н. А. Максимов, а как агротехнический метод ее предлагал (и безуспешно) в середине XIX века американец Клигшарт. Выводы Лысенко о световой стадии, по мнению многих, тоже сильно напоминали мысли о фотопериодизме Гарнера и Алларда.
Председатель съезда академик Вавилов, однако, беседуя в кулуарах с профессором Н. А. Максимовым, сказал, что Лысенко надо непременно поддержать: у него оригинальный ум и ко многим выводам пришел он независимо от своих научных предшественников.
Лысенко и его приятель Д. Долгушин остались очень недовольны приемом, который им оказали виднейшие селекционеры и генетики страны. Через двадцать лет брат Доната, Юрий Долгушин, писатель-популяризатор, описывая в своей книге "У истоков новой биологии" выступление Трофима Денисовича на съезде генетиков 1929 года, заметил: "Это была его первая встреча с противником (?), из которой ему стало ясно, что в этой борьбе ему надо действовать иными путями (?!?)". Мы теперь знаем, какими путями начал со временем действовать Т. Д. Лысенко. Но в 1929 году о характере этих будущих путей еще никто не догадывался.
Прошло еще два года. Лысенко перебрался из Азербайджана в Одесский селекционно-генетический институт, перенес туда опыты, начатые в Гандже. На новом месте произвел он на сослуживцев впечатление столь же сильное. Директор института Степаненко в частном письме, посланном в начале 1931 года, писал: "Последние достижения т. Лысенко сулят нам такие перспективы для практического применения, какие нельзя было предполагать еще несколько месяцев назад". Степаненко сообщал, что Лысенко заставляет кукурузу вызревать на две-три недели раньше, "воздействуя темнотой на чуть начавшие прорастать семена". Таким образом, открывалась якобы возможность перенести кукурузу на далекий север, "с хлопком получены такие же блестящие данные… Через месяц-полтора ожидай сообщения о том, что кукуруза выбросит метелки вместе с началом цветения ранних яровых, а хлопок вступит в бутонизацию недели на две раньше обычного". Письмо было адресовано в ВАСХНИЛ некоему Владимиру Матвеевичу, лично знакомому Степаненко. Цель послания — выбить дополнительные кредиты на опыты Лысенко. И надо сказать, роль свою письмо это, несомненно, сыграло. Тем более что автор не преминул сообщить адресату, что Лысенко очень осторожен, скромен. Работает буквально и день и ночь…" [84]
Письмо из Одессы в Москву было послано в мае, но еще раньше, в феврале, Вавилов, внимательно следивший за деятельностью агронома-экспериментатора, пригласил Лысенко сделать доклад на президиуме ВАСХНИЛ. Молодой специалист, деловито, хотя и несколько сухо, изложивший суть своих опытов, понравился руководителям Академии. Он по-прежнему не знал научной терминологии и не был знаком с трудами других биологов, но собственные его идеи показались членам президиума перспективными. Только Вавилов мог заметить, что за прошедшие пять лет в идеях агронома не произошло сколько-нибудь значительных перемен. Он снова рассказывал о сказочном действии все той же яровизации: "Многие сорта злаков (озимые, полу озимые) при весеннем посеве не могут переходить или слишком поздно переходят в стадии плодоношения из-за отсутствия в полевой обстановке соответствующих температур, — говорил Лысенко. — Хлопчатник и многие другие теплолюбивые растения вне хлопковых районов не переходят или поздно переходят в стадию плодоношения по той же причине. Многочисленные опыты со злаками показали, что соответствующую температуру, которой не хватает в полевой обстановке, можно дать посевному материалу [зерну. — М. П.] до посева и этим заставить растение плодоносить в тех полевых условиях, в которых оно обычно не плодоносит" [85].
Повторяю, у академика Вавилова и членов президиума ВАСХНИЛ (среди них были такие видные ученые, как академик Г. К. Мейстер, академик А. С. Серебровский, академик M. M. Завадовский) сам Лысенко, характер его опытов и убежденность, с которой он отстаивал свои воззрения, вызвали симпатии. Но к 1931 году, кроме личных достоинств одесского растениевода, возникли некоторые новые обстоятельства, которых не было в 1928-м. Лысенко выступал в Москве в то самое время, когда по научным сельскохозяйственным учреждениям прокатилась волна навязанного сверху практицизма. Руководители того же типа, что любыми средствами форсировали коллективизацию, собирались готовить биологов в совхозах и планировали во что бы то ни стало увеличивать посевные площади в стране ежегодно на 15–20 миллионов гектаров, теперь стали требовать, чтобы ученые, "включившись в социалистическое соревнование", давали неподдельные практические результаты. Тщетно было объяснять им, что самые важные для практики решения родились из сугубо теоретических поисков. Можно было бы напомнить, например, что теоретические труды русского академика XVIII века Йозефа Кольрейтера привели к открытию метода межвидовой гибридизации, что столь же теоретические изыскания американца Шелла подарили кукурузоводам мира высокоурожайную гибридную кукурузу. Таких примеров в любой области науки — тысячи. Но эпоха темпов ничего такого в расчет не брала. В ходу была "логика" иного рода: "Может ли быть в науке такое положение: теория сделала какое-то движение, шаг вперед, а практика от этого никакого облегчения не получает? Я с детства не понимал, как это может быть, и всегда терпеть не мог, когда мне пытались доказать, что такие бесплодные, бесполезные для практики теоретические достижения чего-нибудь стоят" [86]. Эти слова принадлежат Лысенко. Правда, не тому скромному агроному, который только что сделал свое первое сообщение в Академии сельскохозяйственных наук, а Лысенко — президенту ВАСХНИЛ, семнадцать лет спустя. Но дело не в дате, а в том, что именно такие взгляды восторжествовали в самом начале тридцатых годов. От академии стали настойчиво требовать, чтобы открытия ученых помогали повышать урожай сегодня же, приносили материальные ценности на полях страны немедленно.
В этой обстановке президиум ВАСХНИЛ прежде всего принял к сведению, что яровизация — практическое открытие. В другое время ученые, конечно, потребовали бы сначала проверить утверждения Лысенко на опытных делянках других научных учреждений. Но в 1931 году для этого попросту не было времени. И академики, удовлетворившись докладом специалиста из Одессы, постановили: считать яровизацию методом большого практического значения. Так, вопреки главному принципу биологической науки, поддержка и пропаганда нового открытия началась задолго до того, как кто-либо повторил опыты Лысенко. Ошибка? Ее не заметили. Наоборот, мысль о том, что агрономическая наука дает стране зримые, конкретные блага, обрадовала, увлекла академиков. Ветер энтузиазма тридцатых годов надувал в ту пору и не такие паруса. Короче, в 1931 году агроном Лысенко и его яровизация оказались находкой для всех: и для администраторов, и для ученых.
По распоряжению Вавилова из Ленинграда в Одессу для проведения опытов с яровизацией были отправлены десятки посылок с зерном разных культур, собранных со всего света. Летом 1931 года президиум ВАСХНИЛ снова возвращается к вопросу об экспериментах Лысенко. Единогласно принимается резолюция: "Считать необходимым для разворачивания и расширения работ тов. Лысенко по укорачиванию длины вегетационного периода злаков, хлопка, кукурузы, сои, овощных культур и пр. ассигновать из бюджета Академии 30.000 рублей" [87]. Год спустя сорок опытных станций получают задание проводить "опыты яровизации пшеницы по методу товарища Лысенко".
Заинтересованный новым делом, Вавилов весной 1932 года сам едет в Одессу. Вместе с Лысенко они обходят поля института, ездят по колхозам. Интеллектуал и ученый, Николай Вавилов, естественно, верит каждому слову своего спутника. Он уже распорядился поставить в ВИРе собственные опыты и проверить эксперименты Лысенко, но пока ему в голову не приходит заподозрить агронома в нечестности, подтасовке фактов. В письме, посланном из Одессы в Ленинград, он восторженно говорит обо всем увиденном: "Работа Лысенко замечательна и заставляет многое ставить по-новому. Мировые коллекции надо проработать через яровизацию…" [88] Эта мысль теперь приковывает к себе Николая Ивановича: изменить, укоротить период от посева до плодоношения у южных растений, продвинуть с помощью яровизации новейшие привозные сорта на север. Какого агронома не прельстит такая перспектива! Вавилов не видит тут никакого чуда. Очевидно, Лысенко открыл новые, неизвестные прежде в физиологии растений закономерности. Ну что ж, научная истина не находится ни в чьем монопольном владении. Как справедливо заметил еще Гарвей: "Открытия могут быть сделаны случайно, и любой может учить другого: юноша — старика, простец — разумного". Не грех и ему, академику Вавилову, поучиться у наблюдательного агронома. Правда, в том же письме из Одессы есть и такие строки: "Ездил с Лысенко по колхозам и совхозам; много ошибок с яровизацией". Но Николай Иванович видит только ошибки, допущенные на местах. О том, что ошибкой может быть сама яровизация, пока еще никто не догадывается.
Николай Иванович настойчиво приглашает Лысенко приезжать в ВИР, проконсультировать ленинградских профессоров по физиологии растений. Даже в заграничной командировке, посещая виднейшие институты и лаборатории Америки, он продолжает размышлять о неожиданно расширившихся благодаря идеям Лысенко горизонтах генетики и селекции. "Сам думаю подучиться яровизации" [89], - пишет он летом 1932 года из США.
Известность агронома из Одессы нарастает как снежный ком. Но он все еще скромен: день и ночь его видят на полях, у своих делянок. Он не боится признаться, что ему не хватает знаний в той области, которую он разрабатывает. Одарен. Это видят все, кто с ним сталкивается. И в первую очередь Вавилов. Николай Иванович даже любит время от времени уколоть вировских физиологов и генетиков удачами одессита. Вот где энергия, вот у кого инициатива!
Весной 1932 года, собираясь на VI Международный генетический конгресс в США, президент ВАСХНИЛ составил список советской делегации. Рядом с докторами и профессорами генетики он поместил имя агронома Лысенко. Не ограничившись этим, Николай Иванович отправил личное письмо Трофиму Денисовичу с приглашением поехать в Америку, "где будет для генетика много интересного". На конгресс одесский специалист не поехал. Однако в своей речи, посвященной успехам отечественной биологии, Вавилов счел нужным сообщить ученым мира: "Замечательное открытие, сделанное Т. Д. Лысенко из Одессы, открывает новые огромные возможности для растениеводов и генетиков, работающих над индивидуальными вариантами… Сущность этих методов, которые специфичны для различных растений и различных групповых вариантов, состоит в воздействии на семена отдельных комбинаций темноты, температуры, влажности. Это открытие дает нам возможность использовать в нашем климате для выращивания и для работы по генетике тропические и субтропические растения… Это создает возможность расширить масштабы выращивания сельскохозяйственных культур до небывалого размаха…" [90]
Однако, доверяя Лысенко как своему коллеге, Николай Иванович с конца 1931 года предложил всем опытным станциям ВИР, где проводились так называемые географические посевы, испытать эффективность яровизации. Особенно настойчиво требовал он испытывать яровизацию в условиях севера. "То, что сделал Лысенко, и то, что он делает, представляет совершенно исключительный интерес, и надо Полярному отделению эти работы развернуть", — писал он в Хибины агроному И. Г. Эйхфельду. [91]
Но проверка в растениеводстве — дело не простое и не скорое. Каждый опыт требует самое малое года-двух, а то и больше. Чтобы точно оценить влияние яровизации на различные культуры в разных районах страны, нужны годы и годы. А пока на делянках выяснялась истинная ценность лысенковских идей, сам Лысенко быстро восходил в "научный" зенит. В 1932 году Николай Иванович хлопочет перед президентом Всеукраинской академии наук А. А. Богомольцем, чтобы Лысенко избрали в члены академии [92]. Год спустя — еще одно ходатайство, адресованное в Комиссию содействия ученым при Совнаркоме СССР: Вавилов рекомендует агронома Т. Д. Лысенко в качестве кандидата на премию 1933 года за открытие яровизации. "И теоретически и практически открытие Лысенко уже в настоящей фазе представляет исключительный интерес, и мы бы считали т. Лысенко одним из первых кандидатов на получение премии" [93].
В 1934 году все тот же Вавилов обращает внимание Биологического отделения Академии наук СССР на исследования Лысенко. "Хоть природа яровизации подлежит дальнейшему изучению и, вероятно, вскроет еще много нового", но метод этот Николай Иванович считает "крупнейшим открытием". Столь же ценным представляется ему учение о стадиях развития растительного организма. "Товарищ Лысенко в течение 10 лет упорно работает в одном и том же направлении, — писал Вавилов. — Хотя им опубликовано сравнительно еще немного работ, но последние работы по значению представляют настолько крупный вклад в мировую науку, что позволяют нам выдвинуть его кандидатом в члены-корреспонденты Академии наук СССР" [94].
Докладывая в мае 1934 года в Совнаркоме о достижениях ВАСХНИЛ, президент Академии имени Ленина снова подчеркивает ценность научных открытий Лысенко. Это постоянное возвеличивание заслуг одесского растениевода вскоре дало свои плоды: на Лысенко обратили внимание высокие должностные лица. В Одессу зачастили гости из столицы Украины, а потом и из Москвы. Ученый из крестьян всем нравится — и анкетой, и своими высказываниями он на редкость точно соответствует требованиям времени. Народный комиссар земледелия СССР Я. А. Яковлев даже предоставил ему своеобразную привилегию: Лысенко мог по любому поводу обращаться лично к наркому. Лысенко не пренебрег такой возможностью, в 1932–1933 годах, как явствует из архива, он часто пишет Яковлеву, то жалуясь на недостаток сотрудников в лаборатории, то с просьбой перевести в Одессу своего приятеля Долгушина, то по другим столь же незначительным поводам. Просьбы его, как правило, выполняются. Нарком явно заинтересован работами Лысенко. Он лично заказывает агроному статью о яровизации для советского павильона на выставке в Кенигсберге, дает в 1932 году указание распространить яровизацию на 100 тысячах гектаров в совхозах и широко внедрять ее в колхозах.
Позволю себе небольшое отступление.
Итак, документы свидетельствуют: в начале 30-х годов академик Вавилов открыл агроному Лысенко путь к должностной и научной карьере. Как ни печален сам факт, он неоспорим.
Многолетний друг Николая Ивановича, его однокашница по Петровской академии Лидия Петровна Бреславец в интервью, данном незадолго до смерти, сообщила радиожурналистке А. Г. Хлавне: "Николай Иванович сам втягивал Лысенко на высоту. Вот как-то раз я была на научном заседании в тридцать четвертом году, когда Николай Иванович говорил: "Мы сейчас попросим [выступить], есть такой молодой человек, подающий большие надежды, ученый Лысенко". Лысенко себя тогда уже держал так, что мы не выдержали и сказали Николаю Ивановичу — это страшно, зачем он так его тянет кверху…"
Это воспоминание перекликается с другим, записанным профессором Л. П. Бреславец для печати: "Но, к сожалению, доброта и наивность, почти детская, такие чудесные в этом большом человеке, иногда мешали ему с должной ясностью разглядеть другого человека. Этим воспользовались некоторые низкие лица. Я бы не хотела, — добавляет она, — чтобы создавалось впечатление, что Николай Иванович не разбирался в людях. Он видел недостатки некоторых из своих коллег, но считал, что любовь к науке их перевоспитает" [95].
У нас нет ни малейшей причины не доверять свидетельству умного и искреннего друга Вавилова профессора Бреславец. Повторение своей безграничной любви к науке биолог действительно надеялся увидеть и в других. Увы, доверчивость или легковерие, то свойство натуры, которое Карл Маркс в известной анкете скорее всего был склонен извинить в человеке, превратилось для президента ВАСХНИЛ в подлинное бедствие. В начале 30-х годов стала формироваться довольно обширная категория людей, обретших в науке кормушку и одновременно трамплин на пути к власти. Вавилов пропустил тот момент, когда для этого нового типа людей у нас в стране сложились наиболее благоприятные условия. Он жил в мире науки, в мире творчества и попросту не думал о жуликах. Между 1929 и 1935 годами Лысенко был для Николая Ивановича только молодым, энергичным специалистом, создателем довольно интересной теории стадийного развития растений и метода яровизации. Яровизация же Вавилова сразу заинтересовала. Мы располагаем документом (да, снова документом!), который позволяет судить, насколько искренним и даже горячим был у Вавилова этот интерес. Я имею в виду так называемую академическую записную книжку Н. И. Вавилова за 1934 год [96]. Здесь, на странице 151, среди сугубо личных пометок, совершенно не предназначенных для чужих глаз, можно прочитать следующие набросанные карандашом строки:
"4–5.000.000 пуд. прибавки от яровизации… картофель… Яровизация светом… Лысенко яровизовал комплексом низких t° (температур). Условия развития растений требуют фактора низких температур…" [выделено везде Вавиловым. — М. П.].
На другой странице среди плохо разборчивых записей снова:
"Яровизация Лысенко…
Работать…
Генетика вегетационный период
Управление формообразованием
Широкий простор".
Наконец на странице 189 той же книжки читаем: "Яровизация широких ресурсов — новый метод растениеводства". Здесь уже не просто констатация фактов, а целая программа действий, которую Николай Иванович намечает для советской агрономической науки. Эти сделанные в разное время записи говорят нам еще об одном: с каким живым личным вниманием академик Вавилов приглядывался в те годы к творцу яровизации.
Иными словами, поднимать Лысенко Николай Иванович начал в твердой уверенности, что перед ним оригинальный, яркий исследователь, чьи открытия помогут развитию сельского хозяйства. Так продолжалось, очевидно, до конца 1934 года, а может быть, и до начала 1935-го. Были, однако, во взаимоотношениях Вавилова и Лысенко также иные факторы.
Мы хорошо теперь знаем: интеллигенту двадцатых — начала тридцатых годов каждодневно, ежечасно давали понять, что он — гражданин второго сорта. В газетах, книгах, кинофильмах центральной фигурой является рабочий, пролетарий, на крайний случай крестьянин-колхозник. Интеллигенты, интеллигенция подвергались, наоборот, постоянному притеснению, осмеянию. Их корили за отсутствие твердости ("хилые интеллигенты"), за подлинные и мнимые симпатии к растленному Западу и даже просто за галстук и белый воротничок, за очки и шляпу. В то время как пролетарское происхождение распахивало двери к высшим должностям, в учебные заведения, в науку, служащий или сын служащего, врач, инженер представлялись если не скрытыми врагами, то, во всяком случае, лицами подозрительными. В ВИРе, например, существовала даже специальная аспирантура, где из не очень-то грамотных, но вполне чистых по классовому составу юнцов приказано было срочно готовить "ученых" — будущих руководителей учреждений и предприятий. Учебные и научные требования к этой молодежи предъявлялись минимальные. Зато права этим юнцам выданы были более чем достаточные; в частности, они имели право сменить не понравившегося научного руководителя. Подверженные "классовому" давлению, оглушаемые болтовней о "классовой науке", многие профессора, кто со вздохом, кто хмурясь, а кто и посмеиваясь в кулак, выполняли в те годы "социальный заказ" — выдвигать смену из самых низов. В конце концов такой "классовый" подход, который насильственно стирал разницу между умными и дураками, стал столь обыденным делом, что старая профессура начала даже убеждать себя в очевидной разумности именно такого подбора научных кадров. Интеллигент-ученый или нашел для себя теоретическое оправдание в духе "осознанной необходимости", или просто махнул рукой на причуды эпохи. Я думаю, что сознательно или бессознательно нечто подобное пережил и Николай Иванович Вавилов. У себя в институте он сквозь пальцы смотрел на буйных и ленивых недорослей из спецаспирантуры. Когда же на горизонте появился Лысенко со своей великолепной анкетой и многочисленными идеями, Николай Иванович, вероятно, даже обрадовался: агроном выглядел энергичным, работящим, одаренным — такого и поддержать не грех. Слава Богу, наконец-то требования государственной машины можно совместить с собственной совестью… Я не стану утверждать, что академик Вавилов вот так четко объяснил себе или кому-нибудь другому свою позицию по отношению к молодому Лысенко. Но тому, кто берется писать историю внутринаучных отношений 20-х и 30-х годов, нельзя сбрасывать со счетов это важное обстоятельство: неравноправное общественное положение, в котором в эти годы находились ученый-интеллектуал профессор Николай Вавилов и его протеже крестьянский сын Трофим Лысенко.
Кстати сказать, протеже очень скоро уразумел все выгоды, вытекающие из его анкетных данных. Поощрения свыше, газетные панегирики быстро начинают портить характер недавно еще скромного агронома. Он становится заносчивым, грубым, самомнение его растет буквально по часам. Эти наклонности получили дальнейшее развитие после того, как был арестован директор Одесского института, талантливый селекционер и генетик Андрей Афанасьевич Сапегин и Лысенко назначили на его место. В те же годы произошло и другое важное (если не сказать важнейшее) событие в жизни Трофима Лысенко: он познакомился с Исаем Презентом.
Исай Израильевич Презент никогда не изучал биологию. Он окончил в конце двадцатых годов трехгодичный факультет общественных наук при Ленинградском университете (ФОН), где естественные дисциплины не преподавались. Тем не менее Презент решил полем своей философской деятельности избрать биологию. Несколько лет он тщетно пытался пристроиться к какому-нибудь крупному ученому с тем, чтобы в качестве философа теоретически осмыслять чужие научные идеи. В тридцатых годах такое "осмысление" было занятием довольно распространенным, но начинающему философу никак не удавалось прилепиться к достаточно крупному "шефу". Подступался он со своими предложениями, между прочим, и к Вавилову, но Николай Иванович "словесников" не любил и Презент в ВИРе не задержался. Для Лысенко такая фигура, как Презент, была истинной находкой. Одесский агроном поднимался по общественной лестнице все выше и выше. На новых высотах нужно было закрепляться. Для этого следовало иметь какие-то общие идеи, теоретические взгляды. Надо было явить себя ученым. У Лысенко, не знакомого с элементарными фактами биологии, для этого было слишком мало данных. Можно не сомневаться: если бы не встреча с Презентом (она произошла, очевидно, в начале 1932 года), Лысенко увял бы на своих делянках точно так же, как увяли и ушли в безвестность многочисленные "новаторы" тридцатых и более поздних годов. Встреча с Презентом все изменила. Хитрый, не лишенный способностей, философ быстро смекнул, сколь выгодно ему стать глашатаем выходящего на волну агронома. Понял он и то, что, спекулируя на практицизме и огульно отрицая генетику и вообще всякую биологическую теорию, Лысенко долго на поверхности не продержится. Надо было в качестве поплавка дать ему какую-то собственную позитивную программу. И Презент принялся кроить такую программу.
Дилетант в науке, не знакомый с новыми открытиями биологии, он легче всего понял взгляды Ламарка. В 30-х годах XX столетия они уже не доживали, а отживали свой век. Однако легкодоступная истина о том, что, изменяя внешние условия, в которых живет растение или животное, мы можем соответственно (адекватно) изменять его наследственные свойства, показалась Презенту наиболее подходящей для философской платформы Лысенко. Ламаркизм не только легко было понять даже профану, он легко вписывался в потребности эпохи. Нарком Яковлев требовал от ученых "революционизировать жизнь животных и растений". Жан-Батист Ламарк из своего далека "подсказывал", как это сделать.
Не забыл Презент и Дарвина: творца теории происхождения видов одобряли классики марксизма. Но так как учения Дарвина и Ламарка не вязались между собой, то философ ввел понятие "творческий дарвинизм" и начал приспосабливать великого эволюциониста к условиям эпохи реконструкции и коллективизации. Позднее, когда умер Мичурин, Презент добавил в свою философскую окрошку кое-что из работ всеми уважаемого садовода. Сделал он это с присущей ему решительностью. Одобрил в трудах Мичурина все, что ближе всего подходило к взглядам Ламарка, а все остальное замолчал, как будто даже и не заметил. Так были подняты и объявлены гениальными опыты Ивана Владимировича по так называемой вегетативной гибридизации. Одобрения Презента заслужили также ошибочные взгляды Мичурина на решающую роль внешней среды при формировании наследственных признаков. В своих статьях Презент стал утверждать даже, что Мичурин исправил, улучшил Дарвина. Возник термин "мичуринский дарвинизм". Смысла он никакого не содержал, но выглядел очень политично.
Теория "мичуринского дарвинизма" подоспела ко времени: в 1931–1935 годах наиболее серьезные биологи страны все чаще стали задумываться над странной карьерой Лысенко в науке. Одних настораживали опыты, предпринимаемые без всякого контроля сразу на тысячах гектаров. Других возмущали грубые по форме и неграмотные по содержанию статьи Презента и Лысенко, направленные против проверенных фактов генетики, против крупнейших экспериментаторов мировой науки.
Летом 1935 года член президиума ВАСХНИЛ, профессор Московского университета Михаил Михайлович Завадовский впервые обратил внимание своих коллег на странный альянс, образовавшийся в науке. Завадовский рассказал, что в Ленинградском университете распространяется мнение, будто в Советском Союзе нет никакой генетики и никаких генетиков, кроме Мичурина и Лысенко. Что Лысенко — прямой продолжатель Дарвина. Утверждает все это на своих лекциях заведующий кабинетом дарвинизма философ И. И. Презент. "У меня сложилось такое представление, что Лысенко плохо знает содержание науки… — заметил академик Завадовский. — У него не хватает эрудиции. Этой эрудицией ему помогает Презент, который тоже не знает физиологии, но в последнее время интересуется ею. Получается комбинация, синтез, который дал, с одной стороны, интересную мысль, с другой стороны, пестрит рискованными местами. Поскольку пресса подхватывает некоторые утверждения Лысенко — Презента, они приобретают, с моей точки зрения, угрожающий характер… Шумиха, которая имеет место… не только выворачивает мозги у молодежи и аспирантов, выворачивает мозги и у самих работников; а у Лысенко получается головокружение от успехов, которое лишает его возможности держаться на ногах" [97].
Завадовский попытался обратить внимание также на нравственную сторону оси Презент — Лысенко. Изгнанный однажды из университета за растление студенток, Презент был и прежде известен как человек нечестный и нечистый. Его контакт с одесским агрономом тоже сильно отдавал спекуляцией. Напористый, властолюбивый, выходящий на гребень удачи, Лысенко тащил за собой хитрого конъюнктурщика и сам питался его лукавыми рекомендациями. Однако, разглядев все неприглядности этого "научного" союза, академик Завадовский то ли по мягкости характера, то ли в предвидении лысенковской карьеры ограничился тем, что призвал президиум ВАСХНИЛ помочь Лысенко разобраться в ошибках, разъяснить ему несостоятельность его претензий на звание советского Дарвина.
На том же заседании президиума ВАСХНИЛ саратовский селекционер и генетик Г. К. Мейстер заявил, что Презент и Лысенко шельмуют данные современной генетики, явно не прочитав ни строчки из Моргана и Менделя.
"Наша селекция построена на генетике, а генетика имеет массу достижений, особенно за последние годы, — сказа. Мейстер. — Не принимать в расчет эти достижения — значит, ничего не понимать. Так критиковать, как критикуют Презент и Лысенко, неприлично, особенно неприлично нам в СССР, где ЦК партии и Совнарком решили устроить международный конгресс по генетике, а наши академики помещают критику рыночного характера… Пишут, что есть только два селекционера, Мичурин и Лысенко… Действительно, в СССР был выдающийся селекционер Мичурин, который имел огромные достижения, но ставить Лысенко на одну доску с Мичуриным нельзя, ведь он на протяжении десятка лет не вывел ни одного сорта…" [98]
В том же духе, обвиняя Лысенко в невежестве и неэтичном поведении, выступали недавно назначенный на место Вавилова президент ВАСХНИЛ Муралов, вице-президент Бондаренко, заведующий бюро по опытному делу Лапин. Единственным защитником Лысенко на этом заседании оказался Вавилов. Правда, он признал несерьезными некоторые рассуждения одесского агронома насчет так называемого инцухт-метода, но в основном научное направление одесского института одобрил. "Лысенко, — сказал Николай Иванович, — осторожный исследователь, талантливый, его эксперименты безукоризненны".
Что это было? Затянувшееся заблуждение? Или правы некоторые бывшие сотрудники, которые утверждали, что смещенный с поста вчерашний президент ВАСХНИЛ уже не был свободен в своих публичных оценках? Мне более достоверным кажется первое утверждение. Николаю Ивановичу, когда того требовала польза дела, случалось быть и дипломатом. Но науку, самую истину он никогда не предавал. В крайнем случае Вавилов мог бы промолчать. Публично он отстаивал только то, во что верил.
Впрочем, в 1935 году, обласканный верхами, снабженный теоретической программой, Лысенко мог игнорировать недовольство ученой коллегии. Тем более что сам он только что оказался академиком ВАСХНИЛ. Читать мировую биологическую литературу? В тридцать пятом он уже может позволить сказать этим книгочеям: "Наша первая задача — освоить богатейшее научное наследие Мичурина, величайшего генетика… А мы в первую голову требуем, сколько прочел иностранных книжек" [99]. В другой раз он высказывается еще более откровенно: "Получше знать меньше, но знать именно то, что необходимо практике как на сегодняшний день, так и ближайшее будущее" [100].
Понимает ли Лысенко, что теоретический багаж, который подсунул ему Презент, — научная фикция, фальшивка? Знает ли, что его вовлекают в нечистую игру? Прямого ответа на это у нас нет. Однако нравственный облик Лысенко стал значительно яснее для современников в 1935 году.
В феврале в присутствии Сталина и членов правительства в Москве проходил Второй съезд колхозников-ударников. Лысенко получил приглашение выступить. Его речь была посвящена в основном яровизации. У этого метода, как уже говорилось, были в науке и сторонники и противники. Однако Лысенко предпочел объяснить научные споры совсем иным образом. Через два с небольшим месяца после убийства Кирова, на пороге печальной памяти 1937 года, Лысенко, обращаясь якобы к делегатам, заявил:
"Вредители-кулаки встречаются не только в вашей колхозной жизни. Вы их по колхозам знаете хорошо. Но не менее они опасны, не менее они закляты и для науки. Немало пришлось кровушки попортить во всяческих спорах с некоторыми так называемыми учеными по поводу яровизации, в борьбе за ее создание, немало ударов пришлось выдержать в практике. Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы на фронте яровизации?
В колхозах были кулаки и подкулачники, которые не раз нашептывали крестьянам: "Не мочи зерно. Ведь так семена погибнут". Было такое дело, были такие нашептывания, такие кулацкие вредительские россказни, когда вместо того, чтобы помогать колхозникам, делали вредительское дело и в ученом мире, а классовый враг — всегда враг, ученый он или нет…" [101].
В этом месте речь, которая представляла собой не что иное, как политический донос на своих научных оппонентов, была неожиданно прервана. "Браво, товарищ Лысенко, браво!" — воскликнул товарищ Сталин. И зааплодировал. Вслед за ним бурными аплодисментами взорвался весь зал Кремлевского Дворца. С этого "браво" началась новая эра в жизни создателя яровизации. Через три месяца агроном Лысенко стал академиком, а еще через три года президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.
Глава 5 "СТРАННАЯ ДИСКУССИЯ"
Идеи Лысенко ошибочны и весьма ошибочны… И я считаю, что советскому сельскому хозяйству и советской биологии крайне не повезло, что этому человеку дали такую власть для того, чтобы помешать ценной, по моему мнению и по мнению большинства генетиков, работе.
Джон Холдейн, биолог-марксист.
Из автонекролога, опубликованного в газете "Дейли уоркер" в декабре 1964 г.
Оглядываясь в прошлое, мы, люди 70-х и 80-х годов, связываем беды Николая Ивановича прежде всего с возвеличением Лысенко. Между тем первые тяжелые удары обрушились на академика Вавилова задолго до того, как Лысенко окончательно утвердился на российском биолого-агрономическом Олимпе. Были и другие силы, которые противодействовали ученому с начала 30-х годов. Как же складывались отношения Николая Ивановича с властями между 1925 и 1935 годами?
Первые пятнадцать лет после Октября Вавилов — баловень нового строя. Сын миллионера продемонстрировал новым хозяевам страны не только свою политическую лояльность, но и несомненную полезность. В 20-е годы деловые качества еще ценились. Трудолюбие и талант ученого были оплачены по самому высокому тарифу. В 1926 году он получил Ленинскую премию, затем его сделали членом ВЦИК СССР, депутатом, президентом Сельскохозяйственной академии, членом коллегии Наркомзема. Знаками доверия следует считать и многочисленные зарубежные поездки, которые ему позволяли совершать между 1924 и 1932 годами. Страна, с самого своего зарождения гордившаяся запорами на границах, право на международные поездки дает только избранным. До 1932 года Николай Вавилов, несомненно, остается в числе избранных. Ну что же, он не в долгу перед страной: им создан ВАСХНИЛ, под его руководством работает Институт растениеводства, растет уникальная коллекция семян, работы советских генетиков вызывают уважение на международных конгрессах.
Но для такого высокого общественного положения, которое Вавилов занимает, этого мало. Даже самый маленький по чину гражданин Советского Союза обязан не просто служить, а безоговорочно и активно выполнять любое идущее сверху распоряжение. Таков его главный политический долг. И хотя это обстоятельство не закреплено ни в одном законодательном документе, все отлично знают, какие последствия влечет малейшее нарушение неписаного закона. Для такого крупного чиновника, как член ВЦИК и президент ВАСХНИЛ, ответственность за нарушение политического долга еще выше. Он обязан не просто являть властям свое полное послушание, но и постоянно славословить партию, ее Центральный Комитет, Генерального секретаря в речах, в статьях, в разговорах. Все кругом славословят, дрожа за свои служебные кресла, за эту главную драгоценность чиновника… А Вавилов? От природы лишенный политического честолюбия, человек открытый, душевный и демократичный, — как он чувствует себя в бюрократическом котле? Может быть, его тяготят все эти обязанности и привилегии?
Оказывается, нет. Ибо честолюбие Вавилову вовсе не чуждо. Только сосредоточено оно не вокруг служебного кресла, а вокруг науки. Глава советской агрономии и биологии очень хочет, чтобы его лаборатории имели самое лучшее в мире заграничное оборудование, он желает, чтобы его научные библиотеки были снабжены самой новейшей специальной литературой. Ему нужны средства для новых экспедиций, ставки для научных сотрудников, валюта для закупки семян и для подписки на международные журналы. Все это деньги, а деньги в централизованном бюрократическом государстве может добыть только очень влиятельное, высокопоставленное лицо. И академик Вавилов ценит свое положение, свой престиж. Они нужны ему для того, чтобы с помощью этих рычагов поднимать материальный и творческий потенциал своих институтов.
К политике, к политиканам — где бы он с ними ни встречался: в Европе, Америке или у себя дома — относится он с иронией. За фасадом громких слов ему нетрудно распознать личные, не всегда чистые, помыслы хозяев жизни. Да и сами по себе словеса эти ему безразличны: он человек дела, человек науки. Но раз уж без этого никак нельзя, придется отдать богу богово, а кесарю кесарево.
Презрение к политике не делает, однако, Вавилова брезгливым. Чтобы помочь своему научному делу, он готов даже на легкий флирт с дьяволом. Вернувшись из экспедиции в Афганистан (1925 год), Николай Иванович со смехом рассказывает профессору В. В. Таланову, как ловко ему удалось провести британцев и сфотографировать крепость на индо-афганской границе. Англичане иностранцев к крепости не допускали на пушечный выстрел, а он, Вавилов, подобрался по той дороге, по которой его никто не ждал, по которой ни один европеец до него не хаживал. И вот наснимал целый альбомчик… Рафинированного интеллигента Таланова этот рассказ шокирует — шпионаж! — а великий путешественник, который действительно первым из европейцев прошел через неприступный Кафиристан, только посмеивается. Какое ему дело до политики? В Кафиристане он искал родину пшениц. А крепость — это так, между прочим. Да и нравственность его от этой истории нисколько не пострадала. Желудок — да, желудок он на тамошней пище сильно расстроил.
На другом конце света академик снова оказывает политикам крупную услугу. В Аргентине советское посольство ведет тайную войну с посольством Германии. Эпоха напряженная, в Берлине нацисты рвутся к власти. В этой обстановке германское посольство в Буэнос-Айресе пытается ловить в свои сети души немцев-колонистов. И вдруг не кто иной, как академик Вавилов, ботаник и агроном, разрушает планы немецких дипломатов. Заехав на несколько дней в город, он расположил к себе влиятельного землевладельца, главу местной немецкой колонии. В один прекрасный день влиятельный немец отказался идти на дипломатический прием в германское посольство и демонстративно отправился в представительство Советской России, чтобы поболтать часок с обаятельным Николаем Вавиловым. Этот случай имел, очевидно, важные для Советского Союза последствия, ибо вызвал оживленную переписку между Аргентиной и Москвой. Советские дипломаты благодарили ученого и просили его не прерывать в будущем дружеских отношений с "полезным" немцем из Буэнос-Айреса.
Тут мне хочется остановиться и напомнить еще об одной грани вавиловской натуры. При всем своем научном космополитизме, при всей сердечности по отношению к ученым Запада Вавилов никогда не забывал, что он русский. Где-то в глубинах души таилось в нем чувство своей особой, личной сопричастности к судьбе России. Это уже не политика, не расчет, а наследственное, от русских мужиков и купцов унаследованное восприятие родины как чего-то единственного, чего ни купить, ни продать, ни сменить никак не возможно. Вавилов никогда не говорил о своем русском патриотизме. Да в тридцатые годы и фразеология эта — Русь, Родина, патриотизм — еще оставалась под запретом. Власти не без основания связывали эти понятия с психологией эпохи самодержавия. Но именно в тех "запретных" категориях осмысливал внук мужика, бывший царский приват-доцент глубокую внутреннюю связь со своей родиной. Не будучи шовинистом, он любил все русское: пищу, речь, природу. Неверующий академик заходил за рубежом в православные храмы, член ЦИК лобызался в Париже, в Уругвае и в Бразилии с россиянами, которых разметала по свету революция. Изгнанники были для него прежде всего земляки, русские люди. Строгий рационалист во всем, что касалось науки, Николай Иванович в этом важнейшем пункте бытия давал волю бесконтрольному чувству. Он готов был пойти на любые жертвы ради России, независимо от того, кто сегодня ею управляет, во имя неясной, почти символической России, которая уж тем одним хороша, что является его родиной. Может статься, что, фотографируя недозволенную крепость на Памире и обольщая "нужного" немца в Аргентине, Николай Иванович действует лишь как верный сын России. Повторяю: связь со своей землей относилась скорее к области его чувств, нежели к области мысли. Но чувство это толкало его на то, чтобы одаривать родину вполне реальными и порою очень даже ценными подарками. В начале 30-х годов Вавилов с немалым трудом и риском добывает в Америке важнейшее стратегическое сырье — каучуконосный кустик гваюлу. Тогда же доставил он в СССР семена тщательно охраняемого в Перу хинного дерева. Миллионами рублей исчисляются его подарки отечеству. За границей такой добытчик давно бы стал миллионером. Но зачем нужны миллионы человеку, которому его поиск, его работа доставляют высшее наслаждение? В громокипящей натуре Вавилова явная научная страсть мешается с тайным российским патриотизмом, сложная эта душевная химия превращает ботаника в экономического агента, путешественника — в разведчика, а ученого-лектора — в откровенного политического пропагандиста.
Вавиловские публичные доклады за рубежом более всего говорят о двойственности ученого. Нередко их организовывали советские посольства, но чаще академик сам находил заинтересованную и, как правило, высокопоставленную аудиторию. Доклады о достижениях советской агрономической науки читались в присутствии министров, членов кабинета, крупных чиновников, их широко комментировала пресса. Несомненно, что они оказывали благотворное влияние на отношение Запада к Советскому Союзу. После каждого такого выступления в Москву из соответствующих посольств поступали докладные записки о политическом звучании речей члена ЦИК Вавилова. Часть этих докладов вошла потом в следственное дело, и я имел возможность читать их. Посольские работники хвалили Вавилова. После 1930 года, когда положение в советском сельском хозяйстве резко ухудшилось, а мировая пресса писала о голоде в СССР, ученый умело обходил острые углы и в своих речах напирал в основном на победы отечественной генетики и физиологии растений. Биологи наши действительно имели в те годы немалые успехи. Но Вавилов знал и о том, что в деревне люди мрут от голода, а на колхозных полях, как он сам заметил, объезжая страну летом 1932 года, "культивируют не пшеницу и ячмень, а сорняки". И тем не менее речи президента ВАСХНИЛ в США и Канаде осенью 1932 года по-прежнему повествуют лишь о победах. Кесарь Сталин получает то, что хочет получить. А Бог? Николай Иванович, очевидно, очень удивился бы, если в те дни кто-нибудь стал бы уличать его в политиканстве. Лично для себя он ничего не искал. А дело, наука российская в результате его докладов только выгадывали. Что же касается зарубежных слушателей, то в докладах Николая Ивановича они получали много интересной и правдивой информации, хотя по обстоятельствам места и времени не в полном, так сказать, объеме. Нет, к политике он, академик Вавилов, никак не причастен…
Добродушная и чуть лукавая улыбка играла на лице Вавилова, когда весной 1930 года в вагоне поезда Москва — Ленинград он рассказывал генетику А. И. Купцову очередную кремлевскую историю: "А Максимыч (академик Н. М. Тулайков) вчера осрамился. Были мы с ним у Сталина. И он вздумал свою политическую грамотность показать. Выучил "Исторический материализм" Бухарина, да при случае все цитаты из него и ввертывает. А Сталин на него с недоумением смотрит — Бухарин-то не в фаворе" [102]. Мог ли думать президент ВАСХНИЛ, с детской непосредственностью вспоминающий дворцовый анекдот, что через пять лет недовольный взгляд вождя обернется гибелью для талантливого земледела Тулайкова, а через десять — сведет в раннюю могилу и его, Вавилова?
Ах, эта вечная наивность тех, кто надеется лишь чуть-чуть, только самую малость поиграть с нечистой силой. Всегда кажется, что хватит осторожности и здравого смысла не слишком приближаться к краю пропасти. А дьявол, он играет наверняка…
Времена менялись. Еще в 1930–1931 годах Вавилов не понимал, отчего так быстро бюрократизируется ВАСХНИЛ, почему к руководству сельскохозяйственной наукой приходят не серьезные ученые, а какие-то малограмотные и крикливые субъекты. Следующие три-четыре года, очевидно, многому его научили. Начали выявлять себя трагические последствия коллективизации, и прошла волна арестов среди биологов, агрономов, ветеринаров. Специалистам предстояло держать ответ за развал в сельском хозяйстве. В ВИРе арестовали восемнадцать ведущих сотрудников. Эпоха мрачнела на глазах. Те невинные шалости, которые сходили Николаю Ивановичу с рук во время его заграничных командировок в 20-е годы, берутся на заметку в начале 30-х. Возвращаясь из Америки в феврале 1933 года, он, как всегда, встретился в Париже со старыми друзьями из Пастеровского института, профессором Метальниковым и Безредкой. Друзья пришли на вокзал проводить его. И тотчас в Москву помчался донос: "Вавилов встретился с белоэмигрантами". Да еще интервью дал "не той газете" и сказал корреспонденту, что до революции "был царским приват-доцентом". Нехорошо… Вавилов и сам чувствует, что нехорошо. Обняв на вокзале старого друга Метальникова, подумал — быть беде [103].
Быть беде… Глубокой ночью на московскую квартиру Николая Ивановича прибежала Лидия Петровна Бреславец. Шла весна 1933 года. Давняя, со студенческих лет приятельница была не на шутку встревожена. Ей удалось узнать, что назавтра Вавилова вызывают в ЦК. Ученого ожидает серьезная головомойка. В верхах недовольны зарубежными поездками директора ВИРа, считают, что пользы от этих поездок — никакой, а денег тратится много. Эту точку зрения передал Лидии Петровне ее знакомый член ЦИК Георгий Ипполитович Ломов, саратовский большевик-подпольщик с дореволюционным стажем. Но академик Вавилов, который только что с опасностью для жизни добыл в Южной Америке столь необходимые Советскому Союзу семена хинного дерева и несколько тысяч образцов других ценных растений, принял известие с недоверчивой улыбкой: "Пустяки все это. В ЦК неглупые люди сидят, разберутся". И хотя мы не знаем, какой разговор произошел на следующий день в Центральном Комитете ВКП(б), но зато доподлинно известно, что путь за границу великому путешественнику с той поры был заказан навсегда.
По натуре Вавилов — неисправимый оптимист. Но эпоха исправляла и неисправимых. Вскоре после неприятного разговора в ЦК "Правда" резко выступала против ВИРа и его директора. Главное обвинение заключалось в том, что Институт растениеводства якобы не занимается практически полезным делом, не дает стране новых сортов. Мысль о том, что микроскоп вполне пригоден, чтобы им забивали гвозди, была высказана в центральном органе партии еще до того, как Лысенко начал свой победоносный поход на теоретическую науку. Николай Иванович кинулся было отстаивать свое детище, но вскоре разыгрались события еще более серьезные.
С лета 1934 года в ВИРе шла подготовка к торжественному празднованию к десятилетию института, к сорокалетию той лаборатории, на базе которой ВИР возник. Одновременно предполагалось отметить четвертьвековой юбилей научной деятельности директора. Вавилов, как всегда, полон энтузиазма. Может быть, ему кажется, что торжества укрепят в глазах начальства пошатнувшийся авторитет его дела. Он призывает сотрудников к самым энергичным действиям. "Мы подытоживаем в основном то, что проделано советской страной за советское время в растениеводстве. Много сделано, есть что показать… Я просил бы работников отдела растительных ресурсов считать, что они в особенности держат экзамен. Эта часть самая оригинальная… Мы в этом отношении перегнали все страны — это выявить нужно. Отдел пшениц показать от цитологии, от хромосом, до производства, до колхозного элеватора" [104].
В Ленинграде ждут гостей, в том числе много иностранцев. В ВИР потоком идут приветственные телеграммы от ведущих биологов мира, пришли поздравления от председателя совета министров Турции, от министров земледелия США, Болгарии, Финляндии, Польши. И вдруг за четыре дня до срока торжество без всякого объяснения отменено. Вавилов потрясен. Он пишет письмо Я. А. Яковлеву, бывшему Наркомзему, занимающему пост заведующего отделом сельского хозяйства в ЦК. Ходит слух, что Яковлев, невзлюбивший с некоторых пор Николая Ивановича, запретил юбилей. В Наркомземе новое лицо Чернов. Перечеркнув имя, отчество Яковлева, Вавилов вписывает новое обращение: "Уважаемый Матвей Александрович" и сам везет письмо для личного вручения наркому. Письмо — крик изумления и негодования: "Внезапная отмена юбилея, когда весь институт принял праздничный вид, произвела на большой коллектив… удручающее впечатление, как выражение вотума недоверия… У руководящего персонала института этот факт, естественно, вызывает сомнение в том, пригоден ли он для руководства" [105]. Ответа на письмо получить так и не удается. Чернов уходит вслед за Яковлевым в тюрьму, в могилу. На короткое время в Наркомземе возникает Эйхе, но и его век недолог…
Очевидно, после несостоявшегося юбилея Николай Иванович ясно понимает, что быть просто хорошим ученым — недостаточно. Недостаточна и та политическая плата, которую он до сих пор вносил для блага своего научного дела. Властям нужно что-то другое, чего он не знает, не умеет. Рождается страшная догадка: в какой-то миг фантасмагория необъяснимых арестов и бессудных расстрелов может коснуться и его, Вавилова, президента ВАСХНИЛ и члена ЦИК. Он отталкивает от себя ужасный домысел: ведь он ничего не делал такого… А что непозволительного сделал его заместитель по институту, честнейший селекционер Виктор Евграфович Писарев? Чем виноваты кристально чистый цитолог Григорий Андреевич Левитский, профессора Максимов, Таланов, Сапегин и десятки других арестованных в ВИРе и на опытных станциях? Еще далек вроде бы 1937 год; еще только-только прозвучали те слова Сталина, которые приведут впоследствии Лысенко к положению диктатора в биологии и сельском хозяйстве; еще не знает Вавилов, что заведено на него "Дело", куда подшиты первые доносы. Но чутким своим ухом и зорким глазом улавливает он необратимую перемену в политическом климате. И тайный страх, который никому нельзя выдать, о котором никому нельзя рассказать, поселяется в сердце бесстрашного путешественника. Вавилов прячет, все глубже загоняет это чувство, но оно то и дело прорывается помимо его воли.
"Лишь дважды я видел своего друга в волнении, — вспоминает лауреат Нобелевской премии, американский генетик Герман Меллер. — В первый раз, когда он рассказал мне о том, что случилось с ним только что в Кремле. Спеша на заседание Исполнительного Комитета (ЦИК), он торопливо завернул за угол в одном из кремлевских коридоров и столкнулся с шедшим навстречу Сталиным. По счастью, оба тотчас же поняли, что столкнулись случайно, однако и через несколько часов, вернувшись в Институт генетики, Вавилов все еще не мог прийти в себя" [106].
Выросший в иной общественной атмосфере, Меллер едва ли мог понять всю глубину переживаний своего русского товарища. Встреча в кремлевском коридоре (она произошла скорее всего весной 1935 года) по стандартам того времени выглядела отнюдь не безобидной. Столкнувшись с Вавиловым, Сталин, который был ростом значительно ниже, сначала отпрянул и с ужасом взглянул на огромный вавиловский портфель. Очевидно, его уже тогда мучили страхи, которые позднее переросли в подлинный психоз. В набитом книгами портфеле ему почудилась взрывчатка. В следующий миг, однако, Сталин взял себя в руки. Вместо маски ужаса на лице его возникло хмурое подозрительное выражение. Вождю было неприятно, что кто-то видел его испуг. Так рассказал об этом Николай Иванович тем, кто был значительно ближе ему, чем Меллер. Говорил он об этом со всегдашней своей доброй, чуть юмористической улыбкой, как о забавном незначащем случае. Но вряд ли сам считал ту встречу пустяшной.
Переживание, испытанное в кремлевском коридоре, никак не забывалось. Наоборот, страх матерел, разрастался, застилал горизонт. На годы вперед протянулись от него корни-щупальцы к каждому поступку, каждому высказыванию ученого. Директору ВИРа, вице-президенту ВАСХНИЛ нужна была тактика, нужна была стратегия, нужна была дипломатия.
Тоталитарный режим оттого и именуется тоталитарным, что каждого даже самого нейтрального гражданина стремится сделать пособником своих преступлений, всех и каждого старается запачкать в крови своих жертв, всех сковать круговой порукой соучастия. Для этого служат массовые политические митинги, на которых гражданина заставляют распинаться в преданности режиму, и "письма протеста" против действительных и фальшивых врагов. Иногда властям нужны, наоборот, — "письма в поддержку", и, как и прочие процедуры, эта превращается в испытание нравственной прочности гражданина. Чем выше на общественной лестнице стоит гражданин, тем труднее ему уклониться от порочащих его публичных заявлений. Между тем именно писатели, артисты, художники, ученые наиболее лакомы для чиновника; заявление о верности особенно важно получить от них, от этих сливок общества.
Год 1937-й был не только годом великого кровопролития, но и годом непрерывных присяг на верность. 28 января в центральных и республиканских газетах, среди других подобных призывов, появилось письмо, озаглавленное: "Мы требуем беспощадной расправы с подлыми изменниками нашей великой родины". Как и все такие письма, сочинение это не содержало никаких фактов, а наполнено было только бранью, угрозами и клеветой. Его можно было бы и не вспоминать (мало ли грязи выплескивает каждая эпоха!), но несомненный интерес представляет список авторов этого сочинения. Публика собралась действительно отменная: химик А. Бах, растениевод Б. Келлер, геолог И. Губкин, паразитолог Е. Павловский, строитель локомотивов В. Образцов, физиолог А. Сперанский, математик М. Лаврентьев, эпидемиолог П. Здродовский. Все они в один голос требовали: убить, раздавить, растоптать. Третьим по счету автором письма значился Николай Иванович Вавилов. Думал ли этот третий, что по иронии судьбы ровно через шесть лет, почти день в день он сам, став "врагом народа", будет умирать на тюремной койке? Впрочем, "не судите и не судимы будете". Не для суда над героем привожу я здесь этот факт, а затем только, чтобы сопоставить его с другим фактом, который произошел в том же тридцать седьмом. Уже в наше время рассказал мне эту историю профессор Н. В. Тимофеев-Ресовский, известный генетик и радиобиолог.
В "благостные" 20-е годы генетик Н. К. Кольцов послал своего любимого молодого сотрудника Тимофеева-Ресовского учиться в Германию. Вавилов в те годы довольно часто бывал в Берлине, и между двумя генетиками сложились сердечные отношения. После прихода к власти гитлеровцев Тимофеев-Ресовский начал собираться домой, но однажды в тридцать седьмом получил из СССР предупреждение, что дома его ждет тюрьма, а может быть, и что-нибудь похуже. Записку эту переслал ему с американским генетиком Меллером Николай Иванович Вавилов [107].
Таковы два поступка, совершенные ученым в одном и том же году. Такова "тактика и стратегия", к которой принуждал век-волкодав честного человека, вовсе не заинтересованного в личных благах или в успехе на ступенях карьерной лестницы.
Беседуя в 1971 году с профессором Тимофеевым-Ресовским, я между прочим спросил его, значит ли рассказанная им история, что Николай Иванович политически прозрел только к тридцать седьмому году? Ведь только человек, окончательно понявший ситуацию, возникшую в стране, мог подать другу совет не возвращаться на родину. Для этого нужна была не только смелость, но и мудрость. "Нет, — возразил Тимофеев-Ресовский, — Николай Иванович прозрел значительно раньше, еще в 1934-м" (sic!).
Согласимся, что такая "игра с дьяволом" требовала немало дипломатических способностей и просто ума. Может быть, именно эта игра спасла академика Вавилова от арестов 1937–1938 годов. Но время тем не менее работало против него. Как ни умен был Вавилов, ему поначалу и в голову не могло прийти, что именно Лысенко власти готовят на его место; что малограмотному, но волевому агроному предстоит вытоптать у себя на родине все посевы, выращенные мировой и русской биологической наукой, а затем уничтожить и самих биологов. А между тем почти с самого начала своей карьеры Лысенко вел дело именно к этому.
Яровизацию, которую Николай Иванович считал делом экспериментальным, требующим проверки (об этом — смотри выше — он и писал Эйхфельду!), Лысенко объявил вдруг верным средством сегодня же поднять урожаи пшеницы по всей стране. Замоченные перед посевом семена, по его словам, должны дать прибавку урожая не меньше центнера на гектар. Перемножив этот гипотетический центнер на все 100 миллионов гектаров, занятых под хлебами в Советском Союзе, агроном начал в газетах и по радио сулить стране дополнительные эшелоны хлеба почти без всяких затрат. Яровизация объявлена главным методом, который принесет стране изобилие. Проверка? Он считал, что лучшая проверка — испытание метода прямо на полях, на миллионах гектаров. Он даже объясняет, что такое новшество стало возможным только в нашей стране, где опытным делом занялись сотни тысяч колхозников.
Вавилов изумлен. На его глазах не раз уже возникали и лопались мыльные пузыри таких "радикальных" советов сельскому хозяйству. Между тем любой грамотный агроном знает: один даже самый замечательный метод, один самый великолепный агротехнический прием судьбу урожая в целом решить не может. Еще в 1928 году, выступая на дискуссии по подъему урожайности, Николай Иванович говорил "радикалам" от земледелия, которых и в ту пору находилось достаточно: "Мы не можем остановиться на каком-нибудь одном мероприятии как панацее от всех бед, будь то зяблевая вспашка или какой-нибудь иной технический прием" [108].
Но на справедливое предостережение не обратили внимания ни в 20-х, ни в 30-х годах. Теперь главный носитель "радикальных" решений в сельском хозяйстве предпринял попытку вновь выйти из-под контроля науки.
То, что президиум ВАСХНИЛ однажды в 1931 году допустил как исключение, Лысенко пытается внести как постоянное правило для себя. Он играет при этом на политической конъюнктуре. В газетах много пишут о движении колхозников-опытников, о необходимости в каждом селе иметь лабораторию. Очевидно, при низком уровне земледельческой культуры тридцатых годов такие самодеятельные хаты-лаборатории действительно могли послужить для хлеборобов своеобразным ликбезом. Однако эту самодеятельность Лысенко в своих речах именует не иначе как "народной академией", способной внести в практику земледелия не меньше, а значительно больше, чем "городские" ученые. Он требует, чтобы контроль над каждым новым сортом и агрономическим приемом осуществляли теперь не исследователи в институтских лабораториях и на опытных делянках, а сами колхозники на своих полях и в хатах-лабораториях. Надо ли говорить, какой простор для всякого рода "научных" спекуляций открывало такое предложение. И первой такой спекуляцией была яровизация, объявленная методом, повышающим урожай…
Работая над этой книгой, я не раз слышал от моих собеседников, видных ученых-биологов, что в карьере Лысенко есть что-то почти мистическое. Они произносили это слово с полуулыбкой и тем не менее вполне серьезно.
— Подумайте, — говорили они, — урожаи в тридцатые годы, несмотря на все заклинания "прогрессивных биологов" и "истинных дарвинистов", не растут; бумы, организованные Лысенко, кончаются провалом. Вот уже много лет никто не вспоминает злополучную яровизацию. Она забыта так же прочно, как забыты стерневые посевы хлебов в Сибири, внутрисортовое опыление, скоростное, за два с половиной года, выведение новых сортов пшеницы, гнездовые посадки дуба в степи, высокие и сверхвысокие урожаи проса и многие другие плоды буйной лысенковской фантазии. Кто же мешал разоблачить если не теоретическую, то хотя бы практическую несостоятельность его ответов?
Мистики не было. Разоблачить Лысенко мешал прежде всего сам Лысенко. Поток его идей неисчерпаем. Предложения следуют одно за другим с интервалом всего лишь в несколько месяцев. После эпопеи с яровизацией он объявляет, что совершенно необходимо переопылять пшеницу внутри одного сорта, это-де тоже даст колхозникам большую прибавку урожая. Газета "Социалистическое земледелие" поднимает массовую кампанию. Переопылением занимаются десять тысяч колхозников в двух тысячах хозяйств. Лысенко считает, что этого мало. В следующем году, по его расчетам, надо вовлечь 50–70 тысяч колхозов. Проходит немного времени, и переопыление оставлено, зато с таким же энтузиазмом Лысенко твердит в печати и по радио о необходимости всенародной борьбы за стопудовые урожаи проса. Просо — культура больших возможностей, культура номер один. В колхозах организованы специальные звенья, Сельскохозяйственная академия разрабатывает специальную агротехнику проса, какой еще никогда не существовало. Просо, просо… Но проблема летних посадок картофеля на юге вытесняет и разговоры о просе, и крики о переопылении пшеницы…
Тот, кто сегодня с тайным изумлением говорит о "мистике" лысенковской карьеры, забывает, что внешне действия всевластного агронома всегда соответствовали истинным потребностям времени. Страна действительно остро нуждалась в зерне, в просе, было действительно трудно завозить ежегодно на юг огромное количество посадочного картофеля взамен вырождающегося местного. Лысенко брался разрешить именно эти главные, коренные проблемы земледелия. Обещая повысить сбор зерна, клялся на каждом гектаре проса давать стопудовый урожай, гарантировал, что картофель, посаженный на юге по его методу, вырождаться не будет. Он не просто это утверждал, но оперировал точными расчетами. Правда, имея в виду будущие урожаи, грядущую жатву. В эпоху больших цифр его выкладки выглядели вполне достоверно. О них так много говорили и писали, что людям несведущим (а несведущие оказывались в большинстве, ибо цифры реальных урожаев в те годы держались в тайне) начинало казаться: проблема зерна, проса и картофеля давно разрешена академиком Лысенко наилучшим образом.
А подлинные итоги? Их трудно учесть в обстановке, когда одного за другим арестовывают наркомов земледелия, заведующих отделом сельского хозяйства ЦК, президентов ВАСХНИЛ. "Враги народа" повсюду. И конечно же, в сельском хозяйстве. Их ищут и находят. Находят и списывают на них все промахи, просчеты, ошибки и просто глупости. Списывают и результаты опытов Лысенко.
Глава "прогрессивной биологии" остается любимцем Сталина. Сталину импонируют его размах, смелость опытов (восемьсот тысяч пинцетов для колхозников, занятых внутрисортовым скрещиванием! Масштаб!). Но есть у Трофима Денисовича и другие черты, которые Сталин любит у своих подданных. Человек из народа, сын крестьянина, Лысенко ведет споры, крепко держась за цитаты Маркса, Энгельса и прежде всего самого Сталина. Его взгляды материалистические, значит, правильные. Все другие взгляды идеалистические и, следовательно, неправильные. Ни одной речи Лысенко не произносит без здравицы в честь советской власти, советской науки, советского "мичуринского дарвинизма" и, конечно же, поясных поклонов отцу народов, корифею науки — товарищу Сталину.
Очевидно, Сталину импонирует и такое немаловажное обстоятельство, что идеи Лысенко просты и понятны. Для малокультурного человека понятное утверждение всегда кажется достоверным. А утверждения агронома Лысенко не только популярны, но великолепно вписываются в философскую систему, которую проповедует сам Сталин. Достаточно изменить условия существования организма, и он не только сам изменится определенным образом, но детям, внукам и правнукам своим передаст закрепленные при этом превращения. Так говорит Лысенко. А товарищ Сталин и сам через своих придворных философов вещает: стоит изменить экономические отношения между людьми, и немедленно преобразуется вся человеческая порода, изменятся жизненные принципы, вкусы, нравы, общественные и личные отношения. Исчезнет корыстолюбие, не станет преступников, проституток, пьяниц. В прекрасное будущее войдут люди-ангелы, люди-идеалы. Многозначительное совпадение взглядов агронома Лысенко и "великого садовника" Сталина со временем породило на отечественной почве весьма горькие плоды. И плоды, как мы теперь знаем, не случайные. "Генетика, — пишет американский ботаник профессор Пенсильванского университета Коней Зиркл, — отрицает наследование приобретенных признаков, но этот тип наследования кажется настолько многообещающим, что всегда пользуется успехом у тех, кто хочет быстро переделать человечество".
Но дело не только в том, что Лысенко приспособил свою "теорию" к сталинской идеологии. Сталину он подходит как личность: энергичен, активен и в то же время абсолютно послушен. Именно таких людей Сталин ценит более всего. Самых послушных использует он в качестве "фюреров" той или иной области научной или общественной жизни. Такие доверенные "фюреры" управляют от имени вождя и своим профессиональным авторитетом как бы подкрепляют авторитет высшей власти. Так во главе советской литературы стоял многие годы писатель Александр Фадеев, чей роман "Разгром" полагалось считать классическим; во главе художников поставлен был Александр Герасимов, писавший портреты вождей. Были свои "фюреры" в металлургии (академик Бардин) и в кино (Большаков), в авиации и журналистике. "Фюрером" сельского хозяйства и биологии Сталин назначил Трофима Лысенко, выходца из крестьян, преданного Сталину собачьей беспредельной верностью.
Сталин непрерывно одаривал Лысенко знаками своего расположения. Его награждают орденами и избирают в депутаты Верховного Совета. Начиная с 1935 года не проходит ни одного всесоюзного совещания по сельскому хозяйству, где бы "народный ученый" не давал основополагающих рекомендаций по всем вопросам земледелия — от селекции до удобрений включительно. Любимец Сталина, он становится лицом, не доступным критике.
От былой скромности агронома не остается и следа. Раболепие последователей (их круг растет вместе с ростом влияния Лысенко), огромные полномочия делают его совершенно нетерпимым к любой чужой научной идее. Впрочем, сама наука для него становится теперь только источником вожделенной власти. Еще год-другой, и он приберет к рукам все вожжи, покажет этим "интеллигентам", чего он стоит. Лысенко искренне верит в свою гениальность. Эту веру в нем усиленно раздувает Презент, не жалеющий сил, чтобы придать наукообразный вид всему, что выходит из уст шефа.
После сталинских аплодисментов казалось, что позиция Лысенко в науке нерушима. И вдруг произошло непредвиденное. Нашлись люди, не побоявшиеся поставить под сомнение лысенковские "открытия". Это случилось в декабре 1936 года на IV сессии ВАСХНИЛ. Видные селекционеры: академик П. Н. Константинов, академик П. И. Лисицын, известный саратовский селекционер А. П. Шехурдин — впервые публично объявили о полной несостоятельности лысенковских агрономических затей. С ними было трудно спорить: творцы новых сортов черпали аргументы из собственного многолетнего опыта. Они без обиняков заявили, что внутрисортовое переопыление хлебов "не дает сколько-нибудь реального повышения урожая" [109], что массовое переопыление приведет в конце концов к тому, что наша страна потеряет свои лучшие сорта. Это предсказание академика Лисицына, к сожалению, позднее сбылось.
Академик Лисицын указал также на весьма сомнительный эффект яровизации. "Мы сейчас не имеем точного представления о том, что дает яровизация, — заметил он. — Академик Лысенко говорит, что она дает десятки миллионов пудов прибавки. В связи с этим мне приходит на память рассказ из римской истории. Один мореплаватель, перед тем как отправиться в путь, решил принести богам жертву, чтобы обеспечить себе счастливое возвращение. Он долго искал храм, где было бы выгодно принести жертву, и везде находил доски с именами тех, кто принес жертву и спасся. "А где списки тех, кто пожертвовал и не спасся? — спросил моряк жрецов. — Я хотел бы сравнить милость разных богов".
Я бы тоже хотел поставить вопрос академику Лысенко: "Вы приводите урожаи в десятки миллионов пудов, а где убытки, которые принесла яровизация?" [110]
Поднявшийся следом на трибуну академик-селекционер Константинов подкрепил вопрос Лисицына конкретными цифрами. Опираясь на данные пятидесяти трех сортоучастков Советского Союза, проводящих яровизацию пшеницы с 1932 по 1936 год, он сообщил: яровизация в половине случаев слегка повышала урожай, а в половине — даже снижала. Принимать такой агрономический прием всерьез — самоубийственно для земледелия [111].
"Невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за ней". Эта мысль Мишеля Монтеня, очевидно, не раз приходила на ум делегатам, представлявшим в 1936 году на сессии ВАСХНИЛ подлинную науку. В чванном невежестве недостатка не было. Непроверенные, несовершенные "опыты" то и дело выдавались за высшее достижение науки. Чтобы придать своей позиции солидность, лысенковцы усердно повторяли, что их противники не знают, не понимают Дарвина. Между тем главный "дарвинист", выступая незадолго перед тем на совещании в присутствии членов правительства, откровенно признался: "Я, товарищи, должен тут прямо признаться перед Иосифом Виссарионовичем Сталиным, что, к моему стыду, Дарвина по-настоящему не изучал. Я кончил советскую школу, и я не изучал, Иосиф Виссарионович, Дарвина. Обычно из Дарвина помнят только то, что человек произошел от обезьяньего предка…" [112].
Дальше сведений об "обезьяньем предке" лысенковцы не пошли, и резкая отповедь безграмотным ретроградам законно прозвучала в выступлениях таких видных биологов-дарвинистов, как академик Н. К. Кольцов и академик А. С. Серебровский. Особенно решительна была речь американского ученого Германа Меллера. Его лаборатория в Институте генетики АН СССР разработала методы активного вмешательства в процесс образования мутаций, скачкообразных изменений наследственных признаков. Открылась возможность ускорять изменчивость растений и животных, использовать ее для исследовательских и хозяйственных целей. Речь Меллера, который недостаточно владел русским языком, прочитал на сессии ВАСХНИЛ академик Кольцов. Но заключительные слова американский ученый пожелал произнести сам. Это были слова, доныне памятные всем здравствующим участникам сессии. "Если наши выдающиеся практики, — заявил под гром аплодисментов всего зала академик Меллер, — будут высказываться в пользу теорий и мнений, явно абсурдных для каждого, кто хоть немного знает генетику, такие, как положения, выдвинутые недавно президентом Лысенко и его единомышленниками… то стоящий перед нами выбор будет аналогичен выбору между знахарством и медициной, между астрологией и астрономией и между алхимией и химией" [113].
Выступал на той сессии и академик Вавилов. Но доклад его, умный, честный, как всегда богатый интересными фактами, не удовлетворил ни друзей, ни врагов. И те и другие видели, что ученый только обороняется.
Интересно, что, когда доклад Вавилова обсуждался предварительно в ВИРе, ведущие сотрудники института сделали своему директору специальный "наказ": "Дать веское слово на сессии по поводу полемики. Его ждут все. Это общее мнение собрания" [114]. Вавилов наказ не выполнил. Его поразили и изумили беззастенчивая ложь лысенковцев, их вопиющая необразованность в элементарных вопросах биологии. Надо было уличить их в элементарном жульничестве, указать на безнравственное, антиобщественное поведение тех, кто передергивает в опытах и крушит своих противников с помощью политических доносов. Однако такая форма дебатов была Николаю Ивановичу глубоко противна. Обстановка научной сессии обязывала спорить только по научным вопросам и ни в коем случае не переходить на личности. Перешагнуть этот рубеж академик Вавилов не мог, не умел. "Он был совершенно неспособен к тому, что мы называем борьбой. Он был ученый, и все" — так три десятка лет спустя охарактеризовала своего учителя бывшая сотрудница ВИРа Александра Алексеевна Зайцева [115]. Однако, заговорив о дорогой его сердцу генетике, Николай Иванович ясно показал лысенковцам: тут он не уступит. "Законы Моргана и Менделя мы считаем основой нашего понимания наследственности. Других равноценных теорий мы пока не видим и потому отходить от современной генетики не имеем оснований" [116]. Вернувшись в Ленинград, Николай Иванович на общем собрании сотрудников ВИРа снова повторил: "Была попытка поколебать здание современной экспериментальной генетики, связать ее с антидарвинистскими тенденциями. Думаю, что общее впечатление таково, что здание генетики осталось непоколебимым, ибо за ним стоит громада точнейшей проконтролированной работы. Здание экспериментальной генетики можно опровергнуть только точнейшими же экспериментальными данными. Пока их нет — генетика существует" [117].
Конечно, вся эта критика никаких последствий не имела: Лысенко находился в зените славы и "всенародного" признания.
Впрочем, нет, кое-какие последствия возникли. После 1937 года ряды искателей правды начали редеть. Скончался непрерывно подвергавшийся травле академик Н. К. Кольцов. Выехал из СССР Герман Меллер. Он поехал в Испанию и принял участие в боях за Мадрид. Были арестованы и расстреляны президент ВАСХНИЛ А. И. Муралов, вице-президент А. С. Бондаренко, академик Г. К. Мейстер — все те, кто в 1936 году позволяли себе усомниться в безгрешности идей Лысенко. Исчезли в недрах сталинской машины уничтожения такие крупные генетики, как Левит и Агол.
Было объявлено, что аресты не имеют никакого отношения к предшествовавшим научным спорам, но последовательность, с которой карательные органы арестовывали сторонников Вавилова (в том числе сотрудников ВИРа) и не изъяли ни одного явного лысенковца, заставляет усомниться в том, что перед нами просто случайность. Эта закономерность не ускользнула от глаз Вавилова. В 1937–1938 годах Николай Иванович уже ясно увидел всю глубину своей ошибки. Он обманулся не только как человек, но, что было для него важнее, как ученый. Никто из близких не услышал по этому поводу шумных иеремиад. Просто сотрудники заметили, что с некоторых пор директор ВИРа стал упоминать имя Лысенко только в официальной переписке и лишь в случаях крайней необходимости. И только обращаясь к старому другу Меллеру, в письме, которое было послано из Ленинграда в Мадрид в разгар гражданской войны, Николай Иванович признается: "Недавно я и проф. Мейстер побывали в Одессе, чтобы проверить работу по развитию растений, проводимую Лысенко. Должен заметить, что убедительных доказательств там слишком мало. Раньше я ожидал большего" [118]. Это в стиле Вавилова. "Николай Иванович был очень доверчив и снисходителен к людям, — вспоминает профессор Е. Н. Синская, — но до известного предела. Если он сталкивался с поступком человека, который он никак не мог принять или оправдать, такой человек переставал для него существовать. Николай Иванович умолкал о нем навсегда, но ни злобы, ни раздражения не высказывал" [119].
В том, что академик Вавилов не умел, не мог пользоваться в борьбе теми же средствами, что и Лысенко, таится, как мне кажется, главная причина, по которой один был низвергнут, а второй вознесен на вершину карьеры. Ученый и интеллигент, Вавилов не мог объявить, что он одним махом удвоит и утроит урожаи проса по всей стране. Ему хорошо известно, как разнообразны климатические и почвенные условия в разных зонах огромной сельскохозяйственной державы, как долог и сложен путь к победе научного земледелия. Он не способен был заявить, что выведет сорт пшеницы за два с половиной года, потому что теми средствами, которыми располагали селекционеры начала тридцатых годов, сделать это было невозможно. Лгать стране для Вавилова столь же невыносимо, как лгать сыну или другу. Он не может заниматься интригами и писать доносы, так же как не способен печатать фальшивые деньги или торговать наркотиками. Тут два различных организма, два непримиримых характера. Вопрос о том, кому из двоих торжествовать на общественной и научной арене, зависел, однако, не только от внутренних, но и в значительной степени от внешних причин. Обществу, которое в своем развитии, хотя бы для видимости, опирается на научный прогресс, необходимы Вавиловы. Когда же естественный ход общественного развития нарушен, когда на первый план выступает политика, пропаганда, — возникает повышенный спрос на чудотворца типа Лысенко. Фокусники и чудотворцы должны прикрыть экономический провал, выдать черное за белое, кризис за расцвет экономики.
Четвертая сессия ВАСХНИЛ (1936 год) окончательно разграничила два лагеря в биологических науках. Грубый ламаркизм, именуемый то "прогрессивной", то "мичуринской" биологией, начинает захватывать один за другим институты, лаборатории, опытные станции. Институт растениеводства в Ленинграде и Институт генетики в Москве остаются по существу последними оплотами подлинной селекционной и генетической мысли. Здесь не только говорят о несостоятельности того или иного агрономического приема, но строжайшим образом на делянках и в лабораториях проверяют все, что вызывает сомнения.
Лысенко заявил, что принудительное самоопыление, так называемый инцухт-метод, губит перекрестноопыляющиеся растения и может принести селекционерам только вред. Вся мировая научная литература иного мнения. Но Вавилов не желает доверять ни одной, ни другой стороне. В ВИРе ставят опыты с длительным самоопылением ржи, клевера, тимофеевки, винограда, кукурузы. К экспериментам привлечены десятки специалистов. Проходит год, второй, третий, и подопытные растения, несмотря на все их разнообразие, дают исследователям единый ответ: инцухт-метод не опасен для растения и благодетелен для селекционера. Только с помощью инцухта можно вывести гибридную кукурузу, дающую на треть больше зерна и зеленой массы.
Лысенко заявляет, что ему ничего не стоит превратить хлебные злаки из яровых в озимые, и наоборот; вот пример того, что человек может изменить растения в любом полезном для себя направлении. Два сотрудника Института растениеводства М. И. Хаджинов и А. И. Лутков получают задание повторить опыты Лысенко. Два ленинградских генетика вчитываются в каждую деталь отчета Одесского института. В Одессе меняют природу злаков запросто: для этого достаточно на одном из этапов развития дать растению высокие температуры. Переделка озимых в яровые и яровых в озимые считается там неопровержимым фактом. Но подлинно научным факт может быть признан лишь после строжайшего контроля. Кто поручится за то, что при самых добрых намерениях на поля при посеве вместе с яровыми не попали озимые?
Хаджинов и Лутков ищут абсолютно бесспорную методику опыта, такую, чтобы потом не осталось никаких "но". Ищут и находят. Едва озимая пшеница "кооператорка" начинает куститься, ее подвергают тонкой операции рассекают каждое растение на две половинки. Ничего страшного — обе половинки могут существовать самостоятельно. Но жить им приходится отныне в разных условиях. Одна часть служит для ученых контролем — она мирно растет в поле при обычных условиях. А вторую подвергают тепловому воздействию в точном соответствии с инструкцией директора Одесского института академика Лысенко. Работа в оранжерее позволяет ленинградцам повторить у себя на севере те же условия, что и у южных оппонентов. Десяток вариантов опыта сменяют один другой. Кроме "кооператорки" опыт поставлен на ячмене. И вот вывод: никакого перехода злаков из озимой формы в яровую и из яровой в озимую не происходит. Кипа термограмм и экспериментальных журналов подтверждает это краткое заключение, которое потребовало от каждого из двух ученых тридцати шести месяцев напряженного труда. Король снова гол [120].
Фонтан лысенковских идей казался неиссякаемым. В один прекрасный день всевластный академик заявил, что новые сорта пшеницы вовсе не обязательно выводить, как это делали до сих пор годами и десятилетиями. Для этого вполне достаточно двух с половиной лет. Селекционеры приняли новое открытие с иронией. Когда же Лысенко представил два новых "сорта", выведенных скоростным путем, саратовский селекционер академик Г. К. Мейстер резонно заметил, что одно скрещивание еще не дает сорта. Варианты, способные дать на делянках хороший урожай, нередко потом превращаются в мусор. Кандидата в сорт надо долго проверять в полевых условиях. И это "долго" не должно пугать селекционера, ибо только таким образом можно убедиться, что необходимые нам хозяйственные качества действительно стали у растения константными, постоянными.
Академик Г. К. Мейстер в 1938 году был расстрелян. Идея скоростной селекции продолжала жить. Правда, жила только идея, ни одного сорта, выведенного за два года, страна не получила. Но спекуляция на проблеме сортов на этом не кончилась. Став президентом ВАСХНИЛ, Лысенко начал требовать, чтобы новые сорта выводило каждое растениеводческое научное учреждение. Внешне все выглядело как будто пристойно. Пусть ученые-растениеводы докажут верность своих теоретических воззрений, пусть создадут хорошие сорта зерновых, овощных и технических культур, пусть открытия их обогатят народ. Даешь сорта! Это требование вскоре обрушилось и на ВИР. В газетах и на научных совещаниях сотрудников академика Вавилова начали укорять за то, что они не хотят заниматься практической работой, погрязли в никому не нужных теоретических исследованиях. Кампания была явно фальшивой. Устроители ее хорошо знали, что наука о растении состоит не из одной только селекции, что селекционер может творить новое, лишь имея для скрещивания и отбора исходный материал, родительские формы. Где их взять? Ведь селекционеру для гибридизации нужны порой растения из самых дальних стран. Ему нужно также знать, каков химический состав этих родителей, каковы их физиологические свойства, терпеливы ли они к холоду, к жажде, могут ли ответить быстрым ростом и развитием, если дать им много удобрений. Заранее надо дознаться селекционеру и о генетике своих подопечных: как, в какой мере передают они потомкам наследственные черты, хозяйственно ценные и, наоборот, вредные. А иммунитет растения? Разве можно начинать селекцию, не дознавшись предварительно, каких болезней будущему сорту следует более всего опасаться и от каких его можно уберечь.
Именно этим занимался коллектив Всесоюзного института растениеводства. Вавилов вовсе не был противником селекции. Наоборот. На одном из научных советов летом 1935 года он очень точно объяснил сотрудникам свою позицию: "Мы приступаем нынче к решительной переделке растений, решительной переделке сортов, и на очереди стоят углубленные исследования по существу селекционного характера, но требующие огромной помощи биохимии, генетики, физиологии, технологии и других близких дисциплин" [121].
Это говорилось в самом начале затеянного Лысенко "сортового бума", но Николай Иванович уже тогда предвидел опасность, возникшую на горизонте науки.
"Увлечение селекцией, превращение в селекционеров большого коллектива головного научного учреждения — невозможно. Мы имеем до шестидесяти физиологов, много генетиков, биохимиков. Естественно, что нужно сомкнуться с селекционерами, помогать им, не утаивать от них физиологических характеристик. Но нельзя понимать т. Лысенко безусловно, так что один человек должен превратиться в энциклопедию, чтобы он все сделал сам. При этом не в энциклопедию справочную, но лабораторную. Это доведет до абсурда". В конце этого выступления Вавилов снова подчеркнул непреклонность своей позиции: ВИР останется центром подлинной агрономической и генетической науки.
Николай Иванович сделал это заявление не только оттого, что Лысенко поднял шумиху вокруг новых сортов. Он глядел глубже. Селекционный процесс, который от века оставался только личным искусством наиболее одаренных селекционеров, директор ВИРа хотел поднять до уровня науки. Ему не терпелось заменить случайные удачи отдельных искателей "золотого колоса" строго закономерным научным получением сортов. Чтобы научить селекционеров основам научного подхода, Вавилов еще в 1933 году начал готовить трехтомный коллективный труд "Теоретические основы селекции". Одна из статей этого классического труда так и называлась "Селекция как наука". Автор, академик Вавилов, настойчиво проводил в ней все тот же дорогой ему тезис: "Социалистический строй нашей страны с его целеустремленностью, с необъятным простором работы, с огромным коллективом исследователей как никогда нуждается в селекции как научной дисциплине".
До конца своих дней не отошел он от этого взгляда. В 1938 году в одном из писем Николая Ивановича к американскому селекционеру Сиднею Харланду мы снова читаем: "Селекционные станции, как грибы, растут в нашей стране. Вы понимаете, как необходима нам научная селекция. Между искусством селекции и генетикой — глубокая пропасть, и нужно сделать многое, чтобы перекинуть через нее мост" [122]. Главными строителями этого моста Вавилов хотел видеть сотрудников-вировцев.
Очевидно, Институт растениеводства в середине 30-х годов неплохо справлялся с той ролью, которую ему уготовил его директор. В 1934 году Имперское научное бюро растениеводства в Англии посвятило целую книгу достижениям советской селекции и плану исследований на вторую пятилетку, которые в основном разрабатывали сотрудники ВИРа. В том же году известный британский селекционер и генетик Биффен, давая обзор мировых достижений селекционной науки, должен был признать, что по исследовательской работе в селекции на первое место приходится поставить Советский Союз. Подобные оценки в то время были для нашей биологической науки отнюдь не редкостью. Об этом писали в газетах, и Лысенко не мог не знать, как высоко стоит отечественное растениеводство в глазах мировой научной общественности. Однако успехи школы академика Вавилова едва ли могли его радовать. В борьбе с инакомыслящими Лысенко искал иных арбитров и иных сторонников. На втором съезде колхозников-ударников, как будто не зная о действительных фактах, полностью игнорируя свидетельства крупнейших ученых мира, он заявил, что положение с селекцией в СССР катастрофично. Тут же Лысенко предложил "выручить" страну.
"Пока в дело селекции не впутаются [так! — М. П.], не возьмутся колхозники, с этим делом не будет ладно. Многие ученые говорили, что колхозники не втянуты в работу по генетике и по селекции потому, что это очень сложное дело, для этого необходимо окончить институт. Но это не так. Вопросы селекции и генетики на основании теории развития растений (теория яровизации), которая разработана советской наукой на колхозных полях, ставит теперь по-иному… Колхозная инициатива в этом деле необходима, без этого у нас будут только селекционеры-специалисты, кустари-одиночки" [123].
Трудно понять, чего больше в этих словах — фантастического самомнения (благодаря яровизации наука генетика стала доступной любому профану!) или откровенного издевательства над учеными. Только человек, убежденный в безнаказанности, мог позволить себе такое выступление. Впрочем, в феврале 1935 года Лысенко мог уже многое. Но как ни велико было влияние сталинского фаворита, уже тогда, в 1935 году, он понимал, что Вавилов и его лучшие сотрудники никогда не признают его претензии на научное первородство, не примирятся с его диктатом. Они и впредь будут ставить проверочные опыты, публиковать разоблачительные статьи… Надо разогнать ВИР, раздавить это гнездо оппозиции, заставить замолчать самого опасного из врагов — Вавилова.
Но раздавить Вавилова не так-то просто. Слишком велик его научный авторитет, громадно его значение как организатора науки. Надо поставить под сомнение ценность вавиловских идей, вавиловских достижений. Надо опорочить его личность. Лучшей формой для изничтожения Первого агронома его враги находят научную дискуссию по биологическим вопросам. Да, это удобная форма. Ибо, хотя спор ведется вокруг сугубо научной, казалось бы, проблемы — о путях передачи наследственных признаков, — выступления организаторов дискуссии сводятся к тому, что Вавилов — идеалист, носитель старых, отживших концепций, человек, недостойный доверия. Нет нужды приводить здесь научные доводы словесных турниров. Сегодня, сорок пять лет спустя, естественное течение науки уже вынесло приговор обеим дискутирующим сторонам. Хромосомная теория наследственности, на позициях которой стоял академик Вавилов, его подход к селекции получили неопровержимое признание. Взгляды же главных противников его — Т. Д. Лысенко и И. И. Презента испытания временем не выдержали. Нас, однако, более интересует подлинная суть дискуссии, а главное — ее стиль. И об этом стоит рассказать подробнее.
В том самом 1887 году, когда в семье московского купца Ивана Вавилова родился сын Николай, в Лондоне вышла книга "Жизнь и письма Чарлза Дарвина". Автор — сын великого естествоиспытателя Фрэнсис — искренне и безыскусно нарисовал образ своего отца, показал самые различные стороны дарвинского характера. "Достоин внимания его вежливый тон по отношению к читателю… писал, между прочим, Дарвин-младший. — Читатель чувствует себя другом, с которым говорит вежливый человек, а не учеником, которому профессор читает лекцию. Весь тон такой книги, как "Происхождение видов…", — это тон человека, убежденного в правильности своих воззрений, но едва ли ожидающего, что он убедит других. Это как раз противоположно фанатику, который хочет принудить других, чтобы ему верили".
Стиль фанатика стал неизменным в дискуссии, которую начали лысенковцы против Вавилова. С трибуны и в печати враги Николая Ивановича обращались к нему и его сторонникам не иначе как с бранными — с их точки зрения словами: "менделисты", "морганисты", "антидарвинисты", "антимичуринцы". Были в их обиходе и другие эпитеты, но эти четыре были основным, так сказать, набором и действовали не хуже дубинки.
Постойте, возразит мне читатель, который по молодости лет может подумать, что автор перебарщивает, — но почему, если назвать кого-нибудь морганистом или менделистом, значит оскорбить его? Ведь мы знаем, что известному американскому генетику Томасу Моргану за его блестящие работы в 1933 году присуждена Нобелевская премия. Что же касается Грегора Менделя, столетие опытов которого в 1965 году широко отметил весь мир, то он собственными руками ставил весьма строгие эксперименты, никому не навязывая своих взглядов на открытые им законы наследования. Очевидно, те, кто держится взглядов Менделя, — менделисты — просто повторили его опыты и убедились в правоте этого любителя цветов.
Да, так должно казаться сегодня всякому непредубежденному человеку. Но в 1937–1940 годах все выглядело по-другому. Биологические и сельскохозяйственные журналы находились в основном в руках сторонников "прогрессивной мичуринской биологии". Их издания, особенно журнал "Яровизация", где редактором был Лысенко, многократно повторили к этому времени, что никакой единой биологической науки не существует. Есть гнилая, фальшивая античеловеческая биология Запада и единственно правильная биологическая наука "мичуринская". Всякий, кто пьет из грязного источника той науки, объективно является носителем ложных истин, которые не ведут к практической цели — повышению урожаев на полях родины. Вопрос этот был столько раз обкатан на страницах печати и в устах ораторов-лысенковцев, что стоило назвать Н. И. Вавилова морганистом-менделистом или антимичуринцем, как без всяких дополнительных доказательств слушателям или читателям становилось известно, что критикуемый:
а) поборник учения монаха — деятеля культа! — Грегора Менделя, которого после его смерти поднимали на щит немецкие националисты,
б) безраздельный единомышленник американского генетика Томаса Моргана (заокеанский империализм плюс премия из личного фонда динамитного короля Нобеля). И вдобавок: противник всеми уважаемого советского биолога-плодовода Ивана Владимировича Мичурина, создавшего 350 ценных сортов.
Если же докладчик мимоходом добавлял, что Николай Иванович к тому же антидарвинист, то всем советским читателям, опять-таки без всяких околичностей, становится ясно: оный Вавилов — злейший враг взглядов всемирно признанного творца эволюционной теории Чарлза Дарвина.
Эту классическую тетраду — менделист — морганист — антимичуринец антидарвинист — академику Вавилову швыряли в лицо непрестанно. Швыряли те, кто знали, что под редакцией Вавилова и по его инициативе в нашей стране вышло несколько книг Дарвина, что Мичурин и Вавилов в науке и в жизни были большими друзьями. Но подлинные факты не имели цены на той удивительной дискуссии. Важно было, кто говорит, а не что сказано. Лысенко же объявил Всесоюзный институт растениеводства "менделистским" центром [124] и добавлял: "Я не считаю формальную менделевско-моргановскую генетику наукой" [125]. И это было главным. Всякому, кто наблюдал дискуссию со стороны, давали понять: академик Вавилов, работники ВИРа и все их сторонники не более как проходимцы, выдающие себя за ученых, адепты несуществующей фальшивой науки. И это повторялось в газетах, журналах: на совещаниях не раз, не два, а десятки раз в течение нескольких лет.
Дискуссию упорно раздували. Она полыхала на сессиях ВАСХНИЛ, горела ярким пламенем на совещаниях в Наркомземе, чадила, отравляя творческую атмосферу, на каждом мало-мальски представительном производственном и даже профсоюзном собрании. "Выступали в основном лысенковцы. Ничего нового они не сказали, но в массе употребляли всякие и без того опротивевшие эпитеты и клички, — вспоминает одна из участниц дискуссии. — От массового повторения всей этой пошлости изо дня в день возникала какая-то физиологическая тошнота…" [126].
Лысенковский стиль дискуссии быстро начала усваивать научная молодежь. Аспиранты ВИРа, которых лысенковцы натравливали на профессуру старшего поколения, довольно рьяно, хотя опять-таки без всяких опытных данных, отрицали генетику на каждом собрании.
8 мая 1937 года. Всесоюзный институт растениеводства. Идет профсоюзное собрание. Обсуждается положение в ВИРе. О чем же говорят научные сотрудники, аспиранты, агрономы?
Агроном Куприянов:
"Вы боитесь критики, до смерти боитесь. Она по шкуре бьет. Почему Розанова и Вульф [профессора ВИРа. — М. П.] пытаются так поставить вопрос? Потому что они защищают теорию Вавилова, они ярые защитники Вавилова. Это вредная теория, которая должна быть каленым железом выжжена, ибо рабочий класс без буржуазии справился со своими задачами и сам начал править и добился определенных результатов" [127].
И далее:
"Во всей стране знают ВИР и о дискуссии, которая происходит между Вавиловым и Лысенко. Вавилову надо будет перестроиться, потому что Сталин сказал, что нужно не так работать, как работает Вавилов, а так, как работает Лысенко" [128].
А вот речь аспиранта Донского:
"Лысенко прямо заявил — или я, или Вавилов, четко и определенно и очень толково. Он говорит: "Пусть я ошибаюсь, но одного из нас не должно быть". Правда, концепции Лысенко и Вавилова соединить нельзя. Пора понять и учесть, что наступил такой период, когда необходимо достижения экспериментальной науки направлять на службу социалистическому отечеству. Отсюда (?) острая борьба и неприязненное отношение к школе Вавилова" [129].
Я взял эти выступления из первой подвернувшейся мне в архиве папки. Взял и не изменил в ней ни одного слова. В этом может убедиться каждый, кто поинтересуется архивом ВИРа, где хранятся стенограммы бесчисленного множества таких же чудовищно безграмотных выступлений тех лет. В 1937–1939 годах директор ВИРа был вынужден часами и днями выслушивать подобные поучения. И не только слушать, но и отвечать. Нам, потомкам, больно от мысли, что Николай Иванович "с мокрыми от пота волосами влезал на кафедру и в одно и то же время кротко и недоумевающе, возмущенным голосом начинал возражать, искренне стремясь убедить оппозиционеров, что все выказанное ими есть плод невежества, что Дарвина он знает и почитает и т. д. И уходил с кафедры под свист и улюлюканье" [130].
Но за тошнотворными повторениями одних и тех же словес организаторы дискуссий не забывали своих главных целей: доказать, во-первых, что вице-президент ВАСХНИЛ ничего не дал сельскохозяйственной практике и даже мешает ей, а во-вторых, что он политически связан с идейными врагами Советского Союза. Две эти темы, звучавшие в 1937 году довольно приглушенно, ближе к 1940 году комментируются вовсю. Вот лишь несколько цитат образца 1939 года.
"Менделевско-моргановская генетика буквально ничего не дала и не может дать для жизни, для практики… Можно указать на многочисленные случаи, когда ложное менделевско-моргановское учение мешает работе тем ученым, которые искренно хотят делать полезное дело" [131].
"Формальная генетика — менделизм-морганизм — не только тормозит развитие теории, но и мешает такому важному делу для колхозно-совхозной практики, как улучшение сортов растений и пород животных" [132].
А вот ложь поменьше (но не менее наглая):
"Для того чтобы собрать 300 000 номеров в свой "фонд мировых растительных ресурсов", ВИРу пришлось организовать во все части Старого и Нового Света десятки экскурсий (?) и затратить на это миллионные средства [133]. А что от этого ценного получила селекция? Да ровным счетом ничего… Заморозив в своих 2–3 растительных кладовых сотни тысяч подчас ценнейших для производства и селекционной работы растений, работники ВИРа ревниво охраняют этот запас, как скупые рыцари, сидящие на сундуках с золотом… Правда, иногда И. В. Мичурин получал от ВИРа несколько штук семян или косточек кое-каких растений, но они, как правило, всегда были невсхожи. Вероятно, ВИР, для того чтобы отвязаться от настойчивых требований Мичурина, посылал ему первые попавшиеся семена музейной давности с навсегда уже потерянной всхожестью" [134].
"Политической" частью атаки на ВИР и Вавилова ведал И. И. Презент, доверенное лицо Лысенко. "Я только работаю, а философию мне Презент накручивает", — сказал Лысенко после того, как его помощник объявил на одном из совещаний, что с точки зрения философии всю генетику надо выбросить в архив заблуждений [135]. И Презент "накручивал" сам и через своих людей. Характер его творчества явственно виден из трех кратких цитат, взятых нами из его статьи "О лженаучных теориях в генетике".
"Целиком на основах метафизики морганизма, еще более углубляя его лженаучные положения, строит свою теорию гомологических рядов и центров генофонда академик Вавилов. Академик Н. И. Вавилов по праву считает своим учителем наиболее реакционного из генетиков англичанина Бэтсона. Этот Бэтсон выступал с позорными для науки речами в 1914 году в Австралии, отстаивая антиэволюционизм, и делал открытые фашистские расовые выводы из своей антиэволюционной генетической концепции".
"Философию менделизма-морганизма можно найти не у кого другого, как у Е. Дюринга. Достаточно ознакомиться с его "Курсом философии", чтобы увидеть полное тождество идей Дюринга и морганистов в вопросах изменчивости".
"Мы видим, как нова философия современного морганизма. Эти новости науки в своей общей философской форме были высказаны еще ярым антидарвинистом расистом Дюрингом и теоретически уничтожены Энгельсом в его знаменитом "Анти-Дюринге". Не стоит ли призадуматься над этой "рядоположенностью" высказываний Дюринга и морганистов?" [136]
Итак, Николай Иванович Вавилов — ученик фашиста и расиста, пропагандирует идеи, которые находятся в полном тождестве с идеями врага марксизма Дюринга. Кажется, дальше некуда. Но подручные Презента пошли и дальше. Некто Г. Шлыков в журнале "Советские субтропики" писал: "Н. И. Вавилов пытается спрятаться за одобрение его теории мировой, то есть буржуазной, научной литературой. Кому же неизвестно, что эта литература не признает научной значимости марксизма-ленинизма, отрицает материалистическую диалектику?!" И дальше целая страница доказательств того, что вавиловский закон гомологических рядов не только порождение буржуазной науки, но и научная база фашистских расовых "драконовских законов" [137].
Все это писалось в годы, когда достаточно было куда более скромных обвинений, чтобы человек навсегда исчез в недрах бериевской машины уничтожения. Можно не сомневаться, что сочинители подобных "научных" статей отлично понимали, ради чего они работают!
В своих ответах и возражениях Вавилов и вавиловцы меньше всего были склонны к всепрощению. Но перечитав десяток статей Николая Ивановича тех лет, я в них не нашел ни одного политического вывода. Вавилов говорит о спорных вопросах науки. И только. Отравленное оружие клеветы и доноса не для него. Больше того, во всей мешанине обвинений, возводимых на него поклепов он продолжает искать какое-то разумное зерно. "Мы должны воспользоваться критикой для того, чтобы пересмотреть наш научный багаж, очистить его от ошибок…" — часто повторял он [138]. Наделяя даже противников огромным кредитом доверия, он остается в убеждении, что "люди, занимающиеся критиканством, в ходе работы увидят свои ошибки и станут в конце-концов на путь эксперимента и достоверных фактов" [139]. Поэтому даже самые дискуссионные выступления Вавилов строит как просветительные лекции, приводит множество опытных данных, своих и чужих, ссылается на авторитетное мнение крупнейших лабораторий мира. Речи Лысенко с их безапелляционными выводами, за которыми нет серьезной и честной опытной проверки, вызывают у Вавилова изумление. "Это же какая-то религия!" — восклицает он после одного особенно бездоказательного и наполненного пустыми обещаниями доклада.
Дарвинист в науке, он и в полемике держался стиля Чарлза Дарвина. Мне кажется совсем не случайным то, что в пору жестокой научной нетерпимости в предисловии к книге Томаса Моргана Вавилов вспомнил о своем первом посещении лаборатории этого американского генетика в 1921 году:
"В этой лаборатории скептики выслушивались с особым вниманием. Исходя из сложных явлений наследственности и развития, мы в то время полагали, что строгое распределение генов в хромосомах в виде бус в линейном порядке мало вероятно… Подобно другим, мы высказывали свои сомнения Моргану. Он ответил, что сам, как эмбриолог, вначале был большим скептиком, но колоссальное количество фактов наиболее просто объяснялось линейным расположением генов. Он предложил нам посвятить несколько дней просмотру опытных материалов, на которых построена линейная гипотеза, добавив, что охотно согласится с любой другой гипотезой, удовлетворительно объясняющей все наблюдаемые факты".
Таковы традиции подлинной науки: многократно сомневаться, но без амбиции принимать то, что строго доказано. Однако в той дискуссии корректность принимали за слабость, приверженность к истинной науке выдавали за страх перед практикой. Да и сама дискуссия то и дело перемежалась отнюдь не парламентскими приемами.
Глава 6 РАЗРУШЕНИЕ "ВАВИЛОНА"
Если научные исследования ведутся с целью материальных выгод, они получают эгоистический оттенок… если цель исследований — стремление к власти, то они могут стать даже общественной опасностью и привести к ученому варварству.
Р. А. Грегори.
Из кн.: Открытия, цели и значение науки.
Пер. с англ, под ред. Н. И. Вавилова. (Пг., 1923).
Сейчас трудно припомнить, кто и когда пустил в оборот это словечко. Но в середине тридцатых годов явно недоброжелательное прозвище "Вавилон" прочно пристало к Институту растениеводства. Не очень сильные в древней истории, но достаточно поднаторевшие в политиканстве, противники академика Вавилова, повторяя: "Вавилон должен быть разрушен", очевидно, имели в виду судьбу разрушенного римлянами Карфагена. Так или иначе, данное ВИРу прозвище символизировало обреченность этого последнего оплота изгоняемой отовсюду "классической" биологии.
Сегодня из нашего "далека" явственно видно, что разрушение одного из самых квалифицированных и продуктивных научных учреждений первой трети XX века произошло не случайно. В 1937 году враги Вавилова уже не скрывали своих целей: они собирали силы, чтобы взорвать ВИР изнутри. Поборник "новой биологии" некто В. К. Милованов из Института животноводства еще более расширил масштабы желаемого взрыва. "У нас до сих пор существуют кафедры генетики, давно их надо ликвидировать", — публично потребовал он во время биологической дискуссии в редакции журнала "Под знаменем марксизма".
Разрушали Вавилон по-всякому.
Весной 1940 года на Сельскохозяйственной выставке в Москве профессор И. В. Якушкин, человек из окружения Лысенко, не без ехидства заметил Вавилову:
— А что, говорят, Николай Иванович, вы уже восемнадцать человек отправили на эшафот…
— Как так?
— А ведь известно, без согласия директора никого не арестовывают.
Вавилов вспыхнул. Хотел ответить клеветнику резкостью, но сдержался. Стиснув зубы, не поднимая глаз от земли, сказал:
— Очевидно, не всегда было известно, где я нахожусь [140].
Якушкин не ошибся в счете: со времени смерти С. М. Кирова в декабре 1934 года до весны 1940 года в ВИРе арестовано было действительно восемнадцать ученых-биологов.
Каждый арест потрясает Вавилова; исчезают люди, которых он знает много лет. Можно, конечно, развести руками и промолчать. Так поступали в то время многие даже честные люди: "Сила ломит и солому". Но этот путь не для Вавилова. В архиве ВИРа хранятся многочисленные письма, адресованные в различные инстанции. Директор института просил вернуть в Ленинград арестованных и высланных, ручался за их лояльность, утверждал, что эти люди уникальные знатоки той или иной культуры (так оно чаще всего и было) и без них останавливается государственной важности дело. Он хлопотал перед уполномоченными НКВД в Ленинграде о судьбе Т. А. Максимовой, С. И. Королева, В. П. Кузьмина [141], А. А. Орлова, Г. А. Левитского. Дал жене арестованного Г. Е. Спангенберга блестящую характеристику о деятельности ее мужа, видного ученого-фитопатолога [142]. Спасти, однако, не удается никого.
Выбывали научные кадры из Института растениеводства и иным образом. Профессор Ф. X. Бахтеев напомнил на страницах международного журнала один из таких эпизодов [143]. В июне 1939 года, когда на сессии ВАСХНИЛ в Москве готовилось обсуждение доклада Вавилова о работе ВИРа, Лысенко зазвал к себе в кабинет аспиранта Бахтеева и напрямик предложил ему бросить своего учителя и начать научную деятельность "на иных позициях", под руководством Лысенко. Уточняя давний эпизод, профессор Ф. X. Бахтеев писал в личном письме к Т. Д. Лысенко: "Я не думаю, чтобы Вы забыли этот разговор у Вас в президентском кабинете. Перед началом рабочего дня в приемной, где сидели две женщины-машинистки, я, вместе с некоторыми другими посетителями, ожидал приезда Н. И. Вавилова… В это время появились Вы, заметили меня и спросили: "Ты ко мне?" Я ответил, что нет, не к Вам, а к Николаю Ивановичу. Вы обратились к машинисткам с вопросом: "Н. И. еще не приехал?" Вам ответили, что нет, еще не приехал, но машина за ним уже послана… Вы открыли дверь своего кабинета и обернулись ко мне со словами: "Пойдем ко мне!" В Вашем кабинете Вы продержали меня около часа, и в заключение, получив отказ на Ваше низкое предложение, Вы заявили: "Думай, думай! Только не забывай, что у меня не так много времени для того, чтобы тратить на разговоры с тобой!" Сразу после Вашего "приема" я вошел в противоположную дверь к Н. И. Вавилову и рассказал ему обо всем услышанном от Вас. Именно таким путем Вы перетянули к себе многих аспирантов ВИР, например Мынбаева, Костюченко, Хачатурова и других" [144].
Несмотря на потери, Всесоюзный институт растениеводства все еще оставался мощным творческим организмом. В его составе тысяча сотрудников, сто десять кандидатов наук, двадцать два доктора наук, четыре академика. Люди работают с охотой и энтузиазмом, не жалея для дела ни труда, ни времени. И тем не менее этому гиганту наносятся все более глубокие незаживающие раны.
Ликвидировано институтское издательство, в то же время лысенковцы захватили все сельскохозяйственные издательства страны. Вавиловцы теряют возможность публиковать свои работы.
От института одна за другой "отходят" опытные станции. Такие станции в различных климатических и почвенных зонах страны были необходимы для проверки и размножения вировских растительных коллекций. Но кто-то упорно отрывал эти живые продолжения Ленинградского института. Отторгли украинскую и белорусскую станции — стало невозможным испытывать и размножать многие технические и овощные культуры. Отделили старинную Каменно-Степную станцию под Воронежем, и ученые лишились возможности изучать хлеба на засухоустойчивость. Поля в северно-умеренной зоне — проверка ржи, овса, ячменя — были изъяты вместе с Северо-Двинской станцией. Огромную коллекцию субтропических культур стало невозможно исследовать после изъятия экспериментальной базы под Сухуми… Вместе со станциями уходили и лица, из которых каждый был незаменимым знатоком одной или нескольких культур во всесветном масштабе. ВИР терял свое главное, столь дорогое Николаю Ивановичу качество — энциклопедичность.
Но и тот, кто удержался в институте, не имел больше условий для спокойной и планомерной работы. "Одна за другой следовали нелепые принудительные кампании. Сначала мы несколько лет ездили в колхозы для постановки "опытов" по яровизации, где большей частью отсутствовала точная методика и не проводились сравнения с стандартом. Потом друг Лысенко Донат Долгушин изобрел какие-то особые ножницы для стрижки колосьев, и всю страну заставили заниматься внутрисортовым скрещиванием… Научные работники, вместо того чтобы выезжать в экспедиции или проводить срочные наблюдения на своих участках, по приказу отправлялись стричь колосья" [145].
Массовые выезды ученых в командировки превратились в подлинное бедствие. В письме наркому земледелия СССР академик Вавилов сообщил, что только за одну весну 1939 года по директивам наркома "для помощи в посевной кампании" были отправлены в различные республики, области и края 77 кандидатов и докторов наук. Институт израсходовал на эти командировки сверх плана 117 тысяч рублей, "что отразилось исключительно тяжело на основной работе Института" [146].
Бюджет ВИРа трещит не только из-за никому не нужных командировок. С 1937 года Наркомзем резко снижает ассигнования на крупнейшее свое научное учреждение. При осаде Вавилона начинает играть немалую роль финансовый таран.
"Считаю своим долгом довести до сведения президиума академии, что финансовое положение Института растениеводства является катастрофическим" [147], - сообщает Вавилов в феврале 1939 года в президиум ВАСХНИЛ. Положение действительно катастрофическое: в основных лабораториях расходы по исследованию сокращены на пятьдесят процентов. Месяц спустя нарком земледелия И. А. Бенедиктов публично заявляет, что никакой помощи оказывать "морганистам" не станет. "Наркомзем СССР поддерживает академика Лысенко в его практической работе и его теоретических взглядах и обязывает селекционные станции СССР применять его методы в семеноводческой и селекционной работе" [148].
Круг сжимается. В начале мая 1939 года президиум ВАСХНИЛ обсуждает отчет Института растениеводства и по предложению Лысенко объявляет его неудовлетворительным [149]. Труд тысячного коллектива в течение целого года признается бесполезным, руководство института — порочным. "Вавилон должен быть разрушен".
В 1939 году Лысенко уже полный хозяин в ученом мире страны. И он не стесняется пользоваться своими диктаторскими по существу полномочиями. "Академик Лысенко потребовал на заседании коллегии единовластия в сельскохозяйственной науке; права ликвидировать все, что не совпадает с его научными взглядами или чего он не понимает", — писал известный советский физик, академик Абрам Федорович Иоффе [150].
В 1932 году Иоффе основал в Ленинграде агрофизический институт, впервые поставил достижения физики на службу сельскому хозяйству. Однако в 1939 году Лысенко закрыл институт. Он не верит, что есть такая наука агрофизика. "Физика — это наука о мертвой природе, а сельское хозяйство имеет дело с живым растением и почвой, — заявил президент ВАСХНИЛ. Поэтому ничего общего между ними быть не может…"
Копию письма академика Иоффе с протестом против уничтожения агрофизического института я обнаружил в архиве Вавилова. Очевидно, два академика, физик и растениевод, совместно обсуждали странную обстановку, сложившуюся в науке. У Вавилова тоже в это время достаточно причин для недовольства. Осенью того же 1939 года, пока он находился в научной командировке, президент ВАСХНИЛ личным приказом сменил весь состав ученого совета в Институте растениеводства. Без консультации с директором ВИРа из ученого совета изгнали крупнейших генетиков, физиологов, цитологов, растениеводов "по принципу изъятия лиц, которые придерживаются в генетических и селекционных вопросах иных воззрений, чем Лысенко". Путь в ученый совет был закрыт для Карпеченко, Левитского, Розановой, Вульфа, Говорова, Пангало, Базилевской, Столетовой, Бахтеева, Н. Р. Иванова, Ковалева, Кожухова, то есть, по существу, для тех, кто был цветом, гордостью ВИРа, наиболее талантливыми кадрами института.
Вавилов протестует. Если это незаконное распоряжение не будет отменено, он отказывается дальше исполнять обязанности директора. Протест услышан, ученый совет ВИРа оставили в покое. Но у Лысенко остается еще сколько угодно других возможностей терроризировать своего противника.
Чтобы доказать "бесплодность" ВИРа, его экспонаты не допускают на стенды Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Ленинградский ученый В. С. Лехнович сохранил в памяти весьма характерный эпизод. Время действия — все тот же 1939 год. Место действия — кабинет президента ВАСХНИЛ. "За узким длинным столом, у его торца сидит с закрытыми глазами Лысенко. Напротив академик Вавилов. Сбоку секретари и я. Вавилов, держа в руке текст нашего представления, но заглядывая только в фамилии, деловито и сжато докладывает, почему ВИР рекомендует показать на выставке труды того или иного работника. Лысенко за все время заседания не проронил ни слова и не открыл глаз. Свое согласие с называемым кандидатом он обозначает медленным наклонением головы вперед. Если же кандидат ему не по душе, Лысенко не делает никаких знаков. Тогда после слов Вавилова за столом воцаряется тягостное, напряженное молчание. Список наш сильно редеет". Не получают утверждения все, когда-либо и где-либо критиковавшие взгляды Лысенко. Среди немногочисленных утвержденных — Т. Я. Зарубайло, открывший явление "яровизации на корню". Не утверждены А. Г. Левитский — крупнейший в мире знаток растительной клетки, работы которого по морфологии хромосом пшеницы после его ареста и гибели продолжил в далекой Японии Кихара, Г. Д. Карпеченко — творец первого в мире плодовитого межродового капустно-редечного гибрида, крупный знаток ягодных культур М. А. Розанова и многие другие [151].
Что делать? Обратиться к Сталину, к Молотову? Пожаловаться на беззаконные поступки президента ВАСХНИЛ в ЦК? В конце тридцатых годов это уже невозможно. С 1935 года перестали избирать Вавилова во ВЦИК. В том же году он, основатель Сельскохозяйственной академии, вынужден покинуть пост президента ВАСХНИЛ и остаться на должности лишь вице-президента. Чем выше поднимались акции Лысенко, тем меньше ценили в Кремле Вавилова. На одном из совещаний, где Сталин приветливо беседовал с Лысенко и ободрил Цицина словами: "Экспериментируйте, мы Вас поддержим", он демонстративно вышел, когда начал выступать Вавилов. Еще более откровенно продемонстрировал свое нерасположение к ученому Сталин в середине 30-х годов во время специальной встречи. Доктор сельскохозяйственных наук Сократ Константинович Чаянов, со слов самого Николая Ивановича, довольно подробно описал этот краткий и в высшей степени неприятный для ученого разговор. Сталин решительно заявил, что зарубежные поисковые экспедиции ботаников никому не нужны, что многие ученые-ботаники не думают об урожае, а занимаются у себя в лабораториях и институтах ерундой. "Идите на выучку к стахановцам полей!" — предложил Сталин Вавилову [152].
Молотов, второе лицо государства, тотчас перенял пренебрежительный тон Сталина по отношению к опальному ученому. Во время докладов по делам Академии наук председатель Совнаркома несколько раз обрывал ученого. Так было и в тот раз, когда по поручению АН СССР Вавилов докладывал в Совнаркоме о годовом плане Биологического отделения. Речь шла, между прочим, о ныне давно признанном, а тогда еще новом начинании: разведении диких животных в искусственных условиях. "Что за фантазия одомашнивать лису! — закричал в середине доклада Молотов. — И когда вы, академик Вавилов, перестанете заниматься пустяками!" Газеты немедленно подхватили этот эпизод, замелькали статьи и фельетоны об оторванных от жизни ученых, которые дошли до того, что занялись одомашниванием лисиц. И хотя сам Николай Иванович к этой проблеме не имел никакого отношения, в газетах пробирали почему-то его.
Но оставим в стороне форму газетных и устных выпадов против директора Института растениеводства и задумаемся над тем, справедливы ли были вообще разговоры о бесплодности вавиловских усилий в науке и практике? О сортах ВИРа мы уже говорили, об исходном материале, который давала селекционерам мировая коллекция, — тоже. Ну, а помимо того?
Великий ботаник, генетик и географ растений по складу своего научного характера действительно более всего думал о перспективах сельского хозяйства. Но отнюдь не чужды ему были и заботы о дне будущем. Поучительна история борьбы Вавилова за гибридизацию кукурузы.
Эта, по существу новая, культура целиком обязана своим появлением на свет биологической, точнее, генетической науке. Один из приемов генетики длительное принудительное самоопыление кукурузы (инцухт) и дальнейшее скрещивание и гибридизация самоопыленных линий — оказался средством, с помощью которого удалось получить урожаи зерна и зеленой массы на тридцать процентов более, нежели получали прежде от самых лучших сортов.
Первым в нашей стране занялся гибридизацией близкий друг и сотрудник Вавилова профессор Таланов. Николай Иванович поддерживал его исследования, но в 1935 году, когда теоретические поиски уже подходили к концу, а в США стремительно стали возрастать площади под гибридным маисом, Лысенко на совещании в Одессе объявил инцухт-метод антибиологическим и по существу закрыл путь новой культуре на поля СССР.
Сугубо деловая переписка академика Вавилова по поводу судьбы кукурузных гибридов носит почти драматический характер. Весть о триумфальном шествии гибридов по полям Соединенных Штатов заставляет Николая Ивановича выступить с предложением развернуть соответствующие работы у нас. "В 1937 г., - пишет профессор Гурский, — в Совнаркоме под председательством Молотова состоялось по этому поводу специальное совещание. Вавилов сделал доклад и предложил немедленно взяться за работы по гибридизации. Молотов обратился к рядом сидевшему Лысенко: "Ну, а вы как об этом думаете, Трофим Денисович?" Президент ВАСХНИЛ высказался коротко и определенно — бесплодно все, что связано с формальной генетикой. Использовать американский способ не следует. Рассказывая мне об этом, Вавилов воскликнул: "Подумай! Совнарком отклонил возможность удвоения урожаев кукурузы!" [153]
Лысенковский диктат мешает Николаю Ивановичу провести необходимые исследования даже на опытных делянках, принадлежавших ВИРу. Там по прямому указанию президента ВАСХНИЛ прекращены всякие опыты с принудительным самоопылением. Однако Вавилов не теряет надежду убедить Лысенко в своей правоте с помощью сугубо практических хозяйственных фактов. Получив в сентябре 1938 года очередной номер журнала "Nature" ("Природа"), он пишет в Одессу:
"Дорогой Трофим Денисович,
Ввиду того, что Вы интересовались вопросом о возможности использования гибрида первого поколения от само опыленных линий кукурузы, сообщаю Вам последние интересные данные, только что сообщенные в докладе министра земледелия США Уоллеса.
В текущем году под посевами первого поколения гибридных линий занято около 6 миллионов га, около 15 процентов всей посевной площади под кукурузой в США. По подсчетам, на основании сравнительных опытов это даст до 100 миллионов бушелей прибавки урожая. При этом министр Уоллес — сам селекционер-семеновод — придает исключительное значение этому методу и считает, что все остальные методы по улучшению кукурузы, которые применялись за последние 40 лет, ничего существенного не дали…" [154]
Казалось бы, такое важное сообщение должно взволновать всякого, кто всерьез радеет о благе отечественного земледелия. Но Лысенко делает вид, что не получал никакого письма, ничего не слышал о торжестве гибридной культуры в Америке. На очередной дискуссионной встрече он с лживым пафосом восклицает: "В течение 10–20 лет почти все селекционные станции… работали методами инцухта. Где же результаты? Где хотя бы один сорт, выведенный этим методом? Это забывают менделисты и, в первую очередь, забывает академик Н. И. Вавилов" [155].
Что делать, если почтенный оппонент публично лжет вам в глаза? Такие ситуации не раз возникали перед Николаем Ивановичем в те годы.
— Протестовать, — советовали друзья.
Он отмахивался: если заниматься подобной дребеденью, не хватит времени на главное.
— Но все же…
— Воевать с "распутиниадой" — самая трудная вещь в нашей жизни… Мне пятьдесят два года. Осталось продуктивно работать не более восьми лет. А сделать надо так много!.. [156]
Ученый с головой погружается в проблему, которая сулит великие блага народному хозяйству. Погружается — не то слово. Он весь захвачен этим делом, он горит им.
"Дорогой Иван Васильевич, — пишет он в июле 1939 года сотруднику ВИРа специалисту-кукурузнику И. В. Кожухову. — События в Америке чрезвычайные: по кукурузе [гибридной. — М. П.] площадь дошла до 10.000.000 гектаров, урожай прошлого года дал более 150.000.000 центнеров прибавки. Посылаю Вам экземпляр полученного мною письма. Изучайте его наизусть. Вся литература в нем приведена. Теперь Вы должны следить за каждым движением и все перечитать. Когда получу литературу — перешлю ее Вам. Делайте оргвыводы. Наркому напишу особо в связи с еще рядом событий в Канаде" [157].
Но все попытки Вавилова ввести гибридную кукурузу в практику кончились ничем. Его призывы разбивались о стену преднамеренного, злобного игнорирования. Журнал "Яровизация", выходивший под редакцией Лысенко Презента и задававший тон всей сельскохозяйственной науке СССР, в феврале 1940 года поместил поразительную по цинизму подборку статей, высмеивающих метод инцухта. В статье от редакции, между прочим, говорилось: "Баланс всех инцухтистов мира, в том числе наших соотечественников, — отрицательный. Инцухтистами создано богатое разнообразие форм, из которых нельзя, однако, выудить ни одного сорта, который мог бы сравниться хотя бы со стандартом". И дальше. "Последней попыткой морганистов доказать действительность своей теории была апелляция к американской кукурузе. Причем не столько сами американцы, сколько наши отечественные морганисты нашумели о победе на миллионах гектаров кукурузы в Америке проповедуемого ими инцухт-метода" [158].
Полгода спустя Вавилов был арестован. Прошло еще почти два десятилетия, прежде чем предмет его страстных исканий — гибридная кукуруза — вышла, наконец, на поля нашей Родины. В 1955–1956 годах Советский Союз, так и не освоивший по вине Лысенко и его приверженцев семеноводство гибридной кукурузы, вынужден был на валюту приобретать посевной материал у американца Гарста. И вот ирония судьбы: предприятие Гарста оказалось дочерним предприятием фирмы "Pioneer", которую основал и возглавил селекционер Уоллес, тот самый бывший министр сельского хозяйства США. Уоллес, на чей агрономический опыт еще в 1938 году тщетно призывал обратить внимание академик Вавилов!
Если приглядеться к тому, что происходило вокруг нашей сельскохозяйственной и биологической науки между 1935 и 1939 годами, можно заметить еще один метод "разрушения Вавилона". Лысенко вовлекал Вавилова, а вместе с ним сотни селекционеров, генетиков, агрохимиков, цитологов в деятельность, к науке никакого отношения не имеющую. В тридцать пятом началась кампания за то, чтобы сотрудники каждого научного института подняли урожай на артельных полях близлежащих колхозов. Лысенко заявил, что он чуть ли не всю Южную Украину обратит в край небывалых урожаев. Вировцы тоже взяли шефство над колхозами Батецкого района Ленинградской области. Для ученых началась пора бесконечных выездов-обследований, выездов-консультаций, выставок, праздников урожая, началась вся та политическая (а отнюдь не научная) сутолока, которая была нужна разве только что репортерам из "Вечернего Ленинграда". Потом Лысенко поднял шум по поводу хат-лабораторий. Он выступал с речами и статьями о великом народном почине, пророчил хатам-лабораториям замечательную будущность и, конечно же. не забывал всякий раз указать, что вот-де в глухих углах крестьяне делают настоящую науку, которая на сто голов выше той, что создают всякие там биохимики и генетики. От Николая Ивановича тоже требовали речей, отправки в хаты-лаборатории ценных семян, методического руководства. Возня эта породила ненужную переписку, требовала рук, сил, времени, материальных средств и в конечном счете почти ничем не помогла деревне. Хаты-лаборатории сгинули так же неожиданно, как появились. В результате Лысенко стал известен как "народный ученый", а Вавилову еще долго потом выговаривали за оторванность от народа. Неутомимый Трофим Денисович на этом не остановился. Он предложил заключить договор на соревнование между ВИРом и Одесским институтом. Соревнование сопровождалось газетным трезвоном, бесчисленными командировками одесситов в Ленинград и ленинградцев в Одессу и потоком поклепов на Вавилова, вавиловцев и "устарелую", ориентирующуюся на западные образцы вировскую школу. Все эти "рейды", "проверки", "контрольные выезды", газетная истерия нервировали ученых, дезорганизовали научную жизнь института, сорвали действительно нужную для земледелия работу. Пользу же извлекали только лысенковцы. Они демонстрировали перед властями свою активность, энергию, связь с народом. И наоборот, косность и политическую пассивность своих противников. Что и требовалось доказать: "Вавилон должен быть разрушен".
…В семейном архиве Вавилова хранится телеграмма, которую Николай Иванович получил в первых числах мая 1940 года. Вот ее полный текст:
"Американский национальный комитет, состоящий из 75 выдающихся деятелей науки, приступив к организации Второго Международного конгресса, посвященного чистым и прикладным наукам — физике, химии, биологии, — при Колумбийском университете в Нью-Йорке в сентябре 1940 года, весьма желает обеспечить Ваше участие и других ученых Вашей страны, что придаст международный характер конгрессу. Расходы будут оплачены. Просим ответить Нью-Йорк, Колумбийский университет. Председатель национального комитета Милликен".
Телеграмма из Нью-Йорка — документ весьма примечательный. Организаторы международного конгресса, желая пригласить делегацию СССР, обращаются не в правительство, не к президенту советской Академии наук, а пишут в Ленинград директору Института растениеводства. Впрочем, для них это вполне естественно. Николай Иванович в те годы — наиболее известный за рубежом русский ученый. В личной дружбе и переписке с ним состоят сотни исследователей разных стран. В Нью-Йорке резонно полагают, что у себя на родине такой человек пользуется неограниченным авторитетом. Кому, как не Вавилову, крупнейшему советскому естествоиспытателю, и подбирать делегацию на международный конгресс?
В Москве в 1940 году мыслили иначе. Получив телеграмму, Вавилов известил президиум Академии наук СССР и обратился к Молотову. "Прошу инструкций" — телеграфировал он председателю Совнаркома. Инструкций не последовало. Молотов промолчал. Советская делегация на конгресс не попала.
Писем и телеграмм, вроде той, что пришла из Нью-Йорка, получал Николай Иванович великое множество. Его наперебой звали устроители международных съездов, с ним делились сокровенными мыслями бойцы интернациональной бригады в Испании и колхозники артели имени профессора Вавилова Пензенской области. У него был редкостный дар завязывать дружеские отношения. Носильщик в южноамериканских Андах, правитель Эфиопии, недоверчивые жители глухой афганской провинции Кафиристан и министерские чиновники Парижа и Лондона проникались симпатией к профессору из страны большевиков буквально через четверть часа после первого знакомства. Но особенно располагал он к себе ученых-биологов, своих коллег по науке.
— Я не понимаю, чем он нас так покоряет! — с восторженным изумлением воскликнул однажды болгарский ученый Дончо Костов. И будто отвечая Костову, четверть века спустя географ-ботаник, член-корреспондент АН СССР Павел Александрович Баранов написал статью о Вавилове, которую назвал "Обаяние ученого".
Личное обаяние открывало перед Николаем Ивановичем и государственные границы, и человеческие сердца. Надо ли удивляться, что во всех уголках мира у него оставались искренние и готовые к услугам друзья. Вавилов и сам всегда готов к научному общению и выражению дружбы, широко пользуется своей известностью и авторитетом для блага отечественной науки. Это лично ему посылали свои книги виднейшие биологи, генетики, географы, к нему направляли свои отчеты опытные станции и институты мира.
Получить необходимые семена из любого, даже самого далекого района мира вировцам в 30-е годы не стоило большого труда. "Наша, лаборатория нуждалась в сорго из Судана, — вспоминал заведующий лабораторией сорговых Ефрем Сергеевич Якушевский. — Я как-то на ходу в коридоре сказал об этом Николаю Ивановичу. Он тут же заглянул в записную книжку и быстро ответил: "У меня знакомый в Хартуме. Вот его адрес. Напишите: "Мистер Вавилов шлет Вам привет и просит прислать разные сорта сорго". В то время, чтобы послать запрос в любую точку земного шара, требовалось не больше часа. В отделе интродукции сидел референт, владевший несколькими иностранными языками. Письмо тут же отправилось в путь, и через два месяца мы стали обладателями десятка ценных образцов. Точно так же, ссылаясь на личную просьбу Николая Ивановича, мы получили через фирму Вильморен редкие разновидности сорго из Сенегала, Мали, Гвинеи. Кстати, то самое гвинейское сорго, которое ныне особенно широко распространяется на наших полях" [159]. Е. С. Якушевский вспоминает, что с 1932 по 1940 год благодаря дружеским связям Вавилова ВИР получил до тысячи образцов одного только сорго. Число же образцов пшениц, семян овощей, косточек и семян плодовых деревьев, приходивших по почте со всего земного шара, исчислялось десятками тысяч.
В постоянном общении Н. И. Вавилова с Западом нет ни бахвальства, ни преклонения перед чужими успехами. В мире существует для него только одна-единственная биологическая наука, и любой серьезный исследователь, живи он в Мичуринске или Вашингтоне, для него прежде всего товарищ по общему поиску. Разногласия? Они неизбежны. Но это разногласия коллег, равно заинтересованных в обнаружении истины. Подобно Гёте, он убежден: "История науки — большая фуга, в которую мало-помалу вступают голоса народов". И конечно же, в научной фуге нельзя не прислушиваться к чьим-то голосам только оттого, что они звучат на иноземном наречии. Ленинградскому генетику Г. Д. Карпеченко, который некоторое время работал в США, Николай Иванович напоминает: "Пишите про чудеса, забирайте все, что есть лучшего, нам все хорошее нужно. Хотим во что бы то ни стало догнать" [160].
Не отставать, — догнать, перегнать Запад. Вавилов твердит об этом в докладах, статьях, на ученых советах. Он имеет на это полное право, ибо никто другой не знает так, как он, сильные и слабые стороны отечественной биологии.
"На теоретическом фронте за нами пока остается первенство в смысле знания культур, географии, цитологии, генетики, в смысле широкого понимания генетических взаимоотношений, — говорит он на сессии ВИР в феврале 1937 года. — Познание физиологии, при всем несовершенстве этого дела, пожалуй, еще на нашей стороне. Но в смысле химии, технологии, селекции, а на некоторых участках и генетики мы не идем вперед, поэтому приходится серьезно учиться и многое заимствовать" [161].
Но вавиловцы не только учились. Профессор статистики Петровской (Тимирязевской) академии Алексей Федорович Фортунатов, перефразируя известное латинское выражение, говаривал: "Учась, мы учим своих учителей". И Николай Иванович, один из учеников Фортунатова, не забыл уроков своего старого профессора. Институт генетики и Всесоюзный институт растениеводства, несмотря на травлю, остаются в 30-х годах Меккой для биологов разных стран. Вавилов собрал вокруг себя лучшие силы отечественной биологии. С ним работают такие видные ученые, как Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитский, Л. И. Говоров, М. А. Розанова, Е. В. Вульф, П. М. Жуковский, А. И. Мальцев, A. Б. Александров, Н. И. Кичунов, Е. Н. Синская, H. H. Кулешов, В. В. Таланов, В. В. Пашкевич, Н. А. Максимов, B. Е. Писарев, Н. Н. Иванов, К. А. Фляксбергер, С. М. Букасов, К. И. Пангало. Неудивительно, что для знакомства с ним едут в Ленинград столь же значительные биологи Запада. Для того чтобы читать труды ВИРа, беседовать с вавиловцами, не менее десятка исследователей западного мира, в том числе итальянский эколог Дж. Ацци, агроном из Палестины Эйг, американка ботаник Бриссенден, изучили в те годы русский язык.
И было из-за чего. В письмах Вавилова тех лет звучат названия все новых и новых монографий, сборников, руководств, которые выпускает ВИР. "Жизнь идет полным ходом, — пишет он профессору Карпеченко. — Вышла монография "Овсюги". Ею А. И. Мальцев обеспечил себе бессмертие. Книга, которой можем гордиться. Вышел том по плодоводству, посвященный дикарям Кавказа, Средней Азии и Дальнего Востока. Можете его рекомендовать кому угодно. Весь полон оригинального материала… Вышел Бородинский том. Там очень важная статья Кулешова о кукурузе, мировая география. Посоветуйте комрадам из Америки посмотреть, весьма не вредно" [162].
"Комрадам из Америки" действительно весьма поучительно почитать этот том, вышедший в Ленинграде. Ибо в России, а не в Америке (на родине маиса) профессор Николай Кулешов, ученик и сотрудник Вавилова, первый описал и классифицировал кукурузу в масштабах планеты. А в 1936 году, когда, кажется, не осталось ни одной вавиловской работы, которую не охаяли бы его противники, немецкая издательская фирма "Пауль Парей" обращается в СССР за разрешением перевести капитальный трехтомный труд "Теоретические основы селекции растений" — любимое детище Николая Ивановича и его учеников [163].
Тысячами нитей — научных, деловых, дружественных — связан Вавилов и его институты с мировыми центрами знаний, видными биологами и общественными деятелями Европы, Америки, Африки, Азии. В ВИР и Институт генетики непрерывно поступает новейшая научная информация. Запад по Вавилову судит об уровне советской науки. Каждое выступление его за границей — сенсация.
И вот одна за другой начинают рваться эти многолетние нити дружбы и научной солидарности. Три раза в течение 1936 года Чехословацкая земледельческая академия, только что избравшая в свои члены академика Вавилова, приглашает его приехать в Брно, чтобы прочитать лекции. Ученый просит у наркома земледелия разрешения на выезд за границу. Ему отказывают.
В 1937 году новый удар, еще более болезненный. В СССР должен состояться VII Международный конгресс генетиков. Еще в 1932 году Вавилов передал руководству предыдущего, VI конгресса приглашение советского правительства провести очередную встречу генетиков в Москве. Тогда же он был избран президентом будущего конгресса. Николай Иванович с нетерпением ждет этой встречи "на высшем уровне". Ему кажется, что приезд и выступления у нас видных генетиков мира несколько смягчат обстановку жестокой научной нетерпимости, созданную Лысенко.
"Мы держим большой экзамен, — писал Вавилов в газете "Известия", мировые конгрессы, особенно по таким ведущим разделам науки, как генетика, являются показателями культурного уровня страны… Надо показать умение организовывать международные научные конгрессы. Надо показать высокий уровень, на котором стоит советская наука" [164].
Однако, когда 1700 генетиков мира письменно подтвердили свое желание участвовать в конгрессе и работа по подготовке подходила к концу, Молотов вдруг запретил конгресс. Затем последовал приказ "отложить" встречу на год. Огромный труд устроителей конгресса пропал даром. Но утеряно было и кое-что поважнее. Вместо консолидации научных сил мира на прогрессивной основе, о которой мечтал Вавилов, волюнтаристское решение об отмене конгресса вызвало волну негодования в научных кругах Запада. Этим немедленно воспользовались ученые фашистских стран — Германии и Италии, чтобы навязать международному комитету генетиков свою позицию.
В конце концов конгресс вместо Москвы собрался в Эдинбурге, но и там занять кресло президента Николаю Ивановичу не пришлось. За рубеж его не выпустили.
Много лет спустя, когда Николая Ивановича уже не было в живых, его друзья в Москве и Ленинграде получили отчеты того давнего конгресса и прочитали полные горечи строки. "Вы пригласили меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов, — заявил председательствовавший в Эдинбурге британский генетик Ф. Кру. — Вы надеваете его мантию на мои не желающие этого плечи. И если в ней я буду выглядеть неуклюже, то вы не должны забывать: эта мантия сшита для более крупного человека" [165].
Срыв VII Международного конгресса генетиков в Москве не был случайностью. Соберись мировая генетическая общественность в Москве, несомненно подтвердились бы огромные успехи отечественной науки. Еще более укрепилось бы положение академика Вавилова как руководителя и организатора советской биологической мысли. Этого не хотели покровители Лысенко. Едва был наложен запрет на Международный конгресс генетиков, как Лысенко в декабре 1936 года собрал собственный "конгресс" — четвертую сессию ВАСХНИЛ, о которой говорилось выше. Но он просчитался: научной победы над классической генетикой "прогрессивные биологи" на этот раз так и не одержали. Им осталось лишь уповать на меры административные.
Вавилов в последние годы жизни особенно привязался к семье болгарского ученого Костова, человека в высшей степени доброго и отзывчивого. Но и с этим дружелюбным домом в конце концов пришлось расстаться. Начиная с 1936 года положение иностранных ученых в Советском Союзе становится затруднительным. Директору ВИРа публично пеняют за то, что он "тащит" к нам якобы политически нелояльных иностранцев. Это было ложью. Все, кого приглашал Вавилов, с глубокой симпатией относились к своей новой социалистической родине. Костов женился в СССР и собирался остаться здесь навсегда. Но иностранцам все же пришлось уехать.
Первым не выдержал американец Меллер. Его отъезд вызвал новые поклепы. Заговорили о бегстве реакционного генетика, об отступлении его перед "неоспоримыми" достижениями передовой лысенковской биологии. Поговаривали даже о каких-то буржуазных тенденциях американца. Впрочем, ложь эта быстро сникла. После очередной филиппики против Меллера в Помпейском зале Института растениеводства один из сотрудников вслух прочитал письмо, присланное из Испании. Член интернациональной бригады (он работал в группе по переливанию крови) Герман Германович, как себя по-русски именовал Меллер, просил временно отложить генетические споры до полной победы над фашизмом. "Сейчас главное — удержать Мадрид", — писал он.
Особенно остро пережил Вавилов разлуку с Костовым. Жена болгарского ученого, Анна Анатольевна, так описала обстоятельства их отъезда из СССР:
"Однажды в 1939 г. муж сказал мне, что настолько предан и любит Советский Союз, что ему доставляет жестокое страдание, когда к нему, как иностранцу, относятся с подозрением. "Я больше этого не могу переносить", — признался он. Николай Иванович старался и в этот вопрос внести свой оптимизм. "Что ж, уезжайте пока, но я уверен, что это явление временное и оно пройдет. Оставайтесь нашими друзьями, как мы останемся вашими друзьями. Ваша Болгария так близка от нас географически, что и вы к нам и мы к вам будем приезжать. А через некоторое время, я уверен, пройдет это напряженное положение, и мы опять пригласим вас". На вокзале последние слова, которые мы слышали от Николая Ивановича, были: "Дорогие друзья, мне вас будет не хватать. Надеюсь на скорое свидание" [166].
Миновала война, и гражданин Народной Республики Болгарии Дончо Костов вновь посетил Советский Союз. "Мы целый день проговорили с ним о событиях 30-х годов, о ВИРе и Вавилове, — рассказывает московский профессор А. И. Атабекова. — Костов вспомнил о последнем расставании. Николай Иванович сам внес тяжелый чемодан в вагон. "В ту минуту, когда поезд должен был тронуться от московского перрона, — сказал Костов, — я заглянул в его глаза.
Они были грустные". И тут (добавляет проф. Атабекова) наша беседа оборвалась. Произошло то, чего я никак не ожидала, Дончо Костов, немолодой уже, мужественный человек, уронил седеющую голову на руки и беззвучно заплакал…"
Так называемая борьба против преклонения перед иностранщиной, начавшаяся с нападок на заграничные экспедиции, понемногу стала распространяться на всю зарубежную литературу, вспоминает ближайшая сотрудница Вавилова профессор Евгения Николаевна Синская. Слова "мировая литература" стали чем-то ругательным. В этом отношении постоянно подливали масло в огонь лысенковцы, считавшие, что они достигли вершин биологической мысли и незачем тратить время на ознакомление с другими теориями. Нет надобности и в иных биологических изданиях, кроме их журнала "Яровизация". В тех сборниках, которые удавалось продвинуть в печать, приходилось вести борьбу за каждый список иностранной литературы. Усердные редакторы корпели над рукописями, тщательно изгоняя "преклонение". Особенно старательные стремились изгнать даже укоренившиеся в русском языке иностранные термины. Слово центр заменяли "серединой" или "средоточием", "перпендикулярный" "направленным под прямым углом", "филогенетический" — "родоначальным" и т. д., не очень заботясь о том, точно ли соответствуют русские выражения иноязычным [167].
Профессор Синская свидетельствует, что в 1936–1940 годах в ВИРе и других институтах "много ценной литературы изымалось из пользования, и хорошо еще, что она не всегда уничтожалась. Часто ее клали под спуд или выдавали ограниченному кругу читателей. Вырастало особое поколение "непомнящих родства", начинающих историю науки, особенно биологической, с сегодняшнего дня и зачастую тратящих силы на открытие Америки" [168].
В начале 1940 года Лысенко, которому уже удалось к этому времени лишить профессуру университетов, медицинских, педагогических и сельскохозяйственных институтов права преподавать студентам подлинную биологию (ее заменила так называемая "мичуринская" биология), обратил внимание на школьников. "Вопросы менделизма-морганизма надо изъять из программы по дарвинизму для средней школы, — писал он заместителю наркома просвещения РСФСР. — Это, на мой взгляд, целесообразно, хотя бы уж по одному тому, что ведь средняя школа должна обучать учащихся основам науки: менделизм же и морганизм, конечно, малое отношение имеют к основам науки" [169].
Вавилов как мог противоборствовал обнищанию биологии. По его инициативе в середине 30-х годов Институт растениеводства предпринял издание трех капитальных многотомных трудов: "Растениеводство СССР", "Теоретические основы селекции растений" и "Культурная флора СССР". Но довести до конца удалось лишь второй труд, тот самый, которым так интересовались немцы. Тридцать седьмой недобрый год оказался рубежом и для издательской деятельности Вавилова. Из "Растениеводства СССР" издали только часть первого тома. "Культурная флора СССР", призванная подытожить огромную ботанико-географическую работу вавиловского коллектива, тоже оказалась изданной лишь в незначительной части. "Рукописи кочевали от одного рецензента к другому и, наконец, окончательно потонули в издательской пучине", — вспоминает один из авторов, профессор Купцов [170].
Важным вкладом, который внес Николай Иванович в золотую библиотеку советской биологии, были изданные под его редакцией сборники статей Т. Моргана и Дж. Меллера (1937 год). Кроме того, по его настоянию впервые на русском языке появляется основополагающий труд Ч. Дарвина "Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире". Перевод Дарвина, предисловие к нему — последнее, что великий книголюб и пропагандист научной книги Вавилов еще мог сделать, чтобы рассеять мрак, надвигающийся на отечественную биологию. После этого он уже ничего не издает, хотя и продолжает усиленно работать над своими рукописями. Профессор Николай Родионович Иванов, беседовавший с Вавиловым незадолго до ареста, рассказывает, что на московской квартире Николая Ивановича хранилось в то время около 2500 страниц неопубликованных рукописей. Была там большая, на тысячу страниц рукопись "Борьба с болезнями растений путем выведения устойчивых сортов", которую ВИР представил на соискание Сталинской премии, а также незаконченные труды "Полевые культуры СССР", "Мировые ресурсы сортов зерновых культур и их использование в селекции", "Растениеводство Кавказа", "Очаги земледелия пяти континентов", где ученый описал свои поездки по пятидесяти двум странам мира. Подавляющее большинство рукописей после ареста бесследно исчезли и не разысканы до сих пор.
Академик Вавилов до последних дней оставался верен идеалам мировой науки. Летом 1940 года в разгар уже ничем не сдерживаемой травли, в пору, когда в ВИРе не прекращались аресты, Николай Иванович подает наркому земледелия докладную записку: "Об использовании зарубежного сельскохозяйственного опыта, новейших иностранных изобретений, улучшенных семян и растений". Это как крик души: ученый не способен мириться с превращением науки в "сельскую самодеятельность". Докладная записка документ сорокалетней давности — и сегодня о многом говорит нам, людям иной эпохи.
"Одной из особенностей таких наших крупнейших ученых, как Менделеев, Тимирязев, Павлов, Прянишников, было то, что они приучили нас внимательно следить за достижениями мировой науки, — писал Вавилов. — О необходимости внимательно изучать опыт мировой культуры учил Горький. Между тем на многих участках сельского хозяйства и сельскохозяйственной науки в последнее время начинают культивироваться нездоровые тенденции игнорирования зарубежного опыта и даже пренебрежительного отношения к нему. Прекратилось издание реферирующих органов, переводов лучших иностранных руководств и оригинальных работ, прекратился учет изобретательства, учет больших селекционных достижений, которые имеют место за последнее десятилетие, и особенно в Канаде, США, Германии, Швеции. Имеется тенденция к хулению огулом всей буржуазной науки. При этом забывают о том, что наука и техника в капиталистических странах главным образом движется интеллигенцией, тружениками науки. Несоответствие взглядов некоторых из авторитетных советских товарищей с основными направлениями науки за рубежом стало поводом для того, чтобы отмахиваться от всей заграничной науки. Этому способствует обычно незнание иностранных языков даже крупными научными агрономическими работниками нашей страны.
Ограничения по обмену семенами, проведенные в последнее время, фактически приостановили ввоз улучшенных сортов из других стран, поскольку все это дело может быть построено лишь на взаимном обмене новинками… Нужны радикальные меры, чтобы исправить положение дел".
И Вавилов тут же предлагает эти конкретные меры. Он перечисляет книги специалистов селекционного дела, которые необходимо немедленно перевести на русский язык, рекомендует создать институт сельскохозяйственных консультантов при некоторых советских посольствах "как для использования опыта, так и для сборов необходимого там посадочного материала", призывает Наркомзем организовать "оперативное бюро по использованию заграничного опыта, как-то: новейших машин и орудий, новых средств в борьбе с болезнями и вредителями растений, новых сортов…" [171]
Сегодня эти предложения кажутся само собой разумеющимися. Но в 1940-м на призывы Вавилова никто не обратил внимания. У научного кормила стояли люди, ищущие для себя личную выгоду в "политике замуровывания" так же, как находились мастера извлекать пользу из политики репрессий, атмосферы страха и подозрительности. И тот, кто в 1939 году твердил, что в "биологической науке, в частности в учении о наследственности, в странах капитала господствуют метафизические извращения", "что далеко не у всех наших биологов… изжито преклонение перед заграницей и погоней за заграничной модой в науке" [172], тот, конечно, хорошо понимал: Сталину это понравится. Сталину нравилось и то, что высокие и сверхвысокие урожаи, новые сорта за два года и прочие будущие блага Лысенко сулит подарить без всякого участия посторонних, силами собственной доморощенной науки.
Как же объяснить, что в такой, до крайности неблагоприятной обстановке Вавилов решается подать в Наркомзем свою докладную записку? Наивность? Упрямство? Или прямая попытка самоубийства? Я расспрашивал об этом ближайших к Николаю Ивановичу сотрудников ВИРа — профессора Е. Н. Синскую, С. М. Букасова, Н. Р. Иванова. Они слушали меня терпеливо и грустно, как человека, не способного понять простейшую истину: "Ни наивности, ни упрямства не было у него и в помине. Николай Иванович, как бы это вам сказать, был очень цельной натурой. Он просто не умел, не мог иначе…"
Глава 7 ГОД ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОКОВОЙ…
Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы в науке и искусстве и принимающую благоговейную дань уважения от просвещенного человечества.
В. Г. Белинский, 1840 г.Несколько лет назад в Ташкенте мне показали две странички, вырванные из школьной тетради. Еще совсем не старый человек, блестящий эпидемиолог и вирусолог профессор Николай Ходукин набросал на них свое завещание. Труд, написанный на смертном одре, именовался "Что бы я хотел сделать в науке". В четырнадцати пунктах оздоровитель Среднеазиатских республик профессор Ходукин оставил своим продолжателям стройную программу дальнейшего наступления на болезни. Я читал этот документ и думал о мужестве ученого, вернее, о традициях мужества в науке.
Фрэнсис Бэкон простудился, охлаждая курицу для физиологического опыта. Последние оставшиеся от него слова запечатлел его экспериментальный журнал — "Опыт удался"… За несколько часов до гибели Помпеи Плиний-старший пишет друзьям, которые умоляют его спастись, что его больше занимает разбушевавшаяся стихия, нежели собственная безопасность. В 1912 году обреченный на смерть от легочной чумы русский врач Ипполит Деминский последние минуты жизни тратит на то, чтобы составить и отправить телеграмму научного содержания: медик призывает коллег вскрыть его тело — как первый достоверный случай заражения чумой человека от суслика…
Ходукин и Бэкон, Плиний-старший и Деминский: их подвиг разъединен столетиями, но для нас, потомков, они в одном ряду, в ряду героев. Их последние строки, может быть, самое трагичное из того, что писалось людьми всех времен. "Когда умирает ученый, умирает мир" — гласит восточная мудрость. Воистину так, ибо за последней строкой ученого пропасть, куда безвозвратно рушится целый мир невысказанных идей, несовершенных открытий, необнаруженных истин.
Передо мной извлеченный из архива "Проспект работ на 1940-41 год", две странички, которые Николай Иванович составил для себя в самом начале 1940 или в конце 1939 года. Это программа того, что собирался делать ученый в ближайшие два года. В проспекте ничего не говорится о том, что входит в деятельность вице-президента ВАСХНИЛ, об исполнении директорских обязанностей в Институте растениеводства, о поездках в экспедиции и на опытные станции. Перечислены только книги и статьи, которые он намеревается написать. Но и в таком виде этот сугубо личный, набросанный для собственной надобности документ поражает. За 720 дней своей жизни Николай Иванович готовился создать целую библиотеку: двенадцать книг общим объемом в 243 печатных листа! Три из них — 23 печатных листа — предстояло написать по-английски, две книги снабдить развернутым английским резюме. Кроме того, ученый обязывал себя написать для журналов пять больших — более печатного листа — научных статей (одну — по-немецки).
В истории науки "проспект" академика Вавилова навечно занял место рядом с телеграммой доктора Деминского и последней строкой Бэкона. Страшно думать о сожженных библиотеках, об уникальных, более не существующих книгах — истребленных сгустках человеческого разума. Но разве не столь же трагична судьба так и не написанных двенадцати томов, этих поистине умерщвленных в чреве детей науки? Даже перечисление заголовков дает представление о значимости вавиловских сочинений.
Проспект остался в основном неосуществленным. Но для нас этот документ не "историческая деталь". Две напечатанные на машинке страницы позволяют сделать некоторые выводы об авторе и о его душевном состоянии в те годы. Травля не лишила Вавилова работоспособности. И без того тесно набитые сутки его уплотняются до отказа. Ведь для того чтобы в течение двух лет написать 243 печатных листа — около шести тысяч страниц, — надо ежедневно, без единого дня перерыва, делать не меньше восьми страниц! Те, кто помнят Николая Ивановича в последние месяцы, говорят, что так он и работал. В экспедициях по стране он оставляет для сна только считанные часы переездов, засыпая на час-другой в автомобиле и даже в маленьком самолетике местного сообщения, где для отдыха приходится прикорнуть на тюках и чемоданах. "Жизнь коротка — надо спешить". Теперь этот девиз, подобно бичу, непрерывно свищет над его головой. "Спешить… спешить…"
Но кроме титанического трудолюбия, в этой спешке видится какая-то прежде не присущая Вавилову тревога. Нет, не страх, не боязнь за себя, но естественная тревога исследователя, который не успевает довести до конца свое дело, не успевает отдать людям богатство своего ума, опыта, образования. Для тревоги достаточно оснований. Давно миновала пора, когда, по словам профессора К. И. Пангало, "характерной спецификой Института растениеводства была особенная праздничная атмосфера, общее бодрое, приподнятое настроение…" [173]. Для конца 1939 года, начала 1940 года куда более типична картина, нарисованная в мемуарах профессора E. H. Синской:
"Жизнь в институте давно уже была тревожной, но все-таки случались и передышки. С развитием и укреплением лысенковского психоза спокойных промежутков совершенно не стало… Нападки на ВИР и на самого Николая Ивановича превратились в перманентную травлю. Положение института резко пошатнулось. Участились всякие ревизии, комиссии, проверки…" [174]
Комиссии, проверки… В ВИРе разворачивается новая громадная работа: проводятся массовые, так называемые циклические, скрещивания. Директор института целые дни проводит на опытной станции в Пушкине, часами склоняясь над делянками пшениц и льнов. Надо уяснить, какие именно сочетания родительских пар дают наилучший селекционный эффект. Он увлечен новой идеей. Ведь циклические скрещивания обещают важные выводы для всех тех, кто создает сорта сельскохозяйственных растений. А в то время очередная проверочная комиссия составляет очередной проверочный акт, из которого явствует, что институт на Исаакиевской площади подвергся разлагающему буржуазному влиянию. Как доказательство комиссия приводит неопровержимый факт: все надписи на дверях лабораторий в ВИРе сделаны на двух языках. Подумать только: даже уборные и партком обозначены у них по-английски! Директора вызывают для взбучки, пишется объяснительная записка, выводы комиссии обсуждаются на общем собрании института…
В ВИРе предпринята сложная и чрезвычайно трудоемкая попытка создать оригинальную систематику культурных растений, классификацию, опять-таки имеющую самое непосредственное отношение к поискам и созданию новых сортов. А в это время прокурор Октябрьского района г. Ленинграда специальным письмом обращает внимание директора ВИРа на то, что, "по имеющимся в прокуратуре сведениям", тот недостаточно регулярно отвечает на заметки, помещенные в стенной газете института [175].
Мелочи? Но поток мелких неприятностей сыплется на его голову совсем не случайно. Так за секунду до грандиозного обвала катится со склонов гор каменная мелочь. Трещины начинают бороздить когда-то монолитное тело ВИРа. Среди аспирантов института все чаще происходит то, что Николай Иванович полушутя называл биологическим термином "мутация". Молодые люди, еще недавно серьезно занятые своими исследованиями, вдруг объявляют себя противниками идей академика Вавилова и требуют дать им нового научного руководителя. Разные причины толкают молодежь на такие "скачки". Одни покидают лоно подлинной науки, действительно поверив в непогрешимость "прогрессивной биологии", другие просто уразумели, что легче прочитать две-три книги и освоить одну-единственную теорию, нежели всю жизнь пробираться к истине сквозь джунгли неисследованного. Находятся и обычные карьеристы, чья мечта о быстром восхождении по служебной лестнице вдруг обретает вполне реальные формы: Лысенко всячески пригревает перебежчиков.
В 1937-м Вавилов говорил о тогда еще немногочисленных "мутантах" иронически: "Перебесятся". И советовал аспирантам почаще заглядывать в Дарвина. Теперь приходится серьезно задуматься о нравственных истоках этого массового бегства от науки. Все возрастающая боль и горечь слышатся в словах руководителя института, когда он разговаривает с друзьями о судьбах будущих творцов. "Мозги вывернули молодым". "Один человек не может подменить собой науку. Если это произойдет, мы отстанем от мировой биологии минимум на пятьдесят лет". И снова, задумываясь о молодых "перебежчиках", ученый заключает с грустью: "Едва ли из этих что получится. А жаль: есть способные…" Его предсказания сбылись: из тех, кто, переняв чужие взгляды, отказались от вавиловского стиля независимого мышления и многократной проверки каждого вновь добытого факта, значительных ученых так и не получилось. Безнравственность в науке не проходит даром. О таких, полушутя-полусерьезно, Николай Иванович говорил: "Уж если генов порядочности нет, — ничего не поделаешь".
Но даром не проходит и непрерывная борьба, многолетнее нервное напряжение. "Он как-то потускнел в последний год. Не стало прежнего блеска в глазах, всегдашней вавиловской, чуточку иронической веселости", вспоминает профессор В. Е. Писарев. Неутомимый путешественник, когда-то с легкостью бравший непроходимые перевалы, пешком и верхом совершавший тысячекилометровые походы, теперь (а ведь ему нет и пятидесяти двух) с трудом взбирается по лестнице на третий этаж. "Сердце, брат…" признается он институтскому привратнику, первым подметившему перемены в здоровье директора.
Вавилов скрывает недомогание. От всех. Даже от жены. Напрасно Елена Ивановна, с которой прожито душа в душу пятнадцать лет, выспрашивает, что с ним. Николай Иванович или отмалчивается или переводит разговор на другое. Все чаще дома и в институте охватывают его вспышки беспричинного гнева. Домашние и сотрудники пытаются смягчить эти взрывы. Да и сам он, отходя, чувствует себя смущенным и только бросает порой: "Тормоза ослабели".
Нервные срывы, болезнь сердца, душевная усталость все более углубляются в душной, насыщенной грозовым электричеством атмосфере, которая окутала институт, обволокла всю биологическую науку. Понимал ли Вавилов неизбежность близкой бури? Безнадежность своего положения? Я задал этот вопрос нескольким сотрудникам ВИРа. Мнения разошлись. "Все считали его обреченным, — ответила профессор Е. Н. Синская. — Сам он в меньшей мере, чем другие, поддавался таким настроениям, но и у него они стали преобладающими". Анна Анатольевна Костова-Маринова подтверждает: "Летом 1939 года старый друг Николая Ивановича болгарский профессор Дончо Костов переслал Вавилову диплом об избрании советского академика доктором наук Софийского университета. В том же пакете Костов направил характеристику Вавилова, которую он прочел в переполненном актовом зале университета в Софии. "Спасибо за Ваш некролог", — устало пошутил Вавилов в ответном письме. Предчувствие близкой гибели не покидало его" [176].
Сотрудник ВИР профессор А. В. Гурский не согласен с такой точкой зрения. "Зимой 1940 года, — рассказывает он, — я зашел к нему на московскую квартиру. Заговорили о судьбах института. Николай Иванович высказывал убеждение, что дело еще далеко не проиграно. Сказал решительно: "Если всех наших врагов утопить в Фонтанке, то по малой их значимости даже пузыри не пойдут". В реальность своего ареста не верил: "Не посмеют"".
Кто же прав?
Старая сотрудница ВИРа еще из саратовской гвардии, кандидат сельскохозяйственных наук Александра Ивановна Мордвинкина поясняет: "На людях он еще держался, но дома наедине с собой мрачнел, совсем становился стариком". Очевидно, в этом и состоит правда. Удары судьбы разрушали душу и тело этого могучего человека. Он не мог не видеть стремительно приближающуюся развязку. Но на людях, по существу, перед лицом своей школы, своего института, Николай Иванович остается носителем энергии и мужества. Это его долг, последний долг. Героическое преодоление самого себя ради спокойствия сотрудников, ради сохранения в лабораториях последних крох творческой обстановки становится для него еще одним обязательным, хотя и нелегким делом.
В середине марта 1939 года областное бюро секции научных работников проводит в ВИРе выездное заседание. Дебаты продолжаются два дня. Помпейский зал переполнен. На трибуне сменяются противники и сторонники академика Вавилова, обнажены все язвы, все беды института. Явной становится непримиримость двух сторон — науки и лженауки. Доклад директора — еще одна попытка отстоять тысячный творческий коллектив от гибели. "Ораторствовать Вавилов не любил, это было просто не в его натуре, но его неторопливо произнесенная речь всегда оставляла неизгладимое впечатление. Звучным приятным голосом, без всякого нарочитого пафоса, он с предельной четкостью произносит каждое слово, каждую фразу, словно боясь, что без этого слушатели потеряют главную нить. Его речь напоминает абсолютно точную материально весомую конструкцию мысли, в которой не только фраза, слово, но и отдельная буква имели свой смысл" [177].
Я читал этот доклад в стенографической исправленной записи, но и в таком виде он оставлял ощущение поразительно емкого по мыслям и значительного по форме художественного произведения. А между тем речь шла о сугубо специальных, казалось бы, вопросах. Об огромных еще не освоенных территориях на севере и востоке страны, о пустынях и горных долинах, где земледельцы ждут помощи ученых-растениеводов, о долге биологов, которые обязаны постоянно улучшать качество уже выведенных сортов, о ценных культурах, которых пока еще нет на полях. По сути, это была речь о великом труде, предстоящем ВИРу и вировцам, об ответственности ученого перед народом. Речь была призвана вернуть ученикам и коллегам утраченное душевное равновесие, деловое рабочее настроение. Вавилов зовет к общему дружному труду, но это отнюдь не призыв отречься от своих взглядов и идей. Стенограмма запечатлела его непреклонные, полные страсти слова: "Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся" [178].
Нет никакого сомнения: в последний год своего пребывания на свободе Николай Иванович Вавилов знал — дни его сочтены. Как ни скрывал он этого от близких, но горькая правда, смягченная шуткой, время от времени проскальзывала в разговорах. Садясь в директорский автомобиль, без которого, при своей занятости, он совершенно не мог обходиться, Вавилов заметил как-то сотруднице: "Вот, привык ко всяким удобствам, а судьба так превратна". Другой раз, подписывая одному из учеников научный отзыв, опять-таки мимоходом бросил: "Сейчас отзыв даю, но скоро, может быть, сделать этого уже не смогу". И все же, слишком любя науку, слишком дорожа каждой минутой труда в жизни, чтобы опускать руки, он продолжает на годы вперед составлять планы и проспекты, спешит выполнять то, что еще можно выполнить.
"Пытаюсь подытоживать одну за другой работы, но не успеваю, признается он в письмах Дончо Костову. — Самое основное — работа по иммунитету, которую, вероятно, в этом году опубликую: "Законы естественного иммунитета к инфекционным заболеваниям культурных растений" — ключ к нахождению иммунных форм…" [179]
В переписке с зарубежными друзьями Николай Иванович, насколько это возможно, не скрывает борьбы, которая разыгралась в советской биологии. Не скрывает и свою собственную научную позицию: "Что касается положения с генетикой, то оно устойчиво, — не без горького юмора сообщает он в мае 1940 года Дончо Костову. — Логически дошли до ламаркизма, в частности, в адекватности. Вегетативная гибридизация считается не только доказанным фактором, но и методом в селекции. Но мы стоим твердо и неуклонно на своих позициях" [180].
Костову, конечно, не трудно понять иронию, которую его ленинградский друг вкладывает в сообщение о том, что гак называемая "вегетативная гибридизация" стала методом селекции. Ошибка Мичурина, подхваченная недобросовестными его эпигонами, возведена в ранг научного достижения и теперь административными мерами внедряется на опытных станциях страны.
Столь же горькие намеки слышатся в письме, отправленном Харланду: "Карпеченко, Левитский, Эмме, все наши генетики очень много работают. У нас горячие споры с учеными группы Лысенко, которые считают, что возможно изменить генотип в любом направлении при помощи внешних условий ламарковская точка зрения. Мы, с другой стороны, "консервативные", "классические", генетики. Обе стороны совершенно уверены в своих позициях". Давая своему адресату понять, что спор не так уж безобиден, Николай Иванович добавляет: "Я все еще директор как Института растениеводства, так и Института генетики в Москве" [181].
Да, он все еще директор двух институтов, хотя давно уже не руководит Академией сельскохозяйственных наук и не член ЦИК. Уже семь лет он, президент географического общества, не выезжает за пределы страны, его не избирают, как прежде, депутатом Ленинградского Совета. Вавилов в опале. Это понимают все. И особенно хорошо его враги. Каждая поездка в Москву в ВАСХНИЛ превращается для Николая Ивановича в моральную пытку. На заседаниях Лысенко попросту третирует его. Мелкие уколы, издевки, выговоры так и сыплются на директора ВИРа.
Вот одна из таких типичных сцен. Вавилов докладывает о планах своего института, говорит о создании иммунных сортов пшеницы, о выведении в ВИРе ракоустойчивых сортов картофеля, о том, что необходимо взяться за гибридную кукурузу. Как всегда, он не считает нужным скрывать и недостатки. Дойдя в своем докладе до работы биохимической лаборатории, с сожалением признается: биохимики пока не выучились распознавать сортовые и видовые различия по белку. "Отличить чечевицу от гороха по белку мы до сих пор не умеем".
Лысенко (с места). Я думаю, что каждый, кто возьмет на язык, отличит чечевицу от гороха.
Вавилов. Мы не умеем различить их химически.
Лысенко. А зачем уметь химически отличать, если можно языком попробовать? [182]
А вот другой, не менее красноречивый диалог. На заседании президиума ВАСХНИЛ Вавилов предложил использовать для скрещивания найденный им в Средиземноморье не поддающийся ржавчине овес "Византина". Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, Николай Иванович тут же вынул из кармана пакет с семенами и подал его секретарю. При этом выяснилось, что надпись на пакете сделана по-латыни.
Вавилов (поясняя). Ботаническая наука международна, и поэтому наиболее удобной терминологией является латынь.
Лысенко. Чтобы народ не понял.
Презент. Тогда и исследовать не надо [183].
Вавилов сдерживает себя. Он не отвечает на насмешки даже тогда, когда они приобретают явно издевательский характер. Это принципиально.
У профессора В. В. Алпатова сохранилось письмо, присланное Николаем Ивановичем после стычки Алпатова со сторонниками Презента в редакции журнала "Природа" "Презентов не переспоришь, — писал Вавилов, — их много, и чем меньше у них багажа, тем более они крикливы. Позвольте по-товарищески посоветовать писать спокойно учебник биометрии. Он чрезвычайно нужен" [184].
Далеко не у всех вировцев хватает мужества вот так же, внешне невозмутимо, продолжать изо дня в день свое дело. То один, то другой сотрудник обращается к директору: "Может быть, в связи с предстоящими в институте переменами, свернуть некоторые генетические эксперименты? Прекратить опыты, которые все равно никому не нужны?" (Их беспокойство оказалось, кстати сказать, совсем не напрасным. После исчезновения Вавилова наиболее видных сотрудников ВИРа арестовали, других уволили, тематика научных исследований была резко изменена.) Да, они были по-своему правы, исследователи, понимающие бесцельность своих усилий. Но капитулировать Вавилов не умеет. Он отвечает товарищам письмами, где в каждом слове просьба продержаться, продержаться и сделать в науке сколько можно. Вот типичное послание тех лет, адресованное видному специалисту по бахчевым культурам профессору К. И. Пангало:
"Дорогой Константин Иванович!
Работайте спокойно. Уделите сугубое внимание подытоживанию Вашей большой работы по бахчевым в смысле капитальной монографии. Надо торопиться создавать бессмертные труды! Нодэн, вероятно, работал побыстрее Вас — надо его догнать и перегнать! Не напрасно я все время на себя беру роль беспокойного будильника…
Никаких сугубо угрожающих обстоятельств нет, и работайте спокойно…
Когда Фарадея спросили: каким образом он достиг больших результатов, он ответил, что много работал и регулярно кратко и толково подытоживал результаты своей работы и опубликовывал их.
Вот и весь рецепт.
Только что вернулся с Кавказа [185]. В Майкопе, в Дербенте и в особенности в Сухуми работа идет полным ходом. Посевы в прекрасном состоянии. Ведется настоящая, нужная, на большой высоте работа…
Свою линию комплексного растениеводного учреждения мы будем вести неизменно, невзирая ни на какие препоны" [186].
Чтобы спасти свою гвардию, Вавилов не только выступает и пишет письма. Зная, что в случае его ареста или ухода первой подвергнется разгрому ненавистная Лысенко генетическая лаборатория, он переводит в другие отделы нескольких наиболее одаренных генетиков (в том числе талантливого исследователя кукурузы, позднее академика, лауреата Ленинской премии М. И. Хаджинова). Предпринимает и другие меры. Доктор биологических наук Р. Л. Перлова рассказывает, что в начале лета 1940 года она и несколько других бывших в экспедиции вировцев стали получать от директора телеграммы с предложением устраиваться на работу в тех местах, где проходит экспедиция. Сотрудники изумились: что же это такое? Вавилов отказывается от них? Возникли обиды, подозрения. История разъяснилась лишь несколько месяцев спустя, когда Николая Ивановича уже не было. В предвидении грядущей судьбы ВИРа Вавилов и таким путем пытался вывести из-под удара наиболее честных и способных биологов.
…Разговоры об экспедиции в Западную Украину и Западную Белоруссию начались в Институте растениеводства с весны 1940 года. Экспедицию посылал Наркомзем, чтобы выяснить состояние сельского хозяйства на недавно присоединенных землях. Прошел слух, что возглавит группу ученых-растениеводов академик Н. И. Вавилов. Давно уже ни одно событие так не радовало Николая Ивановича. Новые места, новые дороги: он уже мысленно вдыхал ветер Карпатских вершин, вступал под сень лесов Буковины. Но этот предстоящий выезд не был только очередным походом в неведомые края. Поездка была до крайности необходима. Накаленные страсти в институте требовали разрядки. Даже он — неутомимый — жаждал перемен. Хоть на время. Но в Наркомате тянули, назначению опального академика кто-то упорно противодействовал…
Приказ подписали только 23 июля. В тот же день Вавилов выехал в Москву. У него все уже готово: подобрана группа сотрудников, продуман маршрут. Один из чемоданов полон книг из академической библиотеки: все о земледелии, растительном составе, почвах и даже климате западных областей. Перед отъездом в кабинете директора — короткое напутствие для тех, кто отправляется в путь. "Леди и джентльмены! — гремит Николай Иванович. Глаза и зубы у него блестят, движения упруги, динамичны. — Леди и джентльмены! Нам доверено ответственнейшее дело…" Кажется, не было мрачных лет "биологической" дискуссии, гнусных доносов, непристойной травли, никчемных комиссий и проверок. Вавилов весел, стремителен, деловит, как восемь лет назад, когда ехал в свою последнюю заграничную экспедицию.
Это настроение не проходит и в Москве. Встретив в коридоре Наркомата земледелия сотрудника ВИРа M. M. Якубцинера, Николай Иванович с сияющим лицом помахал в воздухе бумагой:
— Ну, вот видите, все идет по спирали. Нас опять оценили. Вот приказ об экспедиции [187].
Отъезд из Москвы в Киев назначен на вечер 25 июля. Днем в Институте генетики Николай Иванович беседует с кандидатом наук А. И. Атабековой. Ее недавно сняли с работы в Тимирязевской академии за "крамольные" исследования: биолог осмелилась изучать действие рентгеновских лучей на растения.
— Сейчас все изменится, — убежденно говорит молодому коллеге Вавилов, — то, что я расскажу вам, — не валерьяновые капли. Я не могу назвать здесь правительственное лицо, у которого я был, но, поверьте, теперь можно будет работать так, как мы захотим. Мы развернем громадный отдел цитологии. Америка еще позавидует нам!.. [188]
Упиваясь этими, вдруг распахнувшимися впереди возможностями, Николай Иванович горячо и долго толкует о том, какой небывалый разворот получат отныне биологические исследования в Советском Союзе. Но два часа спустя настроение у него резко меняется. Вице-президент ВАСХНИЛ Николай Вавилов встречается с президентом Трофимом Лысенко. Речь идет сначала о докторской диссертации по генетике, которую Лысенко не допускает к защите. Но постепенно спор разгорается и приобретает общий характер. Происходит жестокая размолвка. Свидетели неохотно вспоминают подробности стычки между Вавиловым и Лысенко. Сказано слишком много. Сохранилось, однако, немаловажное свидетельство профессора Лидии Петровны Бреславец.
Когда академик Вавилов, хлопнув дверью, выбежал из кабинета, одна из научных сотрудниц шепотом произнесла: "Ну теперь его арестуют". "За что же?" — спросила Бреславец. "Он сказал Трофиму Денисовичу ужасную вещь: "Благодаря Вам нашу страну другие страны обогнали". Вот увидите, его арестуют".
Последние, кто видел Вавилова в Москве, были вировцы Николай Родионович Иванов, Николай Васильевич Ковалев и вновь назначенный заместитель директора ВИРа Иван Алексеевич Минкевич. Они пришли на московскую квартиру Николая Ивановича под вечер. Ученый был взвинчен и истомлен до крайности. О столкновении с президентом бросил коротко: "Я сказал ему все". И. А. Минкевич получил последние наставления на ближайшие недели (экспедиция планировалась на месяц-полтора), Вавилов деловито говорил об остающихся у него в столе рукописях, над которыми ему предстоит работать, о будущих изданиях. Просил сотрудников не снижать темп работы. На прощание даже улыбнулся. Улыбка получилась кривая, глаза были усталые, затуманенные горькими мыслями.
Но те, кто 26 июля встречали Вавилова на вокзале в Киеве, опять увидели ученого собранным и полным сил. О московских треволнениях — ни слова. Все думы только об экспедиции. Три дня в Киеве до предела заполнены. Встреча с президентом Академии наук Украины, беседы с наркомом земледелия и заместителем председателя Совнаркома, добыта легковая машина для поездки по западным областям. Вавилов успевает побывать в Научно-исследовательском институте сахарной свеклы и на археологической выставке, посвященной Трипольской культуре, договаривается с украинскими учеными об организации совещания по истории земледелия [189] и даже выступает на республиканском слете пионеров. Опытный путешественник, он ничего не упускает: не забыты карты и справочная литература. Принято во внимание, что в горах Буковины будет прохладно — нужна шерстяная одежда.
И вот черная "эмка" летит по шоссе Киев — Житомир — Бердичев — Винница — Подволынск — Перемышляны — Львов. Вавилов на командирском месте рядом с водителем. Пустых разговоров в машине он не любит. Зато его живо занимает все, что происходит в окрестных полях. Восхитительны массивы сортовой пшеницы, уходящие за горизонт до старой государственной границы. Но еще интереснее для ученого крестьянские, напоминающие лоскутное одеяло поля Западной Украины. Здесь Николай Иванович останавливает машину каждые пять километров. Шофер еще тормозит, а он уже бежит к ближайшей ниве, чтобы набрать в матерчатые мешочки образцы ржи, ячменя, овса.
Львов. Еще два дня кипучей деятельности. Встречи с руководителями земельных органов. Во Львовском университете Вавилов перезнакомился со всеми учеными-ботаниками. Разыскал какого-то местного географа, толковал с ним целый вечер. В гостиничном номере на столе и на полу — сотни книг, журналов, оттисков по растениеводству — его очередная добыча. Потом поездка в Сельскохозяйственную академию в Дублянах, неподалеку от Львова. "Там провели целый день, Николай Иванович осматривал опытные поля, вегетационные эксперименты. Заведующего кафедрой профессора Мечинского буквально замучил вопросами, с того лил пот. Тут же с чрезвычайной быстротой переписал в свою толстую записную книжку всю библиотеку кафедры" [190]. Он впитывает знания, как губка, закрепляет их намертво. Обнаружил в библиотеке несколько незнакомых работ, пометил: прочитать. Узнал, что поляки организовали испытание картофеля на заболевание раком, записал — хороший опыт, испытать в ВИРе. Время спрессовано, время сжато до предела, каждая минута несет важную научную информацию. Но в напряженном труде ученого нет ни грана педантизма, отрешенности от естественных человеческих чувств. Студенты попросили его выступить. И тут же на лугу перед зданием Академии Николай Иванович импровизирует живой остроумный рассказ о профессии своих слушателей — будущих агрономов. Аплодисменты. Он шутит, смеется, фотографируется с молодежью. А пятнадцать минут спустя, мчась по шоссе обратно во Львов, останавливает машину, чтобы обстоятельно выспросить у крестьян, как в этих местах очищают поля от сорняков.
Во Львове начальник экспедиции разделил своих сотрудников на три отряда. Каждой группе поручил обследовать несколько областей: сам с В. С. Лехновичем и Ф. X. Бахтеевым двинулся в Северную Буковину. "Путешествовать с Вавиловым было трудно, — рассказывал Вадим Степанович Лехнович. Вставать приходилось рано, ложиться поздно. Был он человек строго плановый. Задания для сотрудников вырабатывал с вечера нелегкие. Себе задачи ставил еще более жесткие" [191].
Забыл ли Николай Иванович за суматохой экспедиции о недавних волнениях, о товарищах, что в Москве и в Ленинграде продолжают отстаивать науку от посягательства невежд? Из Львова 2 августа посылает он открытку сотруднику Института генетики Тенису Карловичу Лепину. Сообщив о первых успехах экспедиции ("Примерно Центральную Европу начинаем постигать"), Вавилов просит передать привет поименно пяти сотрудникам, "всем борцам за генетику". Нет, он ничего не забыл. Борьба за генетику, за научное сельское хозяйство — главная тема его переписки в последние месяцы. Академику Вавилову все еще кажется: если правдиво информировать ответственных лиц в ЦК, лысенковское наваждение рассыплется само собой. Написаны письма Сталину, Бенедиктову. "Очень рекомендую прочитать. Это почти роман", — пишет он работнику Сельхозотдела ЦК ВКП(б), посылая перевод отчета Свалефской (в Швеции) опытной станции за пятьдесят лет, той самой, где когда-то практикантом работал сам, где отличную школу прошли лучшие русские селекционеры Лисицын, Писарев, Говоров. Кроме отчета послан в ЦК перевод американской брошюры о том, как был выведен сорт пшеницы, устойчивой к ржавчине. И снова в сопроводительном письме Николай Иванович твердит свое: "Вы увидите, и свалефцам и американцам менделизм пригодился".
…Из Львова экспедиция приехала в Черновцы. Снова без устали набирали образцы семян с попутных зреющих нив. Знакомились с окрестными хозяйствами, устраивали совещания с ботаниками и агрономами. Обедали и завтракали в столовых и деревенских чайных. Как и в Ленинграде, Николай Иванович звал к столу всех, с кем случалось разговаривать, сам рассчитывался и за гостей, и за товарищей по экспедиции. Зато в гостиницах и на постоялых дворах, где академик, шофер и два научных сотрудника чаще всего занимали общую комнату, Вавилов упорно отказывался от койки, стоящей в глубине комнаты. Говорил: "Место начальника — у дверей". Впрочем, Бахтеев и Лехнович скоро дознались, в чем дело. Николай Иванович имел обыкновение вставать на час-полтора раньше других, чтобы до выезда в поле посидеть над книгами и своими записями. Место у дверей позволяло ему работать, не мешая другим.
Наступило 6 августа. По плану этого дня Вавилов с группой местных научных работников и агрономов на трех машинах собирался совершить поездку из Черновиц в горный район Путивля. До Карпатских высот предстояло проехать километров 120–150. Погода стояла солнечная, настроение у членов экспедиции и хозяев было отличное. Однако очень скоро, еще в предгорьях, одна из машин, на которой ехал Лехнович (Бахтеев остался в Черновицах), получила несколько проколов, отстала и вскоре повернула назад.
"На обратном пути, — рассказывал В. С. Лехнович, — нам повстречалась такая же, как и наша, черная "эмка". Встречные остановили нас. Четверо мужчин стали допытываться, где находится академик Вавилов. Мы объяснили, по какой дороге поехали две другие машины. Спросили, зачем им нужен Николай Иванович. "Он захватил из Москвы какие-то документы по экспорту хлеба, последовал ответ. — Эти документы очень нужны". Черная "эмка" двинулась дальше, разыскивать Николая Ивановича, а мы вернулись в Черновицы" [192].
Вечером, поужинав в столовой, Лехнович и Бахтеев вернулись в студенческое общежитие, где ночевал отряд Вавилова. Темнело. У ворот их остановил пожилой служитель. "Он сказал, что недавно на своей машине возвратился профессор (Н. И. Вавилов) и хотел пройти к себе в общежитие, но в этот момент подъехала другая машина, и вышедшие из нее люди пригласили его ехать вместе с ними для срочных переговоров с Москвой. Тогда, продолжал привратник, — профессор оставил рюкзак и попросил передать остальным товарищам, что он скоро вернется…"
Ночь стояла тихая, лунная. В чистенькой с белеными стенами комнате общежития тоже было тихо. Шофер лег спать. Двое ученых, изредка перебрасываясь замечаниями о событиях дня, продолжали ждать руководителя. Никаких причин беспокоиться не было. Директора ВИРа часто вызывала по телефону столица по делам государственным. Это даже хорошо, что в Москве помнят о Вавилове. Говорят, теперь в ВИРе все изменится к лучшему…
Бахтеев разбирал собранные за день растения. Осторожно достал из рюкзака Николая Ивановича какой-то злак. Присмотрелся. Вот так находка! Еще в Киеве на выставке древней земледельческой Трипольской культуры Николай Иванович выспрашивал археологов, что сеяли жители Причерноморских степей четыре-пять тысяч лет назад. Уже давно он разыскивал пути, по которым сельскохозяйственные культуры двигались из центров своего происхождения в современные земледельные районы. По его расчетам, пшеница должна была прийти в Европу не только через Кавказ, но и через Балканские страны. А если это так, то где-то в замкнутых горных долинах должны сохраниться древние (реликтовые) пшеницы. И в Дублянской академии, и на совещании преподавателей Черновицкого университета вечером 5 августа он продолжал настойчиво выспрашивать у местных ботаников и агрономов, какие древние растения они встречали в Карпатах. О реликтовых пшеницах собеседники его ничего сказать не могли. И вот сегодня, 6 августа 1940 года, Николай Иванович сам разыскал в горах этот знак давних переселений — кустик древней полбы-двузернанки, пшеницы, которая вскормила Вавилон и Египет эпохи первых фараонов.
Около полуночи в дверь постучали. Вошли два молодых человека, спросили, кто тут Лехнович, подали записку. На небольшом листке размашистым почерком Николая Ивановича было написано:
"Дорогой Вадим Степанович!
Ввиду моего срочного вызова в Москву выдайте все мои вещи подателю сего.
Н. Вавилов
6/VIII-40 г. 23 часа 15 мин." [193].
От себя молодые люди добавили, что профессор срочно вылетает в Москву и уже находится на аэродроме возле самолета.
Все, что произошло в следующие четверть часа, подробно описал профессор Ф. X. Бахтеев.
"Мы спешно собрали вещи Николая Ивановича, хотя и намеревались вначале оставить кое-что, думая о скором его возвращении… Однако посланцы весьма вежливо, но вместе с тем достаточно определенно настаивали, чтобы мы выдали буквально все, не оставляя даже клочка бумаги. Мы пожимали плечами, крайне удивляясь такой настойчивости. Собрав и упаковав все вещи, мы и сами собирались ехать провожать Николая Ивановича на аэродром. Против этого молодые люди не возражали. Но когда вещи были вынесены и уложены в черную "эмку", то оказалось, что в кузове не остается места для нас двоих, так как за рулем оказался еще третий человек. Решили, что проводить Николая Ивановича и переговорить с ним о дальнейшей судьбе экспедиции поеду я, а Вадим Степанович останется.
Я хотел уже сесть рядом с задним седоком, когда тот, позабыв вдруг о вежливости, грубо заметил: "А стоит ли Вам ехать?" Я ответил, что товарищ, видимо, шутит, если нет места для нас двоих, то по крайней мере один непременно должен повидаться с Вавиловым. С этими словами я потянул к себе заднюю дверцу автомашины и занес было ногу, чтобы сесть, но мой собеседник наотмашь ударил меня и я упал. Последовал резкий приказ шоферу: "Поехали!" С шумом захлопнулась дверца, и машина скрылась в темноте. Только теперь, до беспамятства потрясенные, мы, наконец, поняли: с Николаем Ивановичем случилось несчастье" [194].
Глава 8 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
Я уверен, что наступит время, когда и у нас всем и каждому воздастся должное, но нельзя же между тем видеть равнодушно, как современники бесчестно прячут правду от потомства.
П. Я. Чаадаев. 1854Следствие по делу Вавилова Н. И. я вел исключительно объективно. Дело было трудоемкое… Никаких претензий ко мне как к следователю Н. И. Вавилов не предъявлял ни во время следствия, ни при окончании его.
А. Г. Хват, полковник, бывший следователь НКГБ. 1954— Вы арестованы как активный участник антисоветской вредительской организации и шпион иностранных разведок. Признаете ли вы себя виновным?
— Нет, не признаю. Шпионом и участником антисоветских организаций я никогда не был. Я всегда честно работал на пользу Советского государства.
Этими словами утром 12 августа 1940 года в Москве, во Внутренней тюрьме НКВД, начался первый допрос академика Вавилова. Диалог между старшим лейтенантом государственной безопасности Алексеем Григорьевичем Хватом и его подследственным продолжался одиннадцать месяцев. Следственное дело № 1500 донесло до нас не только протоколы допросов и очных ставок, показания заключенного и свидетельства экспертов, но в какой-то степени и личный характер участников драмы, их судьбу, тайные и явные причины, побуждающие каждого из них к тем или иным поступкам.
В 1940 году старшему лейтенанту исполнилось тридцать три. Он находился в возрасте Христа, в поре, когда мужчина, достигнув высшей физической и духовной мощи, нередко оказывается у подножья самых заветных, самых значительных своих свершений. В тридцать три Л. Толстой написал "Казаков" и задумал "Войну и мир", в том же возрасте Ч. Дарвин опубликовал набросок "Происхождения видов", Т. Эдисон изобрел лампу накаливания, а Д. И. Менделеев принялся тасовать карточки с изображением атомных весов элементов, готовясь одарить мир великими научными открытиями. В тридцать три Н. И. Вавилов на съезде селекционеров в Саратове объявил об открытии им Закона гомологических рядов. 33-летний Алексей Хват тоже стоял на пороге своей главной жизненной удачи. Ему поручено задание, которое во многом должно было определить его дальнейшую карьеру. Старшему лейтенанту любыми средствами надо было доказать, что Н. И. Вавилов не выдающийся ученый, не гордость советской науки, не организатор отечественной агрономии, а заклятый враг Советской власти и, как таковой, должен быть уничтожен.
Забегая вперед, замечу, что доверие своих наставников Алексей Григорьевич полностью оправдал. Вавилова он "оформил" чисто, без сучка, без задоринки. Впоследствии он дослужился до полковника и в расцвете сил на сорок восьмом году жизни вышел в запас с полной пенсией. Покой бывшего следователя был нарушен с тех пор только один раз. В сентябре 1954 года его вызвали в Главную военную прокуратуру и предложили дать объяснение о том, как он вел дело академика Вавилова. Надо полагать, Алексей Григорьевич порядком струхнул. Незадолго перед тем были расстреляны его начальники Берия и Абакумов, в "органах" шла чистка, многих бывших следователей за прежние грехи лишали пенсии, выгоняли из партии. Но полковник Хват выкрутился. Человек аккуратный и понятливый, он через четырнадцать лет из сотен листов десятитомного "дела" Вавилова припомнил и привел в свое оправдание именно ту бумагу, которая одна могла освободить его от всякой ответственности. Это была справка, подтверждающая, что в сентябре 1940 года следователь А. Г. Хват обращался за консультацией в высшие инстанции и там получил подтверждение: "Указанные Вавиловым факты о направлении вредительства в сельском хозяйстве имели место в действительности" [195]. Представив этот спасительный для себя документ, Алексей Григорьевич успокоился и уже уверенно дописал в объяснительной записке, что дело Вавилова вел он "исключительно объективно" и никаких претензий подследственный к нему никогда не предъявлял. Ссылка на Высшие Инстанции помогла: хотя прокурор послесталинской эпохи признал "дело" Вавилова грубой фальсификацией, Хват был отпущен с миром. Он и сегодня живет в центре Москвы, в добротном ведомственном доме № 41 и получает свою полковничью пенсию…
Но вернемся к лету сорокового года и попробуем, листая Следственное дело № 1500, проследить, как в действительности складывались отношения следователя и подследственного.
В первые дни после ареста Николай Иванович был полон решимости доказать свою невиновность. Его ответы на допросах звучат твердо и даже резко:
"Категорически заявляю, что шпионажем и другой какой-либо антисоветской деятельностью не занимался…", "Я считаю, что материалы, имеющиеся в распоряжении следствия, односторонне и неправильно освещают мою деятельность и являются, очевидно, результатом разногласий в научной и служебной работе с целым рядом лиц… Я считаю, что это не что иное, как возводимая на меня клевета" [196].
Он продолжает утверждать то же самое и на втором, и на третьем, и на четвертом допросах. "Антисоветской работой не занимался и показаний по этому вопросу дать не могу". Но Хват, заместитель начальника следственного управления Главного экономического управления НКВД, знал, как "раскалывать" таких вот упрямцев. Начиная с 14 августа допросы ведутся десять, двенадцать, тринадцать часов кряду. Хват вызывает подследственного ранним вечером, кончает беседу с ним на рассвете. Сутки отдыха и снова…
Мы почти не знаем о характере этих ночных бдений. Ибо чем дольше длятся допросы, тем короче становятся протоколы. Протокол, помеченный 21 августа, содержит только один вопрос: в каких странах бывал Вавилов. Путешественник перечисляет несколько десятков государств и территорий. Вопрос и ответ заняли от силы пять минут. А что делали эти двое остальные десять с половиной часов? На следующий день (без перерыва!) зафиксировано еще двенадцать часов "выяснения истины", и снова протокольная запись уместилась на трех-четырех страничках…
24 августа после двенадцатичасового допроса следователь в первый раз услышал от своей жертвы слова признания. "Я признаю себя виновным в том, что с 1930 года являлся участником антисоветской организации правых, существовавшей в системе Наркомзема СССР… По антисоветской работе был связан…" [197] Дойдя до этого места, Вавилов принялся перечислять всех расстрелянных к этому времени наркомов и заместителей наркомов земледелия Яковлева, Чернова, Эйхе, Муралова, Гайстера, объявленных "врагами народа", вице-президентов Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук: Горбунова, Вольфа, Черных, Тулайкова, Мейстера, арестованных сотрудников ВАСХНИЛ Марголина, Ходоровского.
В течение следующей ночи Вавилов продолжал обвинять высокопоставленных мертвецов. Протоколы становятся все более подробными. Подследственный не щадит ни себя, ни тех, чьи кости давно истлели в братских могилах. Он признается в том, что, будучи руководителем ВАСХНИЛ, с вредительскими целями создавал нежизненные узкоспециальные институты. Это приводило к распылению кадров, к злостной растрате государственных средств. Своею властью он, Вавилов, увеличивал посевные площади в СССР и довел до того, что в стране не хватало семян, чтобы засевать эти площади. В результате в 1931–1932 годах поля страны оказались покрытыми сорняками, а севообороты нарушились. Но этого мало: в 1930 году он, академик Вавилов, ратовал за расширение посевов кукурузы и тем нанес родине огромный ущерб…
Следователь Хват любил и понимал толк в документах. Хотя показания были записаны стенографисткой, протоколы перепечатаны на машинке и на каждой странице подследственный ставил личную подпись, следователь пожелал, чтобы свои злодеяния бывший академик записал еще и собственноручно. Так на свет появился трактат, который Николай Иванович назвал "Вредительство в системе Института растениеводства, мною руководимого с 1920 года до ареста (6.8.1940 года)". На двенадцати страницах этого сочинения Николай Иванович снова подтверждает: расширение площади посевов, создание узкоспециализированных институтов, равно как и разведение вредоносной кукурузы было актом вредительства.
Если бы в поисках истины следователь Хват обратился к опубликованным материалам первой и второй пятилетки, к решениям партийных съездов и съездов Советов конца двадцатых — начала тридцатых годов, он мог бы легко убедиться, что подследственный нагло обманывает его. Все то, что Вавилов объявлял своим личным, злонамеренным деянием, было записано в государственных документах, одобрено партийными пленумами и съездами. В том числе и расширение посевов зерновых на 50 миллионов гектаров за три года, с 1931 по 1934-й. Государственная политика, направленная на тотальную централизацию всего управления хозяйством, привела к разрушению опытного дела на местах и созданию отраслевых институтов в центре. ВАСХНИЛу было приказано организовать единое научное управление всеми отраслями сельского хозяйства. И академия, подчиняясь команде сверху, начала плодить узкоспециальные институты вроде Института кофе и цикория, Института сои, Института кролиководства. В те годы находилось немало научных и практических работников, которые пытались протестовать против централизации науки. Они резонно говорили о богатстве почв и климатов в нашей большой стране, о том, что опыты с сельскохозяйственными культурами и породами скота следует вести с учетом местных условий. Таких арестовывали как "врагов народа", подрывающих основы социалистического хозяйства. В тюрьму попали наиболее видные организаторы областного опытного дела: В. Е. Писарев, В. В. Таланов, С. К. Чаянов, А. Г. Дояренко. А уж о малых сих и говорить нечего: в начале тридцатых годов агрономов и селекционеров сажали сотнями. Теперь же, в 1940-м, специализированные институты были объявлены вредительством, а от академика Вавилова требовали, чтобы он взял на себя вину за глупости, подлость и бессмыслицу "периода социалистической реконструкции сельского хозяйства".
Повторяю, старшему лейтенанту Хвату не стоило никакого труда установить абсолютную невиновность своего подследственного. Но его вовсе не интересовали реальная связь исторических событий и участие в них академика Вавилова. Его цель прямо противоположна. Вопреки фактам он должен был доказать: президент ВАСХНИЛ и есть лицо, ответственное за разорение нашего сельского хозяйства, за развал сельскохозяйственной науки. Для этого годилось все: самооговор подследственного, доносы его врагов, фальшивые материалы НКВД.
А сам Николай Иванович? Что его сломило, заставило клеветать на себя и на тех погибших, среди которых были дорогие, близкие ему люди? Можно многое объяснить жестокостью следственного режима. (Даже мы — поколение, не испытавшее ужасов сталинских застенков, узнаем из книг и рассказов очевидцев, какими методами вырывались в те годы самые дикие признания.) Нетрудно представить, что пятидесятитрехлетний ученый не выдержал унижений, угроз, бессонных ночей, побоев и попросту сдался, согласился подписывать все, чего от него требовали. В этом допущении для Николая Ивановича нет ничего оскорбительного. И все-таки я не могу принять такую гипотезу. Ведь под следствием находился Николай Вавилов — бесстрашный путешественник, человек, мужество которого было известно всему миру. Это он в 1924 году, первым среди европейцев, без дорог, без карт, без знающих проводников, рискнул пойти через Кафиристан, неприступный горный район Афганистана. И вышел из этой опаснейшей экспедиции победителем. Потом была ночевка в Сахаре, когда после аварии самолета безоружный летчик и его пассажир-ученый оказались рядом с логовом льва. Была встреча с разбойниками в Абиссинии. А обвал на Кавказе? С тяжелым рюкзаком за плечами исследователь несколько километров полз тогда по каменной осыпи, которая каждую минуту готова была возобновить движение с вершины в ущелье. Спутники Вавилова могли убедиться: в трагических ситуациях ученый находчив, отважен, обладает железной выдержкой, никогда не бросает товарища.
И такой человек сдался, пробыв на Лубянке всего лишь двенадцать ночей? Мне кажется, произошло иное. Своим глубоким аналитическим умом Николай Иванович очень скоро понял, что его арест не случайность, а продуманная, согласованная во всех инстанциях акция. В этом прежде всего убеждали многочисленные показания против него, которые следователь Хват, как опытный игрок, то и дело выбрасывал перед своим партнером. Тут были и наговоры давно расстрелянного наркома Яковлева, и "признания" убитого в тюрьме управделами СНК Горбунова, и письменные показания умершего после трех арестов селекционера Таланова. Тридцать восемь таких выписок из "дел" тех, кто уже давно был осужден и расстрелян, предъявил Хват Вавилову.
Пятнадцать лет спустя, проверяя дело № 1500, военный прокурор Колесников установил, что подавляющее большинство этих выписок и показаний не что иное, как грубые фальшивки. Бывший секретарь Ленина Горбунов, так же как и нарком земледелия Яков Яковлев, ничего не говорил о Вавилове, профессор-селекционер Таланов не привел никаких конкретных фактов; сошедший в камере с ума академик-селекционер Мейстер несколько раз объявлял Вавилова вредителем и столько же раз отказывался от своих слов; впоследствии расстрелянный вице-президент ВАСХНИЛ Бондаренко от своих показаний на суде отказался. В 1955 году фальшивая игра Хвата была полностью разоблачена. Но и в 1940-м Николай Иванович понимал, что карты у следователя крапленые. Обилие наговоров, собранных заранее, подсказывало: арест 6 августа был предрешен заранее и согласован во всех соответствующих инстанциях. А раз так — бессмысленно добиваться справедливости и требовать беспристрастного отношения к себе. Надо играть в ту игру, которую навязывает Хват, играть с наименьшим по возможности убытком. Так возник план: признать себя виновным во вредительстве и взять в сообщники тех, кого уже нет в живых, кто не может пострадать от его показаний.
Полностью отверг Вавилов только обвинение в шпионаже. Да, он бывал за рубежом, посещал иностранные посольства и миссии, но никогда не был завербован, не выполнял никаких заданий западных разведок. Похоже, что аналитический ум исследователя в этом месте дал осечку. Как будто забывая, что он в руках людей, для которых параграфы Свода Законов — пустой звук, Николай Иванович упорно борется со своим следователем против квалификации "шпион". В этих препирательствах явственно видятся остатки наивной веры интеллигента в Закон, в тот Закон, который карает шпиона иностранной державы строже, нежели своего вредителя. Хват со своим средним умом и средним образованием, наверное, снисходительно посмеивался, перечитывая страстные протесты заключенного академика. Чудак! И хотя в "деле" не было ни одного документа, уличающего Николая Ивановича в государственной измене, следователь довел тезис о шпионаже Вавилова до обвинительного заключения и на суде никто не обратил ни малейшего внимания на эту несуразность. Ведь не отрицал же Вавилов, что в 1933 году на вокзале в Париже целовался с белоэмигрантом профессором Метальниковым?..
И все-таки первый круг адской игры Николай Иванович выиграл. В начале сентября 1940 года, после того как он признал себя вредителем, ночные допросы прекратились. Следователь Хват получил свой фунт мяса и занялся подготовкой второго круга…
Теперь мы знаем: арест Первого агронома страны действительно не был случайностью. Отдаленные раскаты будущих громов неслышно прогрохотали над его головой уже в 1931 году, в пору, когда он находился, казалось бы, на вершине признания. Вавилов только что организовал Академию сельскохозяйственных наук, провел Всесоюзную конференцию по борьбе с засухой, привез из Америки очередной транспорт ценнейших культурных растений, возглавил Географическое общество СССР. И как раз в это время в недрах ОГПУ на него было заведено агентурное дело № 268615. Пока Николай Иванович решал проблемы отечественного хинина и каучука, пока занимался полярным и пустынным земледелием, засухоустойчивостью и орошением пшениц, пока выступал на международных конгрессах и всесоюзных съездах, исследовал культурные растения Закавказья, Дальнего Востока и Канады — "дело" его тайно и тихо росло, разбухало, разбрасывало новые и новые метастазы. Ко дню ареста академика Вавилова число заведенных на него агентурных томов выросло до семи.
Интересное это образование — агентурное дело. Чего тут только нет: служебные сообщения штатных сотрудников секретной полиции перемежаются с доносами доброхотов из ученого мира, газетные вырезки с письмами высокопоставленных государственных деятелей. И все это в порядке: пронумеровано, подшито, перечислено в специальном оглавлении… Первый камень бросил в Вавилова профессор Тимирязевской академии Иван Вячеславович Якушкин. Потомок знаменитого декабриста, который, выражаясь словами Пушкина, "обнажал цареубийственный кинжал", профессор Якушкин обратил кинжал своих доносов против самых блистательных современников. Особенно нравилось ему клеветать на академиков и членов-корреспондентов Академии наук. Впрочем, и рядовыми докторами наук он тоже не брезгал.
Жизненный путь Ивана Вячеславовича изобиловал сложными виражами и крутыми поворотами. В 1920 году, не найдя общего языка с Советской властью, молодой профессор-растениевод, ученик и преемник профессора В. Р. Вильямса, бежал сначала из Воронежа в Крым, потом попытался из Крыма выехать с отступающими частями генерала Врангеля. Злые языки утверждают, что только случайность помешала ему обосноваться за границей. В последнюю минуту Якушкина попросту спихнули с отплывающего в Турцию парохода. Пришлось затаиться в Крыму. В конце двадцатых годов неудачливый беглец решил, что грехи его забыты, и перебрался обратно в Воронеж. Работал на свекловодческой опытной станции в Рамони. Проявил себя исследователем, не лишенным способностей. Однако в 1930 году, во время "первой волны" массовых арестов, его схватили. В те годы особенно охотно брали агрономов, селекционеров, ученых сельскохозяйственного профиля. Этим "вредителям" предстояло держать ответ за вызванный коллективизацией развал сельского хозяйства. Многие тогда сгинули без следа. Но Якушкин уцелел и даже, более того, вышел из тюрьмы с поощрением. Много лет спустя он рассказывал: "В 1931 году, тотчас после моего освобождения из заключения в Воронеже, я был завербован сотрудником ОГПУ в качестве секретного сотрудника ОГПУ, каковым и являлся до 1 ноября 1952 или 1953 года, когда меня освободили от этой работы".
Нельзя сказать, что эта "работа" очень обременяла Ивана Вячеславовича. Благодаря ей он быстро занял кафедру в Тимирязевской сельскохозяйственной академии и вскоре научился великолепно совмещать личные интересы с государственными. Недоброжелатели и реальные конкуренты профессора, а затем академика Якушкина в мгновение ока исчезали с его пути. Некая сила делала это так скоро, с таким "научным" отбором, что в Тимирязевке, недавно еще богатой талантами, вскоре не осталось никого, кто мог бы затмить блистательного Якушкина. "Являясь секретным сотрудником ОГПУ, я направлял в ОГПУ агентурные донесения, в частности о Вавилове", — сообщил Иван Вячеславович прокурору Колесникову. Первый такой донос сделал он уже в сентябре 1931 года [198]. На десяти страницах по пунктам доказал, что ВИР гнездо антисоветской деятельности, а его директор — организатор вредительства в области селекции и семеноводства.
Профессор Якушкин, естественно, не был единственным тружеником на ниве доносительства. В тридцатые годы преуспевал на этом поприще также заведующий отделом интродукции ВИРа Александр Карлович Коль. Он был на десять лет старше Вавилова, мнил себя большим ученым и жаловался, что заслуги его остаются незамеченными. Современники, однако, вспоминают Коля как человека склочного, а работника до крайности недобросовестного: отправляя из дальних экспедиций посылки с семенами, Вавилов еще в 1924 году подчеркнуто адресовал сопроводительные письма-инструкции "Всему отделу интродукции и особенно А. К. Колю". Несмотря на это, семена, попадающие в руки Александра Карловича, постоянно гибли, на них исчезали этикетки. Обычно снисходительный к людским слабостям, Николай Иванович не прощал разгильдяйства, которое подрывало общее институтское дело. Колю несколько раз делались замечания. Но вместо того чтобы исправить допущенные промахи, Александр Карлович стал говорить, что Вавилов преследует его из-за расхождений в научных взглядах. Он даже вступил с директором института в публичную научную дискуссию. Из дискуссии этой (1931 год) ничего, кроме конфуза, не получилось, однако именно дискуссия помогла Колю отомстить Николаю Ивановичу. В "деле" Вавилова сохранились все материалы "дискуссии". Кто-то пристально следил за склокой, которую тщеславный сотрудник ВИРа затеял против директора института.
К концу тридцатых годов таких поставщиков информации, добровольных и недобровольных, в ВИРе набралось несколько человек. Цитогенетик Елена Карловна Эмме имела неосторожность послать несколько своих научных работ в зарубежные журналы. Ее видели также беседующей с иностранным ученым. В 1937–1938 годах этого было вполне достаточно, чтобы человек без следа исчез в недрах НКВД. Доктор биологических наук Эмме не исчезла. Ее, насмерть запуганную, сотрудник НКВД заставил писать клеветнические доносы на директора института. Это было тем более удобно, что Эмме дружила с женой Николая Ивановича и часто бывала в доме Вавиловых. Только на смертном одре (уже после войны) призналась Елена Карловна своему сыну Андрею в том, что годами лжесвидетельствовала против людей, которые ее привечали как родную.
Профессор Эмме писала доносы в страхе перед арестом. Но кое для кого атмосфера репрессий, подозрительности и страха оказалась, наоборот, благодетельной. Всегда есть люди, готовые погреть руки на чужой беде. Вот они передо мной — писания тех, кто, клевеща на Вавилова, надеялся подняться еще на одну, а то и на две ступеньки карьерной лестницы. Эпоха, которая сожгла в тюремных тиглях тысячи рукописей, дневников, тонны личных писем и научных трудов, повелела "хранить вечно" образцы творчества своих добровольных доносчиков.
3 сентября 1937 года старший научный сотрудник Пушкинской опытной станции ВИРа Федор Федорович Сидоров, 1905 года рождения, по собственному почину явился к оперуполномоченному Управления государственной безопасности в г. Пушкино. "Я хочу заявить о вредительской деятельности руководства Всесоюзного института растениеводства — Вавилов, Александров, — в результате которой сорвана работа по разборке устойчивых сортов к болезням и вредителям сельскохозяйственных культур" [199]. Какие же беззаконные действия руководителей института толкнули благонамеренного Сидорова на разоблачения? Вредительство Вавилова, конечно, выдумка. Просто директор института счел Сидорова, одного из бывших спецаспирантов, недостаточно грамотным и закрыл его лабораторию. Вместо этого Николай Иванович организовал целую станцию по изучению зерновых в другом городе. Вопрос, который во всякое другое время мог быть решен в месткоме или на крайний случай в ученом совете института, перекочевал в сейфы Комитета государственной безопасности. Тридцатидвухлетний научный сотрудник не ошибся в своих расчетах. Его донос был приобщен к "делу" Вавилова как один из основных изобличающих документов [200], а сам он быстро дослужился до поста заместителя директора ВИРа. Когда после войны тайное стало явным и Сидорова попросили покинуть Институт растениеводства, Ленинградский обком партии подыскал ему (1966 год) равноценную должность в другом институте. О том, чтобы исключить доносчика из партии, никто даже не заикнулся.
А доктор биологических наук Григорий Николаевич Шлыков даже и тем не поплатился. До самого преклонного возраста заведовал отделом ВИРа, хотя все сотрудники чуть не наизусть помнили его письмо, отправленное в соответствующие инстанции 7 марта 1938 года. Вскоре после арестов наркомов земледелия СССР Чернова и Яковлева, а также заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) Баумана Шлыков писал: "Пока не уничтожены бандиты Чернов, Яковлев и Бауман, надо выяснить, что делали они в плоскости вредительства по организации сельскохозяйственной науки, опытных станций, постановки испытания новых сортов. Я все больше убеждаюсь, что тут могло быть разделение труда с Вавиловым как с фактическим главой научно-исследовательского дела в стране в области растениеводства… Просто трудно представить, чтобы реставраторы капитализма прошли мимо такой фигуры, как Вавилов, авторитетной в широких кругах агрономии, в особенности старой. Не допускаю мысли, чтобы он, как человек хорошо известных им правых убеждений, выходец из семьи миллионеров, не был приобщен к их организации" [201].
Приглядитесь, как составлено послание: "Трудно представить…", "не допускаю мысли…". Догадки, подозрения. А факты? Они не нужны не только Шлыкову, но и тем, к кому он адресуется. Сомнительные догадки так быстро, так безоговорочно превращаются в материалы обвинения, что маленький доносчик ощущает себя подлинным мечом правосудия. Его распирает от гордости, он не может удержаться, чтобы не побахвалиться перед приятелями: "Это я посадил Вавилова!" Нет, конечно, не в Шлыкове дело. Таких, как Якушкин, Коль, Эмме, Сидоров, Шлыков — трусливых, тщеславных и просто подлых, вокруг Вавилова было множество. Но не они решили судьбу ученого. Кто же? Материалы, собранные на академика Вавилова в 1931–1933 годах, носили еще довольно случайный характер. Цель, ради которой ОГПУ начало эти сборы, по-видимому, еще окончательно не определилась. Рядом с откровенно клеветническими наветами Коля и Якушкина в папках тех "либеральных" лет можно найти, например, восторженную статью писателя С. Третьякова в "Известиях" о Вавилове — организаторе борьбы с засухой. В той же папке есть газетная вырезка, сообщающая, что в феврале 1931 года СНК СССР назначил Н. И. Вавилова членом Госплана СССР, а в марте того же года ученый стал членом комиссии по разработке второго пятилетнего плана. К "делу" первого агронома страны приобщаются даже весьма благоприятные для него показания арестованного в 1931 году профессора С. К. Ульянова. Я бы сказал даже, что в секретном досье Вавилова в начале тридцатых годов преобладали оценки положительные. Да и поклепы носили довольно "академический" характер: Вавилову вменялся в вину излишне теоретический уклон его экспериментов, что якобы "наносило вред социалистическому сельскому хозяйству". Характер наветов резко изменился с конца 1937 года, когда Лысенко стал президентом ВАСХНИЛ и отношения двух академиков безнадежно испортились. С этого времени всякий, кто пишет и говорит для глаз и ушей системы Госбезопасности, считает своим долгом подчеркнуть: директор ВИРа — противник Лысенко. Почуяв новую тенденцию властей, следователи начинают фальсифицировать показания своих подследственных в том же направлении. Примечательна эволюция "следственных этюдов", которые готовил в те годы некто Стромин, начальник Саратовского областного управления НКВД. В июле 1937 года Стромин допрашивал крупного ученого-земледела H. M. Тулайкова. Один Бог знает, что сделал палач со своей жертвой, но только в его руках профессор Тулайков подписал совершенно дикие обвинения против виднейших селекционеров и растениеводов страны, в том числе против академика Вавилова, с которым много лет находился в самых дружественных отношениях. Тулайков "разоблачил" связи Николая Ивановича с Бухариным и даже с белоэмигрантом-монархистом Милюковым. Можно не сомневаться: если бы Стромину понадобилось, Тулайков засвидетельствовал бы родство Вавилова с домом Романовых. Но летом 1937 года НКВД вполне годился Вавилов-бухаринец и монархист. Однако осенью положение переменилось. Стромин получил инструкции, и все его подследственные начали только что не хором говорить на допросах, что контрреволюционные настроения академика Вавилова наиболее явственно выражаются в том, что он не принимает открытий Лысенко. "Крупное ядро видных членов Академии [ВАСХНИЛ. — М. П.] во главе с Вавиловым, Кольцовым, Мейстером, Константиновым, Лисицыным, Серебровским активно выступало против революционной теории Лысенко о яровизации и внутрисортовом скрещивании… показал на допросе 27 ноября 1937 года в Саратове академик ВАСХНИЛ, директор Института по изучению засухи Рудольф Эдуардович Давид. — Для меня стало совершенно очевидным, что в основе выступлений перечисленной мною группы академиков лежит единая политическая линия, что они безусловно объединены единой антисоветской организацией… Желая проверить свои предположения, я прямо спросил об этом академика Мейстера… Мейстер в беседе со мной подтвердил, что атаки против Лысенко и Вильямса ведет группа академиков, входящих в состав правотроцкистской организации…" [202] Беспартийный ученый Вавилов, всю жизнь уклонявшийся от какой бы то ни было политической деятельности, осенью 1937 года окончательно зачислен в круг активных политических врагов Советской власти. Стромин в Саратове, хотя и перемучал своими руками немало ученого и агрономического люда, не мог придумать эту новую версию. Тезис о том, что Вавилов и другие растениеводы и генетики оспаривают "открытия" Лысенко, потому что им так велел правотроцкистский центр, был создан наверху и распространен в централизованном порядке. В Москве таких показаний требовали от заместителя наркома земледелия СССР А. И. Гайстера, президента ВАСХНИЛ А. И. Муралова, в Саратове — от академика ВАСХНИЛ Г. К. Мейстера, в Ленинграде — от начальника областного земельного управления Н. Г. Наумова.
После 1937 года для тех, кто писал доносы, и для тех, кто их читал, "вина" академика Вавилова окончательно прояснилась. Теперь в агентурное дело директора ВИРа потоком пошли сообщения о его антилысенковских (а следовательно — антисоветских) деяниях. Одно из таких "дел" за номером 30.06.69, заведенное в декабре 1938 года, так прямо и называлось: "Генетика". Собранные в трех томах материалы сводились к тому, что академик Вавилов Н. И. объединил вокруг себя антисоветски настроенных научных работников не только в Институте растениеводства, но и в Институте генетики АН СССР. Эти возглавляемые Вавиловым контрреволюционеры (имярек) защищают реакционные расовые теории буржуазных ученых, противопоставляют себя академику Лысенко и не желают признавать его трудов [203].
Почему же после таких обвинений Николай Иванович еще оставался на свободе? До поры до времени его спасала международная известность, слава великого ученого. Но там, где происходит непрерывное накопление взрывчатого материала, катастрофа рано или поздно неминуема. В начале 1939 года, вскоре после того как Сталин и Лысенко были "избраны" в члены Академии наук СССР, заместитель Берии Кобулов, очевидно, по указанию своего шефа подвел итоги многолетней слежки за Вавиловым в специальной докладной записке "о борьбе реакционных ученых против академика Т. Д. Лысенко". Гроза нависла теперь не только над Вавиловым и его учителем академиком Прянишниковым, которые, по словам Кобулова, "становятся в позу защитников советской генетики от "нападок" Лысенко и усиленно пытаются дискредитировать Лысенко как ученого". Кобулов назвал противниками Лысенко также президента АН СССР В. Л. Комарова, вице-президента АН СССР Г. М. Кржижановского, академика А. Е. Ферсмана, Л. А. Орбели, члена-корреспондента Н. К. Кольцова и многих других.
От кобуловской докладной уже совершенно явственно благоухает дворцовой кухней. Один из руководителей органов госбезопасности заявил о своей готовности раздавить любого (даже президента Академии наук, даже друга Ленина, старейшего большевика Г. М. Кржижановского), кто посягнет на святейшие догматы Трофима Денисовича Лысенко. Трудно предположить, что Кобулову (человеку, кстати сказать, совершенно безграмотному) ламаркизм Лысенко казался более достоверным биологическим учением, нежели дарвинизм Вавилова. Машина Берии брала под защиту не президента ВАСХНИЛ, не "мичуринскую" биологию, но нежно любимого сталинского фаворита. Вероятно, весной 1939 года, во время одного из приемов на высшем уровне, Лысенко пожаловался на помехи, которые вавиловцы чинят, нет, не ему, конечно, а социалистическому сельскому хозяйству. Отличный актер, Трофим Денисович, когда надо, умел пробуждать к себе и симпатии, и сострадание. В Кремле-то, надо полагать, он делал это особенно артистично. Ему удалось вызвать недовольный рев Сталина, а этого достаточно было, чтобы Берия немедленно сделал "организационные выводы". Судьба академика Николая Вавилова была решена тогда же — летом 1939 года, и только обстоятельства международного характера оттянули арест на несколько месяцев.
Летом 1939 года в столице Шотландии состоялся наконец VII Международный конгресс генетиков. В мировой прессе широко обсуждался вопрос о президенте конгресса: должен ли в Эдинбурге председательствовать Вавилов или в соответствии с правилами руководство конгресса следует передать виднейшему генетику Шотландии доктору Кру? Николай Иванович получил в связи с этим много писем от своих друзей из Англии, Америки и других стран. Большинство генетиков мира стояли за него и выражали надежду на скорую встречу в Эдинбурге. Когда до начала конгресса осталось два месяца, директор ВИРа обратился за разрешением на выезд. Он написал сначала президенту АН СССР Комарову, потом Молотову и наркому иностранных дел Литвинову. В письмах, написанных с большим чувством, он настойчиво убеждал наркома иностранных дел и председателя Совнаркома, что его поездка носит отнюдь не личный характер, что она поднимает международный престиж страны. Вавилов объяснил, что политически выгодно провести конгресс под эгидой Советского Союза как страны, имеющей блестящие достижения в области генетики. Это привлечет к СССР симпатии западной интеллигенции.
Суля вождям политические выгоды от конгресса, Вавилов действовал, конечно, в соответствии с тогдашними нравами и вкусами. Едва ли мы вправе винить его за эту невинную дипломатическую уловку. Но сегодня, оценивая события пятидесятилетней давности, можно констатировать, что среди интеллигенции европейских демократических стран президентство советского ученого на международном конгрессе несомненно вызвало бы положительную оценку. На пороге войны с фашистской Германией Запад высоко ценил любой шаг СССР, направленный к единству, свидетельствующий об ослаблении сталинского табу в области культуры и науки. Но для Сталина и его окружения понятие "престиж" содержало, очевидно, иной смысл, нежели тот, который вкладывал в эти слова академик Вавилов. Комаров несколько раз ездил в Совнарком, но Молотов с разрешением на выезд тянул, не говорил ни "да", ни "нет". Хитрый политикан, он знал, конечно, какой международный скандал разразится, когда на Западе узнают, что советским генетикам не разрешили ехать на конгресс. Но куда больше его интересовала внутренняя ситуация: как на это посмотрит Сталин.
Внутренняя ситуация прояснилась в июле, когда Молотов получил от Берии письмо, специально посвященное Вавилову и положению в биологической науке. Комиссар государственной безопасности первого ранга сообщал, что, по имеющимся сведениям, после назначения академика Лысенко Т. Д. президентом Академии сельскохозяйственных наук Вавилов Н. И. и возглавляемая им буржуазная школа так называемых "формальных генетиков" организует систематическую кампанию, которая призвана дискредитировать академика Лысенко как ученого. Берия не скрывал цели своего демарша: он ждал от Молотова, ведающего в ЦК наукой, согласия на арест Вавилова. В письме Берии ничего не говорится о троцкистских взглядах Вавилова, о Вавилове-вредителе, пособнике Бухарина и Милюкова. В деловой переписке двух государственных мужей такая мишура была излишней. И Берия, и Молотов знали, что уничтожить академика Вавилова надо потому, что он не приемлет "открытий" Лысенко и тем раздражает товарища Сталина. Такова была голая правда. Облечь же ее в подобающие формы, сфабриковать обвинения против Вавилова — вредителя и шпиона — это уже детали, методика, которой впоследствии займется аппарат НКВД — НКГБ.
В тех бумагах, которые были в моем распоряжении, я не нашел молотовское "добро" на арест Вавилова. Но можно не сомневаться: Вячеслав Михайлович благословил действия Лаврентия Павловича, как он благословлял их неоднократно и прежде. Только, верный тактике промедления, Молотов оттянул свой ответ Берии на несколько месяцев. К чему поднимать шум и арестовывать президента международного конгресса в дни заседания конгресса, если это можно сделать незаметно чуть погодя.
Итак, какие бы хитрые сети ни плел старший лейтенант Хват, какие бы новые документы и показания ни приобщал он к делу № 1500, что бы ни наговаривал на себя Николай Иванович, все участники этой драмы знали: академик Вавилов арестован потому, что не пожелал признать "открытия" Т. Д. Лысенко, и его мучают оттого, что он не покорился, не примирился с тем положением, при котором безграмотный и фанатичный Распутин от агрономии захватил абсолютную власть в российской науке. Эту истину скрывали. За одиннадцать месяцев следствия старший лейтенант Хват в присутствии подследственного ни разу не произнес имени Лысенко. Но непристойная правда лезла из всех щелей. Она проникла даже в постановление на арест, в документ, где все остальное с первой до последней строки было абсолютной ложью. На страницах этой фальшивки не очень грамотно, но вполне определенно разъяснено: "Установлено, что в целях опровержения новых теорий в области яровизации и генетики, выдвинутых советскими учеными Лысенко и Мичуриным, ряд отделов ВИРа по заданию Вавилова производили специальную работу по дискредитации выдвинутых теорий Лысенко и Мичуриным… Продвигая заведомо враждебные теории, Вавилов ведет борьбу против теорий и работ Лысенко, Цицина и Мичурина, имеющих решающее значение для сельского хозяйства СССР" [204].
…Признав себя вредителем и врагом народа, Николай Иванович обрел покой. С сентября 1940 года по март 1941-го Хват его не вызывал на допросы. Вавилов остался один в камере и мог наконец отдохнуть. Впоследствии он, очевидно, не раз вспоминал эту одиночку добрым словом. Тут было сухо, тепло, камера проветривалась и освещалась. С 11 вечера до 5 утра разрешалось спать на откидной койке. Подследственные не голодали. Им, правда, не давали книг, но зато были бумага и карандаш на тот случай, если охваченный раскаянием заключенный пожелает дать дополнительные показания. Человек деятельный и организованный, Вавилов решил не терять в камере ни дня напрасно. Ему давно уже не терпелось написать книгу, которая подвела бы итоги его раздумий о глобальной эволюции земледелия с древнейших времен. Для работы над такой "узкотеоретической" монографией у директора двух институтов и вице-президента ВАСХНИЛ не хватало времени. Зато у заключенного Вавилова времени оказалось достаточно. Кажется невероятным, чтобы в наше время кто-нибудь писал серьезную научную книгу без помощи энциклопедий, карт, справочников. Николай Иванович Вавилов, может быть, единственный исследователь XX века, который преодолел это "препятствие". Справочной библиотекой для него служила его собственная память. Об этом сочинении мы знаем очень мало. Лишь в одном из писем к Берии Николай Иванович указывает: "Во время пребывания во Внутренней тюрьме НКВД, во время следствия, когда я имел возможность получать бумагу и карандаш, мною написана большая книга "История развития земледелия" (Мировые ресурсы земледелия и использование), где главное внимание уделено СССР". В историю человеческой культуры вошло немало книг, написанных под сводами тюрьмы. Утопия Кампанеллы, романы Достоевского и Чернышевского, труды народовольца Морозова — лишь малая часть того, что подарили потомству великие узники. Книге академика Вавилова была уготована, увы, другая судьба. Но об этом позже.
Пока ученый писал свой последний труд, следователь Хват тоже не бездельничал. С осени 1940 до весны 1941 года он успел арестовать еще четверых "сообщников" Вавилова. В Ленинграде взяли давнишнего, еще со студенческих лет, друга и сотрудника Николая Ивановича — Леонида Ипатьевича Говорова. По воспоминаниям современников, профессор Говоров был очень похож на классический портрет Чехова. В кругах растениеводов его знали как крупнейшего знатока бобовых. О горохе, бобах, фасоли, вике, чине он знал буквально все. Хороший семьянин, серьезный ученый, человек в высшей степени миролюбивый и покладистый, профессор Говоров только однажды дал волю своей горячности. Это произошло в день, когда он узнал об аресте Николая Ивановича. Ни слова не сказав ни домашним, ни сотрудникам, профессор Говоров помчался в Москву искать аудиенции у товарища Сталина. Долгом ученого и гражданина он считал открыть Иосифу Виссарионовичу глаза на то, какого замечательного человека и ученого теряет Россия в лице академика Вавилова. К Сталину его не допустили. Он попытался пройти к Маленкову, и тоже — тщетно. Говорят, что, добиваясь приема в Кремле, Леонид Ипатьевич несколько дней ничего не ел и не спал. А когда физически разбитый, душевно истерзанный добрался он до Ленинграда, его схватили как вавиловского сообщника.
Почти одновременно в Ленинграде был взят молодой профессор-генетик Георгий Дмитриевич Карпеченко, один из самых одаренных генетиков двадцатого столетия, чьи работы получили международное признание. Европейски образованный, ироничный Карпеченко на первом же допросе "признался", что его опыты по удвоению набора хромосом имели… антисоветский характер. Он полагал, что такое абсурдное заявление привлечет внимание судей и ему удастся доказать свою невиновность. Увы…
Кроме двух действительно близких Вавилову ленинградцев, во Внутреннюю тюрьму НКВД привезли из Киева директора Всесоюзного института сахарной свеклы профессора Паншина, которого, кстати сказать, Николай Иванович недолюбливал, а под Москвой арестовали директора Института удобрений Запорожца, совсем уж мало знакомого Вавилову. Почему следователь решил объединить этих пятерых в одно общее дело — неизвестно. Скорее всего такое объединение имело для него сугубо личный смысл: выявление группы преступников оценивалось начальниками Хвата выше, чем разоблачение одного, самостоятельно действующего "врага народа". Возможно, впрочем, что существовали и другие, столь же серьезные причины. Так или иначе, но в марте 1941 года Вавилова оторвали от работы над книгой. Для него снова началась тяжкая допросная страда.
Смысл "второго круга" следствия состоял, как мне кажется, только в том, чтобы навесить на подследственного как можно больше новых обвинений. Качество обвинений, их доказуемость не имели для Хвата никакого значения. В той бюрократической задаче, которую он выполнял, смысл имело лишь количество показаний, агентурных донесений, протоколов очных ставок, а вовсе не их подлинность. Надо было показать, что академик Вавилов страшный, очень страшный преступник, чье неприятие Советской власти восходит чуть ли не к 1917 году. И следователь напрягал всю свою небогатую фантазию, чтобы придумать, как выглядели эти "преступления". Говорова и Карпеченко он заставил признаться, что Вавилов вовлек их в антисоветскую организацию. Паншин "засвидетельствовал", что Вавилов сорвал решение правительства о ликвидации так называемого "белого пятна". (Речь шла о посеве пшеницы в исконных районах Средней России. Вавилов и его ближайший сотрудник селекционер В. Е. Писарев как раз и были главными организаторами этого важнейшего научно-хозяйственного предприятия, которое принесло стране миллионы тонн пшеничного зерна [205].) Но какое дело было следователю Хвату до фактов! Он грузил корабль, чтобы утопить его, сочинял небылицы, чтобы придать видимость законности предстоящему убийству.
Особенно охотно Хват фантазировал, когда речь шла о шпионаже, о связях Вавилова с зарубежными разведками. В распоряжении следователя был только перечень стран, в которых бывал ученый, да список европейских и американских генетиков, селекционеров и агрономов, с которыми он когда-либо встречался. Но ведь должен же был Вавилов кому-то и где-то передавать государственные секреты Советского Союза! И вот в "деле" появляется указание на многочисленных "связных". В одном случае это французский разведчик Мазан, в другом — руководители Германского общества сельских хозяев, в третьем — датские дипломаты.
Но старшему лейтенанту Хвату и этого мало. В один прекрасный день он предъявляет подследственному обвинение в том, что директор ВИРа "портил посадочные площадки Ленинградского военного округа, производя засев аэродромов семенами, зараженными карантинным сорняком" (?!). Николай Иванович, с его острым чувством юмора, не мог не посмеяться над этой абракадаброй. Но Алексею Григорьевичу Хвату было не до смеха. 22 июня, в связи с началом войны, следователи получили распоряжение быстрее передавать дело в суд. Возникла реальная опасность: за плохую работу начальство могло отправить провинившегося на фронт. Хват нервничает. В его следовательском почерке начинают проскальзывать истерические нотки. 29 июня он приобщает к следственному "делу" "как изобличительный материал по обвинению Вавилова", якобы обнаруженный при обыске, манифест контрреволюционного "Великорусского союза" и фотографию Керенского А. Ф. Новые документы позволяют изобличить троцкиста Вавилова также в контакту с черносотенными монархистами и одновременно в том, что он является сторонником Временного правительства, низложившего монархию. Познания старшего лейтенанта Хвата в области истории общественных отношений не уступали его познаниям в ботанике. Но что за беда! Военная коллегия Верховного суда СССР, в один день осудившая и великого ботаника Вавилова, и известного советского философа, основателя и первого директора Института мировой литературы АН СССР академика Луппола, не нашла никаких недостатков в обвинительных заключениях, которые сфабриковали Хват и его коллеги…
О том, как проходил второй этап следствия, рассказал художник-иллюстратор, член Союза художников СССР Григорий Георгиевич Филипповский [206]. Весной 1941 года он провел несколько месяцев в Бутырках, в двадцать седьмой камере, на втором этаже старого тюремного корпуса. В камере, рассчитанной на двадцать пять человек, сидело более двухсот арестантов. Маленькая форточка почти не пропускала воздуха. Духота и теснота были невообразимые. Заключенные постоянно сменялись: одних увозили на расстрел, других — в лагерь. Но несколько человек пребывали тут уже довольно долго. Среди старожилов выделялись прославленный командарм времен гражданской войны Кожевников, строитель Мончегорского горнорудного комбината Маньян, конструктор советских линкоров Бжезинский. Когда Филипповского втолкнули в камеру, то среди сидящих, лежащих и стоящих заключенных он сразу заметил странную фигуру: пожилой человек, лежа на нарах, задирал кверху опухшие ноги. Это был академик Вавилов. Он лишь недавно вернулся после ночного допроса, где следователь продержал его стоя более десяти часов. Лицо ученого было отечным, под глазами, как у сердечного больного, обозначились мешки, ступни вздулись и показались Филипповскому огромными, сизыми. Каждую ночь Вавилова уводили на допрос. На рассвете стража волокла его назад и бросала у порога. Стоять Николай Иванович уже не мог, до своего места на нарах добирался ползком. Там соседи кое-как стаскивали с его неестественно громадных ног ботинки, и на несколько часов он застывал на спине в своей странной позе.
Всегда общительный, жизнерадостный Николай Иванович после "второго цикла" допросов замкнулся, с однокамерниками почти не разговаривал, о том, что происходит в кабинете Хвата, почти не рассказывал. Но однажды в отсутствие Вавилова Филипповскому передали, какие "диалоги" происходят между вице-президентом ВАСХНИЛ и его следователем. Каждый раз, когда ученого вводили, Хват задавал ему один и тот же вопрос:
— Ты кто?
— Я академик Вавилов.
— Мешок говна ты, а не академик, — заявлял доблестный старший лейтенант и, победоносно взглянув на униженного "врага", приступал к допросу.
Около полутора месяцев наблюдал Г. Г. Филипповский Вавилова. Затем ученый из камеры исчез. Теперь мы знаем: он был до суда возвращен во Внутреннюю тюрьму НКВД.
Суд состоялся 9 июля 1941 года. Но прежде чем передать судьям обвинительное заключение, Хват еще раз обозрел созданное им сооружение и решил на всякий случай заручиться еще одной бумагой. Речь шла об экспертизе научной деятельности бывшего директора ВИРа. Времени у Алексея Григорьевича оставалось мало, поэтому меры пришлось предпринимать решительные. Впрочем, предоставим слово самим экспертам.
Четырнадцать лет спустя, в июне 1955 года, проверяющий "дело № 1500" майор юстиции прокурор Колесников пригласил к себе профессора Тимирязевской академии И. В. Якушкина. Иван Вячеславович ни в чем не запирался, выложил как на духу и про то, как в тридцатом его завербовали в ОГПУ, и про то, как он писал клеветнические доносы. Много интересного сообщил он и об "экспертизе" 1941 года. Состав экспертной комиссии был серьезно продуман. "Видимо, я был специально подобран как секретный сотрудник НКВД, который мог легко пойти на дачу необходимого заключения по делу Вавилова", пояснил профессор Якушкин. "Желая быть искренним до конца", добавил он также, что "члены экспертной комиссии Водков, Чуенков, Мосолов и Зубарев были враждебно настроены против Вавилова. Водков [селекционер из Каменно-Степной станции ВИРа. — М. П.] просто ненавидел Вавилова. Чуенков [заместитель наркома земледелия СССР. — М. П.] был под большим влиянием Лысенко и являлся естественным противником Вавилова, Зубарев [член коллегии НКЗ. — М. П.] также был сотрудником у Лысенко и находился под большим его влиянием, а Мосолов [вице-президент ВАСХНИЛ. — М. П.], являясь помощником Лысенко, также был противником Вавилова. Таким образом, экспертная комиссия была создана весьма искусно с определенной целью — дать заведомо предвзятое и отрицательное заключение о деятельности Вавилова" [207].
А вот что рассказал прокурору Колесникову другой участник "экспертизы" — Алексей Клементьевич Зубарев, 1894 года рождения.
"Экспертиза проводилась так: в 1941 году, когда уже шла война с немцами, меня и Чуенкова вызвал в НКВД майор Шунденко и сказал, что мы должны дать заключение по делу Вавилова. Подробностей я уж не помню… Помню, однако, что целиком наша комиссия не собиралась и специальной исследовательской проверочной работы не вела… Однако когда нам был представлен готовый текст заключения (кто его составил, я не знаю), то я, как и другие эксперты, его подписал. Не подписать в то время заключение я не мог, так как обстоятельства были такие, что трудно было это не сделать" [208].
Да уж, обстоятельства, что и говорить, были неважные. Так называемое заключение экспертной комиссии почти дословно повторяло те же обвинения, что заполняли остальные десять томов вавиловского "дела". Было там и "обоснование метафизических и антидарвинистических концепций", и "игнорирование местных сортов", и уклонение от практической селекции. Разве что для разнообразия кто-то добавил, что Вавилов засорил ВИР "чуждыми элементами". Оказывается, среди ученых было дворян — 21, из духовного звания — 8, почетных граждан — 12, потомков торговцев — 10, мещан — 40. Троцкист и монархист Н. И. Вавилов в добавление ко всему прочему не любил рабочих и крестьян…
Кто же сочинил заключение экспертов комиссии?
В показаниях Зубарева есть несколько строк, бросающих свет на фигуру, имеющую самое непосредственное отношение к пресловутой "экспертизе". "Дополняю, что майор Шунденко, вызвавший меня и Чуенкова в 1941 году в МГБ по поводу заключения о работе Вавилова Н. И., раньше, в частности в 1938 году, работал во Всесоюзном институте растениеводства научным сотрудником, стоящим на позициях Мичурина — Лысенко". Что же это за деятель науки, который променял халат исследователя на мундир сотрудника КГБ?
Степан Николаевич Шунденко — личность, старым вировцам хорошо памятная. "Что-то опасное чувствовалось в нем, в его щуплой, вертлявой фигуре, черных пронзительных, беспокойно шарящих глазах, — пишет профессор Е. Н. Синская. — Он быстро сошелся с другим, таким же отвратительным типом — аспирантом Григорием Шлыковым, и они вдвоем, принялись дезорганизовывать жизнь института" [209]. Синская напоминает, что в конце тридцатых годов в ВИРе ходил стишок, довольно точно характеризующий эту пару:
Два деятеля есть у нас на "Ш", Как надоели все их антраша. Один плюгав, как мелкий бес, Начало имени его на "С", Другой на "Г", еще повыше тоном, В науке мнит себя Наполеоном. Но равен их удельный вес. И оба они "Г", и оба они "С".Профессор Синская рисует портрет Шунденко, так сказать, в эмоциональном восприятии современников. Известный селекционер-генетик Михаил Иванович Хаджинов характеризует его с точки зрения конкретных фактов. "В 1937 году я работал в ВИРе, — вспоминает Хаджинов. — Однажды меня вызвали в партком и сделали выговор за то, что мой аспирант Шунденко не подает на защиту кандидатскую диссертацию. Я ответил, что Шунденко попросту не способен сделать диссертацию, для этого у него нет ни теоретических знаний, ни экспериментальных данных. "И все-таки, он должен иметь ученую степень, — заявили мне. — Не могли научить — пишите за него работу сами". Как ни стыдно мне теперь признаться, но я действительно продиктовал Степану Николаевичу работу, за которую он как-то очень быстро получил ученую степень кандидата наук" [210].
В 1937 году близкий ученик академика Вавилова, беспартийный генетик Михаил Хаджинов не мог поступить иначе. ВИР потрясали внутренние и внешние бури. Аспиранты, и в том числе Шунденко, устраивали обструкции своим научным руководителям — старым профессорам, требуя, чтобы их учили не буржуазным измышлениям Менделя и Моргана, а народной лысенковской агробиологии. Серый кардинал лысенковской клики Исай Презент специально приезжал в Институт растениеводства, чтобы натравливать молодежь на профессуру. Вавилов и другие ведущие специалисты ВИРа понимали, конечно, что вызывающая наглость Шунденко и других столь же малограмотных молодых людей подогревается извне. Но подлинная роль Степана Шунденко долгое время оставалась для них тайной.
Осенью 1938 года, несмотря на резкий протест Николая Ивановича, Шунденко был назначен заместителем директора ВИРа по науке. Вступив в должность, вчерашний аспирант открыто заявил, что не разделяет ошибочную позицию академика Вавилова в вопросах генетики и растениеводства. Новый зам. по науке заговорил о притаившихся в недрах ВИРа врагах, которых академик Лысенко рано или поздно выведет на чистую воду. Сразу после ареста Николая Ивановича Шунденко исчез из ВИРа. "Я встретила его весной 1941 года в Москве, — вспоминает бывшая вировка, доктор биологических наук Нина Александровна Базилевская. — Это произошло в кафе напротив ГУМа. Шунденко был в форме НКВД. Он улыбнулся, но не поздоровался со мной. Звания его я не разобрала, но говорили, что операция с Вавиловым его сильно возвысила. Впрочем, совершенно ясно, что сотрудником органов безопасности он был и раньше, когда учился в аспирантуре" [211].
Можно не сомневаться: майор госбезопасности Шунденко оказался для следователя Хвата незаменимым помощником. Он знал, кто чем в ВИРе дышит, кого в чем следует обвинить. Никто другой не смог бы так быстро подобрать нужных следствию экспертов, так блестяще составить текст заключения экспертной комиссии, никто иной не смог бы подбросить следователю таких великолепных наукообразных формулировок, как кандидат биологических наук С. Н. Шунденко. "Поразительно невежественный Степан Николаевич не умел говорить публично, совершенно беспомощным оставался и в лаборатории и на опытном участке, но зато виртуозно организовывал противников Вавилова, был подлинным мастером интриг", — рассказывает академик ВАСХНИЛ М. И. Хаджинов. О, такие люди делают свою работу не за страх, а за совесть. Служебное положение предоставляет им отличную возможность каждый день сводить личные счеты с человечеством. Гений гениальных, талант талантливых — для них личное оскорбление…
Есть в истории с экспертизой еще один маленький, совсем крошечный и тем не менее примечательный эпизод. Составив список экспертной комиссии, Хват послал его президенту ВАСХНИЛ с тем, чтобы тот мог "познакомиться со списком комиссии и высказаться по ее составу". Президент высказался. На полях документа сохранилась его размашистая резолюция: "Согласен. Лысенко".
…Мы не знаем, успел ли академик Вавилов к началу июля завершить свой труд по истории земледелия. Но доподлинно известно, что 5 июля 1941 года следователь Хват свою работу окончил. Она потребовала от него немало сил и сноровки. За одиннадцать месяцев Вавилов вызывался на допросы четыреста раз, собеседования потребовали от следователя тысячу семьсот, в основном ночных, часов бдения. А ведь допрашивать пришлось еще четырех участников заговора. Но — Конец венчал Дело, составленное Алексеем Григорьевичем. Обвинительное заключение начальство утвердило. И портрет Керенского А. Ф. и манифест Великорусского союза все приняли, все одобрили. Теперь пускай судьи поработают.
То, что происходило 9 июля 1941 года и официально называлось закрытым заседанием Военной коллегии Верховного суда СССР, меньше всего напоминало акт правосудия. Коллегия состояла из трех генералов (председатель диввоенюрист Суслин, члены: диввоенюрист Дмитриев, бригвоенюрист Климин) и секретаря. Судили генералы, не приглашая ни свидетелей, ни адвоката. За считанные минуты судьи определили, что бывший член Академии наук СССР Вавилов Н. И. совершил преступления, предусмотренные статьями 58-1a, 58-7, 58-9, 58–11 Уголовного кодекса РСФСР. "На суде, — писал впоследствии Николай Иванович, — продолжавшемся несколько минут в условиях военной обстановки, мною было заявлено категорически, что это обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в какой мере не подтвержденных следствием" [212]. Но судьям не было нужды слушать подсудимого. Готовый приговор уже лежал в портфеле председательствующего.
"Именем Союза Советских Социалистических…
Предварительным и судебным следствием установлено, что Вавилов с 1925 года является одним из руководителей антисоветской организации, именовавшейся "Трудовая крестьянская партия", а с 1930 года являлся активным участником антисоветской организации правых, действовавших в системе Наркомзема СССР и некоторых научных учреждений СССР…
В интересах антисоветской организации проводил широкую вредительскую деятельность, направленную на подрыв и ликвидацию колхозного строя, и на развал и упадок социалистического земледелия в СССР. Кроме того, Вавилов, преследуя антисоветские цели, поддерживал связи с заграничными белоэмигрантскими кругами и передавал им сведения, являющиеся государственной тайной Советского Союза.
Признавая виновным Вавилова в свершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1a, 58-7, 58-9, 58–11 УК РСФСР, Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР ПРИГОВОРИЛА:
Вавилова Николая Ивановича подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу, с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит" [213].
Только одна инстанция еще могла остановить действие приговора Президиум Верховного Совета СССР, во главе которого стоял в те годы всеми любимый и уважаемый, но не располагающий никакой властью "всесоюзный староста" Михаил Иванович Калинин. Вечером того же 9 июля на узкой полоске бумаги, чернилами (они, видимо, специально выдавались в таких случаях) Николай Иванович написал прошение о помиловании:
"В Президиум Верховного Совета СССР
осужденного к высшей мере наказания — расстрелу бывшего члена Академии наук СССР, вице-президента Академии с.-х. наук им. Ленина и директора Всесоюзного института растениеводства Вавилова Николая Ивановича (статья обвинения 58-1a, 58-7, 58-9, 58–11)
Обращаюсь с мольбой в Президиум Верховного Совета о помиловании и предоставлении возможности работой искупить мою вину перед Советской властью и советским народом.
Посвятив 30 лет исследовательской работе в области растениеводства (отмеченных Ленинской премией и др.), я молю о предоставлении мне самой минимальной возможности завершить труд на пользу социалистического земледелия моей Родины.
Как опытный педагог клянусь отдать всего себя делу подготовки советских кадров. Мне 53 года.
20 часов 9.7.1941 г.
Осужденный Н. Вавилов
бывший академик, доктор биологических и агрономических наук".
Ответ на свою мольбу Николай Иванович ждал семнадцать дней. Только 26 июля стало известно: Президиум Верховного Совета СССР в помиловании Вавилову отказал. Осужденного перевезли в Бутырскую тюрьму для приведения приговора в исполнение.
Глава 9 В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Где Вавилов — один из величайших русских ученых, один из величайших генетиков мира? Вавилов был избран президентом Международного конгресса в Эдинбурге в 1939 году. Но Вавилов там не появился, и с тех пор мы ничего о нем не слышали,
Карл Сакс, генетик,
профессор Гарвардского университета (США).
Письмо в журнал "Science" 21.12.1945 г.
Какую пустоту в жизни ощутили мы, когда ушел от нас этот великий, умный и веселый человек, который так просто и по виду легко нес бремя такой громадной научной и общественной работы.
Профессор Л. П. Бреславец.
Воспоминания. Рукопись.
Весть об аресте директора дошла до Института растениеводства 12 августа 1940 года, когда в Ленинград из Западной Украины вернулся любимый ученик Николая Ивановича Бахтеев. Его рассказ о черном автомобиле, пассажиры которого упорно разыскивали академика Вавилова в предгорьях Карпат, о ночных гостях, что пришли в Черновцах за вещами начальника экспедиции, быстро разнесся по лабораториям. Из рук в руки переходила последняя записка Николая Ивановича. Каждый понимал: если Вавилов арестован и делу будет придан политический характер, то научной вавиловской школе конец, конец институту, а может быть, и всей отечественной биологии. Но это было так страшно, в это так не хотелось верить, что сотрудники ВИРа в течение нескольких недель продолжали убеждать себя и других, что произошло недоразумение. В разговорах друг с другом они как заклятье повторяли, что еще день-два, и все разъяснится: работники НКВД поговорят с Николаем Ивановичем и сразу увидят, какой это кристально чистый человек.
Наивность? Но на дворе стоял август сорокового, еще ни одно правдивое слово не прозвучало о жертвах Сталина, о тех миллионах, кого, как саваном, окутала кличка "враги народа". Великая страна переживала пору великой наивности. Ученые из Института растениеводства не были исключением. Они верили или хотели верить в то, что говорили. Они действительно не могли представить себе институт без Вавилова. Ведь до сих пор в доме на Исаакиевской площади все жило, все двигалось его идеями, его энергией, его энтузиазмом.
Несколько недель в институте царило замешательство. Лишь недавно, в августе было опубликовано решение дирекции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении Н. И. Вавилова Большой золотой медалью ВСХВ за научные заслуги перед сельским хозяйством страны. И вдруг — арест. Прошло еще полгода, прежде чем в декабре 1940-го заместитель Лысенко академик Мосолов подписал приказ об отчислении Вавилова из состава ВАСХНИЛ. Заместитель наркома земледелия Дорогов приказал освободить Н. И. Вавилова от должности вице-президента ВАСХНИЛ и директора ВИРа [214]. Между августом и декабрем у вировцев все еще теплилась надежда на лучший исход. Мечтали: в один прекрасный день откроется дверь и в лабораторию как всегда оживленный, улыбающийся войдет Николай Иванович. Но время шло, и вокруг происходили события совсем иного свойства. В директорском кабинете Николая Ивановича, на его квартирах в Москве и Ленинграде были произведены грандиозные обыски. Дюжие молодцы в штатском вскрывали полы, обыскивали чердаки и подвалы. "Искали какие-то бомбы", — пишет в своих воспоминаниях профессор Е. Н. Синская [215]. По слухам, "находили их". Вскоре стала расползаться и "официальная" версия ареста: академик Вавилов якобы предпринял экспедицию в западные районы Украины специально для того, чтобы бежать за рубеж. Его удалось задержать при переходе границы. Слуху этому никто в ВИРе не верил. Но тех, кто придумал эту фальшивую версию, мнение учеников и сотрудников арестованного не заботило. Судьба вавиловской гвардии была предрешена.
"Начался свирепый разгром института, — вспоминает Е. Н. Синская. Совещания и партийные заседания сделались невыносимыми. Каждому из нас грозила реальная опасность получить инфаркт или что-нибудь в этом роде… Одной из первых жертв террора оказался заведующий биохимическим отделом ВИРа — старый профессор H. H. Иванов. Он разволновался на одном из ученых советов, затем поспорил в кабинете, который хотели у него отобрать, пришел домой и сказал: "Так дальше жить нельзя". Лег, и через час его нашли мертвым".
Уникальные специалисты, подобные Николаю Николаевичу Иванову, стали объектом настоящей травли. Органы государственной безопасности и новый директор ВИРа И. Г. Эйхфельд (способный агроном и не профан в биологии, но верный последователь Лысенко) еще с 1937 года как будто соревновались в том, кто сумеет "подбить" больше "высоколобых". Один за другим были арестованы генетик с мировым именем профессор Г. Д. Карпеченко, международно известный цитолог профессор Г. А. Левитский, самый крупный специалист по бобовым Л. И. Говоров. Пошел в тюрьму заместитель директора ВИРа по общим вопросам Н. В. Ковалев. Одновременно Эйхфельд выгнал из института ведущего специалиста по ягодным культурам профессора М. А. Розанову, талантливого генетика М. И. Хаджинова, видных растениеводов М. Г. Попова и Ф. X. Бахтеева, биохимика M. H. Княгиничева и многих других научных сотрудников, когда-либо неодобрительно отозвавшихся о Лысенко; их приказано было "передавать на производство". Передача состояла в том, что ученых отправляли в колхозы.
Массовая ссылка ученых не была изобретена новыми хозяевами ВИРа. Это "мероприятие" запланировал во всесоюзном масштабе нарком земледелия СССР Бенедиктов. Его приказ требовал, чтобы каждый третий ученый — специалист в области биологии и сельского хозяйства был отправлен в колхоз, совхоз или в низовые земельные органы "для укрепления". Приказ вышел 2 января 1940 года, а уже пять дней спустя президент ВАСХНИЛ Лысенко дал указание: "Пересмотреть структуру аппарата Академии и институтов под углом зрения сокращения отдельных структурных единиц…" [216] Пока Вавилов оставался директором ВИРа, он, как мог, отстаивал от разрушения "структурные единицы", то бишь лаборатории и отделы Института растениеводства. Но осенью сорокового года Эйхфельд сделал приказ наркома законным основанием для массовой высылки ученых из Ленинграда. Разгромив отдел кормовых культур, лысенковцы отправили "на производство" научных сотрудников В. В. Суворова, М. А. Шебалину, К. В. Иванову, Б. И. Сечкарева, из Московского отделения уволили М. С. Щенкову, А. И. Сметанникову. Дольше других продержался в институте профессор Е. В. Вульф. Блестяще образованный ботаникогеограф, теоретик, автор классических трудов по происхождению и распространению земной флоры, он, по словам профессора Синской, "хотел перетерпеть", но всеобщее беснование в конце концов проникло и через стены его глухоты. Вульф ушел… Сама Синская тоже была вынуждена покинуть институт, где проработала не один десяток лет, где получила степень доктора биологических и сельскохозяйственных наук. "Оставаться было невозможно, — пишет она. Аресты не прекращались и становились все более непонятными. Был схвачен академик А. И. Мальцев, который высказывал радость по поводу ареста Николая Ивановича, однако его причислили к той же "подпольной организации", которой якобы руководил Вавилов. Потом взяли профессора К. А. Фляксбергера, ведавшего отделом пшениц. Об истинных причинах его ареста никто ничего не знал. В ВИРе стало тяжело и мрачно, как в могиле".
"Разрушение Вавилона", задуманное лысенковцами еще в 1938–1939 годах, осенью сорокового достигло апогея. Лысенко направил в ВИР близкого ему человека, некоего Зубарева, с проверочной комиссией. Комиссия должна была подтвердить, что в нынешнем виде институт не только не приносит пользы сельскому хозяйству, но даже мешает колхозам и совхозам. В обстановке террора и всеобщего страха члены комиссии легко справились с возложенными на них задачами. Зубарев провел серию грубых допросов, оскорблял, осмеивая старую профессуру, вынудил одних подать заявление об уходе, других смириться с беззаконием. Глядя на "деятельность" комиссии, даже сторонние наблюдатели поняли: Лысенко не успокоится, пока не разрушит детище Вавилова до основания. И хотя советские газеты не поместили ни строки о том, что делается в стенах Института растениеводства, хотя о разрушении лучшего в мире научного растениеводческого учреждения ни слова не произнесло советское радио, весть о неизбежном разгроме ВИРа очень скоро прокатилась по всей стране. В Узбекистане, Крыму, на Северном Кавказе местные государственные и земельные органы начали захватывать станции и опорные пункты, принадлежащие ленинградскому институту. Опытную сеть, раскинувшуюся по всем почвенно-климатическим зонам СССР, сеть, которую Вавилов создавал десятилетиями, стали рвать на части. Во вновь "захваченных" учреждениях местные органы перекраивали на свой лад всю научную работу и, конечно же, запрещали продолжать исследования, предпринятые по инициативе Вавилова.
Среди сотрудников на местах началась паника. Люди покидали годами насиженные места, перебирались в города. "Разрушение Вавилона", строго запланированное и одобренное надлежащими инстанциями, приобрело вдруг стихийный характер. Такой неожиданный оборот испугал даже И. Г. Эйхфельда. 4 ноября новый директор и его заместитель по науке И. А. Сизов разослали отпечатанное под копирку обращение к руководителям всех опытных станций и опорных пунктов института. Вот оно, с сохранением стиля и синтаксиса: "В связи с получением Дирекцией ВИРа сведений о том, что на ряде станций ВИРа распространяются неверные слухи, что ВИРа больше не существует, а на базе ВИРа организуется Институт северного земледелия, станции ВИРа передаются в ведение местных земледельных органов и т. п. Подобные слухи создают нервозность в работе работников станций и дезорганизуют нормальный ход работы. Дирекция и парторганизация ВИРа просят Вас разъяснить работникам станций, что слухи о реорганизации Института растениеводства в Институт северного земледелия неверны…" [217] Уже по одному стилю этого документа вировцы могли понять, что за люди встали отныне во главе их учреждения. Но письмо Эйхфельда было не только безграмотным, но и лживым. Кто-кто, а Иоганн Гансович Эйхфельд, один из самых близких к Лысенко людей, отлично знал, что дни ВИРа сочтены.
25 ноября 1940 года в Москве, в Большом Харитоньевском переулке, в старинном доме князей Юсуповых с расписными стенами, обитыми бархатом дверьми и золоченым львом на площадке парадной лестницы, собрался президиум ВАСХНИЛ. Еще недавно на подобных заседаниях можно было встретить цвет русской земледельческой научной мысли: академиков Вавилова, Тулайкова, Мейстера, Кольцова, Серебровского, Лисицына, Константинова. Теперь за столом сидели дружки Лысенко: Презент, Поляченко, Мосолов, Цицин, Зубарев. На заседание пригласили также тех, кто в последние годы руководил пятой колонной в недрах Института растениеводства: Эйхфельда, Сизова, Тетерева, Шлыкова. Настал наконец день их торжества — Вавилов в тюрьме, ВИР, затаив дыхание, ждет своей участи Протокол № 18 президиума ВАСХНИЛ, помеченный 25 ноября 1940 года [218], без обиняков объясняет, ради чего понадобилось это сборище. Выслушав доклад Эйхфельда, президиум постановил:
Всесоюзный институт растениеводства, как это установлено материалами комиссии по приему дел института [комиссия Зубарева. — М. П.], с поставленными задачами не справился:
а) Институтом хотя и собраны большие коллекции культурных растений, но при сборе их не всегда руководствовались полезностью собираемого материала, и в настоящее время трудно определить научную и практическую ценность каждого образца коллекции;
б) Изучение собранных коллекций было поставлено неправильно и не давало ценных для производства и науки выводов. Небрежное же хранение коллекций привело к гибели части коллекционных образцов;
в) Институт недостаточно работал по продвижению перспективных сортов в производство.
Все это было неправдой. Шлыков и Эйхфельд хорошо знали, какую огромную научную и практическую ценность представляли те 360 тысяч образцов культурных растений, что собрал академик Вавилов и вавиловцы. Шестьдесят тысяч образцов добыл во время экспедиций сам директор ВИРа. Образцы бережно хранились, а изучали их так серьезно и глубоко (географические посевы производились более чем в 100 точках СССР от Заполярья до субтропиков), что это вызвало зависть видных представителей западной биологической науки. Знал правду о ВИРе и Лысенко, но он собрал президиум академии вовсе не для выяснения истины, а для расправы. И расправа состоялась. Президиум постановил:
Перевести всю работу с кукурузой из ВИРа на опытную станцию Отрада Кубанская…
Цветы передать в Ботанический сад АН СССР… Исследования по винограду передать в Институт виноградарства…
Закрыть секцию субтропических культур…
Закрыть лабораторию табака и чая…
Передать коллекцию риса Краснодарской рисовой станции…
Закрыть отдел географии растений…
Закрыть отдел внедрения…
Передать местным органам:
Дальневосточную станцию ВИРа (Лянчихэ) Туркменскую станцию (Кара-Кала) Репетекскую опытную станцию в Каракумах Опорный пункт "Якорная щель" в Крыму
Считать нецелесообразным существование в составе института Бюро пустынь и высокогорий.
И подпись: президент ВАСХНИЛ Лысенко.
Прошли десятилетия… Отгремела в стенах института варфоломеевская оргия сорокового года. В 1948-м вновь изгоняли из ВИРа подлинных ученых, именуя их морганистами-менделистами. Погиб и был реабилитирован посмертно Николай Иванович Вавилов. Еще при жизни обратился в политический и научный труп диктатор Лысенко. В начале 60-х годов в доме на Исаакиевской площади сначала, пугливо озираясь, поместили на лестнице портреты нескольких жертв террора, потом, все больше смелея, водрузили в вестибюле мраморное изваяние Николая Ивановича. Еще чуть позже стало признаком хорошего тона клясться именем великого генетика. Институту вручили орден, присвоили имя основателя. Один из участников погрома Н. В. Цицин опубликовал в "Правде" восторженную статью о Вавилове. Г. Н. Шлыков, писавший на директора института доносы, публично объявил себя учеником незабвенного Николая Ивановича. Пришли новые времена, но никто из тех, кто разрушал ВИР, не потерял ни службы, ни уважения начальства. Навсегда было утеряно только одно: научное значение Института. ВИР никогда больше не вернул себе роль научного центра, подающего основополагающие идеи и методы генетикам, растениеводам и селекционерам гигантской земледельческой страны [219]. Храм опустел. И никакие новые должности, ставки и награды не способны восполнить то, без чего нет и быть не может исследовательского учреждения: научных идей, авторитетного руководства, свободы творчества. ВИР умер, как умирают все живые организмы, когда их лишают возможности дышать. В Ленинграде, в здании возле Исаакия, продолжает пребывать некое учреждение, именующее себя Институтом растениеводства, но оно с таким же успехом могло бы именоваться и Римским сенатом. ВИР умер, и история науки с полным правом может начертать на его надгробном камне:
ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Рожден Николаем Вавиловым в марте 1920 года.
Убит Трофимом Лысенко в ноябре 1940 года
…Все, кто рассказывал о разгроме ВИРа, неизменно говорили о страхе. Новым хозяевам института ничего не стоило лишить любого неугодного работника ученой степени, лаборатории, сослать в самый глухой угол страны и даже арестовать. Страх в самом прямом смысле этого слова сжимал сердца сотрудников, особенно немолодых и обремененных семьями… Никто не чувствовал себя в безопасности. Вавилов учил смело отстаивать научные принципы в борьбе с честным противником. Но ситуация, возникшая после победы лысенковцев, меньше всего походила на благородный турнир научных идей. Эйхфельд и его воинство (Сизов, Шлыков, Переверзев, Тетерев, Орел, Хорошайлов, Пономарев, Сидоров) вообще не имели каких-либо научных идей. Их объединяло одно: стремление овладеть благами, которые сулит высокая должность и профессорское звание. "Учение Мичурина — Лысенко" было для них не более чем пароль-пропуск к высокой зарплате, арест Вавилова развязал руки для откровенного грабежа.
Один из моих собеседников, доктор наук, переживший ленинградскую блокаду, находит много общего между положением в институте осенью 1940 года и тем, что ему довелось пережить зимой сорок второго. Оставленная в окруженном Ленинграде вировская коллекция семян привлекла тогда тысячи голодных крыс. По ночам грызуны стаями врывались в лаборатории, сбрасывали со стеллажей металлические коробки с ценнейшими образцами и пожирали без разбора плоды, семена, орехи — все, что с таким трудом было собрано вавиловскими экспедициями. Ослабевшие от голода сотрудники вооружались металлическими прутьями и выходили на защиту коллекций. Сначала крысы боялись человека, шарахались от электрических фонарей. Но чем дальше шла бесконечная блокадная зима, тем наглее становились животные. В конце концов крысы — рассказывает ученый — превратились в опасных хищников, они начали бросаться на людей…
И все-таки человек всегда остается человеком. В сорок втором остатки вавиловской гвардии отбили у крыс уникальную коллекцию, в сороковом, подавив в себе страх перед беззаконием, встали на защиту директора института. В конце августа сотрудница ВИРа Нина Александровна Базилевская с группой коллег (Н. В. Ковалев, М. А. Розанова, Е. А. Столетова) составили письмо в ЦК ВКП(б), Совнарком и НКВД. Вировцы писали, что много лет знают Николая Ивановича, абсолютно убеждены в его верности Советской власти и Коммунистической партии и потому просят освободить Вавилова — крупного ученого и организатора советской науки. Подписались девять человек. Однако когда Ковалев показал письмо своему родственнику — сотруднику НКВД, тот предупредил: если жалоба пойдет в таком виде, арестуют всех девятерых, пусть подпишется кто-нибудь один. Риск взяла на себя доктор Базилевская, у остальных были маленькие дети. Вскоре Нину Александровну вызвали в Смольный. В обкоме партии она снова пыталась говорить о невиновности Вавилова. Сказала даже, что если Николая Ивановича вышлют, то большая часть ВИРа поедет за ним в ссылку, хоть в Сибирь, хоть на Камчатку. "Чепуха, ответил работник обкома, — у нас ошибок при аресте не бывает. Работайте спокойно и не отвлекайте руководителей по пустякам". Три дня спустя Базилевскую уволили из института [220].
Но поиск справедливости продолжался. Профессор Евгения Николаевна Синская обратилась за поддержкой к вице-президенту Академии наук физиологу Л. А. Орбели. Прямой и честный Орбели попытался что-то предпринять, куда-то писал, но через несколько дней сообщил, что помочь Вавилову нельзя, во всяком случае, его, Орбели, влияния недостаточно. Все хлопоты велись в тайне. Тайком отправился в Москву, в надежде получить аудиенцию в Кремле, ближайший друг Николая Ивановича профессор Леонид Ипатьевич Говоров. Тайком сотрудница отдела кормовых культур ВИРа Мария Александровна Шебалина ездила к младшему брату Николая Ивановича Сергею. Старый работник института, председатель профсоюзной организации ВИРа Шебалина привезла Сергею Ивановичу специально подготовленную справку — несколько десятков страниц (втайне перепечатанных машинистками ВИРа), где со всей возможной полнотой приводилась та материальная выгода, которую страна получила от экспедиций, опытов, исследований академика Николая Вавилова. Через четверть века, рассказывая мне этот эпизод, Мария Александровна объяснила: "Нам казалось, что гонители Николая Ивановича ужаснутся, когда увидят, какой огромный урон нанесет государству его арест". Академик Сергей Иванович Вавилов, директор Государственного оптического института, очевидно, не разделял наивных надежд вировцев. Он принял Шебалину на Васильевском острове в старинном доме, где все квартиры издавна занимали члены Российской Академии наук. "Это было в последних числах августа, — вспоминает Мария Александровна. Сергей Иванович сидел в кабинете за большим письменным столом, я напротив. Хорошо помню его глухой, тускло звучавший голос, какие-то пустые, усталые глаза. Он не стал даже читать справку, которую мы так старательно сочиняли. Отрешенно поглаживая свои седеющие виски, сказал: "Недоразумения тут нет никакого. Брат арестован по распоряжению или во всяком случае с ведома первого лица государства. И едва ли мы сможем что-нибудь сделать…" [221]
Сергей Иванович был, очевидно, прав. Все попытки спасти директора ВИРа разбивались о невидимую, но вполне реальную стену. Трагическая судьба ученого очень скоро стала запретной темой. Жернова государственной машины безжалостно перемалывали всякого, кто пытался даже просто напоминать об этой репрессии. Были арестованы, как я уже говорил, профессора Ковалев и Говоров, Базилевскую, Синскую и Шебалину изгнали из института.
Но среди сотрудников ВИРа все еще тлела вера, нет, не в справедливость, но в то, что можно назвать мудростью государственной власти. Те, кто стоят у власти, могут быть жестоки и несправедливы. Допустим. Но какой им смысл наносить урон собственной стране, разорять сельское хозяйство? Очевидно, члены Центрального Комитета партии попросту не знают, что разгром ВИРа, арест Вавилова ведут к разгрому отечественной сельскохозяйственной науки, а в дальнейшем к снижению урожаев, кризису земледелия. Надо сообщить ЦК партии правду о безобразиях, творимых Лысенко и органами госбезопасности. Если это удастся — ВИР и Вавилов будут спасены. Так или примерно так думали в 1940 году лучшие люди ВИРа. Роль вестницы снова взяла на себя Базилевская.
Стихией Нины Александровны в науке были цветы, цветоводство. Но этот деликатный объект Базилевская сделала столь серьезным предметом исследования, так хорошо знала всю мировую литературу, посвященную цветам, в частности макам, что Николай Иванович звал ее не иначе как "королева опийного мака". Характер у этой "цветочницы" был, однако, весьма решительный. Во время предвоенных дискуссий Нина Александровна не раз обрушивалась на недругов института. В 1937 году на дне рождения Николая Ивановича Базилевская подняла тост, который для многих потом послужил чем-то вроде символа веры: "Да воскреснет ВИР и да расточатся враги его!" Тост этот, как и многое другое в том же роде, лысенковцы припомнили ей осенью сорокового года.
Покидая Ленинград (здесь никто не принимал ее на работу), Нина Александровна зашла к Сергею Ивановичу Вавилову и попросила помочь ей (встретиться в Москве с кем-нибудь из членов ЦК. Вавилов-младший высоких знакомств в те годы еще не имел, но пообещал устроить встречу с членом ЦК А. А. Андреевым через своего родственника, видного архитектора Веснина. Андрей Андреевич Андреев был, пожалуй, самым подходящим человеком для такого разговора, он в ЦК ведал вопросами сельского хозяйства. Но встреча как-то долго не получалась, хотя Веснин сделал все, что мог. Состоялась она только в начале 1941 года. Базилевская приготовила целую речь с объяснением лысенковского диктата, с описанием того, что происходит в ВИРе и других научных учреждениях ВАСХНИЛ. В этот февральский день 1941 года товарищ Андреев мог бы получить довольно полную и объективную информацию о судьбах отечественной биологии и сельскохозяйственной науки. Мог, но… референт предупредил просительницу, что член ЦК чрезвычайно занят и уделит ей лишь несколько минут. Беседа оказалась даже короче, чем мог представить видавший виды референт. Едва Базилевская заговорила о роковой ошибке, произошедшей с академиком Вавиловым, Андреев прервал ее фразой, которую Нина Александровна дословно пересказала мне двадцать три года спустя: "Никакой роковой ошибки быть не могло. Есть факты, которых вы не знаете". На этом аудиенция закончилась.
Осенью сорокового бурлил не только ВИР. По сведениям секретных агентов НКВД [222], арест Вавилова произвел "убийственное" впечатление на всю Академию наук СССР. В агентурных донесениях тех месяцев говорится: академики убеждены, что арест произведен по настоянию Лысенко. Академик Лузин назвал арест "очередным ужасом". За Вавиловым, сказал Лузин, не может быть никакого преступления, он — жертва клеветы и интриг. "Что они сделали! Они посадили в клетку гражданина мира!" — воскликнул академик Прянишников, когда до него дошли подробности ареста в Черновцах. Не остался равнодушным и президент АН СССР В. Л. Комаров. Он сказал академику Завидовскому, что Вавилова посадили в тюрьму, как жулика, разбойника и убийцу "за то, что он имел смелость не соглашаться с Лысенко".
Мнение В. Л. Комарова, зафиксированное столь ответственными лицами, как тайные агенты госбезопасности [223], для нас особенно интересно, ибо роль президента в судьбе Николая Ивановича была в разные годы весьма различной. Академик В. Л. Комаров (1869–1945), видный ботаник-флорист, конечно, презирал Лысенко. Ему едва ли доставила удовольствие комедия "выборов" безграмотного сталинского фаворита в действительные члены Академии в январе 1939 года. Но и слишком громкая слава Вавилова раздражала Комарова. Напрасно Николай Иванович при каждом удобном случае устно и письменно заявлял, что пальма первенства в русской ботанике принадлежит Владимиру Леонтьевичу. Комаров отлично понимал: первое лицо в этой области науки все-таки не он.
Несколько лет президенту пришлось вести двойную игру, маневрировать между силами, противоборствующими в биологической науке. И маневры его не всегда бывали пристойными. Профессор Николай Родионович Иванов (ВИР) вспоминает, что Комаров очень боялся посылать вавиловцев в зарубежные поездки. Экспедиционные документы лежали у него на подписи неделями и месяцами. Однажды Вавилов явился к президенту за объяснениями. Владимир Леонтьевич, стыдливо поеживаясь, признался: "Что поделаешь, подличаем… подличаем помаленьку…" Жена Дончо Костова приводит в своих мемуарах типичный для того времени эпизод. Место действия — какое-то заседание в академии, время — 1939 год. Лысенко произнес речь в своем обычном нигилистическом наступательном тоне. Потом слово взял президент академии В. Л. Комаров, одобрил его выступление. Когда заседание окончилось, Комаров пригласил Вавилова, а с ним и Дончо Костова в свой кабинет. Здесь, вынув из стола книгу Лысенко, он начал критиковать ее, высмеивать неграмотность автора. Николай Иванович нахмурился, бросил несколько иронических замечаний и холодно попрощался. Всем своим видом он показывал: двойственное поведение президента ему неприятно. Когда они вышли из кабинета, Вавилов, кивнув в сторону высоких президентских дверей, спросил Костова: "Видали? Каков наш Василий Шуйский?" "Об этом разговоре, — вспоминает А. А. Костова, — я узнала случайно: Дончо спросил меня, кто такой Шуйский. Ему, иностранцу, была незнакома личность прославленного Пушкиным лукавого царедворца" [224].
Была и другая причина, разделявшая двух ботаников. В области общебиологических представлений президент АН СССР Комаров, как это ни покажется странным, стоял ближе к Лысенко, нежели к Вавилову. Он решительно не признавал трудов Моргана, Бэтсона, Нильсона-Элле, выводов современной науки о гене как носителе наследственных свойств организма. В книге "Происхождение культурных растений" (1938) Комаров писал:
"Изложив в той главе теории Н. И. Вавилова по возможности близко к подлиннику и отмечая, что на фоне мировой литературы по дарвинизму они являются наиболее крупными за последнее время, мы все же должны оговориться, что основа их, по-нашему, спорная. Суть дела в том, что и в теории гомологических рядов и в теории генных центров понятие о гене как о самодовлеющем материальном теле поставлено безоговорочно. Понятие о гене, о корпускуле, обусловливающей своим присутствием ту или другую особенность организма, как причина обусловливает действие, возбуждает в нас живейшее чувство противоречия".
Возможно, что "чувство противоречия", которое испытывал Владимир Леонтьевич по отношению к новейшим достижениям генетики, объяснялось тем, что в его почтенном возрасте ему уже трудно было освоить новые открытия. Но не исключено и другое: хитрый политик Комаров понял, что в обстановке победоносного наступления Лысенко и его "мичуринской биологии" безопаснее держаться подальше от всего того, что попахивает "тлетворным" духом Запада, западной науки, а заодно и от вавиловских работ.
Арест Вавилова не облегчил положения "лукавого царедворца". Скорее наоборот. Не встречая в научном мире никакого сопротивления, Лысенко совсем распоясался. В ВАСХНИЛ он сделался абсолютным самодержцем [225]. В Академии наук вел себя чуть более умеренно, но и там давал понять, что подлинный хозяин биологической вотчины отныне — он. Нетрудно представить ту смесь стыда, страха и бессильной ярости, которую испытывал Комаров, глядя, как недоучка-агроном орудует в Институте генетики АН СССР.
Институт генетики (ИГЕН) составлял гордость академии. Он был создан в 1934 году по инициативе Николая Ивановича и за шесть лет достиг положения одного из самых значительных научно-исследовательских центров мира. Здесь работали такие видные генетики, как Сапегин, Шмук, Навашин, Лепин, Герман Меллер, Дончо Костов. Сюда приезжали с докладами видные ученые из Англии, США, Германии. С исчезновением Вавилова ИГЕН пережил такой же разгром, что и ВИР. В марте 1941 года академик Прянишников писал Берии: "После проведения Т. Д. Лысенко в директора Института генетики АН СССР (о способе проведения его в директора следовало бы говорить особо) из этого института удалены (или ушли сами) почти все ценные работники (Навашин, Шмук, Сапегин, Медведев и др.). Программа, представленная новым директором Института генетики, обнаруживает поразительную скудость мысли — никакой генетики там нет, одна элементарная агротехника, то же проталкивание поздних посевов картофеля на площади в 300.000 га… те же "опыты" с осенним посевом клевера, то же разрезание корней кок-сагыза — полное дублирование Наркомзема по агротехнике" [226].
Развал ИГЕНа очень скоро вызвал паралич генетических исследований по всей стране. "Считаю большой ошибкой: непонятно, почему у нас остановилась работа по генетике, науке большого будущего", — писал в 1944 году академик В. И. Вернадский [227]. И в другом письме снова: "К сожалению, у нас уничтожены все центры научной работы по генетике. По подбору научных кадров в Академии я вижу пагубные последствия этой государственной ошибки" [228].
Вторжение вандализма в науку заставило Комарова пересмотреть свое отношение к Вавилову. Хотя и не слишком громогласно, президент несколько раз высказал сочувствие к Николаю Ивановичу, а затем даже предпринял некоторые демарши в защиту арестованного. Демарши эти, по правде говоря, давались ему с трудом. Владимир Леонтьевич трусил, юлил, но настойчивость академика Прянишникова и некоторых учеников Николая Ивановича делала свое дело: с каждым разом главе академии приходилось вести себя все более пристойно и более решительно.
Самой значительной фигурой из тех, кто нашел в себе мужество открыто выступать за академика Вавилова, был Дмитрий Николаевич Прянишников. В 1940 году ему исполнилось семьдесят семь лет. Крупнейший агрохимик, он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, в следующем году получил Сталинскую премию. Но все эти "милости" не изменили правдивого и решительного характера старого ученого. Разыгравшаяся в Черновцах беда потрясла его. Не боясь подслушивающих ушей и подсматривающих глаз, Прянишников везде — в Академии наук, в ВАСХНИЛ, в Тимирязевской академии, беседуя со студентами, коллегами-учеными, чиновниками Наркомзема, — не уставал твердить, что Николай Иванович ни в чем не виновен. Весной 1941 года он написал Берии письмо, где разоблачил Лысенко как ученого и руководителя ВАСХНИЛ. Маленькая хитрость этого послания заключалась в том, что Прянишников надеялся подорвать кредит доверия, которым Лысенко пользовался у верховной власти, и тем повернуть фортуну лицом к Вавилову. Берия, однако, от научной полемики уклонился. Письмо Прянишникова осталось без ответа. Из Самарканда, куда его загнала военная эвакуация, Дмитрий Николаевич снова напомнил о своем ученике: в начале 1942 года он отправил в Москву телеграмму, в которой представил работы Н. И. Вавилова на соискание Сталинской премии. Такая дерзость могла стоить ему жизни. Сталин никому не позволял открыто вступаться за "государственных преступников". Но нарушение этики и на этот раз сошло с рук. Может быть, ученого спасла неразбериха военных лет, а возможно, телеграмму семидесятисемилетнего академика попросту сочли стариковским чудачеством.
Осенью 1942 года, когда воюющая страна отмечала свой четвертьвековой юбилей, в Свердловске состоялась праздничная сессия Академии наук. В начале ноября на Урал съехались рассеянные по городам и весям российские академики. Приехал и Прянишников. По свидетельству помощника президента АН СССР А. Г. Чернова [229], Комаров любезно принял Дмитрия Николаевича у себя в кабинете, а Лысенко, наоборот, отказал в аудиенции. Во время беседы Прянишников открыто заявил Комарову, что Лысенко убил Вавилова, чтобы захватить его должности и положение в науке. Он призывал президента немедленно обжаловать в ЦК действия НКВД. "Что я могу сделать, — разводил руками Комаров. — Вот приедет Вышинский, попрошу его помочь". Андрей Януарьевич Вышинский, академик и Генеральный прокурор СССР, организатор знаменитых сталинских процессов конца тридцатых годов, вскоре действительно приехал в Свердловск. В самой деликатной форме Комаров попросил академика-прокурора вникнуть в дело Вавилова, принять во внимание… учесть былые заслуги… Ходатайство президента, однако, успеха не имело. В служебных и личных отношениях с людьми академик-прокурор Вышинский знал лишь одну заповедь — "падающего подтолкни".
Прянишников узнал о неудаче, но атак на Комарова не прекратил. Полгода спустя он снова настиг Владимира Леонтьевича в Алма-Ате. И опять, по словам А. Г. Чернова, Дмитрий Николаевич настаивал на том, чтобы президент послал от имени Академии наук письмо в Центральный Комитет партии. "Родина не простит нам преждевременной смерти Николая Ивановича, — несколько раз повторял Прянишников. — Поймите же, Владимир Леонтьевич, не простит". Комаров, однако, писать не стал. В подобных обстоятельствах он предпочитал устные переговоры. Когда Прянишников явился к нему снова (дело было уже в Москве, после возвращения академии из эвакуации), президент согласился поговорить о судьбе Вавилова с Молотовым. Такой разговор состоялся, но Молотов, едва услышав фамилию Вавилова, раздраженно бросил: "Сейчас этим заниматься не буду, некогда". Возможно, всевластный Вячеслав Михайлович действительно был в тот день занят неотложными государственными делами. Но будь у него в запасе даже вечность, он едва ли стал бы выручать опального академика, арест которого лично санкционировал три года назад.
В начале 1943 года не только Комаров, но и Прянишников поняли, молох не собирается отдать свою жертву.
Всякий другой на месте Дмитрия Николаевича счел бы свой долг выполненным: плетью обуха не перешибешь. Но учитель Вавилова был человеком особого склада. Постукивая палкой, прихрамывая, он снова и снова появляется в кабинете президента академии, просит, уговаривает, настаивает. Речь идет теперь о письме, адресованном лично товарищу Сталину.
Письмо к Сталину — ultimum refugium [последнее средство (лат.)] общественной жизни 30-40-х годов. В стране, где попраны законы, гражданин ждет от власти не соблюдения своих прав, но лишь послабления, не справедливости, но милости. В пору сталинского террора всеобщий страх и незащищенность породили слепую веру в чудо, веру в спасительную силу писем на высочайшее имя. Возникло нечто вроде всенародной почтово-телеграфной эпидемии. На адрес "Кремль. Сталину" были отправлены десятки миллионов жалоб. Родственники невинно осужденных, жертвы чисток, высланные, снятые с работы, исключенные из партии, лишенные пенсии, права голоса, доброго имени — все, кто так или иначе попали под колесо сталинской государственной машины, многократно писали родному, дорогому, любимому товарищу Сталину. И хотя, в отличие от слезниц на монаршье имя, письма Генеральному секретарю ВКП(б), как правило, оставались без ответа, год от года их становилось все больше. И одновременно росла легенда о сталинской отзывчивости, доброте, внимании к малым сим. Алчущие надежды охотно передавали из уст в уста рассказы о том, что по сталинскому слову выпущен на свободу уже приговоренный к расстрелу юноша, что кому-то отдали незаконно отнятую жилплощадь, кого-то вернули из ссылки. И все это благодаря письмам, которые (это подразумевалось как нечто само собой разумеющееся) открывали вождю народов глаза на своеволие местных начальников.
Стихия надежды на сталинское милосердие захватывала в 30-40-е годы не только темных обитателей провинции. Столичная интеллигенция обращалась к "последнему средству" столь же истово, с той же верой, что вождь "многого не знает". Зимой 1943 года, когда Прянишников уговаривал Комарова писать о судьбе Николая Ивановича в Кремль, к президенту пришел еще один проситель Сергей Вавилов. Какими-то окольными путями академик Вавилов-младший узнал о том, что брат Николай жестоко голодает в тюрьме, что здоровье его пошатнулось и сама жизнь в опасности. Разговор двух академиков происходил без свидетелей, но помощник президента видел: из кабинета Сергей Иванович ушел в слезах. Комаров тоже выглядел расстроенным: то, что до сих пор оставалось государственной тайной, стало явным — Николай Вавилов, человек, давший своей стране миллионы тонн хлеба, умирал в тюремной камере от голода. Сергей Иванович просил о том же, что и Прянишников: от имени Академии наук немедленно известить обо всем Сталина. Он даже, набросал проект письма. По словам А. Г. Чернова, в нем говорилось примерно следующее: величайший ботаник нашего времени Николай Иванович Вавилов находится в тюрьме. Здоровье его подорвано. Президент АН СССР готов взять академика Н. И. Вавилова на поруки. Если же выпустить ученого на свободу не представляется возможным, президент просит предоставить арестованному возможность вести исследования в области растениеводства.
Шли месяцы. Канцелярия Сталина по своему обыкновению отмалчивалась. Осенью 1943 года Прянишников снова пришел в президиум академии напомнить о злополучном послании. Комаров захлопотал, заохал, помощнику тут же было приказано связаться по "вертушке" с личным секретарем Сталина Поскребышевым. Ответ Поскребышева был краток: письмо переправлено Берии. Круг замкнулся.
Рассказ о дальнейших событиях дошел до меня в нескольких вариантах. Но и дочери Дмитрия Николаевича Прянишникова, и А. Г. Чернов, и некоторые ученики Вавилова сходятся на одном: в конце 1943 года Прянишников добился приема у Берии. Очевидно, устроить встречу помогла жена Берии, сотрудница Дмитрия Николаевича по Тимирязевской академии. Берия принял престарелого академика в своем великолепном кабинете на площади Дзержинского. Заместитель Председателя Совнаркома СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга держался отменно любезно, даже предупредительно. На столе были разложены тома следственного дела Н. И. Вавилова. Дмитрию Николаевичу предоставили возможность беспрепятственно читать показания подследственного и свидетелей. "Вот видите, — сказал якобы Берия, раскрывая очередной том "дела", — вот он сам своей рукой пишет, что продался английской разведке". Прянишников полистал документы, оттолкнул от себя толстые тома и заявил, что бумагам не верит. Он знает своего ученика почти сорок лет и убежден, что Николай Иванович не может быть ни шпионом, ни вредителем. "Поверю, если только он мне все это скажет", — заключил старик и, не прощаясь, пошел к двери. Еще с полчаса, не разбирая дороги, ничего не видя перед собой, шел, пока "добрые люди" не помогли ему отметить пропуск и вывели из ворот.
Профессор Александр Иванович Купцов (также ученик Прянишникова) вспоминает, что в январе 1944 года, навестив учителя на кафедре агрохимии в "тимирязевке", слышал от Прянишникова о неудачных хлопотах за Вавилова. "Берия, — сказал Дмитрий Николаевич, — заодно с теми, кто хочет нажить капитал на деградации нашего сельского хозяйства и нищете крестьянина. Вавилов им мешал. Его нет. И против них мы ничего не в силах сделать". "При этих словах, — пишет в своих воспоминаниях профессор Купцов, — Дмитрий Николаевич заплакал и долго утирал старые глаза платком, хотя мы перешли к другим сюжетам разговора" [230].
Глава 10 КОСТЕР
Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся.
Н. И. Вавилов.
Из речи в ВИРе 15 марта 1939 года
В 1927 году тимирязевцы провожали в последний путь своего старого товарища Сергея Жегалова. Талантливый селекционер, один из наиболее одаренных учеников профессора Рудзинского, он умер, не дожив до сорока пяти лет. Вавилов шел за гробом с однокашницей Лидией Петровной Бреславец. Обоим было тяжело: с Жегаловым уходил мир их юности, светлая пора студенчества и первых научных исканий. Лидия Петровна плакала, плакала о молодости Жегалова, о том, что этот подававший большие надежды ученый умер, не свершив и малой доли того, что задумал.
"И тут, — вспоминает Бреславец, — к моему изумлению, Николай Иванович убежденно произнес: "Ученый должен погибать рано. Крупному ученому и человеку не следует жить слишком долго".
"А Дарвин? — растерянно спросила Бреславец. — Ну, матушка, тоже сказала, Дарвин, — с грустной улыбкой ответил Вавилов, — другого-то Дарвина ведь нет…"
В 1927 году Николаю Ивановичу не исполнилось еще и сорока лет. Действительно ли он верил, что все ценное ученый дает миру только в молодости, а старость только окостенение, пустота, мучительное приближение к смерти? Думается, что в вавиловском парадоксе таится другая мысль. Как часто у гроба близкого мы думаем о себе!
Страстный, всегда увлеченный Вавилов на миг представил себе жизнь старца, бытие с холодным сердцем и умом. И ужаснулся. Нет, это ему не годилось. Вернувшись к той же теме в беседе с другим близким товарищем, Николай Иванович выразил надежду, что умрет мгновенно. Вот так споткнется и все… Он оказался скверным прорицателем. И хотя погиб Вавилов действительно молодым, но умирал он долго, тяжело, мучительно…
Его не расстреляли в подвалах Бутырской тюрьмы. Приговоренный к смерти получил отсрочку на полтора года. Благо? Для такого труженика, как Вавилов, восемнадцать с половиною месяцев — 565 дней — срок огромный. На свободе за такое время можно перечитать уйму литературы, написать не одну книгу, организовать несколько экспедиций, поставить множество опытов. А доклады, беседы с друзьями, учениками, семья… Пятьсот шестьдесят пять дней — это целое богатство. Клад! Но для тюремного узника клад, как в известной сказке, обернулся глиняными черепками. Мгновенная смерть от пули была заменена мучительным умиранием, унизительным и бесконечно долгим. И если с той или иной степенью достоверности можно указать людей, которые довели ученого до тюрьмы, и тех, которые вершили над ним неправедный суд, то найти конкретных виновников медленного убийства его в течение последних восемнадцати месяцев попросту невозможно. Это сделал сталинский режим, сталинско-бериевская машина уничтожения, система, которая ценность человеческой жизни довела до самого низкого стандарта, какой был известен в первой половине двадцатого века.
Впрочем, сначала перед смертником мелькнуло даже некое подобие надежды. Николай Иванович писал впоследствии Берии:
"Первого августа 1941 года, то есть три недели после приговора, мне было объявлено в Бутырской тюрьме Вашим уполномоченным от Вашего имени, что Вами возбуждено ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР об отмене приговора по моему делу и что мне будет дарована жизнь. Четвертого октября 1941 года по Вашему распоряжению я был переведен из Бутырской тюрьмы во Внутреннюю тюрьму НКВД и пятого и пятнадцатого октября я имел беседу с Вашим уполномоченным о моем отношении к войне, к фашизму, об использовании меня как научного работника, имеющего большой опыт. Мне было заявлено 15 октября, что мне будет предоставлена полная возможность научной работы как академику и что это будет выяснено окончательно в течение двух-трех дней" [231].
Что могли означать эти беседы? Очевидно, только одно: с Вавиловым готовились повторить "туполевский вариант". Уже с конца 20-х годов в стране стали возникать тюремные институты (заключенные называли их "шарашками"), где сначала десятки, а потом сотни инженеров, техников, ученых выполняли научные задания властей. В тюремных институтах проектировали и строили самолеты, конструировали боевое оружие. Ученые-арестанты производили математические и инженерные расчеты, связанные с индустриальным строительством; по заказам ОГПУ- НКВД экспериментировали в тюремных лабораториях химики, физики, бактериологи, строители военных самолетов и кораблей. Специалисты такого высокого класса, как академик Туполев, сидя в заключении, руководили целыми исследовательскими коллективами, которые опять-таки состояли из заключенных. "Шарашки" действовали и в тридцатых, и в сороковых, и в пятидесятых годах [232]. В секретных лабораториях, в глубокой тайне совершались порой открытия огромной научной важности, но им так же не суждено было влиться в поток свободной науки, как большинству открывателей стать свободными людьми. В начале войны и академика Вавилова решили определить в одну из таких "шарашек". Уполномоченные Берии, вероятно, имели задание выяснить не столько настроения ученого, сколько размеры той конкретной пользы, которую можно получить от живого Вавилова. Николай Иванович без труда разгадал планы тюремщиков. В тот момент он и сам не мог желать для себя большего. Жизнь и любимая работа — что еще может просить человек, приговоренный к смертной казни?
8 августа 1941 года Вавилов подал заявление на имя Берии:
"В связи с возбужденным Вами ходатайством о моем помиловании и отмене приговора Военной коллегии, а также учитывая огромные требования, предъявляемые всем гражданам Советского Союза в связи с военными событиями, позволяю себе ходатайствовать о предоставлении мне возможности сосредоточить работу на задачах, наиболее актуальных для данного времени по моей специальности — растениеводству. [Выделено везде Вавиловым. — М. П.]
1) Я бы мог закончить в течение полугода составление "Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям".
2) В течение 6–8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление "Практического руководства по селекции хлебных злаков применительно к условиям различных районов СССР".
Мне также близка область субтропического растениеводства, включая культуры оборонного значения, как тунговое дерево, хинное дерево и др., а также растения, богатые витаминами.
Весь свой опыт в области растениеводства, все свои знания и силы я бы хотел отдать полностью Советской власти и моей Родине, там, где я бы мог быть максимально полезен.
Николай Вавилов
8/VIII-1941 г.
Бутырская тюрьма, к[амера] 49." [233].
Прошел август, сентябрь, половина октября. Громоздкая и медлительная бюрократическая машина на Лубянке все еще не решила окончательно, убить ли Вавилова сразу или он может пригодиться. Возможно, что в конце концов машина пришла бы к разумному выводу, но вмешались непредвиденные обстоятельства.
15 октября 1941 года, когда посланец Берии в очередной раз явился в камеру Николая Ивановича с тем, чтобы продолжить собеседования о войне и фашизме, немецкие танки подступили к окраинам Москвы. Положение столицы стало критическим. Официальная пресса продолжала скрывать действительную обстановку на фронте, но слухи о близости немцев просочились в город. Утром 16 октября в Москве вспыхнула паника, жители устремились из города на Восток. В середине дня разладилась работа городского транспорта, кое-где начали громить магазины. Беспокойство усилилось еще больше после того, как учреждениям было приказано жечь архивы. Органы НКВД начали массовую эвакуацию заключенных. Академик Вавилов был среди тех тысяч обитателей Внутренней тюрьмы НКВД, Бутырок, Таганки, Лефортова, которых свезли на вокзалы для отправки в тюрьмы Саратова, Оренбурга и Куйбышева.
Мне удалось разыскать несколько бывших заключенных, которые провели эту осеннюю ночь на вокзальных площадях. Доцент Андрей Иванович Сухно вспоминает: "Нас привезли из Бутырок на Курский вокзал что-нибудь около полуночи. Стража с собаками оцепила всю привокзальную площадь и приказала нам стать на четвереньки. Накануне в Москве выпал первый снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растеклась по асфальту. Люди пытались отползать от слишком больших луж, но этому мешала теснота, да и стража, заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры. Сколько нас там стояло? Думаю, что не менее десяти тысяч, а может, и больше. По одежде и по внешнему облику все те, кого я видел ночью, с кем ехал потом в поезде, были московские интеллигенты. Так на четвереньках простояли мы часов шесть. Рассвело. На улицах стали появляться прохожие. Поднимать голову было настрого запрещено, но мы явственно слышали по своему адресу выкрики: "Шпионы! Предатели!"
Наконец подали вагоны, те самые "столыпинские", которые каждый русский знает по знаменитой картине Ярошенко "Всюду жизнь". На картине, как вы помните, арестанты через зарешеченное окно бросают хлебные крошки разгуливающим по перрону голубям. Идиллия! Ни о чем подобном мы, арестанты 1941 года, и помыслить не могли. Во-первых, потому, что в "купе", где царские жандармы возили пятерых заключенных, стража с красными звездами на фуражках набивала по 20–25 человек. Сидеть приходилось по очереди. От духоты и усталости люди теряли сознание" [234].
Доктор биологических наук Михаил Семенович Мицкевич, арестованный на пятый день войны, добавляет: "До Саратова поезд шел недели две. В дороге мы голодали так, что к концу пути стали настоящими скелетами".
Две недели ехал и Вавилов: пытка поездом закончилась для него только 29 октября.
В Саратове заключенных снова поставили на четвереньки, потом, раздевая догола, обыскивали и, наконец, после "санобработки" под душем с ледяной водой, развели по камерам. Вавилов попал в корпус номер три, где содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей. В 1941–1942 годах в третьем корпусе сидели: редактор "Известий" Ю. М. Стеклов, один из старейших коммунистов, основатель и первый директор Института Маркса Энгельса академик Д. Б. Рязанов, философ и литературовед, директор Института мировой литературы академик И. К. Луппол, писатель Михаил Левидов и много других коммунистов и некоммунистов такого же ранга.
Некоторые одиночки третьего корпуса были превращены в следственные камеры. Там приехавшие из Москвы следователи вели допросы. Из этих камер круглые сутки доносились удары и стоны избиваемых.
Сначала Вавилов сидел в одиночке. Здоровье его к январю 1942 года пошатнулось, но, по словам очевидцев, он все еще производил впечатление человека в высшей степени значительного, не сломленного голодом и тюремным режимом. Таким увидала его и Ирина Пиотровская, шестнадцатилетняя саратовская школьница, осужденная за "попытку организовать покушение на товарища Сталина".
"Я не могу точно назвать дату, но очень хорошо помню, что это было в январе 1942 года, — пишет она. — Увидела я его, вернее сказать, он со мной познакомился не в саратовской тюремной больнице, а во дворе Саратовской тюрьмы (3-го корпуса, так называемого "спецкорпуса" для политических заключенных). Нас поодиночке выводили из разных камер и собирали во дворе тюрьмы для отправки, как потом оказалось, в тюремную больницу. Говорю "как потом оказалось" потому, что система была такова: никто из заключенных не должен знать, куда его ведут или везут. Просто тюремный надзиратель открывал "кормушку" и объявлял: "Собирайся с вещами…" Душу наполнял ужас — такой вызов мог означать самое страшное… Когда вывели меня, во дворе уже лицом к забору стояли люди, держа руки назад. Меня тоже подтолкнули к этой группе, и я оказалась рядом с Николаем Ивановичем. Безусловно, в тот момент я не знала, кто стоит со мной рядом, и не старалась узнать, занятая своими переживаниями, страхом неизвестности, слезами и соплями. Вдруг я услышала очень спокойный голос: "Почему ты плачешь?" — и повернулась на него. Человек в черном пальто, очень худой, с бородкой и интеллигентным лицом сделал два шага в мою сторону. Я ответила, что очень боюсь, не знаю, куда повезут, что у меня все болит и я хочу домой. Он спросил меня, сколько мне лет и какая у меня "статья". Я ему все ответила, и он мне сказал: "Слушай меня внимательно и постарайся запомнить, ты наверно выживешь, запомни мое имя, я — Вавилов Николай Иванович, академик. А сейчас не плачь и не бойся, нас везут в больницу. Даже меня перед тем, как расстрелять, решили полечить… Я сижу один в камере смертников. Не забудь мое имя". Потом он еще рассказал мне анекдот про евреев, которые, когда их обложили непомерными налогами, сначала плакали, а затем, когда уже нечего было отдавать, начали смеяться… Вскоре нас всех втолкнули в "черный ворон" и повезли. Вся поездка заняла несколько минут, так как тюремная больница находилась на территории тюрьмы, только в другом корпусе, но попасть в нее можно было только через улицу. Из "ворона" нас высаживали по одному. Больше я Николая Ивановича не видела.
В больнице меня держали недолго, и когда я вернулась в камеру, то через некоторое время "по тюремному радио" (я имею в виду перестукивание, спускание "коня" и массу других средств связи между заключенными) услышала, что академик Вавилов умер в тюремной больнице… возможно, конечно, что "тюремное радио" — не самое Главное Бюро Информации, но в том, что я с ним встречалась в январе 1942 года, я абсолютно уверена" [235].
Тюремное радио на этот раз ошиблось. Николай Иванович из больницы вернулся. Но теперь он оказался не один. Многоэтажная и многокорпусная саратовская тюрьма номер один была в годы войны перегружена сверх всякой меры. Журналистка и врач Ангелина Карловна Pop вспоминает, что зимой 1942 года из-за тесноты заключенные спали только на боку [236]. Ночью, на нарах люди не могли перевернуться с одного бока на другой поодиночке, переворачиваться должен был весь ряд.
В душной спертой атмосфере камеры арестанты то и дело теряли сознание. В ответ на жалобы тюремное начальство после прибытия очередного эшелона загнало в одну из таких переполненных камер еще пятьдесят человек! Так было не только в "общих" корпусах, но и в "спецкорпусе". В подвале, в узкой каменной щели, которую в мирное время использовали, очевидно, как карцер-одиночку, Вавилов застал двух обитателей. Его соседями оказались академик Луппол и саратовский инженер Филатов, оба приговоренные к расстрелу.
Автора книг о французских энциклопедистах, философа И. К. Луппола арестовали почти одновременно с Вавиловым, судили их в Москве тоже в одно время, одинаковым был и приговор. Сорокачетырехлетний красавец, в советское время сделавший блестящую научную и служебную карьеру (в сорок лет академик, директор института), Иван Капитонович не переставал удивляться бедам, которые на него обрушились. Тем не менее тяготы тюрьмы сносил он стоически и товарищем оказался неплохим. Во всяком случае, третий обитатель камеры, Иван Федорович Филатов, говорил впоследствии, что счастлив оттого, что хоть в конце жизни, в тюремной камере повстречал таких душевных, отзывчивых и умных людей, как Вавилов и Луппол. Личность Филатова, саратовского уроженца, инженера по обработке дерева, нас интересует прежде всего потому, что именно он сохранил рассказ о жизни в камере смертников.
Как Филатов попал в тюрьму? Все, кто его помнит, говорят, что трудно представить человека более скромного и работящего. Должность в лесосплавной конторе занимал что ни на есть самую скромную и низкооплачиваемую. Но у этого работяги был с точки зрения властей серьезный изъян: дядя Филатова имел в Саратове до революции собственную лесную пристань. Ярлык "из бывших" был достаточным основанием для того, чтобы в первый месяц войны Филатова-племянника схватили как тайного врага Советской власти. Среди тринадцати арестованных по фальшивому "делу" был и молодой шофер Георгий Лозовский. Большинство "заговорщиков" никогда прежде в глаза друг друга не видели, но следователей это не смутило. Они неделями таскали арестованных на очные ставки, стремясь во что бы то ни стало сколотить "групповое дело". Шофер Лозовский, несмотря на побои и пытки, подписывать протоколы допросов не стал и был отправлен на фронт. Слабовольный и физически слабый Филатов лживые показания подписал, и в феврале 1942 года его приговорили к расстрелу. Пока апелляция ходила в Москву и обратно, прошло несколько месяцев, все это время Иван Федорович провел в камере смертников. Расстрел в конце концов заменили ему десятью годами лагерей, но к этому времени бедняга-инженер так ослаб и отощал, что его отпустили умирать домой, или, как тогда говорилось, "сактировали".
К весне 1944 года из трех обитателей камеры смертников не осталось в живых ни одного. Филатов на свободе прожил не дольше, чем Луппол, которого перевели в Мордовские лагеря. (В последнем письме из лагеря академик умолял жену прислать ему немного сухарей.) Вавилов погиб еще раньше. Вместе с этими троими должны были сойти в могилу им одним ведомые подробности жизни в тюремном подвале, их переживания, их разговоры в ожидании вывода на расстрел. Казалось бы, ничто не могло спасти от забвения судьбу трех смертников. И тем не менее произошло чудо, одно из тех маленьких чудес, которые во все времена мешали Злу безнаказанно утаивать свои преступления. Незадолго до смерти, уже находясь на свободе, Филатов встретил своего однодельца шофера Лозовского и рассказал ему все. Наконец, Лозовский солдат Советской Армии — мог погибнуть на фронте. Но случилось так, что Лозовский не погиб и ничего не забыл. В воскресенье 12 февраля 1967 года механик саратовского таксомоторного парка Георгий Матвеевич Лозовский принял в своем домике на окраине Саратова представителей Академии наук СССР и по их просьбе продиктовал на магнитную ленту то, что двадцать три года назад ему рассказал Филатов. Тайное стало явным.
"…Тысяча девятьсот сорок четвертый год. Январь или февраль. Приехал я в Саратов с фронта, в краткосрочный отпуск. В доме — холод, топить нечем. Вся семья, пять человек, в одной комнате. Пошел я в Волго-Камский лесосплав похлопотать о дровах. В конторе увидел я человека, которого сначала даже не узнал. Он сидел за столом, правой рукой доставал из ящика кусочки черного хлеба и с жадностью его жевал. Это был Иван Федорович Филатов, точнее — его тень. Подсел я к нему, завязалась беседа. Я был настолько потрясен его рассказом, что забыл, что моя семья сидит в холодной комнате: на дворе был крепкий мороз. Просидели мы с ним часов пять, а после работы я проводил его домой…"
Как же, по словам И. Ф. Филатова, выглядел "быт" смертников?
"…Камера была очень узкая, с одной койкой, прикованной к стене, окон не имела. Находилась эта камера в подвальном помещении тюрьмы. Тюрьму эту многоэтажную арестанты по сходству со знаменитым многопалубным кораблем, погибшим в Атлантике, звали "Титаник". В камере круглосуточно горела лампочка. Жара, духота. Температура доходила до тридцати градусов. Сидели потные. Одежду свою — холщовый мешок с прорезью для головы и для рук заключенные называли хитоном. На ногах лапти, плетенные из коры липы. Луппол говорил, что такую одежду носили рабы в Древнем Риме. Питание было трехразовое: две ложки каши и миска супа из тухлых помидоров соленых с кусочком ржавой селедки — обед и ложка каши на ужин. Кроме того, полагалось триста или четыреста граммов черного хлеба из ячменной муки. Передачи и приобретения для этой категории заключенных были запрещены. Все попытки жены Филатова помочь мужу оставались напрасными".
Оставим на минуту магнитофон. Сравним рассказ Филатова — Лозовского с тем, что вспоминает о тюремном питании в те же месяцы другой узник саратовской тюрьмы, преподаватель Московского университета А. И. Сухно: "Питание? Утром теплая водичка с солью вместо сахара. Хлебная пайка на сутки — триста граммов. Хлеб был, как правило, сырой, недоброкачественный. В обед получали мы баланду — болтушку из муки, откуда иногда удавалось выудить рыбью голову. Из-за этой "гущи" в камере то и дело вспыхивали ссоры и даже драки. На ужин давали похлебку из зеленых помидоров. И совсем уже редко заключенным доставался сахар: что-нибудь чайная или столовая ложка. Засыпали прямо в ладонь. Кашу и селедку давали только тяжелобольным по назначению врача" [237]. По всей видимости, "меню", описанное по личным впечатлениям Андрея Ивановича Сухно (он, как и Вавилов, сидел в третьем, "специальном", корпусе "Титаника"), более достоверно, нежели то, которое запечатлелось в памяти Лозовского.
Но, как говорится, не единым хлебом жив человек. Чем же занимались смертники в течение долгих месяцев пребывания в каменном мешке? Сухно вспоминает, что неинтеллигентные люди, даже очень здоровые, погибали в тюрьме подчас быстрее, чем те, кто находил занятие своему уму. Сам Сухно начал в камере сочинять стихи, хотя на свободе никогда стихотворством не занимался. Когда в его одиночку бросили еще одного узника, то они вдвоем договорились поголодать сутки, чтобы из сэкономленного хлебного мякиша смастерить шахматные фигурки. Доской служила расчерченная гвоздем столешница. Этой малости оказалось достаточно, чтобы два человека, беззаконно арестованные и отбывающие срок в условиях, каких мир не знал со времен инквизиции, успокоились, забыли о своих печалях и даже повеселели. Шахматная игра наполняла их жизнь несколько дней кряду, пока вновь подселенный третий арестант-доходяга не сожрал ночью всех коней, слонов и ферзей…
А Вавилов? Как ведет себя великий путешественник, загнанный в каменную щель, где двое должны прижиматься к стене, чтобы третий смог сделать несколько свободных шагов? Чем занят ученый-интеллектуал, книгочей и книголюб, у которого тюремщики отняли все виды духовной пищи? Включаем магнитофон. Голос у Георгия Лозовского медленный, глухой, почти лишенный интонаций. Кажется, сама история вещает из глубины десятилетий.
"Вавилов навел дисциплину в камере. Ободрял своих товарищей. Чтобы отвлечь их от тяжелой действительности, завел чтение лекций по истории, биологии, лесотехнике. Лекции читали по очереди все трое. Читали вполголоса, при громком разговоре вахтер открывал дверь или смотровое окно и приказывал разговаривать только шепотом. На койке спали в порядке очереди двое. Третий дремал за столом, прикованным к стене и к полу камеры. Так проходил день за днем: утром после завтрака лекции, потом отдых, обед, снова лекции до ужина и сон. В этих условиях Вавилов держался очень стойко, и суровая действительность на него как будто и не действовала…"
То, что Николай Иванович был бодр и прочитал в камере сто один час лекций по биологии, генетике, растениеводству, подтверждает и другой знакомый И. Ф. Филатова, саратовский агроном Н. И. Оппоков [238]. Московский бухгалтер Н. С. Пучков [239], также сидевший во время войны в саратовской тюрьме, слышал от одного из заключенных, который зимой 1941 года несколько дней провел в камере с Николаем Ивановичем, что академик был настроен оптимистически, в будущее глядел с надеждой, много и очень интересно рассказывал о путешествиях в дальние страны. Виновником своего ареста Вавилов называл Лысенко.
Академик Лысенко? Не ошибается ли бухгалтер Пучков? Не смешивает ли события различных исторических эпох?
Включаем магнитофонную запись:
"Николай Иванович… очень беспокоился за судьбу своих учеников. Их было, выдающихся, четыре человека (фамилии я забыл). Он говорил, что это будущая слава нашей родины. В своих высказываниях о Лысенко Трофиме Денисовиче говорил, что это аферист от науки, который вводит в заблуждение наше правительство ради своей карьеры и властолюбия. Объясняя в своих лекциях в камере теорию гомологических рядов, он сопоставлял эту теорию с авантюристскими опытами Лысенко, которые могут принести неисчислимый вред сельскому хозяйству, растениеводству и животноводству родины. Николай Иванович был убежден, что он — жертва этого афериста от науки".
Бухгалтер Пучков не ошибся…
О чем еще говорили между собой смертники?
"В тысяча девятьсот тридцать шестом — тридцать седьмом годах, когда Сталин выдвинул лозунг о достижении валового сбора зерна 5–6 миллиардов пудов, он, Вавилов, выпустил статью в журнале "Вестник социалистического земледелия", где приводил примеры, когда старая Россия, по данным земства, собирала по 10–13 миллиардов пудов зерна. Вавилов считал, что при современной технике мы должны собирать не меньше. После опубликования этой статьи его как президента Академии [тут Лозовский ошибается, Вавилов с 1935 года был не президентом, а вице-президентом ВАСХНИЛ. — М. П.] вызвал в Кремль Молотов. Во время беседы в кабинет через боковую дверь вошел Сталин. Не здороваясь с присутствующими, Сталин произнес: "Академик Вавилов, зачем вам нужны пустые фантазии? Помогите нам получить устойчивый урожай в 5–6 миллиардов пудов. Нам этого достаточно". И, дымя своей трубкой, не попрощавшись, Сталин вышел из кабинета Молотова" [240].
И еще один рассказ запечатлелся в памяти однокамерников Вавилова.
"Перед самым арестом в 1940 году Николай Иванович был вызван в Кремль. Он не знал, кто его пригласил, просидел 10–12 часов и не был никем принят. Сопоставляя первый и второй эпизоды в Кремле, он понял, это начало конца.
…В камере смертников пробыл Вавилов в общей сложности около года. За это время обитателей тюремного подвала ни разу не вывели на прогулку. Им было запрещено переписываться с родными, получать передачу. Их не только не выпускали в баню, но даже мыло для умывания в камере было им "не положено". О книгах и говорить нечего…
Несколько раз Вавилов обращался к начальнику тюрьмы: просил облегчить режим; выяснить его дальнейшую судьбу, ведь Берия через своих посланцев обещал ходатайствовать о помиловании. На все просьбы старший лейтенант Ирашин отвечал коротко: "Пришлют из Москвы бумагу — расстрелять, расстреляем; скажут — помиловать, помилуем". Начальник тюрьмы не обманывал своего узника: по бумагам приговоренный к высшей мере наказания академик все еще оставался "за Москвой" и только Москва могла решить, что с ним делать. К весне 1942 года, однако, состояние Вавилова настолько ухудшилось (он тяжело заболел цингой), что даже исполнительный служака Ирашин смилостивился: смертнику разрешили написать письмо Берии.
Письмо это — густо исписанный с обеих сторон большой лист с датой 25 апреля 1942 года — видел я в первом томе следственного дела № 1500. Рядом в дело был вшит экземпляр, специально перепечатанный для Берии. В обращении к "глубокоуважаемому Лаврентию Павловичу" академик Вавилов повторяет историю своего ареста, напоминает, что "на суде, продолжавшемся несколько минут, в условиях военной обстановки", им, Вавиловым, "было заявлено категорически о том, что это обвинение [измена родине и шпионаж. — М. П.] построено на небылицах, лживых фактах и клевете, ни в какой мере не подтвержденных следствием". Далее Николай Иванович напоминает о тех беседах, что вели с ним посланцы Берии в Бутырской и Внутренней тюрьме НКВД. Но главное в письме — мольба о возвращении к труду. Пусть не на свободе, пусть за решеткой, где угодно, только бы работать. "Мне 54 года, имея большой опыт и знания, в особенности в области растениеводства, владея свободно главнейшими европейскими языками, я был бы счастлив отдать их полностью моей родине, умереть за полезной работой для моей страны. Будучи физически и морально достаточно крепким, я был бы рад в трудную годину для моей родины быть использованным для обороны страны по моей специальности, как растениевода в деле увеличения производства растительного продовольственного и технического сырья…" И снова: "Прошу и умоляю Вас о смягчении моей участи, о выяснении моей дальнейшей судьбы, о предоставлении работы по моей специальности, хотя бы в скромнейшем виде (как научного работника растениевода и педагога)…"
О тяготах пребывания в камере смертников пишет Николай Иванович коротко, в трех строках. А между тем весной 1942 года тяготы эти достигли, кажется, предела того, что способен вынести человек. По тюрьме прокатилась эпидемия дизентерии. Кровавый понос убил несколько сот человек, в том числе бывшего главного редактора "Известий" Стеклова и директора Института марксизма-ленинизма Рязанова (заключенная А. К. Pop видела, как солдат тюремной стражи выволакивал из камеры умирающего Стеклова). Жестоко переболел дизентерией и Вавилов. Но и это испытание было для него не последним.
"Наша камера, — рассказывает бывший заключенный А. И. Сухно, находилась напротив камеры смертников. От расположенного ко мне надзирателя я еще раньше узнал, что там сидят академики Вавилов и Луппол. Знал я и то, что приговоренных к расстрелу обычно не допрашивают и не бьют. Между тем из камеры напротив каждое утро раздавались страшные крики. Там явно происходили какие-то побоища. Вертухай [так заключенные называли стражников. — М. П.] объяснить причину этих криков не хотел. Но я все-таки узнал, в чем дело. К нам в камеру попал приговоренный к смертной казни некий Несвицкий, преподаватель истории Древнего Востока. Этот Несвицкий (по его словам, на лекциях "беспартийно описывал египетских фараонов") прежде сидел несколько дней с Вавиловым. Он рассказал, что к двум академикам подсадили какого-то умалишенного, который отнимает у них утреннюю пайку хлеба. Остаться без хлеба в тех условиях — верная смерть. Луппол и Вавилов, естественно, пытались справиться с безумным, но тот пускал в ход кулаки и зубы и не раз выходил из этой "битвы за хлеб" победителем" [241].
Есть в письме, адресованном Берии, еще одно требующее пояснения место. Николай Иванович просит разрешить ему повидаться с семьей или хотя бы что-нибудь узнать о родных, жене Елене Ивановне Барулиной, сыновьях Олеге и Юрии, а также брате Сергее — не имел он вестей полтора года. Что с ними происходило? Не отразилось ли родство с "врагом народа" на их судьбе? Теперь мы знаем: директор Государственного оптического института академик С. И. Вавилов никаким преследованиям за брата не подвергался. Почти не коснулась беда и сыновей Николая Ивановича. Правда, за время ученья двум юношам не раз напоминали об их "злодее"-отце, но защита дяди-академика позволила Олегу и Юрию довольно спокойно закончить физико-математический факультет Московского университета. Впоследствии Юрий Вавилов получил возможность защитить кандидатскую диссертацию. Хуже всего пришлось Елене Ивановне Барулиной. Во время войны она эвакуировалась из Ленинграда на родину в Саратов и там поселилась у своей сестры-учительницы. На работу доктора сельскохозяйственных наук Барулину не брали. Жила она на средства, что посылал ей Сергей Иванович. Селекционер из Днепропетровска И. С. Чернобривенко, встретивший Барулину в Саратове летом 1942 года, вспоминает, что выглядела жена Вавилова до крайности истощенной, одета была нищенски. О том, что муж ее сидит тут же в Саратове, Елена Ивановна не знала. Из скромных средств, что удавалось собрать, готовила продуктовые посылки, которые отправляла в Москву. Посылки исчезали в недрах громадного механизма НКВД. Что с ними там делали — бог весть, всесильное ведомство не удостаивало родственников своих жертв никакими объяснениями. А между тем, попади хоть часть этих продуктов в руки тому, кому они предназначались, кто знает, может быть, Николай Иванович пережил бы страшную зиму 1943 года.
В начале той зимы Елену Ивановну вызвали в "серый дом" — Саратовское управление НКВД. По воспоминаниям сестры ее, Полины Ивановны Барулиной [242], шла она туда с едва скрываемым ужасом: ей казалось, что власти готовятся арестовать сына Юру, которому не исполнилось еще и пятнадцати. О сыне работники госбезопасности не вспоминали, зато настойчиво выспрашивали, где и когда Барулина видела в последний раз своего мужа академика Вавилова, что она о нем знает. О том, что Николай Иванович умер, о том, что находился он все эти месяцы здесь же в Саратове, ей так и не сказали. Об этом Елена Ивановна узнала более чем через год…
Но мы забежали вперед. Вернемся к письму, которое в последних числах апреля или в начале мая 1942 года секретная почта доставила из Саратовской тюрьмы в высшее святилище государственной безопасности — на площадь Дзержинского в Москве. В отличие от сотен тысяч подобных посланий, адресованных заместителю Председателя Совнаркома, народному комиссару внутренних дел СССР, это письмо очень скоро попало в руки Берии. Больше того, не кто иной, как Берия распорядился отменить Вавилову смертный приговор. Команды сталинского любимца было достаточно, чтобы скрипучая бюрократическая телега вдруг стремительно заработала всеми своими колесами. 13 июня заместитель народного комиссара внутренних дел Меркулов обратился к председателю Военной коллегии Верховного суда СССР Ульриху со специальным письмом. Касаясь судьбы Луппола и Вавилова, он писал:
"Ввиду того, что указанные осужденные могут быть использованы на работах, имеющих серьезное оборонное значение, НКВД СССР ходатайствует о замене им высшей меры наказания заключением в исправительно-трудовые лагери НКВД сроком на 20 лет каждого.
Ваше решение прошу сообщить." [243].
Внешне все выглядело в точном соответствии с буквой закона: органы следствия просят суд пересмотреть вынесенный ранее приговор. Такой демарш юридически правомерен. Ведь после осуждения преступника следствие могло получить неизвестные прежде факты, способные изменить точку зрения суда. Но в данном случае, формально прибегая к законности, органы НКВД, по существу, цинично попирали закон. Точно так же, как год назад они передали в суд дело Вавилова, не доказав за время следствия ни одного пункта обвинения, так теперь требовали от суда нового приговора, опять-таки не представляя никаких доказательств, никаких новых фактов. Содержание письма Меркулова к Ульриху в чистом виде сводится к тому, что осужденные академики, ежели их не расстреливать, могут, пожалуй, еще пригодиться. С юридической точки зрения такой аргумент следует считать абсурдным и беззаконным. Но военную немизиду "объяснение" замнаркома Меркулова вполне удовлетворило. Лаврентию Павловичу понадобились два академика? Армвоенюрист Ульрих почтительно щелкнул каблуками. Отменить Вавилову высшую меру наказания? Пожалуйста. Двадцать лет каторги? Сколько прикажете…
С такой же кинематографической быстротой действовал и Президиум Верховного Совета Союза ССР. Высший орган государственной власти, отказавший академику Вавилову сохранить жизнь в июле 1941 года, с такой же твердостью принял теперь прямо противоположное постановление [244]. Вопрос о том, убивать или не убивать академика Вавилова, стоял в повестке дня заседания Президиума Верховного Совета СССР 23 июня 1942 года по счету 325-м. На разрешение его представителям власти понадобилась едва ли одна минута, минута, которую Николай Иванович ждал в тюрьме одиннадцать месяцев и пятнадцать дней.
…На нашем веку советская пропаганда долго и настойчиво призывала писателя к оптимизму. Прислушаемся к ее зову. Правда, история моего героя оставляет сравнительно мало места для светлых картин и радостных выводов, но я согласен: не надо лишних ужасов. К чему крики о бесчеловечности, беззакониях? Разве чехарда в Верховном суде и Президиуме Верховного Совета не пошла на благо двум саратовским узникам? Если бы, чего доброго, тюремщики стали вдруг действовать строго по букве закона, наш герой не дожил бы и до осени 1941 года… Конечно, пессимисты подхватят эту мысль и, вероятно, станут даже иронизировать: дескать, всеобщее и массовое несоблюдение законов в известные исторические периоды — единственное спасение для гражданина. Отринем мрачных очернителей. Вообразим душевное состояние двух академиков из камеры смертников в то летнее утро, когда до них дошла наконец весть о спасении. Какое им дело до законов, до своеволия Берии, до высшей, черт побери, справедливости!
Впервые за год для них рассеялся кошмар ожидания казни. Исчез тайный ужас перед каждым неурочным шумом в тюремном коридоре, перед каждым поворотом ключа в дверном замке. О, это надо пережить самому, иначе не поймешь человека, который счастливо хохочет, услышав о приговоре — двадцать лет каторги. Я уверен: такой природный оптимист, как Николай Иванович, конечно же, радостно рассмеялся, дочитав в тюремной канцелярии прибывшую из Москвы бумагу. Рассмеялся тем удивительным светлым вавиловским смехом, который и по сей день не могут забыть сотни его друзей и учеников. Он был полон самых радужных надежд: "Настоящее постановление мне объявлено 4 июля 1942 года". А как же иначе? В роковой для страны час его, Вавилова, призвали помочь Родине, призвали как растениевода, как ученого. Великолепно! Будьте уверены, он не опозорит свою науку. Станет работать как проклятый — день и ночь. Соберет вокруг себя лучшие агрономические силы. Они увидят, на что он способен… Его пошлют, очевидно, в один из сельскохозяйственных лагерей НКВД. Может быть, в Балашов. Все равно куда. Хотя лучше было бы попасть в знаменитый лагерь-совхоз Долинский под Карагандой. Там с начала 30-х годов перебывала не одна тысяча агрономов, физиологов, агрохимиков, селекционеров. В казахских степях есть где развернуться ученому-растениеводу, есть на кого опереться…
Привожу этот монолог, хотя не сохранилось никаких свидетельств о том, что, получив новый приговор, Вавилов смеялся или выражал какие бы то ни было надежды. Да, не сохранилось. И все-таки я не возьму этих слов назад. Николай Иванович — мысленно или вслух — мог произнести любые другие фразы, но смысл их мог быть только один: ученый жаждал работы, мечтал вернуться к науке, ибо наука была той ареной, где — он знал — он победит любого врага, отстранит от себя все и всяческие наветы.
В то лето, лето 1942 года, казалось, что мечтам недавнего смертника действительно суждено сбыться. Вавилова и Луппола из подвала перевели в общую камеру на первом этаже. Там было так же голодно и так же тесно, зато арестантов выводили на прогулку (десять минут кружения по асфальтовому дну красного кирпичного колодца), им полагалась баня, а владельцы денежных сумм могли даже купить в тюремном ларьке пучок зеленого лука или пачку махорки. Вскоре отправили в лагерь Луппола. Это тоже выглядело как хорошая примета: по традиции, обитатели тюрьмы считали лагерь местом более сытным и менее гибельным. Вавилов ждал, что и его со дня на день отправят на этап. Но проходили недели, месяцы, миновало лето, потом осень, а он все еще оставался в камере. Что случилось? Почему не осуществлялся план, полезный для государства и благодатный для заключенного? Забыл ли Берия про свой замысел или снова вмешались силы, ненавидящие Вавилова? Это остается тайной. Среди десятка людей, которые видели Николая Ивановича в Саратовской тюрьме или слышали о нем от других заключенных, я не нашел ни одного, кто был с ним между июлем 1942 и январем 1943 года. Пятьдесят седьмая камера не велика (сейчас в ней содержат трех заключенных), но во время войны там сидело не меньше десяти-пятнадцати человек. Живы ли вы — однокамерники Николая Вавилова? Если живы — отзовитесь, расскажите конец трагической биографии своего товарища. Пока известно только одно — академик Николай Иванович Вавилов умер в тюремной саратовской больнице 26 января 1943 года. Официальный документ о смерти (копия его хранится в следственном деле) гласит:
АКТ о смерти заключенного
Мною, врачом (лекпомом) Степановой Н. Л., фельдшерицей Скрипиной M. Н. осмотрен труп заключенного Вавилова Николая Ивановича, рожд. 1887 г., следственный ст. осужденный ст. 58 на 20 лет, умершего в больнице (камере) тюрьмы № 1 г. Саратова 26 января 1943 года в 7 час.
Причем оказалось следующее: телосложение правильное, упитанность резко понижена, кожные покровы бледные, костномышечная система без изменений.
По данным истории болезни, заключенный Вавилов Николай Иванович находился в больнице тюрьмы на излечении с 24 января 1943 г. по поводу крупозного воспаления легких.
Смерть наступила вследствие упадка сердечной деятельности.
Дежурный врач (лекпом): Степанова
Дежурная медсестра: Скрипина
Когда читаешь этот документ в первый раз, кажется, что он свидетельствует лишь о несчастном случае. Пожилой мужчина, очевидно, не очень хорошо одетый, охладился (вероятно, во время прогулки) и заболел воспалением легких. В доантибиотиковую пору болезнь эта по справедливости считалась опасной; для пожилого человека, пробывшего в тюрьме два с половиной года, — тем более…
Но чем дольше я вчитываюсь в скупые строки акта, тем более странным кажется мне его содержание. Не в том даже дело, что до меня дошли слухи о расстреле Николая Ивановича в августе 1942 года, когда в связи с критической ситуацией под Сталинградом, грозившей его падением, в тюрьмах "на всякий случай" убивали наиболее заметных заключенных. Для историка слух не может быть предметом серьезного обсуждения. Но в самом документе о смерти проглядывают обстоятельства явно сомнительные. Николай Иванович находился в больнице тюрьмы на излечении с 24 января 1943 года. Значит, смертельная болезнь продолжалась всего два дня? Путешественник, который верхом и пешком проделывал по семьдесят километров в сутки, альпинист, без труда поднимавшийся на пятикилометровые высоты Гиндукуша и Андов, человек, который в голодных переходах по пустыне мог неделю питаться одной сухой саранчой, — неужели такого крепыша пневмония свалила за два дня? Правда, авторы акта не скрывают: Вавилов истощен, "упитанность резко понижена". И все-таки.
Пишу саратовским селекционерам, прошу разыскать Скрипину и Степанову.
Пока саратовцы ищут, в Москве удается найти горного инженера Виктора Викентьевича Шиффера. Шиффер провел в тюрьме четырнадцать лет: с 1941-го по 1955-й. Статья 58-я. 15 октября 1941 года его, как и Вавилова, прямо с Лубянки отправили поездом в Саратов. Ехали долго, голодали, зато в хорошем обществе: в купе из шестнадцати человек одиннадцать — генералы авиации. Да какие! Смушкевич, Кленов, Таюрский, дважды Герой Советского Союза Птухин. Остальные пассажиры — тоже не шушера какая-нибудь: директор московского завода "Динамо", директор Ковровского авиационного завода… Инженер Шиффер претерпел те же муки, что и Николай Иванович, с той лишь разницей, что сидел не в камере смертников, а в общей. В январе 1943-го попал он в больницу, где на соседней кровати умирал старый профессор, специалист по южным растениям Арцыбашев. Из разговора санитарок Арцыбашев узнал, что в соседней палате лежит Вавилов. Когда-то в двадцатые годы в Петрограде два профессора не очень-то ладили между собой, но здесь, на пороге смерти, профессор Арцыбашев обрадовался, услышав знакомое имя. Он стал расспрашивать санитарок, что с Вавиловым, и тут Шиффер услыхал короткий, но впечатляющий рассказ о последних днях великого путешественника.
Академик лежал в одной палате с бывшим главным редактором "Известий" Стекловым. У обоих была дизентерия, а скорее, просто голодный понос. Когда начальник тюрьмы обходил палаты, Вавилов просил дать им со Стекловым стакан рисового отвара. Начальник разгневался:
"Ишь, чего захотели! Раненым бойцам на фронте риса не хватает, а я буду рис государственным преступникам скармливать…"
Больше о Вавилове Шиффер ничего не слышал. Через сутки умер Арцыбашев, очевидно, в те же дни не стало и Вавилова. На койках тюремной больницы пациенты сменялись часто [245].
Письмо из Саратова. Пишет медсестра Скрипина. Письмо длинное и сбивчивое. Работала она в тюрьме, находилась на дежурстве, вот ее и заставили подписать акт о смерти. А знает этого Вавилова, наверно, доктор Степанова, которая пребывает ныне на заслуженном отдыхе и живет в Саратове на улице Горького.
Пишу врачу Наталье Леонтьевне Степановой. Ее ответ — самое короткое почтовое сообщение, какое я когда-либо получал. Вот он в точной транскрипции: "Я НЕ ЧИГО НИ ПОМНЮ. СТЕПАНОВА". Грустно… Если уж врач не помнит больного, который скончался у него на руках, то кто же помнит?..
И все-таки мы с учеником Вавилова профессором Фатихом Бахтеевым решаем ехать в Саратов. Вдруг удастся найти свидетеля или свидетельство, относящееся к последним дням ученого? Командировку предоставила нам Комиссия по сохранению и разработке наследия академика Н. И. Вавилова при Отделении общей биологии АН СССР. Председатель комиссии академик Сукачев сформулировал задачу предельно точно: в связи с предстоящим празднованием 80-летия Николая Ивановича установить, как юбиляр умер и где похоронен.
Начальник Управления охраны общественного порядка Саратовской области комиссар милиции третьего ранга Демьян Гаврилович Дегтярев любезно принял членов академической комиссии в своем огромном кабинете. Генерал красив, даже величествен. Улыбка его лучезарна. Да, да, про Вавилова он слышал. Большой ученый. Комиссия может рассчитывать на полную поддержку Управления охраны общественного порядка (УООП). В архивах будут произведены необходимые розыски, члены комиссии могут встретиться со всеми сотрудниками тюрьмы, которые были связаны с этим заключенным.
Однако уже в кабинете Дегтярева нас постигло первое разочарование: оказывается, тюремное "личное дело" Вавилова по истечении сроков хранения уничтожено. Мы приуныли. Может быть, сохранилась история болезни? Ведь, если верить акту о смерти, Николай Иванович умер в больнице… Генерал обещал: история болезни будет разыскана. На другой день мы являемся к подполковнику А. М. Гвоздеву, которому поручены розыски. Подполковник (он сидит в кабинете куда более скромном, чем генеральский, и улыбка его напоминает просвет в хмурых зимних облаках) считает наш приезд в Саратов бессмысленным. "Личное дело", как нам уже говорили, сожжено, установить дату и причину смерти академика Вавилова невозможно. Безнадежно искать и его могилу. Высказав эти соображения, подполковник начинает обстоятельно и длинно рассказывать о том, как дурно документировалась смерть заключенных прежде и как хорошо это делается теперь, когда за регистрацией наблюдает он сам, подполковник Гвоздев. Выслушав тираду до конца, мы понимаем только одно несмотря на приказ начальства, Гвоздев не желает открывать нам правду о смерти Вавилова. Почему? Это выясняется несколько дней спустя. Единственный важный факт, который удалось вынести из беседы, состоял в том, что Вавилов не был расстрелян. В сохраняемой с давних пор прошнурованной книге казненных его фамилия не значится. Прощаясь, Гвоздев еще раз советует нам вернуться в Москву. Но, поскольку мы упрямимся, соглашается вызвать к себе сотрудников, работавших в тюрьме в 1942–1943 годах, и опросить, что им известно о Вавилове.
Прошло еще три дня. Мы успели записать на пленку рассказ шофера Лозовского, объехали родных и знакомых Филатова, побывали у сестры Елены Ивановны Барулиной. Управление ООП безмолвствовало. Не нужно было обладать слишком большой проницательностью, чтобы понять: приезд членов комиссии переполошил "серый дом". С одной стороны, Академия наук, привезенное нами специальное письмо министра ООП генерала Щелокова, но с другой стороны… Телефонный звонок с приглашением зайти к подполковнику Гвоздеву последовал только на четвертый день. Хозяин кабинета на этот раз выглядел еще более хмурым. Но теперь мы могли полностью игнорировать его недовольство: на зеленом сукне подполковничьего стола лежало то, ради чего мы приехали в Саратов, — документы о смерти Вавилова. Несколько пожухлых страничек из архива тюремной санчасти во всех подробностях восстанавливали трагические события четвертьвековой, давности…
Первый, совсем крохотный листок бумаги (не больше тех, что в годы войны служили для свертывания махорочной цигарки) является рапортом тюремной фельдшерицы. Утром 24 января 1943 года она известила начальника тюрьмы о болезни заключенного Вавилова Н. И. из 57-й камеры третьего корпуса. Начальник разрешил перевести больного в лазарет. Следующая бумага, скрепленная треугольной печатью и подписями, представляла собой выписку из протокола № 137.
"1943 года января 25-го дня, комиссия врачей больницы НКЗ при Саратовском изоляторе с/п [следственно-пересыльном? — М. П.] в составе: председателя начальника тюрьмы ст. лейтенанта тов. ИРАШИНА u членов врачей — ст. санинспектора Т. О. [тюремного отдела? — М. П.] ТУРЕЦКОГО, начальника санчасти ТВЕРИТИНА u врача ТАЛЯНКЕРА
Освидетельствовали: ВАВИЛОВА Николая Ивановича, 1887 года рождения.
Жалобы свидетельствуемого: Жалобы на общую слабость.
Объективные данные: Истощение, кожные покровы бледные, отечность на ногах. Находится в больнице.
Диагноз: Дистрофия, отечная болезнь.
Постановление комиссии: Подходит под перечень болезней пункт № 1".
Члены комиссии не покривили душой, они записали то, что видели: до предела истощенный арестант умирал от дистрофии. Последняя формула означала: такой больной действительно имеет право находиться на больничной койке. Надо полагать, сам факт составления протокола означал, что Вавилова доставили в лазарет умирающим. Непонятно только, что за "отечную болезнь" открыли саратовские тюремные эскулапы. При длительном белковом голодании (это обязан знать каждый врач и даже фельдшер) на теле истощенного образуются голодные отеки. В последней стадии дистрофии больной уже не в силах усвоить пищу, профузный понос обезвоживает и истощает его все больше и больше. Картина болезни ясна как божий день. И тем не менее в третьем по счету архивном документе диагноз вдруг претерпевает странную метаморфозу. В истории болезни Н. И. Вавилова, в графе "Окончательный диагноз", рукой врача Степановой вписано: "Крупозное воспаление легких и энтерит". Вот она, наконец, разгадка "скверной памяти" доктора Степановой и хмурого настроения подполковника Гвоздева. Степанова фальсифицировала историю болезни. Очевидно, она это делала не в первый и не в последний раз А Гвоздеву начальство приказало открыть посторонним эту подделку. Скандал!
Через четыре дня после смерти Николая Ивановича тело его подвергли вскрытию. Вскрывала "согласно устного предложения начальника санчасти Саратовской тюрьмы № 1" судебно-медицинский эксперт Резаева. В акте вскрытия она записала: "Труп мужчины на вид 65 лет [в действительности Вавилову лишь недавно исполнилось 55], роста среднего, телосложения среднего, питание резко понижено, кожа бледная, подкожная клетчатка отсутствует…" Глядя на эту жертву голода, нетрудно, казалось бы, установить подлинную причину смерти. Но эксперт Резаева хорошо знала, чего ждет от нее начальство. В полном соответствии с "диагнозом" Степановой она записала: "Смерть Вавилова последовала от долевой бронхопневмонии…" [246]
Пока мы с профессором Бахтеевым читали архивные документы и сопоставляли необъяснимо противоречивые факты, подполковник Гвоздев сидел как на угольях. Назавтра, однако, его ожидали еще более неприятные переживания. В десять утра в его кабинете члены комиссии АН СССР встретились с врачом Натальей Леонтьевной Степановой и медицинской сестрой Марией Николаевной Скрипиной. Не скрою: мы шли на встречу с интересом и даже с некоторым волнением. Ведь эти двое — последние, кто видел живого Вавилова, последние, кого он видел. Может быть, умирая, Николай Иванович что-нибудь передал на волю. Прошептал на смертном одре чье-то имя, обратился к медикам с последней просьбой? Мне, правда, помнилось странное письмо доктора Степановой. Но, может, при личной встрече…
Гвоздев представил нам собеседниц. Маленькие, раздавшиеся в ширину, неумело накрашенные старухи в дорогих платьях как по команде протянули ладони лодочкой. Мне показалось, что я где-то уже встречал их, а скорее всего видел точно таких же — на рынке, в очереди, на скамеечке вечером возле дома. Старухи перешептывались, перекидывались между собой какими-то беззаботными шуточками, но позы у них были скованные. Будто ища опоры, врач вцепилась в локоть медсестры. Держась друг за друга, они присели наконец на самые краешки стульев, что выстроились вдоль крытого сукном стола заседаний. Мы с профессором Бахтеевым — напротив; Гвоздев за своим письменным столом — сбоку.
Некоторое время шел общий разговор; стороны приглядывались друг к другу, пытались понять, чего можно ожидать от противника. То, что мы противники, стало ясно после первых же слов. Нас поразил равно неинтеллигентный язык медсестры и врача. Наверное, так — манерно и одновременно вульгарно — разговаривают базарные торговки, ненароком приглашенные к губернаторскому столу. В манерах смесь самоуверенности и страха. Ну что же, и это понять нетрудно. Тут их дом, дом, где они прожили свой век, верой и правдой выслужили свои высокие пенсии и почтенное общественное положение. Конечно, ради этого пришлось совершить много такого, о чем сегодня лучше не вспоминать. Но что было, то было. Под защитой этих толстых кирпичных стен все их прегрешения должны сгинуть и рассыпаться. Таковы правила игры. Отчего же вдруг вытащены на зеленое сукно эти опасные бумаги? Почему товарищ Гвоздев позволяет посторонним совать нос в тайное тайных, в тюремную кухню, смотреть туда, где навеки должна сохраняться тьма забвения? Доктор Степанова и медсестра Скрипина отвечают на наши вопросы церемонно-надменными улыбками, но старые одутловатые лица не слушаются, они выдают — старухам сейчас неспокойно и страшно. Академик Вавилов? Нет, доктор Степанова не помнит такого: "Их было много!" Подпись на истории болезни номер одиннадцать — ее. Но составляла документ не она. Кто? Доктор Пичугина, ныне Кузнецова. Почему один составлял историю болезни, а другой подписывал? Пожимает плечами: "Дело давнее". Я спрашиваю Степанову, почему в истории болезни Николая Ивановича Вавилова значится диагноз пневмония крупоза, тогда как в протоколе № 137, составленном на день раньше, стоит дистрофия! Спрашиваю, какой смысл брать у истощенного, умирающего человека кровь для анализа на РОЭ и мокроту на ВК (туберкулез)? Может быть, кровь и мокроту не брали, а запись сделана просто так, для порядка? Ответы невразумительны, сбивчивы. Степанова не владеет медицинской терминологией. Врач ли она? С 1923 года работала в тюрьме фельдшером, с 1936-го — врачом. "Как и где вы получили высшее образование?" Отвечает: "Заочно". Опять ложь. В тридцатые годы заочных факультетов в мединститутах не было. Маленькие черные глазки Натальи Леонтьевны с мольбой обращаются к подполковнику Гвоздеву. Но Гвоздев насупленно молчит. Всем своим видом он как бы заявляет: "Выкручивайтесь сами. Я из другого поколения. К вашим старым делам отношения не имею". Еще несколько вопросов. В ответ — мешанина лжи и профессиональной неграмотности. Говорить больше не о чем. Профессор Бахтеев пытается сфотографировать Степанову и Скрипину, но старухи заслоняют лица руками: они не настолько тщеславны, чтобы оставлять потомству свои портреты…
Еще две встречи, которые, впрочем, мало что добавляют к известной картине. Улица Вольская… Здесь в добротном доме дореволюционной постройки живет Ольга Вениаминовна Кузнецова (Пичугина). Это она вечером 24 января 1943 года начала составлять историю болезни Николая Ивановича Вавилова. В просторной, хорошо обставленной комнате, за ломберным лакированным столиком сидит еще одна старая дама. Выглядит она под стать своей квартире: ухоженная, со вкусом одетая. Вавилова не помнит, но знает: такой в тюрьме был. Имя ученого прозвучало для нее с новой силой, когда в журнале "Новый мир" она прочитала очерк "Русская пшеница". "Страшно подумать — какие люди погибали!" Ольга Вениаминовна вспоминает, чем кормили во время войны заключенных, месяцами — болтушка из муки да мороженая капуста. Она имела возможность подкормить, спасти кое-кого из заключенных, но эти несчастные чаще всего попадали в больницу в таком состоянии, что уже через несколько часов погибали от истощения сердечной мышцы. Доктор Пичугина подтверждает: смерть Вавилова — прямое следствие дистрофии.
Идем на улицу Челюскинцев. Судебно-медицинский эксперт Зоя Федоровна Резаева вынуждена принимать гостей лежа в постели: она перенесла воспаление легких. Мы просим извинить за несвоевременное вторжение. Неудобно, конечно, беспокоить больную, но, что поделаешь, у нас нет другого выхода, надо до конца выяснить все обстоятельства. Вавилова Зоя Федоровна не помнит, наш визит рассматривает как попытку бросить тень на ее беспорочное служение Родине в годы Великой Отечественной войны. Очень крупная, с большими мясистыми руками, она вдруг решительно усаживается в кровати (куда девалась недавняя слабость!) и обрушивает на пришельцев поток выкриков, звучащих как брань: "Ходите? Проверяете? Вы думаете, мы тут в тылу зря хлеб ели?! Только в молодости можно снести такую работу! В день по пятнадцать-двадцать трупов! Записывать и то было некогда! А вы говорите!.." Мы ничего не говорим, а только заносим в блокнот со слов доктора Резаевой, что в Саратовской тюрьме номер один судебные эксперты патологоанатомические описания делали в 1941–1945 годах по памяти, иногда через несколько дней после вскрытия. Спрашиваю: "Почему тело Вавилова было вскрыто через четыре дня после смерти, а документ о судебно-медицинской экспертизе составлен еще пять дней спустя, 5 феврали?" И опять в ответ негодующий рев Зои Федоровны: "Я уже говорила вам человеческим языком: работы много, не справлялись мы…"
…Члены академической комиссии не могли пожаловаться на общественное равнодушие горожан: в Саратове у нас оказалось немало добровольных помощников. Трагедия академика Вавилова взволновала многих студентов и преподавателей университета, агрономов, работников милиции. Одним из самых активных наших друзей стал майор Василий Васильевич Андреев, начальник следственного изолятора (бывшей тюрьмы № 1). Судьбу давно умершего арестанта добрый Василий Васильевич (добрый начальник тюрьмы — бывает и такое) воспринимал очень лично, очень искренне. Похоже было, что этот сравнительно молодой человек, никак не связанный со злодеями прошлого, чувствует себя в ответе за преступления, которые другие люди в другую эпоху творили в его учреждении. Благодаря стараниям майора Андреева была разыскана история болезни, он показал профессору Бахтееву 57-ю камеру и 12-ю палату в тюремной больнице — последние пристанища Николая Ивановича. Ему, наконец, мы обязаны тем, что было обнаружено место погребения Вавилова. За четверть века могилу эту искали несколько человек, искали не раз. Но Андреев нашел наиболее верный путь: он поговорил с тюремными старожилами, и те указали на бывшего кладовщика, ныне пенсионера Алексея Ивановича Новичкова, который в прежние времена не брезгал и погребальным ремеслом. На машине Андреева мы заехали домой к Новичкову. Словоохотливый, с хитровато-придурковатой мордочкой старичок тотчас облекся в добротный полушубок и валенки и выразил готовность сейчас же "прогуляться" на кладбище, туда, где в 1942–1943 годах он хоронил заключенных. Пока ехали, старик рассказал, что погребение арестантов не входило в его служебные обязанности, но он, Новичков, хоронил покойничков охотно. Во-первых, за это давали спирт — "обтирать руки", а во-вторых, кое-что приплачивали. Вспоминая старые добрые времена, Алексей Иванович покрякивал и похохатывал: дескать, сами судите, кто это станет изводить спирт на руки…
Погребение арестантов во время войны не отличалось излишней пышностью. Просто десятка два голых трупов с металлическими, привязанными к ноге бирками сваливали в большой ящик, ящик ставили на сани и под покровом ночи везли на Воскресенское кладбище. Там без лишних разговоров воз вываливали в общую яму и зарывали. Единственным знаком, которым могильщики обозначали безымянную могилу, был металлический прут, штырь. Его втыкали в землю для того, чтобы снова не раскапывать уже "освоенное" место. Двадцать четыре года спустя, 16 февраля 1967 года, Новичков повел своих спутников через глубокий снег "к штырям". Эта самая дальняя часть кладбища у кирпичной ограды в военные годы была совсем пустынной. Только тюремные могильщики имели право творить здесь свой нехитрый обряд. Новичков указал квадрат примерно шагов сто на сто, где он сам зарывал трупы зимой 1943 года. Профессор Бахтеев описал и сфотографировал этот район кладбища [247].
Потом Новичкова спросили, не помнит ли он чего-нибудь об академике Вавилове. Фамилию эту старик вспомнить не мог, но на память ему пришел случай, которым он поспешил поделиться. Однажды, это было в январе 1943 года, Новичков приехал на санях за очередной порцией трупов. Его в тот вечер заставили ждать особенно долго. Когда он зашел в мертвецкую, чтобы узнать, из-за чего заминка, ему объяснили: умер какой-то знаменитый арестант, которого в отличие от других решено хоронить в чистом белье. Пока санитарка Захарова обряжала тело, Новичков осмотрел "знаменитого" и нашел, что он мало отличается от остальных "мертвяков", такой же изможденный, худой. Алексею Ивановичу показалось даже, что перед ним человек ниже среднего роста, но это, как он сам говорил, ощущение сомнительное, оно нередко возникает в тех случаях, когда смотришь на очень уж истощенное тело. Знаменитого арестанта уложили в специальный ящичек, и Новичкову было приказано похоронить его отдельно. Никогда ни после; ни раньше такой чести не удостаивался ни один заключенный.
Что это: правда или плод фантазии старого могильщика? А если даже правда, то можно ли с уверенностью считать, что речь идет именно о теле Вавилова? Скорее всего мы никогда этого не узнаем. Да и так ли важно — в той или другой яме истлели кости замученного академика? Для потомства важнее другое: не забыть о всех муках, что претерпела мыслящая Россия в сталинских застенках. Пусть памятник борцу и жертве русской науки Николаю Ивановичу Вавилову на кладбище в Саратове будет одновременно памятником всем тем безымянным, что сгнили возле кирпичной ограды — "у штырей".
Да, поставлен ныне такой памятник. Но об этом — в следующей главе.
Глава 11 ЕЩЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА… 1943 — 1970
Веселей играй, гармошка, Мы с подружкою вдвоем Академику Лысенко Величальную поем. Он мичуринской дорогой Твердой поступью идет, Морганистам, вейсманистам Нас дурачить не дает.Колхозная запевка. Песенник.
Слова А. Сальникова,
музыка К. Массалитинова
М.-Л., 1950. Тираж — 200 000 экз.
То, что случилось уже, нельзя неслучившимся сделать.
Феогнид, философ, VI в. до н. э.Убитый голодом, брошенный в братскую могилу, преданный насильственному забвению, он упорно не хотел умирать. Возникали разные легенды. Николая Ивановича видели на такой-то опытной станции. После каждого подобного сообщения сотрудники ВИРа и опытных станций атаковали друг друга письмами и телеграммами. Ответы разочаровывали, но вавиловцы продолжали верить и ждать: не такой человек директор ВИРа, чтобы сгинуть бесследно.
Одна женщина-агроном, выпущенная из заключения при Хрущеве и работавшая в Ленинградском тепличном комбинате, сообщила, что видела Николая Ивановича в Свердловской пересыльной тюрьме. Он плохо выглядел, на ногах у него были опорки из связанных проволокой обрезков резиновых покрышек. Агроном собрала для Вавилова хлеба среди заключенных, но он отказался принять, сказав, что для страны, видимо, не нужен. Эти сведения в пользу варианта о северном лагере. Ходили между вавиловцами и "северные" и "южные" варианты. Видели будто бы Николая Ивановича в Крыму, в Сибири и даже в Прибалтике.
Одновременно циркулировали и мрачные слухи. Бывший секретарь партийной организации Института растениеводства С. А. Ельницкий утверждал, например, что ему доподлинно известно: Вавилова во время прогулки по двору саратовской тюрьмы застрелил часовой — арестант перешел какую-то запретную линию. Лагерный врач, пожелавший остаться неизвестным, передал своему родственнику, ленинградскому микробиологу, что академик Вавилов был у них в сибирском лагере затравлен собаками охранников. Домыслы эти, пусть и недостоверные, показывают, насколько бериевские лагеря и тюрьмы запугали российского обывателя. Оставшимся на свободе страх рисовал картины одна другой ужаснее. Но те, кто побывал в лапах НКВД, могли, очевидно, припомнить подлинные случаи пострашнее выдуманных. В Саратове мне рассказывали, со слов заключенных, что в местной тюрьме имелось обыкновение тела расстрелянных наиболее известных арестантов растворять в едких щелочах и кислотах. Для этой процедуры в тюрьме якобы даже существовали специальные бетонные ванные. Рассказчик, сам в прошлом узник Саратовской тюрьмы номер один, высказал уверенность, что Вавилов и Тулайков не миновали такой купели. Но, несмотря на все подобные разговоры, вера в спасение Николая Ивановича сохранялась у большинства вавиловцев до лета 1945 года.
Друзья Вавилова на Западе знали о его судьбе еще меньше. Время ареста было рассчитано точно: Европа воевала, контакты между лабораториями прервались, сводки с фронтов заслонили все другие события. Но и во время войны, пользуясь любой оказией, английские, французские, американские, шведские генетики посылали в ВИР свои книги, оттиски, писали письма. В 1943 году, проделав сложный путь, чуть ли не вокруг света, в семью Николая Ивановича попала изданная во Франции книга "Человек и культурные растения". На титульном листе по-русски, хотя и не без ошибок, два молодых француза начертали: "Академику Николаю Ивановичу Вавилову посвящают свой труд авторы — Андрей Ю. Морисович Одрикур и Луи Андрианович Эдин". Назвав себя по отчеству на русский манер, ботаники из Франции подчеркнули свое уважение к старшему товарищу и учителю.
В конце тридцатых годов западные генетики и растениеводы пристально следили за борьбой Лысенко против советских биологов. Последний эпизод этой борьбы, о котором мир успел узнать прежде, чем началась война, был отказ советского правительства выпустить делегацию русских ученых на VII Международный генетический конгресс. Собравшиеся в Эдинбурге делегаты в кулуарах открыто называли имя Лысенко как главного гонителя биологической науки в стране, не скрывали своего негодования. В течение всего конгресса предназначенное для академика Вавилова председательское кресло демонстративно оставалось пустым. Профессора С. Дарлингтон и С. С. Харланд, наиболее близкие к Вавилову европейские ученые, писали впоследствии:
"После пресловутых генетических разногласий в конце 1939 года [248] школа Лысенко быстро всплыла на поверхность, а Вавилов, очевидно, потерял свое руководящее положение. Несмотря на многочисленные попытки, его западные друзья не имели больше возможности с ним общаться. Его работы и сотрудники исчезали… Но, хотя в последние годы советские власти очень мало думали о Вавилове, его слава за границей неуклонно росла. Его просили стать председателем Международного генетического конгресса в 1939 году… В 1942 году он был избран иностранным членом Королевского общества [249].
В том, что Королевское общество, Английская академия наук, в разгар войны избрало Николая Ивановича своим членом, нет ничего удивительного. Начиная с 1922 года все сколько-нибудь значительные работы советского биолога печатались в британской научной прессе. (Изложение закона гомологических рядов появилось в полном виде прежде на английском, а потом уже на русском языке.) Такие видные генетики, как В. Бэтсон, С. Дарлингтон, Пеннет, почвовед Д. Рассел, агроном Д. Холл, растениевод С. Харланд, были друзьями и почитателями русского биолога. К тому же английская общественность всячески старалась во время войны выразить симпатию героическому русскому союзнику. Избрание двух русских [250] в The Royal Society of London приобрело, таким образом, политический характер. Дружеские отношения между двумя академиями в пору англо-советского союза были взаимными: в мае 1942 года АН СССР избрала своим почетным членом президента. Королевского общества сэра Генри Г. Дейла. И тем не менее, явно того не желая, Лондон своей ответной дружеской акцией доставил руководству Академии наук СССР весьма неприятные переживания.
Глубокой осенью 1942 года в Алма-Ату, где находился академик В. Л. Комаров, приехал пресс-атташе британского посольства в Москве. Миссия его состояла в том, чтобы вручить президенту дипломы двух новых членов Королевского общества. Церемония состоялась в зале заседаний Верховного Совета Казахской ССР. Комаров по-английски почти не говорил (к тому же он страдал хронической кожной болезнью, которая заставляла его почесываться в самые неподходящие моменты), поэтому встреча с дипломатом была поручена академику-лингвисту Мещанинову и помощнику президента А. Г. Чернову. Пресс-атташе вручил представителям президиума АН СССР официальное письмо Королевского общества, два красиво оформленных диплома в виде свитков и бланки, на которых вновь избранные члены должны были расписаться в получении дипломов. Подписанные бланки надлежало через Министерство иностранных дел СССР вернуть в посольство Великобритании.
"После приема, когда англичанин уехал, — вспоминает А. Г. Чернов, академик Мещанинов и я отправились к Владимиру Леонтьевичу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Что делать с дипломом Вавилова, а главное — с бланком, который он должен подписать? Мы не имели ни малейшего представления о том, где находится Николай Иванович, не знали даже, жив ли он. Но сообщить англичанам правду было также невозможно. В конце концов мы приняли прямо-таки соломоново решение: отправить Диплом вместе со злополучным бланком в город Йошкар-Олу, где в военные годы со своим Оптическим институтом находился в эвакуации Сергей Вавилов. В сопроводительном письме Комаров просит Сергея Ивановича заполнить форму расписки без инициалов, что тот и сделал". Чем кончилась эта афера, А. Г. Чернов за давностью времени вспомнить не мог, но он хорошо запомнил другое: вскоре после отправки в Москву бланка с фиктивной подписью из посольства Великобритании последовало весьма ядовитое письмецо, где президенту Академии наук СССР разъяснили — "мы ожидали подпись не Сергея Вавилова, а Николая…" [251]
Официальный взгляд на академика Вавилова в первые послевоенные годы состоял в том, что этот шпион и вредитель — изобличен, обезврежен, понес наказание и вспоминать о нем, следовательно, незачем. Труды его не только не издавались, но на них запрещено было даже ссылаться. Из учебников изъяли всякое упоминание о законе гомологических рядов и теории центров. Всякая попытка реабилитировать имя ученого, признать за ним какие-нибудь заслуги встречала резкий отпор властей. В 1946 году серьезные неприятности обрушились на президента Географического общества СССР академика Л. С. Берга, который в книге, посвященной 100-летию Общества, осмелился напомнить об экспедициях Николая Ивановича. Год спустя Ю. Жданов — в ту пору заведующий Отделом науки ЦК — категорически (от имени Сталина) запретил включать статью о Николае Ивановиче в Словарь русских ботаников. Не нашлось для Н. И. Вавилова места и в Большой Советской Энциклопедии. Статья о нем появилась лишь в 1958 году в дополнительном томе.
Атмосферу страха и насильственного забвения, которая была создана вокруг имени Вавилова, очень точно передает в своих воспоминаниях жена Дончо Костова Анна Анатольевна Костова-Маринова [252]. В июле 1946 года супруги Костовы выехали из Болгарии в Швецию на Всемирный цитологический конгресс. "Еще в Софии мы решили, что из Стокгольма поедем в Советский Союз, — пишет Анна Анатольевна. — И вот — Ленинград. Мы ходим по знакомым местам, с болью в сердце отмечаем разрушения, нанесенные войной. Посещаем университет, институты Академии наук. Наш первый вопрос к друзьям о судьбе Николая Ивановича. Люди неохотно говорят об этом. Академик Вавилов все еще не реабилитирован. Но до сотрудников и учеников уже дошли вести о его смерти. Горе наше безгранично, нам даже тяжело проходить мимо ВИРа — любимого детища Николая Ивановича.
Первый, кто открыто заговорил с нами о Вавилове, был вице-президент АН СССР академик Л. А. Орбели. И теперь я слышу его слова: "Приветствую вас, друзья Николая Ивановича. Его гибель — громадная потеря для науки". Но Орбели для нас только официальное лицо, мы торопимся в Москву повидать близких Николая Ивановича". Елену Ивановну Барулину Костовы разыскать в столице не смогли, зато им удалось попасть на прием к Сергею Ивановичу Вавилову, незадолго перед тем назначенному на высокий пост руководителя Академии наук СССР.
"В назначенный час мы входим в вестибюль "Нескучного дворца", а затем в приемную Сергея Ивановича, — вспоминает Анна Анатольевна. — Президент поднимается из-за стола и через весь огромный кабинет идет нам навстречу. Мы бросаемся к нему со словами соболезнования и вдруг останавливаемся как вкопанные: при упоминании о брате лицо Сергея Ивановича каменеет. Он ни слова не произносит в ответ на наши сочувственные восклицания. В официальном кабинете президент Академии наук боится выразить свое отношение к осужденному брату. Мы с Дончо поражены, нет, просто убиты этой ужасной встречей. И хотя академик С. И. Вавилов очень мил и любезен, угощает нас чаем, а затем дарит Костову несколько десятков новых книг, — мы выходим от него в каком-то оцепенении…"
Институт генетики АН СССР (ИГЕН) Дончо Костов посетил один. Ему приятно было побывать в лабораториях, где он когда-то работал с такой любовью. Да, стены остались те же, но в этих стенах теперь была совсем иная научная и общественная атмосфера. Снова, как и в Ленинграде, люди не желали вспоминать имени Николая Ивановича…" [253]
Встречи в Институте генетики опечалили, но едва ли слишком удивили болгарского академика. Ведь директором ИГЕНа после ареста Вавилова стал Лысенко. Его способность занимать должности убиенных и репрессированных была в ученом мире известна издавна. Зато "избрание" Сергея Вавилова в президенты Академии наук Костова очень озадачило. И не его одного. Странная сталинская прихоть до сих пор не получила сколько-нибудь вразумительного объяснения. Профессор К. И. Барулин (родной брат жены Николая Ивановича) так описывает этот эпизод.
В 1945 году Сталин пригласил академика физика Сергея Вавилова в Кремль. Вождь был настроен благостно, всячески обласкал ученого, сказал, что знает и ценит его труды, рад знакомству. После этой "художественной части" последовала часть деловая: Сергея Ивановича просили возглавить Академию наук СССР. Не подготовленный к такому предложению, Вавилов-младший растерялся, стал мяться, отнекиваться, вспомнил о репрессированном брате. Однако Сталин настойчиво повторил, что объективные обстоятельства в данном случае не играют никакой роли. Сергей Иванович должен стать президентом по соображениям политическим. Такое "объяснение" оказалось решающим. Гость через силу выдавил — "да", и хозяин снова вернулся к дружелюбной, даже сердечной манере разговора. Между прочим он поинтересовался, нет ли у Сергея Ивановича каких-либо личных просьб к правительству. Не нужна ли квартира или еще что-нибудь в этом роде. И тут, набравшись смелости, Вавилов-младший решился наконец замолвить слово о брате. Вождь позвонил куда-то по телефону, ему ответили, что наведут справки. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Сталин выслушал короткое донесение, шмякнул трубку на рычаг и голосом, имитирующим негодование, произнес: А черт побери, погубили такого ученого!..
Этой театральной сценой аудиенция и завершилась [254].
Зачем понадобился Сталину весь этот фарс? Почему его выбор пал именно на Сергея Вавилова? Единственное объяснение, которое приходит на ум, состоит в том, что обычно равнодушный к откликам Запада, Сталин в 1945 году, для каких-то ему одному ведомых целей, решил дезинформировать западное общественное мнение. Назначив Сергея Ивановича президентом АН СССР, он надеялся обмануть тех ученых и общественных деятелей, которые подняли шум по поводу исчезновения Николая Ивановича. Кое-кто в Европе и Америке действительно поверил этой фальшивке. Но немногие. Понравилась, вероятно, Сталину и созданная им "шекспировская" ситуация: убив одного брата, он ставил другого во главе Академии. Это было в традициях "корифея науки". Брат Кагановича застрелился, когда его должны были арестовать, по сталинскому приказу в тюрьме находились жёны Молотова, Калинина, Шкирятова. Сталинские прихвостни переносили подобные экзекуции безропотно: в ответ на репрессии они с еще большим жаром лизали тяжелую руку хозяина. А Сергей Вавилов? Как объяснить, что этот крупный ученый, интеллектуал, человек с развитым чувством достоинства пошел на сделку с Дьяволом? Ведь не мог же он не понимать, что, соглашаясь на президентство, тем самым помогает замести следы преступления. В политической игре Сталин использовал даже не столько его самого, сколько его фамилию,
Академик Л. А. Орбели сказал в те дни своей близкой сотруднице В. В. Беляницкой: "Сергей Иванович — жертва. Он стал во главе Академии наук, чтобы спасти то, что еще можно спасти. И прежде всего от лысенковского диктата" [255]. Может быть, так оно и было. Многие вспоминают теперь период с 1945 года как светлую пору в жизни Академии. Сергей Иванович ослаблял тот губительный для науки пресс, который возник в результате "холодной войны" и последовавшей за ней жестокой изоляции страны. По указанию президента за границей закупались специальные издания для научной академической библиотеки. При всей скудности международных научных связей конца сороковых годов президенту удавалось добиться, чтобы советские специалисты все-таки выезжали на некоторые, особенно важные, международные конгрессы и симпозиумы. Известно также, что в пору гонения на "космополитов" личное вмешательство С. И. Вавилова спасло от расправы многих работников Академии наук.
Но одновременно… Одновременно академия поддерживала постыдную, чисто пропагандистскую кампанию за "русский приоритет" в науке. Президент благословил так называемую Павловскую сессию АН СССР (лето 1950 года), которая далеко назад отбросила отечественную физиологию и медицину. А двумя годами раньше, 26 августа 1948 года, через три недели после печально памятной лысенковской сессии ВАСХНИЛ, президиум АН СССР специальным решением подтвердил свою верность так называемой "мичуринской биологии" и осудил работающих в академических институтах "морганистов-менделистов". Этот документ сыграл роковую роль в судьбах русской биологии, он на несколько лет парализовал все сколько-нибудь серьезные исследования в области генетики, цитологии, физиологии растений. Началась эпоха, привольная для таких "новаторов", как Бошьян и Лепешинская; эпоха, когда против честных ученых пошли в ход погромные фельетоны в газетах и так называемые "суды чести".
Облик академика Сергея Вавилова в конце 40-х — начале 50-х годов предстает перед нами весьма двойственным, если не сказать больше. Президент академии, хочет он того или не хочет, каждый день санкционирует своей подписью оголтелый обскурантизм заката сталинской эпохи. Он невозмутимо взирает на то, как в научной и массовой прессе СССР освистывают "буржуазную лженауку кибернетику", как с университетских кафедр читают "материалистический, прогрессивный" курс "мичуринской биологии". И тот же Сергей Вавилов в частном разговоре с академиком Леоном Орбели спрашивает: "Неужели мы не дождемся того дня, когда судом чести будут судить Лысенко?"
Человеческая душа — потемки. Мы не знаем и никогда не узнаем, во что обходились президенту АН СССР его подписи под официальными бумагами, сколько душевных мук испытал он, председательствуя на вечере, посвященном 50-летию Т. Д. Лысенко, на вечере, где докладчики обливали грязью его брата Николая; как страдал во время "космополитских" и иных столь же отвратительных кампаний своего времени. Этот обласканный высочайшим вниманием государственный чиновник был, возможно, не меньшей жертвой произвола, чем его старший, замученный в тюрьме брат.
Мы имеем несколько свидетельств того, что в конце жизни Сергей Вавилов постоянно возвращался мыслями к судьбе Николая. В конце 1949 или в начале 1950 года Сергей Иванович говорил об этом с академиком М. А. Леонтовичем. Сергей Иванович интересовался историей науки, его интересовала, в частности, судьба Антуана Лорана Лавуазье, великого химика, обезглавленного во время Французской революции. Вокруг этой казни было немало споров. С. И. Вавилов выяснил факты, по-новому освещающие трагическую смерть основателя современной химии. Об этом он и рассказал М. А. Леонтовичу. В годы, предшествовавшие революции, Лавуазье — директор Французской академии несколько раз получал на отзыв труды по химии, подписанные неизвестным ему именем врача Жана-Поля Марата. Труды были, по словам Сергея Ивановича, "патологические" и никакой научной ценности не представляли. Со всей присущей ему прямотой Лавуазье извещал Марата о своих оценках. Но вот грянули события 1789 года. Малоизвестный врач и неудачливый химик стал одним из нетерпимых и жестоких вождей революции. Тут-то и вспомнил он о давних обидах, нанесенных ему Лавуазье. Вспомнил и, пользуясь своим положением в Конвенте, потребовал казни для Лавуазье, откупщика и врага народа. Великий химик был схвачен и гильотинирован. Рассказывая академику Леонтовичу о своих изысканиях, Сергей Вавилов говорил, что в судьбе брата Николая видит известную аналогию событиям, разыгравшимся в конце XVIII столетия [256].
Чувство вины за свою пассивность, боль за случившееся с братом все более крепла в душе Вавилова-младшего. Постепенно рассеивался животный страх, охвативший его в 1940-м. В конце войны он приехал в квартиру, которую занимала первая жена Николая, E. H. Сахарова, с сыном Олегом. Сергей долго беседовал с племянником о необходимости отправиться за справками на Лубянку, настаивал на том, чтобы Олег продолжал розыски отца. Тайком, чрезвычайно осторожно расспрашивал он тех, кто вернулся из лагерей и тюрем: не слыхали ли чего-нибудь о брате. Желание знать правду о конце Николая, пусть горькую, но правду, превратилось у Сергея Ивановича в конце концов в настоящую манию.
В январе 1951 года, находясь на лечении в санатории "Барвиха", президент АН СССР, не сказав никому ни слова, уехал в Саратов. Об этой поездке рассказал нам с профессором Бахтеевым начальник саратовского следственного изолятора (бывшей тюрьмы № 1) майор Андреев. В Саратове Сергей Иванович искал свидетелей смерти брата, искал его могилу. Но найти ничего не смог. Он вернулся в Москву и умер две недели спустя. Это случилось 25 января 1951 года, почти день в день с братом. Было ли это только случайное совпадение, мы пока не знаем…
У Николая и Сергея с детства выявились разные характеры, по-разному сложились и их биографии. Когда-нибудь большой художник нарисует двойной портрет братьев-академиков, и нам откроется закономерность, по которой судьба предназначила одному тюрьму, а другому — апартаменты "Нескучного дворца". Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы произвести такой анализ. Позволю себе напомнить лишь один эпизод, который, возможно, послужит ключом для будущих историков.
В неопубликованной рукописи жена болгарского генетика Дончо Костова Анна Костова-Маринова свидетельствует:
"Дончо рассказал мне, как однажды после работы Николай Иванович повел его к себе ужинать. Среди приглашенных был брат Николая Ивановича академик С. И. Вавилов. Николай и Сергей были всю жизнь дружны. Николай не мог говорить о брате иначе как с нежностью. Но на этот раз между ними возникла размолвка. Речь шла о том, какой вред подлинной науке приносят нападки и обвинения со стороны Лысенко, как трудно в такой обстановке отстаивать правильные научные позиции. Сергей Иванович Вавилов в беседе стал на ту точку зрения, что поскольку внешние силы на стороне Лысенко, то не следует вдаваться в дискуссию с ним. Это-де бесполезно и даже опасно. С холодной иронической усмешкой Николай Иванович похлопал сидящего рядом брата по плечу и сказал: "Трус ты, Сергей, трус". Очевидно, Сергей Иванович почувствовал по тону всю силу осуждения, которую брат вложил в эти слова, потому что больше не сказал ни слова и вскоре ушел…"
Сколько-нибудь ясное представление о судьбе русского биолога Запад получил только летом 1945 года. Снова "помог" президиум АН СССР. Вскоре после войны руководители академий наук разных стран получили приглашение на празднование 220-й годовщины Академии наук Советского Союза. К рассылаемым проспектам прилагались списки здравствующих и недавно почивших советских академиков. Имени Николая Вавилова не оказалось ни в том, ни в другом списке. Исчезновение хорошо известного ученого вызвало на Западе шок. Королевское общество и Национальная академия наук США обратились с официальным запросом в Москву, но ответа не получили. Тогда в дело вмешался "биологический интернационал" — ученые разных стран стали писать в президиум АН, в Институт генетики, в ВИР и просто знакомым русским генетикам. Большинства адресатов к этому времени не было в живых, другие потеряли работу, но и те, до кого письма дошли, ответить на них не решились: "общение с заграницей" влекло в сталинские времена самые тяжелые последствия.
Упорное молчание русских еще больше взволновало мировую научную общественность. Так же как в 1940-м советские ученые бросились выручать своего попавшего в беду руководителя, так в 1945-1946-м европейские и американские друзья Николая Ивановича принялись бить тревогу по поводу его бесследного исчезновения. В декабре 1945 года известный американский генетик, профессор Гарвардского университета Карл Сакс обратился в ведущий научный журнал Америки "Science": "Мы имеем сообщение нашей Национальной Академии наук о том, что Николай Вавилов умер. Но как он умер и почему?" Профессор Сакс призывал ученых мира не прекращать протестов до тех пор, пока русские не дадут вразумительного объяснения случившемуся. Это обращение вызвало целый поток некрологов, статей, писем в редакцию, авторы которых пытались из разрозненных, подчас противоречивых слухов построить сколько-нибудь достоверную картину ареста и гибели советского ученого. Статьям этим явно не хватало реальных фактов. Никто не мог с точностью назвать ни причину, ни дату ареста, ни место гибели Вавилова. Профессора Харланд и Дарлингтон в своем некрологе [257] справедливо называли городом последнего упокоения русского друга Саратов, но большинство иностранцев со слов Германа Меллера писали, что Вавилов, арестованный в блокированном Ленинграде, выслан якобы на Колыму (на берег Тихого океана, в Восточную Сибирь), где и погиб между 1941 и 1943 годами [258].
Но в одном научный мир был единодушен: виновником гибели Вавилова все в один голос называли Лысенко. Без упоминания этого "злого гения русской биологии" не обходился ни один некролог. "Вавилов предан забвению без почестей, тогда как Лысенко стал национальным героем, он награжден орденом Ленина… Говорят, что Вавилов умер от голода в концентрационном лагере. Этот факт замалчивается государством. Но великие люди умирают не так-то просто…" — писал американский генетик Роберт Симпсон [259].
Великие не умирают. На Западе имя Николая Ивановича не забывалось так же упорно, как и на родине. Кроме памятного многим личного вавиловского обаяния, этому способствовала буйно разыгравшаяся после войны фантасмагория лысенковщины. Высшего накала гонения на "морганистов-менделистов" в Советском Союзе достигли в 1948 году на так называемой августовской сессии ВАСХНИЛ. Но и до этой "вальпургиевой недели" западные ученые неоднократно имели возможность сравнить научный стиль Вавилова и Лысенко. В 1946 году всеобщее изумление за рубежом вызвала книга Лысенко "Наследственность и изменчивость". Академик Д. Н. Прянишников предупреждал президиум Академии наук СССР: "Так как публикация такой книги, как "Наследственность и изменчивость", подорвала бы репутацию советской науки, то следует принять меры, чтобы книга эта за границу не попала…" [260]. В этом письме Прянишников писал, что книга Лысенко "полна погрешностей против элементарных понятий естествознания, так, в ней отрицается закон постоянства вещества, установленный Лавуазье, в ней высказывается убеждение, что не только каждая капелька плазмы (без ядра), но и каждый атом и молекула сами себя производят. Видно, что автору неизвестны различия между атомом, молекулой и капелькой плазмы!" Все произошло именно так, как предсказывал учитель Вавилова. Западные биологи встретили безграмотные писания Лысенко презрительным хохотом. Президент Академии наук ГДР генетик Штуббе тщательно повторил эксперименты "первого мичуринца" и без труда показал, что теоретически, а равно и практически все эти "великие открытия" — чепуха. Неоднократно посещавший СССР директор Шведского государственного лесного института генетик-дендролог Густафссон высказывался еще более решительно:
"Некоторые ученые, и в том числе физики, считают Лысенко обманщиком. Постороннему человеку трудно решить, является ли он только невежественным человеком, упрямцем, не признающимся в ошибке, или же прямо преступным обманщиком. Первое мы знаем, о втором можем догадываться, третье думают многие, в том числе в Советском Союзе" [261].
Наблюдая за крушением биологии в СССР, ученые Европы и Америки имели возможность вспомнить лысенковского антипода, того, кто своими открытиями принес подлинную славу советской науке. В течение сороковых и пятидесятых годов они своими статьями воссоздали собирательный литературный и научный портрет академика Вавилова. Это не только дань добрых чувств живых к покойному, но и своеобразная форма протеста против трагедии, которую переживали в это время биологи СССР. На фоне лысенковского ничтожества грандиозная фигура первого агронома, ботаника и генетика страны рисовалась еще более величественной.
"Теоретически Вавилов опередил Декандоля, практически он положил основание всем дальнейшим работам по улучшению культурных растений… Его неусыпный мозг, его неутомимое тело, его честолюбивые планы, даже его пламенный showmanship [артистизм, наклонность к театральности (англ.)] имели наполеоновский размах. Но его интеллектуальная честность всегда была несомненной. Всякий раз, когда он встречал другого представителя науки, он спрашивал: "Какова Ваша философия?" или, другими словами, "Как Вы подходите к этому вопросу?" Сам Вавилов подходил к своим проблемам как энергичный исследователь и оптимист, никогда не забывая, однако, что, как он любил говорить, "жизнь коротка"… Множество друзей в Европе и Америке будут оплакивать его смерть. Они не забудут робсоновской глубины его голоса, широких фальстафовских жестов. А наука будет помнить его достижения, которые переживут его личное несчастье".
С. С. Харланд (Перу. Опытная с.-х. станция),
С. Дарлингтон (Англия, Оксфордский университет).
Статья "Профессор Н. И. Вавилов". 1945 год.
"За короткое время он [Вавилов] создал много лабораторий и исследовательских станций по всей России. Его феноменальная продуктивность быстро доставила ему и на родине и за границей почести и славу… Говорят, что созданная им коллекция культурных растений и их диких родичей не имела себе равной в прошлом и вряд ли может быть воспроизведена в наше время".
Мехешвари Нирмала Матур (Индия. Делийский университет).
"Карьера и падение Лысенко". 1956 год.
"Вавилов был человеком большой интеллектуальной энергии, физической мощи, грандиозных идей и чудовищной работоспособности. Но он был также человеком глубокой скромности, теплого дружелюбия, большой терпимости и благородных побуждений. У тех, кто его хорошо знал, воспоминания о нем вызывают не только восхищение и уважение, но и горячую привязанность.
Не будучи революционером, Вавилов искренне верил, что революция в России создала беспрецедентные возможности для прогресса науки, для интернационального содружества в науке и через объединение теории с практикой для улучшения благосостояния людей не только в России, но и в других частях мира. Какой иронией звучит тот, отнюдь не новый в истории, факт, что столь выдающийся представитель лучших идей прогрессивной марксистской идеологии, такой замечательный выразитель мощного прогрессивного научного духа своей страны погублен людьми, стоящими значительно ниже его, людьми, которые по невежеству или из тщеславия вообразили себя единственными последователями прошлого, единственными, способными реализовать его в практике настоящего".
Поль С. Мангельсдорф (США. Принстонский университет).
"Николай Иванович Вавилов, 1887–1942". 1946 год.
"…Я склоняю голову с почтением перед памятью Вавилова и Левитского, имена которых были вехами в биологии начала нынешнего века. Это мои учителя, среди других учителей на этой планете, в этой жизни. Я благодарю их. Они научили меня величию первых страданий научного исследователя. И я желаю, чтобы в трудные минуты я тоже стоял, кроткий, но сильный, на стороне науки и ее прав".
Густафссон (Швеция. Государственный лесной институт).
"Русская генетика идет новыми путями". 1957.
Но за рубежом не только славословили Николая Ивановича и сочиняли газетные протесты. В 1948 году несколько иностранных членов Академии наук СССР демонстративно покинули нашу Академию. В письме на имя Сергея Ивановича Вавилова бывший президент Лондонского Королевского общества, Нобелевский лауреат, биолог сэр Генри Г. Дейл так объяснил свой поступок:
"Я пришел к решению, вынудившему меня отказаться от звания почетного члена Академии наук СССР, каковым я был избран в мае 1942 года… В том же 1942 году Лондонское Королевское общество избрало Николая Ивановича Вавилова в число своих 50 иностранных членов. При поддержке и поощрении Ленина он имел возможность… положить начало и способствовать дальнейшему быстрому прогрессу генетики, который последовал за признанием открытий Менделя… Однако в Британии стало известно уже в 1942 году, что Н. И. Вавилов каким-то образом впал в немилость тех, кто пришел после Ленина, хотя причина этого оставалась неизвестной…
Недавние события, о которых теперь получены сведения, осветили то, что случилось. Покойный Н. И. Вавилов был заменен Т. Д. Лысенко, проповедником доктрины эволюции, которая, по сути дела, отрицает все успехи, достигнутые… со времен Ламарка. Хотя труды Дарвина все еще формально признаются в Советском Союзе, его основное открытие будет отныне отвергаться. Все великое построение точного знания, которое продолжает расти усилиями последователей Менделя, Бэтсона и Моргана, отрицается и поносится, и последние немногие, кто еще содействовал его сохранению в СССР, теперь лишены своего положения и возможности трудиться.
Это — не результат честного и открытого конфликта научных мнений. Из выступлений и заявлений самого Лысенко ясно, что его догмат установлен и насильственно введен Центральным Комитетом Коммунистической партии как отвечающий политической философии Маркса и Ленина. Многие, г-н Президент, с гордостью считали, что в науке, общей для всего мира, нет политических границ и национальных разновидностей. Однако теперь эта наука должна быть отделена от "советской науки" и порицаема как "буржуазная", "капиталистическая".
Постановления, опубликованные президиумом Вашей Академии 27 августа текущего года, являются ясным выражением этой политической тирании… С тех пор как Галилей угрозами был принужден к своему историческому отречению, было много попыток подавить или исказить научную истину в интересах той или иной чуждой науке веры, но ни одна из этих попыток не имела длительного успеха. Последним потерпел в этом неудачу Гитлер.
Считая, что Вы и Ваши коллеги действуете под аналогичным принуждением, я могу лишь выразить Вам свое сочувствие. Что касается меня самого, пользующегося свободой выбора, то я верю, что оказал бы дурную услугу даже моим коллегам по науке в СССР, если бы продолжал связь… с действиями, которыми Ваша Академия наносит теперь ужасный вред свободе и целостности науки…" [262]
В пору, когда писались эти строки, казалось: мрак, объявший биологию, никогда не рассеется, имена жертв Лысенко вовеки не выйдут из забвения. Заключительная речь президента ВАСХНИЛ 7 августа 1948 года звучала как речь триумфатора: "Эта сессия — яркое свидетельство силы и мощи мичуринского учения… Настоящая сессия показала полное торжество мичуринского направления над морганизмом-менделизмом. Данная сессия поистине является исторической вехой развития биологической науки". И под занавес, чтобы окончательно запугать тех, кто еще как-то пытался сохранить верность научной и человеческой правде: "ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его" (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают) [263].
Сила и мощь… Историческая веха… Полное торжество… Многим так оно и казалось. Академик П. М. Жуковский, один из ближайших сотрудников Вавилова, публично принес Лысенко покаянную: "Я признаю, что занимал неправильную позицию… Бессонная ночь помогла мне обдумать мое поведение… Товарищи мичуринцы! Если я заявил, что перехожу в ряды мичуринцев и буду их защищать, то я делаю это честно…" [264]
Конечно, не все вели себя, как Жуковский. Не все каялись, не все били себя в грудь кулаком. Но многих даже честных людей толкал на предательство страх остаться без хлеба. Этот страх имел под собой вполне реальную почву: в том же 1948 году три тысячи генетиков, агрономов, ботаников и организаторов науки были отстранены от работы, подверглись всякого рода партийным и административным преследованиям. Власть Лысенко после 1948 года не имела границ. О "великом ученом" кричали газеты, вещало радио, про него снимали кинофильмы и пел хор имени Пятницкого. Весь оркестр, все трубы государственной пропаганды ежедневно и ежечасно "величали" академика Трофима Денисовича Лысенко, Героя Социалистического Труда, трижды лауреата Сталинских премий, кавалера шести орденов Ленина. Он обосновался в науке прочно, навсегда. Его люди захватывали должности, урывали ученые степени, кафедры. Бывшие аспиранты ВИРа, бунтовавшие в 1939 году по поводу слишком сложной для них учебной программы, включавшей труды Моргана и Менделя, теперь, в 1948-м, как истинные мичуринцы, получали самые жирные куски научного пирога. Они и им подобные не хотели "ждать милостей от природы".
Вавилова на сессии ВАСХНИЛ 1948 года никто не вспоминал: для ловцов должностей этот сраженный враг не представлял более никакой опасности, а следовательно, и никакого интереса. Да, все было точно так, как говорил Трофим Денисович: сила и мощь, полное торжество… Но прошло всего лишь пять лет, и "тысячелетний рейх" академика Лысенко осел, начал крениться и распадаться. Умер Сталин, расстреляли Берию, и этого было достаточно, чтобы все увидели: некоронованный король российской биологии — гол; чудотворная икона из Большого Харитоньевского переулка в Москве — не что иное, как поваленная доска. Было и после того немало "крестных ходов" и ходиков. Всякий раз, как сельскохозяйственный кризис приводил страну на край голода, новые власти кидались вздымать чудотворного Лысенко. Окончательно эта икона пала лишь в октябре 1964 года вместе с Хрущевым. Конец карьеры Лысенко подтвердил ту же истину, что и ее начало: лысенковщина — явление не научное, а чисто политическое.
…Когда рушится очередной "тысячелетний рейх", тайные узники политических застенков становятся вдруг наиболее известными гражданами республики. Весной 1955 года сотрудник Главной военной прокуратуры майор юстиции Колесников извлек из архива КГБ следственное дело № 1500 и занялся его проверкой. На переплете каждого из десяти томов значилось: "Хранить вечно". Все сохранилось: фальшивые протоколы допросов, липовые "изобличительные материалы", донесения профессиональных стукачей и добровольных филеров. Несколько месяцев слой за слоем, пласт за пластом счищал прокурор наносы лжи и клеветы, которые за пятнадцать лет перед тем громоздил в "дело" академика Вавилова следователь А. Г. Хват. Колесников вызвал всех оставшихся в живых участников трагедии и выслушал их показания. Дали показания несколько ученых, и в том числе Лысенко. Прокурор, правда, не осмелился вызвать к себе в кабинет недавнего сталинского любимца, но Трофиму Денисовичу все же пришлось письменно объяснить, как он оценивает труды и личность академика Вавилова, что думает об аресте своего бывшего вице-президента. Нимало не смутясь, Лысенко написал, что "всегда считал академика Вавилова ученым мирового значения", споры же его, Лысенко, с Вавиловым носили сугубо специальный характер и "имели целью выяснение научных истин в области биологии".
Я читал отчет Колесникова, датированный 8 августа 1955 года. Мне кажется, прокурор сделал все, что обязан был сделать, разоблачил организаторов и исполнителей расправы над Вавиловым, назвал поименно всех доносчиков, доказал, что "предварительное следствие по его [Вавилова] делу производилось с грубым нарушением норм уголовно-процессуального кодекса, необъективно, тенденциозно". В любой другой стране этих выводов было бы достаточно, чтобы привести к судебной ответственности провокаторов и палачей. Но наследники Сталина рассудили иначе. Ни следователь Хват, ни провокатор Шунденко, ни доносчики Шлыков, Сидоров не понесли никакого наказания. Все они продолжали благоденствовать, получая солидные зарплаты и пенсии. "Торжество справедливости" выразилось лишь в том, что жена замученного в тюрьме ученого Елена Ивановна Барулина получила по почте типографски отпечатанную бумажку, в которой ее извещали, что приговор по делу ее мужа академика Н. И. Вавилова отменен "за отсутствием в его действиях состава преступления". Вердикт "не виновен", отштампованный бюрократической машиной, через двенадцать лет после смерти осужденного не содержал ни соболезнования, ни указания, при каких обстоятельствах и когда ученый погиб и где родные могут найти его могилу. Эпоха "позднего реабилитанса" была столь же чужда законности и сострадания, как и предшествующая эпоха репрессий.
Не поставить ли на этом точку? Справка о реабилитации, в каких выражениях ее ни составляй, есть все-таки безоговорочное признание: человек не виновен, арестовали и осудили его несправедливо, по ошибке, и ошибку эту исправлять надо незамедлительно. А раз так, то и книге конец. Дальше начинается пора венков, памятников, мемориальных досок и заседаний — вся та мишура, которой живые откупаются от мертвого за причиненные ему при жизни страдания. Я был бы рад сообщить, что год 1955-й был последним годом замалчивания и преследования академика Вавилова. Но, увы, все сложилось иначе. В XVI столетии клерикалы заочно сожгли портрет Мигеля Сервета, открывшего законы кровообращения, а затем подняли на костер его самого. В середине XX века обстоятельства изменились, хотя и не очень сильно: те, кто способствовал физической гибели Вавилова, принялись затем за его духовное умерщвление, они сделали все, чтобы современники забыли даже, как выглядит портрет ученого.
Подлинное возвращение Николая Ивановича в поток отечественной науки и культуры тянулось долго и, по существу, не завершено до сих пор. Друзьям ученого, которые прежде боролись за его жизнь, пришлось выдержать новый бой — за доброе его имя, за право говорить правду о его судьбе.
Первая после семнадцатилетнего перерыва книга Николая Ивановича увидела свет в конце 1957 года [265]. В ту же осень в Москве и Ленинграде состоялось несколько скромных мемориальных вечеров: вавиловцы отметили 70-летие учителя. Заметки по этому поводу появились в таких малораспространенных журналах, как "Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии" и "Бюллетень МОИП" [266]. Прошло еще три года, прежде чем группе ленинградцев (П. А. Баранов, Ф. X. Бахтеев, Е. Н. Синская, Д. В. Лебедев, С. Ю. Липшиц) удалось преодолеть барьер молчания и выпустить в свет научный сборник, посвященный 70-летию Николая Ивановича [267]. Сборник явственно отразил эпоху, когда замалчивать Вавилова стало уже непристойно, но вполне приличным считалось искажать правду о нем. Так, профессор П. А. Баранов, член-корреспондент АН СССР, вынужден был написать о смерти своего друга следующее: "Николай Иванович прожил всего 55 лет. Он скончался 2 августа 1942 года (?) в год тяжелых испытаний нашей Родины, боровшейся с нашествием жестокого врага" (??!). Выпустить сборник в свет можно было в 1960 году только ценой такой вот полулжи.
И все-таки это издание — крупная победа научной общественности. Впервые после смерти Вавилова на поверхность пробился ручеек личных обращенных к нему чувств. Член-корреспондент АН СССР Павел Александрович Баранов назвал свою вступительную статью "Обаяние ученого".
"Если бы меня спросили, что было самым характерным в Николае Ивановиче Вавилове, что больше всего запоминалось в его образе, я, не задумываясь, сказал бы: обаяние. Оно покоряло с первого рукопожатия, с первого слова знакомства. Оно источалось из его умных, ласковых, всегда блестящих глаз, из его своеобразного, слегка шепелявящего голоса, из простоты и душевности его обращения.
Обаяние Николая Ивановича не было мимолетным, временным, связанным с минутами его хорошего настроения, с творческим подъемом, с удачными решениями той или иной задачи… Нет, оно было постоянным, редкостным даром, привлекавшим и радовавшим души людей, встречавшихся на его пути. И все же не в глазах, не в голосе, не в простоте обращения был источник обаяния Николая Ивановича. Все это внешнее лишь удивительно адекватно отражало внутреннюю, душевную красоту и мощь этого человека".
Так о Вавилове никто публично не говорил уже 20 лет!..
Не станем, однако, обольщаться: сборник, выпущенный ничтожным тиражом, с пугающе мудреным названием прочитали, вероятно, лишь несколько сотен самых близких к Вавилову людей. Чтобы вернуть ученого народу в подлинном смысле этого слова, следовало издать собрание его сочинений, опубликовать популярную биографию, напечатать классическую книгу о путешествиях по пяти континентам. Между тем в московском издательстве, где охотно выпускали в ту пору книгу о Вавилове-физике, и слышать не хотели о брате его биологе. "Еще не время", — отвечали писателю, рискнувшему предложить творческую заявку на эту тему. Профессор Николай Родионович Иванов, старый вировец, беспредельно преданный памяти учителя, часами рассказывал мне о тех препятствиях, которые в конце 50-х годов и в начале 60-х чинились на пути пятитомного собрания сочинений академика Н. И. Вавилова. Тень Лысенко все еще витала над издательствами, пугала рецензентов. Многократно без всякой причины застопоривался весь процесс редактирования, печатания. Но Баранов, Бахтеев, Лебедев, Иванов и другие вавиловцы не ослабляли натиска. На собственные деньги перепечатывали они вавиловские работы, "приватно" делали для собрания сочинений рисунки, фотографии. Они разыскали бесследно исчезнувшую в 1940 году рукопись книги "Очаги земледелия пяти континентов" (описание путешествий Николая Ивановича по Азии, Европе, Африке и Америке за 25 лет). Четвертый экземпляр рукописи по счастливейшей случайности сохранился у бывшей машинистки-стенографистки ВИРа А. М. Мишиной. Мужественная женщина, пережившая все тяготы эвакуации из блокированного Ленинграда, сумела спасти не всю книгу, а лишь небольшую ее часть. Но опубликовать и эту часть в 1962 году стоило немалых трудов.
…Недоверчивый читатель может подумать, что автор сгущает краски: так ли уж пристально следил Лысенко за общественной реабилитацией Вавилова и так ли упорно мешал ей? Какое ему, собственно, дело до вавиловских книг, вавиловской посмертной славы? Конкурент был вовремя убран с пути, Лысенко извлек из этой смерти всю необходимую выгоду. Какая беда, если мертвый лев получит свою долю заслуженной славы? Он ведь все равно мертв… Казалось бы, все так, но тем не менее Т. Д. Лысенко до конца своих дней болезненно переживал каждое доброе слово о покойном президенте ВАСХНИЛ. В 1962 году, предвидя, что подлинная биография Вавилова вот-вот появится в печати, он инспирировал появление фальшивой биографии Николая Ивановича [268]. В этой книжке, полной небылиц и ошибок, нет ни одного слова о таком решающем в жизни Вавилова событии, как биологическая дискуссия 30-х годов, факт ареста тоже отсутствует. Год спустя люди из лысенковского окружения провели еще одну операцию: они добились, чтобы книга воспоминаний о Вавилове, составленная его сыном, была выпущена смехотворным тиражом в семь тысяч экземпляров. Весь тираж заслали куда-то в Восточную Сибирь, подальше от Москвы и Ленинграда [269]. С каждым годом, однако, атаки так называемых "мичуринцев" становились все более безрезультатными, а когда рухнул Хрущев, на какое-то время оказался политически парализованным и его фаворит Лысенко. И сразу исчезли все "тайные" силы, тормозившие, мешавшие, чинившие препятствия. Но это случилось лишь через десять лет после юридической реабилитации Николая Ивановича…
В феврале 1965 года на Годичном собрании академиков президент АН СССР Келдыш назвал Лысенко губителем отечественной биологии, гонителем инакомыслящих ученых. "Правда" смягчила его слова, но и на ее страницы проникли строки, смысл которых едва ли можно толковать двояко. На развитии биологии в большой мере отразилось монопольное положение группы ученых, возглавляемых академиком Т. Д. Лысенко, отрицавших ряд важнейших направлений биологической науки и внедрявших свои точки зрения, часто не соответствующие современному уровню науки и экспериментальным фактам. Наиболее ярко эти точки зрения были выражены на августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году… В последующие годы для внедрения неправильных точек зрения были использованы методы администрирования. Ряд ученых были отстранены от работы по специальности, ограничивалась тематика научных учреждений, из программ школ и высших учебных заведений были исключены важнейшие достижения науки… Однако исключительное положение, которое занимал академик Лысенко, не должно продолжаться… [270]
Речь президента открыла клапаны для давно накопившегося пара общественного негодования. Статьи, в той или иной степени разоблачающие безграмотных, наглых и корыстных "лысенкоидов", появились в ряде газет и журналов. Особенно сокрушительной была статья вице-президента Академии наук H. H. Семенова в "Науке и жизни". В июле 1965 года вышел первый номер журнала "Генетика". На его страницах были впервые опубликованы главы из книги Н. И. Вавилова "Этюды по истории генетики", помеченные 22 июня 1940 года, и никогда раньше не печатавшаяся статья о генетической теории селекции. Читатели могли убедиться: меньше чем за месяц до ареста Николай Иванович еще раз подтвердил свою верность подлинной науке, заявив о своем абсолютном несогласии с бреднями Лысенко.
Шестьдесят пятый год стал весной памяти Николая Ивановича. В июле Академия наук СССР утвердила Премию им. Н. И. Вавилова за выдающиеся успехи в области генетики, селекции и растениеводства. Весть о крушении тридцатилетнего заговора молчания вокруг великого русского биолога проникла за рубеж и порадовала прогрессивных ученых мира. Старый друг Николая Ивановича, член Лондонского Королевского общества, генетик С. Дарлингтон писал:
"Советская Академия сообщила, что советские генетики вернутся в общий поток мировых ученых. Какое прекрасное известие! Сами слова говорят о новой эпохе в мировых отношениях. Их осуществление явится показателем прихода новой эры в мировой науке" [271].
Мысль Дарлингтона поддержал американский историк науки Барри Коэн из Техасского колледжа искусств и индустрии. Он поздравил советских коллег с наступлением добрых времен, завершив свою статью следующим размышлением:
"Из истории с Лысенко человечество извлечет, очевидно, тот же урок, что можно извлечь из всякого другого примера научной цензуры. Цензура может на некоторое время скрыть, "замаскировать", но она не способна полностью разрушить лицо истины" [272].
Впрочем, умиление, что разлилось на Западе и Востоке после очередного падения Лысенко, следует дополнить серьезным коррективом. Перемена официального государственного курса по отношению к биологии в СССР в общем-то не имела никакого отношения к давним и многочисленным протестам советской научной общественности против лысенковского диктата. Как почти всегда в России, "революция" пришла сверху. Биологи получили послабление как результат политической борьбы в верхах. Медики и фармакологи говорят в таких случаях о "побочном действии" лекарств. Хрущев опирался на Лысенко: преемники Хрущева выбросили "из игры" благодетеля вместе с его фаворитом. Но коль скоро подлинная наука была все-таки реабилитирована, властям пришлось пойти на некоторые уступки. В 1965 году исполнилось сто лет со дня рождения основателя научной генетики Грегора Менделя. В прежние времена этот факт даже не проник бы на страницы советской прессы, а тут пришлось срочно перекрестить "реакционного австрийского монаха" в "прогрессивного чешского ученого" и отправить на торжества в Брно научную делегацию. При этом не обошлось без курьеза: в составе советской делегации мило соседствовали известный гонитель менделизма академик Н. В. Цицин и поборник учения Менделя академик Н. П. Дубинин. Оба получили в Чехословакии по Большой менделевской медали [273].
"Весна памяти академика Вавилова" постепенно, хотя и не очень быстро, согревала общественную атмосферу. То в одной, то в другой газете, где от века не вспоминали имени великого биолога, стали появляться статьи о нем, кто-то решился прочитать публичный доклад о Вавилове, где-то имя Николая Ивановича произнесли в ряду других "корифеев науки". Это походило на детскую игру: "холодно… прохладно… теплее… тепло… еще теплее…". Обыватель с оглядкой и опаской привыкал к недавно еще запретной фамилии, которая вдруг замелькала в газетах, зазвучала по радио. Весна памяти Вавилова одних удивила, других порадовала, но кое у кого вызвала и раздражение: "Зачем вспоминать старое". В июне 1965 года Ю. Н. Вавилов (сын), академик ВАСХНИЛ Н. А. Майсурян и автор этих строк обратились с письмам к руководителям Академии наук СССР по поводу взятых у Вавилова при аресте рукописей. Три автора писали: "Недавно один из нас познакомился со следственным делом Н. И. Вавилова. По сохранившимся протоколам обыску удалось установить, какие именно литературные и мемориальные материалы были изъяты в августе 1940 года из ленинградской и московской квартир ученого, а также из его рабочих кабинетов. Мы прилагаем к нашему письму список этих изъятых материалов и просим президиум ходатайствовать о возвращении их из архивов Комитета госбезопасности".
Речь шла о восьмидесяти записных книжках Николая Ивановича, о тридцати девяти альбомах фотографий, о тысяче страниц личной переписки. Среди взятых при аресте рукописей находились, в частности, большая неопубликованная работа "Борьба с болезнями растений путем внедрения устойчивых сортов", которую в 1940 году готовились представить на Сталинскую премию, а также незаконченные труды: "Полевые культуры СССР", "Мировые ресурсы сортов зерновых культур и их использование в советской селекции", "Растениеводства Кавказа", и, наконец, грандиозная книга путевых очерков о путешествиях по Азии, Африке, Европе и обеим Америкам за 25 лет. Кроме того, уже в тюрьме, во время следствия, была начата и завершена большая книга под названием "История развития мирового земледелия", где, как писал Николай Иванович, "главное внимание уделено СССР".
В том, что научная ценность вавиловских рукописей не утрачена, что черновики его неопубликованных книг нужны сегодня так же, как были необходимы вчера, мы, авторы письма в президиум АН СССР, не сомневались. Больше того, мы верили — такое богатство не может затеряться или погибнуть. "Рукописи не горят!" — эту фразу из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" годом позже охотно повторяла вся читающая Москва. Но к тому времени мы трое — Юрий Вавилов, профессор Майсурян и я — уже знали, насколько сомнителен этот афоризм. 28 августа 1965 года вице-президент АН СССР Кириллин отправил председателю Комитета государственной безопасности Семичастному письмо с просьбой вернуть научные труды академика Вавилова. 4 сентября Семичастный известил академию о том, что никаких рукописей у него нет: они были уничтожены в июне 1941 года "как не вошедшие в материалы следствия" [274]. На второе письмо по тому же поводу КГБ вовсе не ответил… "Сохранность черновиков — закон энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно учесть ветер, дующий в другую сторону…" Опальный поэт Осип Мандельштам сказал это о рукописи изгнанника Данте. Но я привожу его слова, думая о Николае Ивановиче. Ветер мракобесия во все времена крутил крылья одной и той же мельницы: в одну эпоху она обращает в пыль стихи Данте, в другую — перемалывает романы Булгакова и научные трактаты Вавилова…
Однако в разгар "вавиловской весны" мало кто обратил внимание на очередной порыв "арктического ветра". В ВИРе и БИНе радовались тому, что в кабинетах появились наконец портреты Николая Ивановича, что академическое издательство выпустило последний том собрания его сочинений и все тот же многоликий академик Цицин поместил по этому поводу хвалебную статью в "Правде".
Впрочем, не двуликие и трехликие цицины определили тот страстный интерес к личности Вавилова, который вдруг прорвался по всей стране. Правда о прошлом, живое чувство справедливости более всего нужны молодым. И под напором страстной заинтересованности новых поколений чиновники вынуждены были отступить. Начались вечера памяти Вавилова, послышались негодующие голоса тех, кто впервые услышал о трагедии ученого. Литератор Александр Гладков побывал зимой 1966 года в ВИРе. Он присутствовал на общем собрании, где другой писатель, работающий над биографией Вавилова, по материалам будущей книги рассказывал об обстоятельствах гибели своего героя. Вот как на страницах "Комсомольской правды" описал А. Гладков свои впечатления:
"Все это продолжалось два с половиной часа. Я сидел на сцене сзади президиума собрания и смотрел на лица в зале. Сколько выражений, полувыражений, оттенков, нюансов! Упрямая и угрюмая сосредоточенность, любопытство, волнение, которое едва сдерживается, растерянность, скептицизм просто и скептицизм как маска, чиновное недовольство за потревоженный покой, слезы и ярче всего — нетерпеливая жажда истины. Неодолимая сила правды, сила фактов — часто ли искусство дотягивается до такого уровня?!" [275]
Реабилитация Вавилова полным ходом шла в течение всего 1966 года. Забытая трагедия привлекала все большее внимание общества. "Мы хотим слышать не только о судьбе Моцарта, но и об его отравителе Сальери", написала в своем письме семья московского инженера, посмотрев одну из вавиловских телепередач. Правда, которую жаждали услышать и узнать миллионы людей, оставалась все еще под запретом. Но весной — летом 1966 года казалось, что запрет этот вот-вот рухнет. Появились первые более или менее честные статьи в журналах, сценаристы и режиссеры обсуждали возможность фильмов о Вавилове, писатели и философы взялись за книги на эту тему. Навстречу общему желанию сдвинулась даже обычно косная в делах общественных Академия наук.
После своего первого письма сын Николая Вавилова Юрий, профессор Н. А. Майсурян и М. А. Поповский обратились к вице-президенту АН СССР Николаю Семенову с другим предложением. Мы рекомендовали создать Комиссию по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова. На пороге 80-летия со дня рождения ученого комиссия должна была собрать все материалы, что относятся к судьбе погибшего. Наше предложение, принятое вначале с энтузиазмом, долго оставалось без ответа. В недрах академии что-то "варилось", бурлило, кипело. Хотя мемориальные комиссии такого рода уже существовали при Союзе писателей, академия не была готова признать, что один из ее членов замучен в недрах КГБ и теперь надо об этом сказать со всей откровенностью. В конце концов, месяцев через девять-десять, 8 июля 1966 года, последовало Постановление президиума АН СССР № 476: "Учитывая большое значение, которое имеют для развития науки труды и материалы, связанные с жизнью и деятельностью академика Н. И. Вавилова, организовать при Отделении общей биологии Комиссию по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова" [276]. Двумя месяцами раньше, в мае, съехавшиеся в Москву со всей страны биологи учредили Всесоюзное общество селекционеров и генетиков. Заседания нового Общества проходили в цветущем Ботаническом саду академии, при всеобщем энтузиазме делегатов. У старых генетиков, хвативших в последние четверть века немало лиха, голова кружилась от счастья: наконец-то торжествует справедливость, наконец-то вместо постылой болтовни о "победах мичуринской биологии" можно заняться настоящим делом, настоящей наукой. Праздничная атмосфера разрядилась бурей аплодисментов, когда ленинградский делегат Даниил Владимирович Лебедев предложил дать новому Обществу имя академика Вавилова.
"Николай Иванович не просто крупный ученый, он олицетворяет все самое лучшее, что присуще советской науке, — сказал Д. В. Лебедев. — Он был настоящим патриотом, причем его патриотизм ни на йоту не был загрязнен национализмом, национальной ограниченностью и спесью. Страстная борьба Николая Ивановича за научную правду навсегда останется образцом научной и общественной принципиальности, образцом гражданского мужества. Имя Николая Ивановича — это символ, это обязательство, которое мы берем на себя, это клятва работать так, как он, жить так, как он".
Делегаты единогласно поддержали предложение Лебедева, но в советскую прессу этот факт почему-то не попал. Кто-то еще раз попытался нейтрализовать действие слишком взрывчатого имени. Только коммунистическая "Морнинг стар" в корреспонденции из Москвы — "Генетика становится популярной" — известила британских читателей о том, что триста собравшихся в Москве русских генетиков "обратились к советской Академии наук с просьбой присвоить их Обществу имя Николая Вавилова, генетика-растениевода, умершего в 1943 году". Очевидно, опасаясь, что нынешнее поколение англичан уже не помнит ученого, которому в 30-х годах английские газеты уделяли немало внимания, "Морнинг стар" добавила: "Вавилов был директором Института генетики АН СССР с 1930 по 1940 год, когда он стал жертвой ныне дискредитированных теорий Лысенко" [277].
…Автору этих строк лето 1966 года тоже казалось полным надежд. Издательство "Советская Россия" приняло к печати рукопись "Человек на глобусе" — первую документально-художественную биографию академика Вавилова. Строя книгу на архивных материалах и многочисленных беседах с очевидцами, автор ставил своей задачей рассеять туман, который все еще обволакивал биографию ученого. Выход биографии к 80-летию со дня рождения Николая Ивановича казался делом предрешенным. Несколько глав рукописи под заголовком "1000 дней академика Н. И. Вавилова" летом 1966 года опубликовал журнал "Простор" (Алма-Ата) [278]. Эти главы, опять-таки строго документированные архивными материалами, излагали историю борьбы Лысенко против отечественной биологии, против Вавилова и его школы в 1937–1940 годах. Заканчивался очерк описанием ареста ученого в Черновицах в августе сорокового. "Тысяча дней" приобрели читателей по всей стране и даже за ее пределами. Впервые вместо разговоров о научной некомпетентности Т. Д. Лысенко был поставлен вопрос о его уголовно наказуемых действиях.
Очерк, высвечивающий Лысенко и его камарилью как готовых на любое преступление политических интриганов, вызвал ярость в рядах лысенковцев. В высшие инстанции полетел поток доносов. Обнаружить в очерке сколько-нибудь серьезные фактические ошибки не удалось, тогда лысенковцы принялись убеждать высокопоставленных лиц в том, что публикация книги о Вавилове принесет вред "общегосударственным интересам". Осенью 1966 года покровитель Лысенко В. Д. Панников, пользуясь своим должностным положением в Отделе сельского хозяйства ЦК КПСС (позднее он был вице-президентом ВАСХНИЛ), запретил издательству "Советская Россия" публиковать книгу о Вавилове. Запрещая книгу, Панников понимал, однако, что он превышает отпущенную ему власть, нарушает существующие законы. Поэтому директору издательства Петрову было приказано расторгнуть с автором договор под любым предлогом, ни в коем случае не ссылаясь на запрет Панникова. С начальством (даже с не-непосредственным) шутки плохи. Петров дал команду своим подчиненным, и те самые редакторы, что недавно еще одобряли рукопись, объявили ее негодной. Биография академика Вавилова в свет не вышла.
С этого, примерно, времени начала меркнуть недолгая "вавиловская весна". Как в трясину (более чем на полтора года), ушла в "инстанции" просьба генетиков и селекционеров присвоить их Обществу имя Николая Ивановича Вавилова; из статей об ученом стали изымать малейшие намеки на трагедийные обстоятельства прошлого, а вскоре паралич коснулся и мемориальной академической комиссии, лишь незадолго перед тем образованной.
Случилось это так. В начале 1967 года академик Владимир Николаевич Сукачев, председатель комиссии по вавиловскому наследию, принял решение послать в Саратов двух членов комиссии, чтобы на пороге 80-летия со дня рождения Николая Ивановича выяснить наконец, как он умер и где похоронен. Выбор пал на профессора Ф. X. Бахтеева и меня. В главе "Костер" я уже рассказал историю наших саратовских поисков. В Саратове же узнали мы из газет горестную весть о смерти академика Сукачева, нашего председателя, большого ученого и мужественного человека.
Его конец стал концом комиссии. Едва академик-секретарь Отделения общей биологии академик Б. Е. Быховский узнал, какая именно информация доставлена из Саратова, как немедленно приказал приостановить деятельность комиссии. Нетрудно понять чувства, охватившие ретивого чиновника от науки. Подумать только, в недрах академии завелась комиссия, которая в качестве итогов своей работы представляет документы о том, что величайший биолог страны умер от голода в тюремной больнице и брошен в безвестную братскую могилу! Какая наглость! Какое нарушение приличий! И это перед самыми торжествами по поводу 80-летия со дня рождения академика Вавилова! Ох уж это восьмидесятилетие… Ну и попотели из-за него некоторые административные вельможи. Отменить нельзя — "мероприятие" объявлено повсеместно, но и пускать на самотек нельзя: затронуты "государственные интересы". Посочувствуешь, право, бедняге чиновнику! Как сделать так, чтобы провести несколько многолюдных мемориальных заседаний (одно — с иностранцами!), опубликовать полторы дюжины статей в столичной и провинциальной прессе, воспеть по радио и телевидению труды академика Н. И. Вавилова, его открытия, его школу и т. д. и т. п., но при всем том ни слова не проронить о Вавилове-борце, Вавилове-жертве, о трагической кончине академика. Не знаю, где и как репетировался этот спектакль, но прошел он на сцене Театра им. Комиссаржевской в Ленинграде великолепно. Четыре дня — с 11 по 15 декабря 1967 года — проходила в зале театра юбилейная научная конференция. Вступительное слово произнес П. П. Лобанов, тот самый, что председательствовал на погромной сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Поднимались на трибуну и друзья и бывшие враги покойного, но и те и другие напрочь запамятовали все "неудобные" биографические подробности из жизни юбиляра. Ничего не было сказано о так называемой "биологической дискуссии" 30-х годов, о том, что "мичуринцы" разгромили советскую биологию, о диктате Лысенко, обо всем том, что привело Вавилова в тюрьму, а потом на Вознесенское кладбище в Саратове. Одному оратору Вавилов напомнил "вулкан Стромболи в Средиземье, который, вечно пылая, служит морякам естественным маяком". Другой умиленно воскликнул, что "Вавилов — это реально существовавший былинный богатырь, с легкостью поднимавший палицу в девяносто пуд". Но среди десятков докладчиков — академиков, докторов, профессоров — не нашлось человека, который произнес бы простые человеческие слова о том, что ему горько и стыдно за то, что страна сделала со своим гениальным сыном.
Панегирик, начатый в Ленинграде, продолжался в Москве. Здесь, в Доме ученых, снова гремели речи о вавиловском героизме перед лицом абиссинских разбойников и атласских львов, о мужестве, которое Николай Иванович проявил во время экспедиции в Афганистан. И снова некому было сказать о главном подвиге ученого: о его непримиримой позиции по отношению к псевдонауке, о смертельной опасности, которой он подвергал себя, выступая в защиту научной истины против всесильного Лысенко и лысенкоидов.
Газеты продолжали ту же линию, что и юбилейные ораторы. Академик ВАСХНИЛ П. М. Жуковский (кстати сказать, первым получивший Премию им. Вавилова) закончил свою статью о Николае Ивановиче в "Ленинградской правде" нелепой, а по сути предательской, фразой: "Ранняя смерть помешала ему сделать больше" [279]. Читателю оставалось самому решать, от какой именно детской инфекции — от кори или коклюша — приключилась "ранняя смерть" известного академика. Выступившие в "Правде" академики Б. Л. Астауров, А. Л. Курсанов и профессор С. С. Хохлов дали догадкам читателя другое направление: "Многогранная и яркая жизнь Николая Ивановича трагически оборвалась 26 января 1943 года", — писали они [280]. Трагически оборвалась? Отчего же? Может быть, Вавилов убит на фронте (время-то военное) или ненароком попал в автомобильную катастрофу? Опять проклятая неизвестность…
Канонизация с отсечением биографии — так, очевидно, следует назвать ту хитрую операцию, которой в ноябре — декабре 1967 года подверглось на родине имя Николая Ивановича Вавилова. Как поясняет энциклопедический словарь, "канонизация в христианской церкви есть причисление к святым, введение культа нового святого". На двадцать пятом году после смерти безвинно убиенный академик Вавилов был официально включен в канонический список корифеев советской науки. Отныне он составляет капитал государства, его надлежит упоминать вместе с ему подобными среди тех, кого вскормила, воспитала и облагодетельствовала прекрасная социалистическая действительность. И точно так же, как в "житиях святых" бесполезно искать подлинных обстоятельств реального бытия канонического святого, так и в книгах, статьях, фильмах и радиопередачах о Николае Вавилове отныне и во веки останутся лишь словеса о его "служении Родине".
После "канонизации" убийцы и гонители академика Вавилова вздохнули облегченно. Нависшая было над их головами гроза рассеялась. Официально было признано: Вавилов — жертва бериевщины. Никто не собирался воздавать по заслугам провокаторам и убийцам вообще и убийцам Вавилова в частности [281]. Ну а коли индульгенцию выдали такому матерому бандиту, как Хват, чего же бояться мелкой провокаторской сошке? [282]
Враги покойного академика очень быстро освоили новый стиль по отношению к памяти жертвы: задним числом все стали рваться в его друзья, ученики и даже в благодетели. Автор многочисленных доносов на Вавилова Г. Н. Шлыков, о котором выше уже упоминалось, поспешил в предисловии к своей очередной книге выразить благодарность незабвенному и любимому учителю Николаю Ивановичу. Еще в середине 30-х годов к Лысенко перебежал сотрудник ВИРа академик Эйхфельд. В награду за предательство Лысенко его назначил в 1940 году директором ВИРа. Теперь же Эйхфельд вдруг вспомнил, как он придумал когда-то ввести земледелие в Заполярье и как его поддержали "трезво и перспективно мыслящие люди во главе с академиком Н. Вавиловым". Читателям этого сочинения подсовывалась мысль, что инициатор и творец идеи полярного земледелия не академик Вавилов, а посредственный агроном Эйхфельд, с грехом пополам исполнявший вавиловские распоряжения на Хибинской опытной станции. Вот как стало все выглядеть во времена "позднего реабилитанса"… [283] "Канонизация с отсечением" обернулась активной фальсификацией всего, что связано с историей Вавилова — Лысенко.
Весной 1969 года в издательстве "Молодая гвардия" в Москве вышла биография Н. И. Вавилова, написанная С. Резником для серии "Жизнь замечательных людей", и тут же весь тираж был арестован. Типографские рабочие выдрали из готового издания страницы, на которые, по мнению властей, проникла нежелательная информация. Мне удалось сравнить оба варианта книги. Выдирке подверглись в основном страницы, разоблачающие Лысенко. (Заодно власти укрыли от справедливого осуждения и провокатора С. Шунденко.)
Творец "мичуринской биологии", слегка струхнувший после потери своего высокого патрона Хрущева (октябрь 1964 года), очень скоро понял, что ему ничего не грозит. Больше того, у него нашлись заступники. Журнал "Октябрь" (редактор Кочетов) опубликовал сначала статью философа Г. Платонова, защищающую "то бесспорно ценное, что дал Т. Д. Лысенко" [284], а потом поместил двадцать пять страниц убористого текста, на которых лысенковская гвардия получила возможность перейти в контрнаступление на современную биологию [285]. Не ограничившись этим, лысенковцы призвали варягов. Издательство "Прогресс" опубликовало в 1970 году брошюру президента АН НРБ Тодора Павлова, того самого, что вскоре после войны затравил вавиловца Дончо Костова. В брошюре с нарочито "философским" заголовком "К диалектическому единству дарвинизма и генетики" Павлов протягивает Лысенко руку помощи "с партийных позиций". Если "мичуринцы" со страниц "Октября" ратовали за то, чтобы их признали равноправными учеными наравне с генетиками-классиками, и аргументировали необходимость такого симбиоза пользой для народного хозяйства, то Тодор Павлов пошел дальше. Он принялся журить критиков Лысенко уже за идеологические ошибки. Пользуясь политическим словарем и набором цитат из Энгельса и Ленина, он доказывал, что учение Мичурина — Лысенко состоятельно не только с точки зрения биологии, но также с позиций дарвинизма и диалектического материализма. Оспаривать такие аргументы в СССР не полагалось.
В том же 1970 году чьи-то заботливые руки изъяли статью профессоров А. Н. Ипатьева и Б. А. Вакара "Памяти академика Н. И. Вавилова" из сборника "Ботанические исследования на Урале" (Свердловское издательство АН СССР, Уральский филиал, выпуск 5. Ответственный редактор П. Л. Горчаков). Защитники Лысенко выдирали из сборника статью о Николае Ивановиче впопыхах, воровским образом, но грязные следы их отпечатались весьма четко: статья "Памяти академика Н. И. Вавилова" значится в оглавлении, но ее нет в тексте.
Так, то взывая к "партийной принципиальности в науке", то беспринципно изымая всякое упоминание о судьбе Вавилова, пытались чиновники оживить труд "мичуринского учения", так спасали экс-диктатора Лысенко. Зачем? Это не трудно понять. После сессии ВАСХНИЛ 1948 года по требованию Лысенко было снято с должностей три тысячи противников мичуринизма. Их заменили три тысячи "твердых" лысенковцев. Они заняли кафедры в институтах и университетах, должности в министерствах, редакциях, академиях. В 60-х и 70-х годах они все еще оставались там, эти человечки, получившие свои посты благодаря верности фюреру. И хотя сам фюрер уже утерял власть и умер, они по-прежнему жили иждивением его имени. Они делали все, чтобы если не возродить лысенковщину (это программа максимум), то, во всяком случае, не допускать воспоминаний о его прошлых преступлениях. Не только власти, но и эти доброхоты из должностных сидельцев прилагали все силы для того, чтобы современники забыли о пролитой крови Вавилова, Говорова, Карпеченко, Левитского. Их мечта — всеобщее и обязательное историческое беспамятство, ибо только беспамятство позволяло им сохранить свои посты, пайки, чины и будущие высокие пенсии. И эта их голубая мечта осуществилась полностью. Советская цензура долгие годы запрещала упоминать имя Лысенко в критических целях в книгах и газетах. Нельзя было касаться этого взятого под высокую защиту имени также в журналах, на телевидении, на театральной сцене. Зато Николая Ивановича Вавилова чиновники упоминали при всяком удобном и неудобном случае. Отделенный от своей неблаговидной биографии, великий агроном и генетик отлично приспособлен для целей политической пропаганды. В сознание радиослушателей, читателей книг и газет вбивалось представление о том, что Вавилов и Лысенко — две совершенно разнородные, ничем не связанные величины. Они никогда не конфликтовали, никто никого не душил, никто никого не убивал. Для новых поколений, не имеющих правдивой информации, давняя трагедия тонет в тумане. Связь времен распадается окончательно.
…У большинства цивилизованных народов одним из самых гнусных преступлений всегда считалось осквернение могил. Но те, кто пожелали выжечь из памяти народа правду о Николае Вавилове — герое и мученике, — не остановились даже перед осквернением.
Осенью 1967 года, после того как было разыскано примерное место погребения Николая Ивановича на саратовском кладбище, мы, члены комиссии по вавиловскому наследию, приняли решение воздвигнуть в Саратове памятник. Комиссия обратилась в Отделение общей биологии АН СССР с запросом, кто возьмет на себя расходы по постройке, — следует ли собрать частные пожертвования или академия пожелает поставить монумент на свои средства. Прошел год — Отделение (академик-секретарь Б. Е. Быховский) безмолвствовало. В августе 1968 года два члена комиссии — Ф. X. Бахтеев и М. А. Поповский — обратились с таким же письмом к президенту Академии наук СССР. Снова многомесячное молчание.
Молчание чиновника, как это давно уже стало ясно гражданам нашего обширного и богатого администрацией отечества, есть знак того, что чиновник наш проект не одобряет, но предпочитает не оставлять письменных следов своего неодобрения. После того как вы окончательно поняли это, вам остается лишь надеяться на самого себя. Именно так и поступила комиссия. Прождав попусту два года, члены ее обратились ко всем тем, кому дорога память о Николае Ивановиче, с просьбой присылать пожертвования на памятник. Вавилов-сын предоставил для этой цели свой счет в сберегательной кассе. Сначала все пошло хорошо. Предприятие, свободное от бюрократической опеки, начало быстро и естественно развиваться. Со всей страны стекались деньги, честные трудовые деньги людей науки; в Саратове сыскался скульптор, в Ленинграде удалось купить большой кусок серого гранита. На сентябрь 1970 года было назначено открытие памятника с тем, чтобы совместить это с 50-летним юбилеем закона гомологических рядов. Участвовать в торжествах выразили желание многие биологи страны.
И вот памятник закончен. Ничто, казалось бы, не могло помешать группе частных лиц, на свои деньги построивших памятник любимому учителю, в интимной и скромной обстановке совершить ритуал открытия монумента. Но не тут-то было. Саратовский обком и горком КПСС, на правах хозяев земли, воздуха и всего сущего, назначили по своему усмотрению оргкомитет по открытию памятника академику Вавилову. Чиновник взялся за живое дело — и оно враз стало мертвым. Оргкомитет, учрежденный 22 сентября, назначил открытие на 25-е. Расчет был прост: большинство вавиловцев просто не успеют узнать о торжествах и в Саратов не приедут. А сделать ритуал возможно менее людным и возможно более незаметным было с самого начала главной целью партийных чиновников. Их расчет оправдался. Многие из тех, кто мечтал попасть на встречу с коллегами и друзьями в Саратов, узнали о торжествах с опозданием на добрую неделю.
Но и этим вмешательство Чиновника не ограничилось. 23 и 24 августа вдруг пробудились два года молчавшие Академия наук СССР и ВАСХНИЛ. Впопыхах, боясь опоздать, они начали отправлять в Саратов своих представителей. Те, кто недавно еще и слышать не желал о каком-то памятнике, начали спешно хватать первые попавшиеся самолетные билеты. Из Ленинграда по приказу ВАСХНИЛ прилетели в Саратов заместитель директора, секретарь парторганизации и председатель месткома ВИРа. И АН СССР за считанные часы перед открытием памятника откомандировала туда же своего представителя. Никем не званые, сбегались и слетались к могиле Вавилова все эти равнодушные и трусливые администраторы, всего лишь два-три года перед тем боявшиеся вслух произнести имя покойного. Их присутствие здесь имело лишь одну цель: засвидетельствовать, что они тут были, что Академия наук и ВАСХНИЛ не остались в стороне от "мероприятия".
Но вот наконец свои и чужие столпились вокруг задернутого покрывалом памятника на Воскресенском кладбище, и… "Когда полотнище упало, мы, старые вировцы, прямо ахнули, — вспоминает Клавдия Васильевна Иванова. Лицо, изображенное в граните, не имело ничего общего с лицом Николая Ивановича" [286]. Это было как шок. Несколько сот человек стояли вокруг серого гранитного обелиска, завершающегося большой, лишенной сходства головой. Только глядя на памятник сбоку, можно было уловить некоторое сходство с натурой. Люди шептались о неспособности скульптора, о том, что первоначально сделанная им в глине модель была хороша, а потом он напортил, когда переводил портрет в гранит. Но вскоре все разъяснилось. Истина оказалась намного печальнее домыслов.
Когда скульптор Константин Сергеевич Суминов, закончив работу, собирался перевезти монумент на кладбище, к нему в мастерскую явились представители саратовского Главлита. "Искусствоведы в штатском", а по существу сотрудники КГБ, не одобрили работу художника. Нет, речь шла не о портретном сходстве. Оно кагебешников не интересовало. Но зато они потребовали, чтобы Суминов стесал на гранитном лице ученого все морщины. Морщины эти, по их мнению, намекали на дурное питание, которое покойный получал в Саратовской тюрьме № 1. Нежелательным был объявлен и прищур вавиловских глаз. Особенно криминально щурился правый. Он явно намекал, что в тюрьме ученого били. И чтобы уж навсегда покончить с мрачным прошлым академика, главлитчики потребовали от скульптора вырубить на лице гранитного Вавилова широкую улыбку. Суминов пробовал протестовать, но ему пригрозили, что, если указания Главлита не будут выполнены, памятник не разрешат установить, а сам скульптор будет исключен из Союза художников. Станем ли мы обвинять в слабоволии провинциального, обремененного семьей художника, которого власти вынудили собственными руками изуродовать свое детище. Скорее следует посочувствовать ему…
Старый вировец профессор Николай Родионович Иванов прислал мне описание грустной саратовской тризны. "Один из членов оргкомитета сказал мне, — пишет Н. Р. Иванов, — что, если бы мы не управились 25-го, то 28-го из Москвы запретили бы и торжественное заседание ученого совета Сельскохозяйственного института, и празднование в честь пятидесятилетия закона гомологических рядов, и открытие памятника. Подумать только: прошло уже более 30 лет, как Вавилов перестал работать, но тень этого гиганта науки все еще кого-то пугает…" [287] Профессор Н. Р. Иванов прислал две до крайности скупые заметки, опубликованные в саратовской областной и университетской газетах относительно вавиловских торжеств. О памятнике в заметках сказано буквально по нескольку слов. Остальные газеты страны вообще не упоминали об этом событии. Очевидно, оно показалось им малозначительным. Нашелся, однако, орган печати, который кратко, но четко объяснил своим читателям, что именно произошло на могиле автора закона гомологических рядов:
"25.9.70 г. на Воскресенском кладбище в г. Саратове был открыт памятник академику-биологу Н. И. Вавилову, умершему от голода в Саратовской тюрьме. Тело его было сброшено с металлической биркой на ноге в одну из общих ям, поэтому найти подлинное место погребения Николая Ивановича Вавилова не удалось. Поставил памятник сын Н. И. Вавилова — Юрий, деньги в течение 2-х лет собирали биологи страны, ученики, сотрудники и друзья покойного. Памятник установлен при входе на кладбище рядом с памятником Н. Г. Чернышевскому. Власти расследуют, кто организовал сбор средств на памятник Н. И. Вавилову. В связи с этим многие видные ученые Саратова, Ленинграда и Москвы были допрошены в своих институтах. Некоторым из них сделано внушение по партийной линии".
Этими строками из семнадцатой хроники "Год прав человека" за 1970 год я заканчиваю печальную повесть о беде и вине академика Николая Вавилова.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абакумов В. С., министр госбезопасности СССР в 1946 — 1951 гг.
Агол И. И., генетик, академик, ученый секретарь АН УССР. Расстрелян
Александров А. Б., зам. директора ВИРа по науке в 1935–1937 гг. Погиб в заключении
Аллард Э., английский генетик 91
Алпатов В. В., биолог, профессор
Андреев А. А., нарком земледелия СССР в 1943–1946 гг., член Политбюро, секретарь ЦК партии
Андреев В. В., начальник Саратовского следственного изолятора в 1960-е гг., майор войск МВД
Арцыбашев Д. Д., профессор-дендролог. Погиб в заключении в 1943 г.
Астауров Б. Л., генетик, академик, первый президент Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова
Атабекова А. И., биолог, сотрудница ВИРа
Ацци Дж., итальянский физиолог растений
Базилевская Н. А., ботаник, систематик, географ, доктор наук, сотрудница ВИРа
Байков А. И., шофер в ВИРе
Баранов П. А., ботаник, член-корреспондент АН СССР
Бардин И. П., металлург, академик
Барулин К. И., брат жены Н. И. Вавилова
Барулина Е. И., ботаник, генетик, доктор наук, вторая жена Н. И. Вавилова
Барулина П. И., сестра жены Н. И. Вавилова
Бауман Н. И., зав. сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) в 1930-е гг. Арестован в 1938 г.
Баур Э., немецкий биолог, друг Н. И. Вавилова
Бах А. Н., химик, академик
Бахарев А. Н., журналист, одно время был секретарем И. В. Мичурина
Бахтеев Ф. X., растениевод, генетик, доктор наук, сотрудник ВИРа, член Комиссии АН СССР по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова
Безредка А. М., в 1930-е гг. профессор института Пастера в Париже
Белинский В. Г.
Беляницкая В. В., физиолог, сотрудница академика Л. А. Орбели
Бенедиктов И. А., нарком земледелия СССР в 1938 — 1943, 1946–1959 гг.
Бербанк Л., американский селекционер-самоучка
Берг Л. С., академик, в 1940-е гг. президент Географического общества СССР
Берия Л. П.
Бернар К., французский физиолог
Биффен Р., английский селекционер и генетик
Богачев С., капитан КГБ
Богомолец А. А., патофизиолог, академик, президент АН УССР в 19301946 гг.
Болл В. Л., немецкий злаковед
Большаков И. Г., в 1930-е гг. возглавлял кинопромышленность СССР
Бондаренко А. С., вице-президент ВАСХНИЛ в 1930-е гг. Погиб в заключении
Бошьян Г. М., ветеринар, возвысившийся при Т. Д. Лысенко
Бреславец Л. П., профессор Московского университета, друг и соученица Н. И. Вавилова
Бриджес К., американский генетик, ученик Т. Моргана, в 1930-е гг. работал в Москве
Бриссенден Е. Я., американский ботаник, в 1929 — 1942 гг. жила в СССР
Букасов С. М., ботаник-географ, доктор наук, сотрудник ВИРа
Булгаков М. А., русский писатель
Бурский В. Я., вице-президент
ВАСХНИЛ в 1930-е гг. Погиб в заключении
Бухарин Н. И., расстрелян в 1938 г.
Быховский Б. Е., академик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР в 1964–1970 гг.
Бэкон Ф., английский философ
Бэтсон В., английский генетик, учитель Н. И. Вавилова
Вавилов И. И., отец Н. И. Вавилова
Вавилов О. Н., сын Н. И. Вавилова. Погиб в 1946 г.
Вавилов С. И., физик-оптик, президент АН СССР в 1945–1951 гг., младший брат Н. И. Вавилова
Вавилов Ю. Н., сын Н. И. Вавилова
Везалий А., естествоиспытатель, основоположник анатомии
Вакар Б. А., цитогенетик, биолог, доктор наук. Автор статьи "Памяти академика Вавилова"
Вернадский В. И., биогеохимик, академик
Веснин В. А., архитектор, академик
Вильморен, семья французских растениеводов
Вильямс В. Р., почвовед, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, профессор сельскохозяйственной академии им. Тимирязева
Винклер А. Ю., немецкий биолог
Водков А. П., селекционер, сотрудник ВИРа, лысенковец
Войно-Ясенецкий В. Ф., хирург, епископ русской православной церкви (епископ Лука)
Волошин М. А., русский поэт и художник
Вольф M. M., вице-президент ВАСХНИЛ в 1930-е гг. Расстрелян
Воронков К. В., один из руководителей Союза писателей СССР
Воронов Ю. Н., биолог, корреспондент Н. И. Вавилова
Врангель П. Н., барон
Вульф Е. В., ботаник-географ, заведующий гербарием ВИРа, доктор наук. Погиб в блокаду Ленинграда
Вышинский А. Я., генеральный прокурор СССР в 1940–1953 гг.
Гайстер А. И., в 1930-е гг. зам. наркома земледелия СССР. Расстрелян
Галилей Г., итальянский физик и астроном
Гарвей У., английский врач, открыл законы кровообращения
Гарвуд А., американский писатель, автор переведенной в СССР книги "Обновленная земля"
Гарнер, американский физиолог растений
Гарст Р., американский фермер и бизнесмен
Гвоздев А. М., в конце 1960-х гг. зам. начальника милиции Саратовс
кой области, подполковник
Гельмгольц Г., немецкий врач и физик
Герасимов А. М., советский художник, президент АХ СССР в 1947–1957 гг.
Гете И. В.
Гитлер А.
Гладков А. К., советский писатель
Говоров Л. И., ботаник-селекционер, доктор наук, сотрудник ВИРа. Расстрелян
Гоголь Н. В.
Гольдшмидт Р., немецкий биолог
Горбунов Н. П., личный секретарь Ленина, позже управляющий делами СНК СССР, академик. Расстрелян в 1937 г.
Горчаков П. Л., редактор Свердловского издательства в 1970-е гг. 280
Горшков И. С., сотрудник И. В. Мичурина
Горький А. М.
Грегори Р. А., английский ученый, автор книги "Открытия, цели и назначение науки"
Губкин И. М., геолог, академик 115
Гумбольдт А., немецкий естествоиспытатель
Гурский А. В., растениевод, доктор наук, сотрудник ВИРа
Густафссон А., шведский лесовод-генетик
Давид Р. Э., в 1930-е гг. директор Института по изучению засухи, академик ВАСХНИЛ. Арестован в 1937 г.
Даниэль Ю. М., советский писатель, осужденный в 1966 г. за публикацию своих произведений на Западе
Данте А., итальянский поэт 272
Дарвин Ф., сын Чарлза Дарвина, его издатель
Дарвин Ч.
Дарлингтон С. Д., английский генетик
Дегтярев Д. Г., генерал милиции, начальник областного управления милиции в Саратове в 1960-е гг.
Дейл Г. Г., президент Лондонского Королевского общества, иностранный член АН СССР. Вышел из АН СССР в знак протеста против ареста Н. И. Вавилова
Декандоль А., швейцарский ботаник
Деминский И. А., врач-чумолог. Погиб, заразившись чумой в 1912 г.
Джоуль Дж. П., английский физик
Дмитриев, генерал юстиции (диввоенюрист), член трибунала, осудившего Н. И. Вавилова
Долгушин Д. А., биолог, друг и сотрудник Т. Д. Лысенко
Долгушин Ю. А., писатель-популяризатор, брат Д. А. Долгушина
Донской П. В., аспирант ВИРа в 1930-е гг., лысенковец
Дорогое, зам. наркома земледелия СССР в 1930-е гг.
Достоевский Ф. М.
Дояренко А. Г., агроном, был арестован и сослан в начале 1930-х гг.
Дубинин Н. П., генетик, академик
Дэви X., английский химик и физик, один из основателей электрохимии
Дюбуа Э., голландский антрополог
Дюринг Е., немецкий философ
Ельницкий С. А., в 1930-е гг. секретарь парторганизации ВИРа
Жданов Ю. А., в 1940-е гг. зав. отделом науки ЦК партии
Жегалов С. И., селекционер, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии
Жерар Ш. Ф., французский химик
Жуковский П. М., растениевод, академик ВАСХНИЛ, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии, в 1950-х гг. директор ВИРа
Завадовский M. M., биолог, вице-президент ВАСХНИЛ
Зайцева А. А., сотрудница ВИРа
Запорожец А. К., директор Института удобрений, проходил по "делу" Н. И. Вавилова
Зарубайло Т. Я., сотрудник ВИРа, лысенковец
Здродовский П. Ф., эпидемиолог, академик АМН
Зиркл К., американский ботаник 119
Зубарев А. К., член коллегии Наркомзема, лысенковец. По заданию НКВД дал клеветнический отзыв о научной деятельности Н. И. Вавилова
Иванов H. H., биохимик, доктор наук, сотрудник ВИРа 150, 204
Иванов Н. Р., селекционер, доктор наук, первый ученый секретарь Комиссии АН СССР по сохранению и разработке научного наследия
Н. И. Вавилова
Иванова К. В., сотрудница ВИРа
Иоффе А. Ф., физик, академик
Ипатьев А. Н., ботаник, профессор
Ирашин, начальник тюрьмы № 1 в Саратове, где сидел и погиб Н. И. Вавилов, старший лейтенант
Каганович Л. М.
Калинин М. И.
Кампанелла Т., монах, автор книги "Город солнца"
Капица П. Л., физик, академик 78
Карпеченко Г. Д., цитогенетик, доктор наук, зав. лабораторией ВИРа. Расстрелян в 1941 г.
Кедров Б. М., философ, химик, историк науки, академик
Келдыш М. В., физик-теоретик, президент АН СССР в 1961–1975 гг.
Келлер Б. А., ботаник, академик АН СССР и ВАСХНИЛ
Керенский А. Ф.
Кириллин Вл. А., государственный, партийный деятель, академик. В 1963–1965 гг. вице-президент АН СССР, позже председатель Гос. комитета СССР по науке и технике
Киров С. М.
Кихара Х., японский генетик
Кичунов Н. И., доктор наук, сотрудник ВИРа
Кленов, генерал авиации. Арестован в 1941 г., сидел в Саратовской тюрьме
Климин, генерал юстиции, член трибунала, осудившего Н. И. Вавилова
Клиппарт, американский агроном
Кобулов Б. 3., зам. министра внутренних дел СССР до 1953 г., кандидат в члены ЦК. Расстрелян
Ковалев Н. В., заместитель директора ВИРа в 1930-е гг. Был в заключении с 1935 по 1940 г.
Коган П. С., литературовед
Кожевников, генерал Советской Армии. Сидел вместе с Н. И. Вавиловым в Бутырской тюрьме в Москве. Расстрелян
Кожухов И. В., специалист по кукурузе, сотрудник ВИРа
Колесников В. И., московский военный прокурор, в 1955 г. проводил ревизию "дела" Вавилова
Коль А. К., биолог, сотрудница ВИРа. Автор доносов на Н. И. Вавилова
Кольрейтер И., немецкий биолог XVIII в., иностранный член Петербургской АН
Кольцов Н. К., генетик, академик ВАСХНИЛ, член-корреспондент АН СССР
Комаров В. Л., ботаник, президент АН СССР в 1936 — 1945 гг.
Константинов П. Н., селекционер, специалист по пшеницам, академик ВАСХНИЛ
Корренс К. Ф., немецкий злаковед
Королев С. И., растениевод, сотрудник ВИРа
Костов Д., болгарский генетик, работал в ВИРе, друг Н. И. Вавилова
Костова-Маринова А. А., жена Д. Костова
Костюченко И. А., аспирант ВИРа в 1930-е гг., лысенковец
Кочетов Вс. А., советский писатель
Коэн Б., американский историк науки
Крачковский И. Ю., востоковед, арабист, академик
Крейер Г. К., биолог, специалист по лекарственным растениям
Кржижановский Г. М., вице-президент АН СССР в 1929–1939 гг.
Кру Ф., английский генетик, председательствовал в 1939 г. на VII Генетическом конгрессе в Эдинбурге
Кузьмин В. П., селекционер, специалист по пшеницам, сотрудник ВИРа, академик ВАСХНИЛ
Кулешов H. H., селекционер, доктор наук, сотрудник ВИРа, академик АН УССР
Куприянов А. М., аспирант ВИРа в 1930-е гг., лысенковец
Купцов А. И., биолог, доктор наук, сотрудник ВИРа
Курсанов А. Л., ботаник, академик
Лаврентьев М. А., математик, академик
Лавуазье А. Л., французский химик
Ламарк Ж.-Б., французский естествоиспытатель
Лапин А. К., в 1930-е гг. зав. бюро по опытному делу ВАСХНИЛ
Лебедев Д. В., историк и библиограф ботаники, ученый секретарь Комиссии АН СССР по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова
Лебедева П. С., агроном, друг И. В. Мичурина
Левидов М. Ю., писатель. Расстрелян в Саратовской тюрьме в 1942 г.
Левит С. Г., биолог, генетик. Основатель Медико-генетического института в Москве в начале 1930-х гг. Расстрелян
Левитский Г. А., ботаник, цитолог, доктор наук, зав. лабораторией в ВИРе. Трижды арестовывался, погиб в заключении
Лейти К. Е., немецкий злаковед
Леман А., немецкий биолог
Ленин В. И.
Леонардо да Винчи, итальянский живописец и скульптор
Леонтович М. А., физик, академик
Лепешинская О. Б., биолог, академик АМН
Лепин Т. К., генетик, сотрудник Института генетики АН СССР
Лехнович В. С., растениевод, сотрудник ВИРа
Либих Ю., немецкий химик, один из основателей агрохимии
Линней К., шведский естествоиспытатель
Липшиц С. Ю., ботаник, составитель биобиблиографического словаря "Русские ботаники"
Лисицин П. И., селекционер, академик ВАСХНИЛ
Литвинов M. M., в 1930–1939 гг. нарком иностранных дел СССР. В 1941–1943 гг. зам. наркома иностранных дел, одновременно посол в США
Лобанов П. П., академик ВАСХНИЛ, председательствовал на погромной сессии ВАСХНИЛ в 1948 г.
Лозовский Г. М., шофер из Саратова, сохранил воспоминания о последних месяцах жизни Н. И. Вавилова в камере смертников
Ломов-Оппоков Г. И., старый большевик. Член ЦК партии. Расстрелян в 1938 г.
Ломоносов М. В.
Лузин H. H., математик, академик
Луппол И. К., философ, академик, сокамерник Н. И. Вавилова. Умер от голода в лагере в 1943 г.
Лутков А. И., генетик, сотрудник ВИРа
Лысенко Т. Д., академик ВАСХНИЛ и АН СССР
Людвиг К. Ф. В., немецкий физиолог, иностранный член Петербургской АН
Мажанди Ф., французский физиолог
Майер Ю. Р., немецкий врач и физик
Майсурян Н. А., растениевод, академик ВАСХНИЛ, член Комиссии АН СССР по сохранению и разработке научного наследия Н. И. Вавилова
Макаров Н. П., экономист, родственник Н. И. Вавилова. Провел 25 лет в лагерях
Максимов Н. А., физиолог растений, академик. Многократно арестовывался
Маленков Г. М.
Мальцев А. И., специалист по сорнякам, сотрудник ВИРа
Маляров М. П., заместитель генерального прокурора СССР в 1970-х гг.
Мандельштам О. Э., русский поэт. Погиб в лагере
Мангельсдорф П. С., американский генетик
Маньян, директор Мончегорского горнорудного комбината. Сокамерник Н. И. Вавилова в Бутырской тюрьме
Марат Ж.-П., один из руководителей Великой французской революции
Марголин Л. С., академик ВАСХНИЛ. Расстрелян
Маркович В. В., растениевод, сотрудник ВИРа. Много лет провел в лагерях
Маркс К.
Медведев H. H., в 1930-е гг. научный сотрудник Института генетики АН СССР
Мейстер Г. К., селекционер, вице-президент ВАСХНИЛ. Расстрелян
Меллер Г. Дж., американский генетик, в 1930-е гг. работал в Ленинграде
Менделеев Д. И., русский химик
Мендель Г. И., австрийский биолог. Основоположник учения о наслед
ственности
Меркулов В. Н., первый зам. наркома внутренних дел в 1938–1943 гг.; в 1943–1946 гг. нарком ГБ
Метальников С. И., биолог, иммунолог, в 1930-е гг. профессор Института Пастера в Париже
Мехешвари Нирмала Матур, индийский ботаник
Мещанинов И. И., языковед, академик
Микеланджело, итальянский живописец, скульптор
Милликен Р. Э., американский физик, иностранный чл. — корр. АН СССР
Милованов В. К., животновод, лысенковец
Милюков П. Н., русский политический деятель, руководитель партии кадетов
Минкевич И. А., заместитель директора ВИРа в 1940 г.
Мицкевич М. С., биолог, доктор наук. Сидел в Саратовской тюрьме одновременно с Н. И. Вавиловым
Мичурин И. В., садовод, селекционер
Мишина А. М., машинистка ВИРа
Молотов В. М.
Монтень М., французский философ, писатель
Морган Т. X., американский биолог, основоположник генетики, президент Нац. АН США в 1927 — 1931 гг.
Мордвинкина А. И., растениевод, сотрудница ВИРа
Морозов Н. А., революционер, народоволец, почетный академик АН СССР
Мосолов В. П., академик ВАСХНИЛ, лысенковец
Муралов А. И., старый большевик, в 1933–1936 гг. зам. наркома земледелия СССР, в 1935–1937 гг. президент ВАСХНИЛ. Расстрелян
Мынбаев К. М., аспирант ВИРа в 1930-е гг., лысенковец
Наумов Н. Г., начальник Ленинградского обл. земельного управления в 1930-е гг. Расстрелян
Нильсон-Элле, шведский биолог, иностранный чл. — корр. АН СССР 214
Нобель А. Б., изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии
Новичков А. И., тюремный кладовщик, хоронил Н. И. Вавилова
Нодэн Ш., французский ботаник
Ньютон И., английский математик, механик, физик
Образцов В. Н., ученый, инженер, академик
Одрикур А., французский биолог
Оппоков Н. И., агроном из Саратова
Орбели Л. А., физиолог, академик АН СССР и АМН, вице-президент АН СССР
Орлов А. А., растениевод, сотрудник ВИРа
Оствальд В., немецкий химик
Офферман К., генетик из Аргентины, работал в Институте генетики АН СССР
Павлов И. П., физиолог, академик
Павлов Т. Д., болгарский философ-марксист, в 1947–1962 гг. президент АН Болгарии
Пангало К. И., растениевод, профессор ВИРа
Панников В. Д., сотрудник ЦК КПСС в 1960-е гг., позднее вице-президент ВАСХНИЛ
Паншин Б. А., профессор, директор Киевского института сахарной свеклы. Проходил по "делу" Вавилова. Расстрелян в 1941 г. 193
Пастер Л., основатель современной микробиологии
Пашкевич В. В., специалист по плодовым культурам, профессор ВИРа
Пеннет Р. К., английский генетик 250
Перлова Р. Л., биолог, доктор наук, сотрудница ВИРа
Петров Е. А., в 1960-е гг. директор изд. "Советская Россия"
Пиотровская (Янковская) И. К., в 1940-е гг. школьница. Видела Н. И. Вавилова в Саратовской тюрьме в январе 1942 г.
Пирогов Н. И., русский хирург
Писарев В. Е. селекционер-генетик, доктор наук, близкий сотрудник Н. И. Вавилова по ВИРу. Арестовывался
Пичугина (Кузнецова) О. В., в 1930-е гг. тюремный врач
Платонов Г. В., философ, автор статей в поддержку Т. Д. Лысенко
Плиний-старший, римский писатель и ученый
Подъяпольский П. П., врач из Саратова, друг Н. И. Вавилова
Поляченко В. П., биолог-лысенковец
Пономарев, биолог-лысенковец
Попов М. Г., ботаник, профессор ВИРа
Поскребышев А. Н., секретарь Сталина
Презент И. И., философ-марксист, ближайший сотрудник Т. Д. Лысенко
Прянишников Д. Н., агрохимик, физиолог растений, академик. Учитель Н. И. Вавилова
Птухин Е. С., генерал-лейтенант авиации. Расстрелян в Саратовской тюрьме
Пучков Н. С., бухгалтер. Сидел в Саратовской тюрьме
Пушкин А. С.
Рассел Д., английский почвовед, друг Н. И. Вавилова
Резаева 3. Ф., в 1940-е гг. судебно-медицинский эксперт Саратовской тюрьмы
Резник С. Е., автор биографии Н. И. Вавилова в серии "Жизнь замечательных людей"
Рейман, немецкий биолог
Розанова М. А., селекционер, профессор ВИРа
Роллан Р., французский писатель
Pop A. К., немецкая коммунистка. Сидела в Саратовской тюрьме в годы второй мировой войны
Рудзинский Д. Л., русский биолог, селекционер
Рунов Т. А., селекционер, адресат писем Н. И. Вавилова
Рязанов (Гольдендах) Д. Б., в 1921 — 1931 гг. директор Института марксизма-ленинизма. Погиб в заключении
Сакс К., американский генетик
Сальери А., итальянский композитор
Сапегин А. А., генетик, селекционер, академик ВАСХНИЛ, вице-президент АН УССР
Сахаров А. Д., физик, академик
Сахарова Е. Н., агроном, первая жена Н. И. Вавилова
Селассие X., император Абиссинии (Эфиопии) в 1931 — 1974 гг.
Семенов H. H., химик, академик
Семичастный В. Е., в 1960-е гг. глава КГБ
Сеппо А., эстонский хирург-изобретатель
Сервет Мигель, испанский врач и мыслитель
Серебровский А. С., биолог-генетик, чл. — корр. АН СССР
Сечкарев Б. И., научный сотрудник ВИРа
Сидоров Ф. Ф., в 1930-е гг. аспирант ВИРа, позднее зам. директора Института. Автор доносов на Н. И. Вавилова
Сизов И. А., после ареста Н. И. Вавилова стал зам. директора ВИРа
Симиренко В. Л., специалист по плодовым культурам
Симпсон Р., американский генетик
Синская Е. Н., профессор ВИРа, доктор сельскохозяйственных и биологических наук
Синявский А. Д., советский писатель, осужденный в 1966 г. за публикацию своих произведений на Западе. Эмигрировал из СССР
Скрипина М. Е., фельдшер Саратовской тюрьмы. Подписала акт о смерти Н. И. Вавилова
Сметанникова А. И., научный сотрудник ВИРа
Смушкевич Я. В., генерал авиации. Расстрелян в 1942 г.
Сорокина О. Н., генетик, доктор наук, сотрудница ВИРа
Спангенберг Г. Е., фитопатолог, сотрудник ВИРа. Погиб в заключении
Сперанский А. Д., физиолог, академик АМН
Сталин И. В.
Стеклов Ю. М., редактор газеты "Известия" с 1917 г. Погиб в Саратовской тюрьме
Степаненко Ф. И., в 1930-е гг. директор Одесского селекционно-генетического института
Степанова Н. Л., врач Саратовской тюрьмы
Столетова Е. А., сотрудница ВИРа
Стреблов Н. В., художник-график
Стромин А. Р., начальник Саратовского управления НКВД с 1936 г. Расстреляй в 1939 г.
Суворов В. В., сотрудник ВИРа
Сукачев В. Н., ботаник, лесовед, академик. Председатель Комиссии АН
СССР по сохранению и разработке наследия Н. И. Вавилова
Суминов К. С., скульптор, автор памятника Н. И. Вавилову в Саратове
Суслин, генерал юстиции (диввоенюрист), председатель трибунала, приговорившего Н. И. Вавилова к расстрелу
Сухно А. И., преподаватель кафедры марксизма-ленинизма Московского университета. Сидел в Саратовской тюрьме
Таланов В. В., селекционер, доктор наук. Трижды арестовывался в 1930-е гг.
Талянкер, в 1930-е гг. врач Саратовского тюремного изолятора 241
Таюрский, генерал авиации. Погиб в Саратовской тюрьме
Тверитин, в 1930-е гг. начальник санчасти Саратовского тюремного изолятора
Терехов, генерал юстиции, сотрудник прокуратуры СССР в 1960-е гг. 15
Тетерев Ф. К., биолог-лысенковец
Тимирязев К. А., физиолог растений, чл. — корр. Рос. АН, профессор Московского университета
Тимофеев-Ресовский Н. В., генетик, биолог
Толстой Л. Н.
Третьяков С. М., советский писатель. Расстрелян в 1939 г.
Тулайков H. M., почвовед, агроном, академик АН СССР и ВАСХНИЛ. Расстрелян в 1938 г.
Туполев А. Н., авиаконструктор, академик
Турецкий, врач Саратовской тюрьмы в 1930-е гг.
Тюмяков Н. А., селекционер из Саратова
Ульрих В. В., председатель военной коллегии Верховного суда СССР в 1940-е гг.
Ульянов С. К., биолог, профессор. Арестован в начале 1940-х гг. 186
Уоллес Г. Э., американский селекционер, в 1930-е гг. министр сельского хозяйства США
Фадеев А. А.
Фарадей М., английский физик, химик
Федерлей X., финский биолог
Феогнид
Ферсман А. Б., геохимик и минералог, академик
Филатов И. Ф., инженер-лесотехник. Сокамерник Н. И. Вавилова в Саратовской тюрьме
Филипповский Г. Г., художник. Сокамерник Н. И. Вавилова в Бутырской тюрьме
Фляксбергер К. А., систематик растений, профессор ВИРа. Погиб в заключении
Фортунатов А. Ф., профессор статистики Тимирязевской академии
Хавкин В. А., микробиолог. Родился в России, работал в Индии и Париже
Хаджинов М. И., селекционер, генетик, академик ВАСХНИЛ
Харланд С., американский хлопковод
Хачатуров С. П., аспирант ВИРа в 1930-е гг., лысенковец
Хват А. Г., следователь НКГБ
Хлавна А. Г., журналистка Московского радио
Ходоровский, ответственный сотрудник ВАСХНИЛ. Расстрелян в 1930-е гг.
Ходукин Н. И., эпидемиолог, жил и работал в Ташкенте
Холдейн Дж., английский биолог-марксист
Холл Д., английский агроном
Хорошайлов Н. Г., биолог-лысенковец
Хохлов С. С., биолог, профессор Саратовского университета
Хрущев Н. С.
Цветаева М. И., русская поэтесса
Цицин Н. В., селекционер, академик ВАСХНИЛ и АН СССР
Чаадаев П. Я.
Чаянов С. К., агротехник, доктор наук. Оставил воспоминания о Н. И. Вавилове
Червяков А. Г., в 1920-е гг. председатель ЦИК. Расстрелян в 1937 г.
Чернобривенко И. С., селекционер
Чернов А. Г., помощник президента АН СССР Комарова в 1941–1945 гг.
Чернов М. А., нарком земледелия СССР. Расстрелян в 1930-е гг.
Черных, вице-президент ВАСХНИЛ. Расстрелян в 1930-е гг.
Чернышевский Н. Г.
Чехов А. П.
Чуенков С. В., зам. наркома земледелия
Шебалина М. А., научный сотрудник ВИРа
Шевалье А. Б., французский ботаник
Шелл Д. Г., американский генетик-селекционер
Шехурдин А. П., селекционер из Саратова
Шиллер И. Г., советский микробиолог
Шиффер В. В., инженер. Заключенный Саратовской тюрьмы
Шлыков Г. Н., сотрудник ВИРа
Шмук А. А., биохимик, сотрудник ВИРа, академик ВАСХНИЛ
Штуббе X., немецкий генетик
Шуйский В. И., боярин
Шунденко Н. С., аспирант ВИРа в 1930-е гг., офицер НКВД
Щелоков Н. А., в 1966–1982 гг. министр внутренних дел СССР
Щенкова М. С., научный сотрудник ВИРа
Эдин Л. А., французский биолог
Эдисон Т. А., американский изобретатель
Эйг А., агроном из Палестины
Эйнштейн А., физик
Эйхе Р. И., нарком земледелия с 1937 г. Расстрелян в 1940 г.
Эйхфельд И. Г., агроном, сотрудник ВИРа, после ареста Н. И. Вавилова директор
Эмме Е. К., растениевод, доктор наук. Доносила на Н. И. Вавилова в НКВД
Энгельс Ф.
Эренбург И. Г., советский писатель
Юзепчук С. Ю., растениевод, ездил по заданию Н. И. Вавилова в Южную Америку
Яковлев Я. А., нарком земледелия СССР с 1929 г., член ЦК партии с 1930 г. Расстрелян в 1938 г.
Якубцинер M. M., растениевод, сотрудник ВИРа
Якушевский Е. С., растениевод, сотрудник ВИРа
Якушкин И. В., растениевод, профессор Тимирязевской академии
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Синская Е.Н. Воспоминания о Н.И. Вавилове. Рукопись. Не опубликовано.
(обратно)2
Известия. 1925. 21 июля. ИПБ и НК — Институт прикладной ботаники и новых культур. Впоследствии ВИР — Всесоюзный институт растениеводства.
(обратно)3
Ленинградский государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (ЛГАОРСС), ф. ВИРа. Письмо к Т.А. Рунову в Качкас (Днепрострой) от 13 марта 1928 г.
(обратно)4
Вавилов Н.И. К поднятию урожайности: Речь на дискуссии // Избр. тр. М.; Л., 1965.
(обратно)5
Личное сообщение Н.П. Макарова осенью 1967 г.
(обратно)6
Вавилов Н.И. Выступление на XVI конференции ВКП(б) // Избр. Т. 5. С. 710, 713.
(обратно)7
ЛГАОРСС, ф. ВИРа. Письмо к Г.Д. Карпеченко в Пасадену (США) от 7 янв. 1930 г.
(обратно)8
Там же. № 9708, д. 318, л. 106. "Агрономическая наука Японии и что в ней интересно для сельского хозяйства СССР". Рукопись.
(обратно)9
Архив ВАСХНИЛ, оп. 450, св. 503, д. 19 (оп. 1, № 80). Стенограмма. С. 1–61.
(обратно)10
Там же.
(обратно)11
ЛГАОРСС, ф. ВИРа. "Некоторые соображения о ближайшем будущем развития сельского хозяйства в СССР". Рукопись. Направлено наркому земледелия СССР Я.А. Яковлеву 2 июля 1930 г.
(обратно)12
Там же. № 9708. Письмо Г.Д. Карпеченко в Пасадену (США) от 7 янв. 1930 г.
(обратно)13
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)14
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 520, л. 12. Письмо от 6 апр. 1933 г.
(обратно)15
Вавилов Н.И. Современные направления научно-агрономической работы в СССР и за границей.
(обратно)16
К 1933 г. было создано 229 зональных станций, 114 научно-исследовательских институтов (Тезисы к докладу Н.И. Вавилова о ВАСХНИЛ в 1933 г.).
(обратно)17
Архив ВАСХНИЛ, оп. 305, св. ПО, д. 99 (оп. 1, ед. хр. 438). Отчет ВАСХНИЛ за 1932 г.
(обратно)18
Вавилов Н.И. Из речи на открытии Всесоюзного съезда генетиков 10 янв 1929 г.
(обратно)19
Архив ВАСХНИЛ, оп. 305, св. 102, д. 16 (оп. 1, д. 198). Стенограмма совещания при президиуме ВАСХНИЛ 29 мая 1931 г. Доклад вице-президента ВАСХНИЛ Бурского.
(обратно)20
Там же.
(обратно)21
Социалистическая реконструкция и наука (СОРЕНА). 1932. Вып. 1.
(обратно)22
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 409, л. 68. Письмо селекционеру П.Н. Константинову от 18 апр. 1931 г.
(обратно)23
Архив ВАСХНИЛ, оп. 450, св. 196, арх. 39. Стенограмма заседания сессии ВАСХНИЛ 21 июля 1936 г. Доклад Н.И. Вавилова.
(обратно)24
Там же.
(обратно)25
Письмо из США (Блумингтон, Университет штата Индиана) от 17 мая 1967 г.
(обратно)26
Письмо из Перу от 14 апр. 1965 г.
(обратно)27
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 524, л. 20–23. Стенограмма совещания в Закавказском научно-исследовательском институте хлопка 21 сент. 1933 г.
(обратно)28
Там же.
(обратно)29
Там же, д. 470, л. 44. Заявление в президиум АН СССР от 19 марта 1932 г.
(обратно)30
Костова-Маринова А.А. Крупнейший советский ученый академик Н.И. Вавилов — олицетворение русского сердечного гостеприимства. Рукопись 1963 г.
(обратно)31
Там же.
(обратно)32
Вавилов Н.И. VI Международный генетический конгресс, г. Итака, США, 24–31 авг. 1932 г. // Соц. растениеводство. 1933. № 8. С. 18.
(обратно)33
Письмо П.П. Подъяпольскому послано в Саратов 21 марта 1930 г. Подлинник хранится у Ю.Н. Вавилова.
(обратно)34
Оствальд В. Великие люди. Пер. с нем. Спб., 1910.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Архив ВИРа. Письмо из Литвы отправлено в февр. 1935 г. в связи с 25-летием научной деятельности Н.И. Вавилова.
(обратно)37
Костова-Маринова А.А. История одной дружбы: Д. Костов и Н. Вавилов. Рукопись 1967 г. Не опубликовано.
(обратно)38
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 1572, л. 26. Письмо от 26 мая 1938 г.
(обратно)39
Личное сообщение M.M. Якубцинера.
(обратно)40
Письмо Н.И. Вавилова Е.К. Эмме. Послано в Отраду Кубанскую 3 мая 1930 г.
(обратно)41
Бреславец Л.П. Встречи с Николаем Ивановичем Вавиловым. Рукопись. Не опубликовано.
(обратно)42
Архив ВИРа. Письмо H.M. Тулайкова отправлено из Саратова 19 февр. 1935 г.
(обратно)43
Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись 1958 г. Не опубликовано.
(обратно)44
Столетова Е.А. Воспоминания о Н.И. Вавилове. Рукопись. Не опубликовано.
(обратно)45
Открытка В.Е. Писареву из Марселя отправлена 5 янв. 1927 г.
(обратно)46
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708. Письмо из Куско В.Е. Писареву, Н.В. Ковалеву, С.М. Букасову от 7 нояб. 1932 г.
(обратно)47
Там же, д. 469, л. 70–72. Письмо из Нью-Йорка Н.В. Ковалеву от 27 сент. 1932 г.
(обратно)48
Там же. Письмо А.С. Бондаренко от 2 окт. 1932 г.
(обратно)49
Архив ВИРа. Письмо от 23 июля 1940 г.
(обратно)50
Там же.
(обратно)51
Там же.
(обратно)52
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 692, л. 50. Письмо М.Г. Попову от 13 апр. 1934 г.
(обратно)53
Там же, д. 693, л. 118. Письмо Г.К. Мейстеру в Саратов от 23 дек. 1934 г.
(обратно)54
Померанцев П.П. Николай Иванович в Географическом обществе СССР // Вопросы географии культурных растений и Н.И. Вавилов: М.; Л., 1966.
(обратно)55
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 520, л. 12. Письмо А.А. Сапегину в Одессу от 6 апр. 1933 г.
(обратно)56
Архив ВИРа. Копия письма М.И. Калинину, отправленного 18 июля 1940 г.
(обратно)57
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 881, л. 93-131.
(обратно)58
Письмо С.М. Букасову от 24 дек. 1925 г.
(обратно)59
Архив ВИРа. Записка заместителя директора по хозяйственно-финансовой части Института растениеводства Янсону от 1 янв. 1935 г.
(обратно)60
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 1418, л. 17. Записка начальнику Главного субтропического управления Наркомата земледелия СССР А.М. Лежаве от 22 марта 1937 г.
(обратно)61
Ковалев Н.В. Воспоминания. Рукопись.
(обратно)62
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 880, л. 41. Письмо П.М. Жуковскому от 9 марта 1935 г.
(обратно)63
Вавилов Н.И. Подвиг // Правда. 1935. 8 июня.
(обратно)64
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, оп. 1, д. 15, л. 3.
(обратно)65
То же.
(обратно)66
И.В. Мичурин: Итоги его деятельности в области гибридизации по плодоводству / Предисл. Н.И. Вавилова. М., 1924.
(обратно)67
Лебедева П.С. Воспоминания. Рукопись хранится у Ю.Н. Вавилова.
(обратно)68
И.В. Мичурин в воспоминаниях современников. Тамбов, 1963. С. 195–197.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Грегори Р.А. Открытия, цели и значение науки / Пер. с англ. под ред. Н.И. Вавилова. Пг., 1923.
(обратно)71
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 81, л. 181. Письмо к Г.Д. Карпеченко от 30 дек. 1925 г.
(обратно)72
Вавилов Н.И. Праздник советского садоводства // Новый мир. 1934. № 11.
(обратно)73
Там же.
(обратно)74
Там же.
(обратно)75
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 647, л. 18–19.
(обратно)76
"Молодежью" садоводы называют молодые, выращенные из семечка растения плодовых деревьев. Отбор, или браковка, "молодежи" (сеянцев) важный этап создания нового сорта.
(обратно)77
Рассказ Н.А. Тюмякова записала на магнитную ленту корреспондент Всесоюзного радио А.Г. Хлавна. Саратов, март 1965 г.
(обратно)78
Личное сообщение Н.В. Тимофеева-Ресовского 15 мая 1966 г.
(обратно)79
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 470, л. 10. Письмо к проф. В.Л. Симиренко от 11 марта 1932 г.
(обратно)80
Цит. по: Долгушин Ю.А. У истоков новой биологии. М., 1949. С. 10–11 (Писатель Ю.А. Долгушин — родной брат Д.А. Долгушина).
(обратно)81
Лысенко Т.Д. Вид // БСЭ. 2-е изд. М., 1951, Т. 8. Стб. 17.
(обратно)82
Долгушин Ю.А. У истоков новой биологии. М., 1949. С. 11.
(обратно)83
Интервью Федерлея // Смена (Л.). 1929. 11 янв.
(обратно)84
Архив ВАСХНИЛ, оп. 141, св. 17, д. 35 (оп. 1, ед. хр. 136).
(обратно)85
Там же, л. 19. Протоколы заседаний президиума ВАСХНИЛ. Выступление Т.Д. Лысенко 20 марта 1931 г.
(обратно)86
Цит. по: Долгушин Ю.А. У истоков новой биологии. М., 1949. С. 13.
(обратно)87
Архив ВАСХНИЛ, оп. 141, св. 17, д. 35, л. 18 (136).
(обратно)88
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 469, л. 24–25. Письмо к Н.В. Ковалеву от 28 мая 1932 г.
(обратно)89
27 Там же, л. 36. Письмо к Н.В. Ковалеву от 9 авг. 1932 г.
(обратно)90
Цит. по письму проф. Роберта Кука, помещенному в журнале "The Scientific Monthly" (1949. Июнь).
(обратно)91
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 409, л. 155. Письмо Н.И. Вавилова к И.Г. Эйхфельду от 11 нояб. 1931 г.
(обратно)92
Там же, д. 620, л. 3.
(обратно)93
Там же, л. 12. Письмо от 16 марта 1933 г.
(обратно)94
Там же, д. 66, л. 28. Письмо от 8 февр. 1934 г. на бланке академика Вавилова.
(обратно)95
Бреславец Л.П. Воспоминания. Рукопись.
(обратно)96
Архив АН СССР, Ленингр. отд-ние, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 73, л. 151.
(обратно)97
Архив ВАСХНИЛ, оп. 450, св. 192, д. 3, л. 61–66. Протокол заседания президиума от 17 июля 1935 г.
(обратно)98
Там же, д. 3 (оп. 1, д. 805).
(обратно)99
Там же, св. 196, д. 43, л. 100.
(обратно)100
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 686, л. 34. Стенограмма доклада Т.Д. Лысенко.
(обратно)101
Лысенко Т.Д. Речь на Втором съезде колхозников-ударников // Правда. 1935. 15 февр.
(обратно)102
Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись 1958 г.
(обратно)103
О встречах в Париже и интервью, данных корреспонденту, — в следственном деле № 1500. Показания Н.И. Вавилова.
(обратно)104
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 646, л. 42. Выступление Н.И. Вавилова 29 сент. 1934 г. на совещании по подготовке к юбилею ВИРа.
(обратно)105
Там же, оп. 1, д. 654, л. 140–142. Письмо от 28 февр. 1935 г.
(обратно)106
Личное письмо к автору Г.Г. Меллер.
(обратно)107
Личное сообщение Н.В. Тимофеева-Ресовского 25 февр. 1971 г.
(обратно)108
Вавилов Н.И. К поднятию урожайности // Избр. тр. Т. 5. С. 707.
(обратно)109
Шехурдин А.П. // Селекция и семеноводство. 1937. № 2.
(обратно)110
Архив ВАСХНИЛ, оп. 450, св. 474, д. 59. Стенограмма IV сессии ВАСХНИЛ от 25 дек. 1936 г.
(обратно)111
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1937. № 2.
(обратно)112
Лысенко Т.Д. Речь на Совещании передовиков урожайности по зерну, трактористов и машинистов молотилок с руководителями партии и правительства // Правда. 1936. 2 янв.
(обратно)113
Архив ВАСХНИЛ, оп. 450, св. 473, д. 48. Стенограмма сессии ВАСХНИЛ.
(обратно)114
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 116, л. 47. Протокол заседания при директоре ВИРа от 11 нояб. 1936 г. о подготовке к сессии ВАСХНИЛ.
(обратно)115
Из беседы А.А. Зайцевой с корреспондентом Всесоюзного радио А.Г. Хлавной 21 июля 1968 г. Магнитофонная запись.
(обратно)116
Вавилов Н.И. Заключительное слово // Соц. реконструкция сельск. хоз-ва. 1937. № 2. С. 49.
(обратно)117
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 703, д. 1372, л. 144. Стенограмма доклада на общем собрании ВИРа.
(обратно)118
Там же, № 9708, д. 1436, л. 104. Письмо датировано 8 мая 1937 г.
(обратно)119
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)120
Подробности этого эксперимента лауреат Ленинской премии академик ВАСХНИЛ М.И. Хаджинов (Краснодар) и доктор наук, заведующий лабораторией полиплодии в СО АН СССР (Новосибирск) А.И. Лутков рассказали мне при личной встрече.
(обратно)121
ЛГАОРСС, ф. ВИРа; д. 828. Протокол заседания научного совета 29 июля 1935 г.
(обратно)122
Письмо Н.И. Вавилова от 13 сент. 1938 г. Копия любезно прислана проф. Харландом автору этих строк в 1966 г.
(обратно)123
Лысенко Т.Д. Речь на Втором съезде колхозников-ударников // Правда. 1935. 15 февр.
(обратно)124
Выступление проф. И.М. Полякова // Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 172.
(обратно)125
Выступление акад. Т.Д. Лысенко // Там же. С. 147.
(обратно)126
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)127
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, ед. хр. 1377, л. 15–16.
(обратно)128
Там же, л. 23.
(обратно)129
Там же.
(обратно)130
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)131
Лысенко Т.Д. Творец советской агробиологии // Яровизация. 1939. № 3. С. 18–20.
(обратно)132
Выступление Т.Д. Лысенко // Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 146–147.
(обратно)133
Экспедиции ВИРа, а не экскурсии, совершались, как правило, одним-двумя научными сотрудниками и, при огромной научной эффективности, были предельно скромны. Так, экспедиция 1926–1927 гг., когда Н.И. Вавилов один объехал Средиземноморье и послал в СССР десятки посылок с ценнейшими материалами, стоила всего 36 тыс. рублей.
(обратно)134
Яковлев П. О теориях настоящих генетиков // Соц. реконструкция сельск. хоз-ва. 1936. № 12. С. 55–56.
(обратно)135
Выступление проф. Н.П. Дубинина // Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 186.
(обратно)136
Яровизация. 1939. № 2.
(обратно)137
В оковах лженауки // Сов. субтропики. 1939. № 6.
(обратно)138
Гурский А.В. Памяти учителя и друга // Рядом с Вавиловым: Сб. воспоминаний. М., 1963.
(обратно)139
Там же.
(обратно)140
Разговор происходил в присутствии проф. Н.Р. Иванова.
(обратно)141
В.П. Кузьмин, высланный в Казахстан, — позднее крупнейший селекционер-пшеничник, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.
(обратно)142
Жена Г.Е. Спангенберга подтвердила этот факт в личном письме ко мне от 9 февр. 1965 г.
(обратно)143
Бахтеев Ф.X. Воспоминания о Н.И. Вавилове: К 80-летию со дня рождения // Theoretical and applied genetics. 1968. № 3.
(обратно)144
Личное письмо Ф.X. Бахтеева к Т.Д. Лысенко из Ленинграда от 2 авг. 1968 г.
(обратно)145
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)146
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 175, л. 52.
(обратно)147
Там же, л. 5.
(обратно)148
Всесоюзное совещание по селекции и семеноводству 27 февр. — 4 марта 1939 г. в Наркомате земледелия СССР. Цит. по: Яровизация. 1939. № 2.
(обратно)149
Постановление № 7 президиума ВАСХНИЛ от 23 мая 1939 г.
(обратно)150
Архив АН СССР, Ленингр. отд-ние, ф. 803, оп. 3, д. 5, л. 76–85. Письмо А.Ф. Иоффе к члену ЦК КПСС А.А. Андрееву.
(обратно)151
Личное письмо проф. В.С. Лехновича к автору от 14 февр. 1965 г.
(обратно)152
Чаянов С.К. Академик Николай Иванович Вавилов. Рукопись 1962 г.
(обратно)153
Гурский А.В. Памяти учителя и друга // Рядом с Вавиловым: Сб. воспоминаний. М., 1963.
(обратно)154
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 1572, л. 32. Письмо от 12 сент. 1938 г.
(обратно)155
Под знаменем марксизма. 1939. № 11. С. 151.
(обратно)156
Свидетельство В.С. Лехновича. Личное сообщение.
(обратно)157
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 1735, л. 64.
(обратно)158
Яровизация. 1940. № 2. С. 22.
(обратно)159
Личное сообщение Е.С. Якушевского 1968 г.
(обратно)160
ЛГАОРСС, ф. ВИРа. Письмо Н.И. Вавилова в Пасадену (США) от 7 янв. 1930 г.
(обратно)161
Там же, № 9708, ед. хр. 1327.
(обратно)162
Архив ВИРа. Письмо от 7 янв. 1930 г.
(обратно)163
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 1191 и 1187. Переписка Министерства иностранных дел СССР о ВИРе.
(обратно)164
Вавилов Н.И. VII Международный конгресс генетиков в СССР // Известия. 1936. 29 марта.
(обратно)165
Proceedings of seventh international congress of genetics. Edinburg, 1939.
(обратно)166
Письмо А.А. Костовой-Мариновой, посланное из Софии 28 марта 1963 г. проф. А.И. Атабековой в Москву.
(обратно)167
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)168
Там же.
(обратно)169
Архив ВАСХНИЛ, оп. 1, св. 2, д. 11, л. 164. Письмо Т.Д. Лысенко от 8 апр. 1940 г.
(обратно)170
Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись.
(обратно)171
Докладная записка. Копия хранится у Ю.Н. Вавилова.
(обратно)172
Презент И.И. О лженаучных теориях в генетике // Яровизация. 1939. № 2.
(обратно)173
Пангало К.И. Вавилов как человек и ученый. Рукопись. Не опубликовано.
(обратно)174
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)175
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, л. 3. "Заметки" в стенгазете толкуют главным образом о "вредителях", которых покрывает академик Н.И. Вавилов.
(обратно)176
Письмо Н.И. Вавилова к Дончо Костову послано 25 мая 1940 г. Фотокопия предоставлена автору А.А. Костовой-Мариновой.
(обратно)177
Померанцев П. Николай Иванович Вавилов в Географическом обществе. Рукопись.
(обратно)178
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 1705, л. 35.
(обратно)179
Письмо Н.И. Вавилова к Дончо Костову от 25 мая 1940 г.
(обратно)180
То же.
(обратно)181
Письмо к Сиднею Харланду в Перу помечено 22 июня 1940 г. Письмо было любезно предоставлено мне д-ром Харландом в 1965 г.
(обратно)182
Архив ВАСХНИЛ, оп. 1, св. 2, арх. № 4, с. 97 и далее. Протоколы сессии ВАСХНИЛ 19–21 янв. 1940 г.
(обратно)183
Там же, л. 146.
(обратно)184
И.И. Презент и его сторонники с 1940 г. оспаривали право биологов пользоваться математическими методами.
(обратно)185
Н.И. Вавилов летом 1939 г. возглавлял сельскохозяйственную группу комплексной экспедиции АН СССР на Кавказе.
(обратно)186
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, № 9708, д. 1735, л. 102.
(обратно)187
Личное сообщение проф. М.М. Якубцинера.
(обратно)188
Проф. А.И. Атабекова считает, что Н.И. Вавилов в эти дни был у А.А. Жданова.
(обратно)189
В последние годы Н.И. Вавилова увлекала новая идея: он хотел написать историю земледелия народов мира, мечтал связать свою "теорию центров" с тысячелетней историей возделывания культурных растений в разных частях планеты. Отсюда интерес к археологии, истории материальной культуры.
(обратно)190
Личное сообщение В.С. Лехновича.
(обратно)191
То же.
(обратно)192
То же.
(обратно)193
Записка хранится в архиве В.С. Лехновича.
(обратно)194
Из доклада проф. Ф.X. Бахтеева "Последнее десятилетие", читанного в Москве, в Обществе испытателей природы 24 нояб. 1965 г.
(обратно)195
Следственное дело № 1500, т. 6, с. 4.
(обратно)196
Следственное дело № 1500, т. 4.
(обратно)197
Там же.
(обратно)198
Там же, т. 10.
(обратно)199
Там же, т. 1.
(обратно)200
Там же, т. 5, с. 247 и далее.
(обратно)201
Адресовано заведующему секретным отделом Октябрьского райкома партии г. Ленинграда Малинину 7 марта 1938 г.
(обратно)202
Следственное дело № 1500, т. 11, с. 100–101.
(обратно)203
Архивно-агентурное дело № 300669. В 3 т. Заведено 13 дек. 1938 г.
(обратно)204
Следственное дело № 1500, т. 4, с. 1–15.
(обратно)205
Об этом подробно в кн.: Поповский М.А. Белое пятно. М.: Знание, 1962.
(обратно)206
Личное сообщение 9 дек. 1968 г.
(обратно)207
Следственное дело № 1500, т. 10.
(обратно)208
Там же.
(обратно)209
Синская E.H. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)210
Личное сообщение М.И. Хаджинова 4 авг. 1967 г.
(обратно)211
Личное сообщение Н.А. Базилевской в дек. 1966 г.
(обратно)212
Следственное дело № 1500, т. 1, л. 459. Письмо к Берии.
(обратно)213
Там же, л. 458.
(обратно)214
Архив ВАСХНИЛ, № 67, св. 7. Личное дело Вавилова Н.И.
(обратно)215
Синская Е.Н. Воспоминания… Рукопись.
(обратно)216
Архив ВИРа. Протокол заседания президиума ВАСХНИЛ 7 янв. 1940 г.
(обратно)217
Там же.
(обратно)218
ЛГАОРСС, ф. ВИРа, д. 1833, л. ПО.
(обратно)219
Академик ВАСХНИЛ В.П. Кузьмин, живший в Казахстане (Шортанды), 21 июля 1968 г. сообщил в беседе с корреспондентом Всесоюзного радио А.Г. Хлавной: "С ВИРом я продолжаю общаться до настоящего времени. Вот ездил туда недавно на конференцию по качеству зерна. Нельзя сказать, чтобы на меня ВИР произвел благоприятное впечатление. Институт не удержался даже на том уровне, где раньше был… Особенно удручающим было то, что многих я там уже не встретил: "Иных уж нет, а те далече"…" (Магнитофонная запись).
(обратно)220
Личное сообщение Н.А. Базилевской. Этот рассказ проф. Базилевской невольно напомнил ситуацию, разыгравшуюся в российской науке тридцатью годами раньше. Выдающийся физик, "человек, взвесивший свет", П.Н. Лебедев, в знак протеста против политической реакции, ушел из Московского университета. Больше, чем о потерянной лаборатории, горевал он о своей научной школе. "Сошлите меня в Камчатку, но оставьте при мне моих учеников, и я создам новую лабораторию", — говорил Лебедев К.И. Тимирязеву. Как известно, царские власти ученого не сослали и школу его не разгромили. Лебедевская школа (П.П. Лазарев и др.) продолжала благополучно развиваться. Научным "внуком" П.Н. Лебедева стал брат Н.И. Вавилова Сергей, впоследствии президент АН СССР.
(обратно)221
Личное сообщение М.А. Шебалиной 11 дек. 1964 г.
(обратно)222
Архивно-агентурное дело № 300669. В 3 т. Заведено 13 дек. 1938 г.
(обратно)223
Кстати, один из них подписывал свои доносы кличкой "Академик".
(обратно)224
Костова-Маринова А.А. История одной дружбы: Д. Костов и Н. Вавилов. Рукопись.
(обратно)225
В письме к Берии (март 1941) акад. Д.Н. Прянишников писал: "В роли Президента Ленинской Академии Т.Д. Лысенко явился дезорганизатором ее работы; Академия, собственно говоря, не существует — есть командир-президент и послушный ему аппарат. Собраний академиков для обсуждения научных вопросов никогда не бывает, выборы академиков не производятся… Президент говорит: "Зачем мне новые академики, когда я и с этими не знаю, что делать?"".
(обратно)226
Там же.
(обратно)227
Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 61, л. 162. В.И. Вернадский — сыну. 6 окт. 1944 г.
(обратно)228
Там же, оп. 3, ед. хр. 1756, л. 30. В.И. Вернадский — акад. Н.Г. Холодному. 16 сент. 1944 г.
(обратно)229
Личное сообщение А.Г. Чернова 4 апр. 1967 г.
(обратно)230
Цит. по: Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись.
(обратно)231
Следственное дело № 1500, т. 1. Письмо от 25 апр. 1942 г. из Саратовской тюрьмы № 1.
(обратно)232
См. роман А.И. Солженицына "В круге первом".
(обратно)233
Следственное дело № 1500, т. 1.
(обратно)234
Личное сообщение А.И. Сухно 9 окт. 1968 г.
(обратно)235
Письмо И.К. Янковской (Пиотровской) из Владивостока от 18 апр. 1967 г.
(обратно)236
Личное сообщение А.К. Pop.
(обратно)237
Личное сообщение А.И. Сухно 9 окт. 1968 г.
(обратно)238
Личное сообщение Н.И. Оппокова 13 февр. 1967 г.
(обратно)239
Личное сообщение Н.С. Пучкова 10 апр. 1969 г.
(обратно)240
Из отчета депутата Государственной думы (1913) Озерова явствует, что с 1908 по 1912 г. Россия в среднем производила 3 642 686 000 пудов продовольственного хлеба. Вместе с овсом 4 553 804 000 пудов. Ко времени смерти Сталина эта цифра осталась почти неизменной.
(обратно)241
Подсаживание в камеру к политическим сумасшедшего, который избивал их и лишал пищи, — прием не новый. В журнале "Каторга и ссылка", издававшемся в 20-е гг., я читал, что так же поступали с революционерами царские жандармы. У жандармов для этой операции существовал даже специальный термин — уконтентоватъ заключенного.
(обратно)242
Личное сообщение П.И. Барулиной 15 февр. 1967 г.
(обратно)243
Следственное дело № 1500, т. 1. Копия письма № 52/8996 от 13 июня 1942 г.
(обратно)244
Там же. Выписка из протокола заседания Президиума Верховного Совета Союза ССР № 10/4 сс от 23 июня 1942 г.
(обратно)245
Личное сообщение В.В. Шиффера 21 янв. 1970 г.
(обратно)246
Акт судебно-медицинского вскрытия от 5 февр. 1943 г. Копия заверена 16 февр. 1967 г. круглой печатью, подписью начальника медчасти следственного изолятора № 1.
(обратно)247
В дальнейшем был составлен акт о месте погребения Н.И. Вавилова. Кроме членов комиссии акт подписали Новичков, начальник следственного изолятора майор Андреев и проф. Саратовского университета С.С. Хохлов.
(обратно)248
Имеется в виду так называемая "дискуссия" в редакции журнала "Под знаменем марксизма".
(обратно)249
Nature. 1945. Vol. 156. № 3969. P. 612–622.
(обратно)250
Кроме H.И. Вавилова Общество избрало своим членом математика И.М. Виноградова.
(обратно)251
Личное сообщение А.Г. Чернова 4 апр. 1967 г.
(обратно)252
А.А. Костова-Маринова умерла 1 авг. 1967 г. в Москве.
(обратно)253
Костова-Маринова А.А. История одной дружбы: Д. Костов и Н. Вавилов. Рукопись.
(обратно)254
Личное сообщение К.И. Барулина 9 июня 1965 г.
(обратно)255
Личное сообщение В.В. Беляницкой 22 мая 1967 г.
(обратно)256
Личное сообщение М.А. Леонтовича зимой 1972 г.
(обратно)257
Nature. 1945. Vol. 156. № 3969. P. 612–622.
(обратно)258
Encyclopedia Britanica. Vol. 23. P. 15.
(обратно)259
Saturday Review. 1946. 9 March.
(обратно)260
Письмо акад. Д.Н. Прянишникова в президиум АН СССР (копия А.А. Андрееву и в с.-х. отдел ЦК).
(обратно)261
Густафссон А. Русская генетика идет новыми путями // Швеция (газ.). 1957. Янв. № 16, 19 и 20.
(обратно)262
См.: Британский союзник. 1948. 12 дек. № 50(321). Перепечатано из "Тайме" от 27 нояб. 1948 г.
(обратно)263
Лысенко Т.Д. О положении в биологической науке: Заключительное слово // Стеногр. отчет сессии.
(обратно)264
Там же. С. 524. Заявление П.М. Жуковского.
(обратно)265
Вавилов Н.И. Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых, бобовых, льна и их использование в селекции. М.; Л., 1957. С. 463.
(обратно)266
Известия ТСХА. 1958. № 1; Бюллетень МСИИ. 1958. № 8. МОИП Московское общество испытателей природы.
(обратно)267
Вопросы эволюции, географии, генетики и селекции. М.: изд. АН СССР, 1960.
(обратно)268
Равенкова А.И. Николай Иванович Вавилов. М.: Сельхозиздат, 1962.
(обратно)269
Рядом с Вавиловым / Сост. Ю.Н. Вавилов. М.: Сов. Россия, 1963.
(обратно)270
Келдыш М.В. // Правда. 1965. 4 февр.
(обратно)271
Darlington С.D. The rise and fall of Trophim Lysenko // New Scientist. 1965. Febr. № 436.
(обратно)272
Cohen В.Н. The Descent of Lysenko // The Journal of Heredity. 1965. № 5.
(обратно)273
В свое время акад. Н.В. Цицин посвятил опровержению менделизма специальную статью в журнале "Агробиология". А в одном из докладов прямо заявил: "Тридцатилетнее исповедание менделизма по существу не дало ничего полезного ни теории, ни практике земледелия" (Стенограмма доклада от 5 февр. 1938 г., посвященного И.В. Мичурину, хранится в архиве ВАСХНИЛ — оп. 1, ед. хр. 1817).
(обратно)274
Письмо № 2008 от 4 сент. 1965 г. подписал председатель КГБ СССР Семичастный. Письмо находится в первом (секретном) отделе канцелярии АН СССР.
(обратно)275
Гладков А. "Делать жизнь с кого…": Заметки о биографическом жанре // Комс. правда. 1966. 21 апр.
(обратно)276
Постановление Президиума АН СССР от 8 июля 1966 г. № 476. В состав комиссии вошли: акад. В.Н. Сукачев, д-р с.-х. наук Н.Р. Иванов (ВИР), д-р с.-х. наук Ф.X. Бахтеев (БИН), Ю.Н. Вавилов, акад. Н.П. Дубинин, акад. ВАСХНИЛ П.М. Жуковский, Д.В. Лебедев (БИН), Б.В. Левшин (Архив АН СССР), акад. ВАСХНИЛ Н.А. Майсурян, писатель М.А. Поповский.
(обратно)277
Morning star. 1966. 1 июня.
(обратно)278
Поповский M.A. Тысяча дней академика Вавилова // Простор. 1966. № 7, 8.
(обратно)279
Жуковский П.М. Корифей науки // Ленингр. правда. 1967. 25 нояб.
(обратно)280
Астауров Б.Л., Курсанов А.Л., Хохлов С.С. Подвиг ученого // Правда. 1967. 18 дек.
(обратно)281
Утаивание правды об убийстве Н.И. Вавилова продолжалось и позже. В т. 4 Большой Советской Энциклопедии (3-е изд.) на с. 215 читаем: "…научная деятельность Вавилова была прервана в 1940 г.". Том вышел в 1971-м.
(обратно)282
Заместитель Генерального прокурора СССР Маляров сокрушенно говорил автору этих строк в апреле 1965 г., что привлечь к судебной ответственности следователя Г.А. Хвата, который мучил Н.И. Вавилова и сфальсифицировал его "дело", увы, невозможно, так как истек срок давности совершенных им преступлений.
(обратно)283
Статья И.Г. Эйхфельда опубликована на эстонском языке в журнале "Горизонт" (1970. № 1).
(обратно)284
Платонов Г. Догмы старые и догмы новые // Октябрь. 1965. № 8.
(обратно)285
За партийную принципиальность в науке // Там же. № 12.
(обратно)286
Личное письмо к автору К.В. Ивановой осенью 1970 г.
(обратно)287
Письмо из Ленинграда от 19 окт. 1970 г.
(обратно)



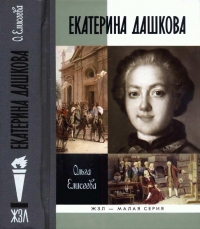
Комментарии к книге «Дело академика Вавилова», Марк Александрович Поповский
Всего 0 комментариев