П. В. Куприяновский, Н. А. Молчанова Бальмонт
«СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНИЙ» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Сорокалетний Константин Бальмонт в 1907 году написал автобиографию для «Книги о русских поэтах последнего десятилетия»[1], которую закончил словами: «Итак, в 1960-м году будет издано Собрание моих сочинений в 93-х томах, или свыше». Сказано это было не то в шутку, не то всерьез, но не без бравады, весьма свойственной поэту в то время.
Бравада эта подпитывалась ошеломляющим успехом, который Бальмонт пережил в 1900-е годы. Молодой поэт Александр Биск, познакомившийся с ним весной 1906 года в Париже, позднее вспоминал: «Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. Блок был новичком, он недавно только напечатал в „Новом пути“ свои первые стихи о Прекрасной Даме, Брюсов еще не был общепризнанным мэтром, все остальные поэты — Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов — считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт».
При такой славе поэт вполне мог мечтать о девяноста трех томах своих сочинений. Изысканный мастер поэтического слова, Бальмонт начал чаровать русских читателей еще в 1890-е годы. Самая звездная его книга «Будем как Солнце» (1903) выразила единение человеческой души с Космосом, с Вечностью и звучала как призыв к жизни радостной, светлой, красивой. Образ солнца стал сквозным в творчестве Бальмонта, наполняясь философско-этическим содержанием и утверждением в мире света, добра, любви. Не случайно, исходя из сути поэзии Бальмонта, его называли «солнечный гений». «Светослужение» — таково название последней стихотворной книги поэта, вышедшей в 1937 году. В ней по-своему выражено бальмонтовское романтическое представление о миссии творца.
Бальмонт надолго пережил время Серебряного века. Его творческий путь начался в середине 1880-х годов и продолжался более пятидесяти лет. Было бы наивно видеть этот путь прямолинейным — на нем были подъемы, спады, долгие периоды творческого кризиса. Слава Бальмонта держалась, пока он находился на родине. И пусть в 1918 году он не получил звания «короля поэтов», доставшегося Северянину, но у него оставались и авторитет, и популярность, и свой читатель. С отъездом в 1920 году во Францию Бальмонт быстро растерял поклонников. В эмиграции его стихи о России первое время находили отзвук у потерявших дом соотечественников. Охотно подхватывались его строки: «И мне в Париже ничего не надо, / Одно лишь слово нужно мне: Москва». Но довольно скоро привычная слава сменилась едва ли не полным забвением.
На родине книги Бальмонта не переиздавались вплоть до 1969 года, когда вышел том избранных стихотворений в большой серии «Библиотека поэта». Выросло несколько поколений русских людей, которые не читали и не знали его поэзии, а если и знали имя Бальмонта, то в качестве чуждого советской идеологии поэта. Известный американский славист В. Ф. Марков, ученик В. М. Жирмунского, в 1988 году писал: «Бальмонт ходит в пасынках истории литературы. Кое-кому кажется, что он сдан в архив».
Столетний юбилей Бальмонта в 1967 году в России практически не отмечался, а на «малой родине» — в Шуе, в Иванове — проведение его запретили. Бальмонт умер в нищете, с сознанием своей ненужности, и есть все основания говорить о том, что судьба поэта оказалась трагической. По-своему она отражает судьбу всей культуры Серебряного века, обреченной на долгое забвение революционными потрясениями 1917 года.
Только на рубеже XX–XXI веков, в связи с общественно-историческими изменениями в нашей стране, читатели и исследователи начали открывать Бальмонта. Сбывается предвидение Бориса Зайцева, который надеялся, что интерес к лучшему в наследии поэта возродится и возрождение это произойдет на родине, в России. За последние десятилетия появилось немалое количество изданий «избранных» стихотворений поэта, ориентированных на широкий круг читателей. Из них единственным текстологически выверенным остается на сегодняшний день собрание трех книг К. Д. Бальмонта начала 1900-х годов («Горящие здания», «Будем как Солнце» и «Только Любовь»), выпущенное издательством «Книга» в 1989 году. В постсоветские 1990-е годы «знаковым», хотя далеко не безупречным, стал составленный В. П. Крейдом двухтомник издательства «Республика» («Светлый час» и «Где мой дом»), включивший в себя избранные стихотворения и прозу поэта, преимущественно эмигрантского периода. В 2001 году усилиями А. Д. Романенко вышел том автобиографической прозы Бальмонта; им же была опубликована часть литературно-критических статей поэта «Константин Бальмонт о русской литературе» (Москва; Шуя, 2007).
В 2010 году московским издательством «Книжный Клуб Книговек» выпущено широко разрекламированное собрание сочинений К. Д. Бальмонта в семи томах, призванное, как сказано в аннотации, дать «самое полное представление обо всех гранях его творчества», однако, к сожалению, содержащее в себе большое количество досадных ошибок и «ляпов». Вопрос о сколько-нибудь серьезном научном издании произведений Бальмонта до сих пор остается открытым. Сейчас, когда рухнули идеологические преграды, бальмонтовское творческое наследие продолжает отпугивать издателей как своим объемом (35 книг стихов, 20 книг прозы, более 10 тысяч печатных страниц переводов), так и художественной неравноценностью всего написанного. Бальмонта не без оснований упрекали в чрезмерной плодовитости, он оставил после себя не только шедевры лирики, но и стихи подчас слабые, не достойные его таланта.
Суждения современников и критиков о Бальмонте противоречивы, как и сам поэт. В его личности часто подчеркивают эгоцентризм, гордую позу «стихийного гения», демонстрацию своей исключительности и отмечают связанные с этим экстравагантные поступки, иногда граничащие с эпатажем. Выразительный портрет «стихийного гения» создал в 1908 году Андрей Белый: «Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю — в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал, церемонно сдерживается, надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой. Глубоко сидящие в орбитах почти безбровые его карие глаза тоскливо глядят, кротко и недоверчиво: они могут глядеть и мстительно, выдавая что-то беспомощное в самом Бальмонте. И оттого-то весь его облик двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг — всё это чередуется в нем, и какая тонкая прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, с широко раздувающимися ноздрями! И как это лицо может казаться незначительным! И какую неуловимую грацию порой излучает это лицо! Вампир с широко оттопыренными губами, с залитой кровью бородкой, и нежное дитя, ликом склоненное в цветущие травы. Стихийный гений солнечных потоков и ковыляющий из куста фавн…»
Вместе с тем люди, хорошо знавшие Бальмонта, неизменно отмечали его честность, искренность, правдивость, природную благожелательность и редкое простодушие. А также выделяли огромную, ни с чем не сравнимую любознательность, трудолюбие, работоспособность.
В представлении поэтов Серебряного века Бальмонт сохранился как создатель таких художественных ценностей, которым обеспечена долгая жизнь. На протяжении всего творческого пути Бальмонт по сути оставался символистом, в то же время стиль его эволюционировал в сторону поиска более простых поэтических средств.
Главную свою заслугу перед отечественной поэзией Бальмонт видел в сближении ее с музыкой: «…певучесть моего стиха стала общей чертой позднейших поэтов». О Бальмонте, необычайно расширившем возможности поэтической речи, есть все основания говорить: он одним из первых заложил основы языка поэзии XX века.
Александр Блок писал о нем как о «поэте с утренней душой», носителе светлого, «весеннего» начала в жизни, именно с ним связывал обновление русской поэзии и, несмотря на иные резкие суждения в его адрес, заключал: «Поэт бесценный». Для Марины Цветаевой Бальмонт являлся идеальным выражением самого понятия — Поэт: «На каждом бальмонтовском жесте, слове — клеймо — печать — звезда — поэта». Осип Мандельштам писал о «серафической поэтике» Бальмонта. Николай Гумилёв, начавший с подражания Бальмонту, а затем, в пору утверждения акмеизма, не раз высказываясь о нем скептически, всё же заключал: «Вечная тревожная загадка для нас К. Д. Бальмонт». Задумывая незадолго до гибели статью «Вожди новой школы», Гумилёв писал, что к вождям новой школы в поэзии в первую очередь следует отнести Бальмонта: у него «так пленительны… ритмы, так неожиданны выражения, что невольно хочется с него начать очерк новой русской поэзии».
Свидетельством огромного уважения к Бальмонту-поэту и понимания его значения для русской поэзии являются многочисленные стихотворные послания, посвященные ему: их писали Валерий Брюсов, Мирра Лохвицкая, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Сергей Городецкий, Игорь Северянин, Марина Цветаева, Илья Эренбург, другие поэты. Влияние его творчества испытали на себе не только символисты, но и поэты разных литературных течений рубежа 1910–1920-х годов: акмеисты, футуристы, имажинисты, пролеткультовцы.
Портреты Бальмонта создавали в разные годы такие известные художники, как В. Серов, Н. Ульянов, Л. Пастернак, М. Дурнов, а также М. Волошин. Близкие отношения связывали поэта с талантливыми композиторами-современниками, особенно с А. Скрябиным и С. Прокофьевым.
Говоря о значении Бальмонта для русской культуры, нельзя обойти вниманием его колоссальную переводческую деятельность. По словам Гумилёва, он «открыл для читателей сокровищницу мировой поэзии» своими переводами Шелли, Кальдерона, Эдгара По, Калидасы, Руставели и других авторов. Борис Пастернак, ценивший дарование Бальмонта, утверждал, что Шелли и Кальдерон читаются и живут в современном сознании прежде всего в талантливых переводах Бальмонта.
В наше время Константин Бальмонт осознается как большой русский поэт, яркий и своеобразный, должным образом пока не раскрытый.
Глава первая «НА ЗАРЕ»
«Кто Вечности ближе, чем дети?» — спрашивал Бальмонт в стихотворении «Зимой ли кончается год…». Вопрос звучал риторически, поскольку утвердительный ответ мыслился сам собой: ребенок ближе всего к истине, его душа способна видеть в окружающем мире незримое, вечное. «В детстве, — писал поэт в автобиографическом рассказе „Белая Невеста“ (1921), — мы без слов знаем многое из того, к чему потом целую жизнь мы пытаемся, и часто напрасно, приблизиться лабиринтной дорогой слов». Вот почему в творчестве Бальмонт всегда стремился сохранить детскую непосредственность восприятия мира. Интересно, что в весьма зрелые годы, размышляя о своих начальных творческих импульсах, на первый план он выдвигал то, что вошло в его душу в детстве, и прежде всего от общения с природой. Именно детские впечатления, писал поэт в стихотворении «Заветная рифма» (1924), научили его «науке свирельной», подсказали ему стихотворные размеры: хореи и ямбы он услышал «в журчанье ручьев»; «плакучие ветви берез», колыхаемые ветром, «дали певучий размер амфибрахий»; «колокольный звон» для него был подобен дактилю и т. д. «Рифмою голубою» ему чудился «среди желтизны василек»; долгое звучание пастушеского рога, курлыканье журавлей и другие звуки учили ритму и рифме. Отсюда, утверждал Бальмонт, его певучие песни.
* * *
Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 июня (15-го по новому стилю) 1867 года в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии. В середине XIX века Гумнищи принято было называть сельцом, так как в деревне находилась барская усадьба. Несколько крестьянских дворов в один ряд, помещичий дом с примыкающими дворовыми постройками и садом, напротив которого находился пруд, — так выглядела эта деревня. Ее окружали поля, луга и леса, невдалеке протекала речка. В версте от Гумнищ — старинное село Якиманна с летней и зимней церковью и высокой колокольней. До уездного города Шуи — более десяти верст.
По-иноземному звучащая фамилия Бальмонт заставляла поэта искать своих предков в Шотландии, Скандинавии, Литве. Однако согласно документальному свидетельству, на которое ссылается вторая жена поэта Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт в своей книге «Воспоминания» (М., 1996), прадедом его был Иван Андреевич Баламут — херсонский помещик, а прапрадедом — сержант Андрей Баламут, служивший в одном из кавалерийских лейб-гвардейских полков императрицы Екатерины II. Фамилия Бальмонт впервые появилась у деда поэта, Константина Ивановича (родившегося 19 апреля 1802 года): когда его записывали на военную службу, неблагозвучное «Баламут» переделали сначала на «Бальемунт», а после увольнения «по домашним обстоятельствам» на «Бальмонт». Под фамилией «Бальемунт» дед поэта значился в формулярном списке (личном деле), куда занесены все этапы его военной карьеры. Начинал он ее в 12 лет юнгой, но в основном служил в сухопутных войсках. Дед был отмечен орденом Святой Анны 4-й степени и благодарностью царя за храбрость как участник Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Внучатой племяннице поэта Татьяне Владимировне Петровой-Бальмонт удалось найти в военно-историческом архиве редкий документ «О служившем в бывшем Саратовском пехотном полку поручике Бальемунте», подтверждающий изменение его фамилии.
В 1833 году Константин Иванович вышел в отставку в чине штабс-капитана, вскоре женился на вдове поручика Клавдии Ивановне Болотниковой, имевшей от первого брака двоих детей. В выданном ему паспорте он был обозначен как «Константин Иванов сын Бальмонт», как впоследствии стали писать фамилию и его потомков. Жить Константин Иванович стал в имении жены Гумнищи, в нем тогда числилось всего шесть душ. В 1834 году имя деда было занесено в «Список дворян Владимирской губернии», а в формулярном списке 1838 года значатся такие сведения о нем: собственным имением не владеет, избран в Шуйский земский суд дворянским заседателем, женат, имеет двоих детей — сына Дмитрия двух лет, дочь Александру одного года. Несколько позднее родились еще две дочери: Екатерина и Людмила. Очевидно, через какое-то время, предположительно в 1840 году, Константин Иванович Бальмонт приобрел в соседнем селе Дроздове собственный дом. Там и умер сорока двух лет от роду 19 декабря 1844 года. Священником в то время в Дроздове служил дед Марины Цветаевой, Владимир Васильевич Цветаев, который и отпевал деда Бальмонта перед погребением на дроздовском кладбище.
Будущий поэт был наречен Константином в честь деда, но деда он, конечно, знать не мог и имел о нем смутные представления, как и о своем прадеде. 27 февраля 1916 года он писал жене из Полтавы: «Катя милая, я в малороссийской весне. <…> Я чувствую себя здесь с родными. Или это воистину от того, что мой прадед, Иван Андреевич Баламут, был из Херсонской губернии. Я ловлю в лицах стариков черты сходства с лицом моего отца».
Отец Бальмонта, Дмитрий Константинович, родился 4 сентября 1835 года. Учился он во Владимирской гимназии, по окончании 4-го класса 9 сентября 1854 года поступил писцом 1-го разряда в Покровский уездный суд. Начиная с 1860 года служил в Шуйском уездном суде, поднимаясь по служебной лестнице из мирового посредника до мирового судьи и звания коллежского советника (1886). В 1881 году был избран председателем Шуйской земской управы и одновременно почетным мировым судьей Шуйского округа. Ушел он со службы за год до смерти в чине статского советника.
В документе о прохождении службы указывается, что в 1862 году Дмитрий Константинович Бальмонт женился на Вере Николаевне Лебедевой, и перечисляются их дети: Николай (1863), Аркадий (1866), Константин (1867), Александр (1869), Владимир (1873), Михаил (1877), Дмитрий (1879). Следовательно, будущий поэт был третьим ребенком в семье Бальмонтов. Отец, по его воспоминаниям, произносил свою фамилию с ударением на первом слоге — Бальмонт, и такое произношение закрепилось далее у всех, связанных с их родом. Однако поэт, как он выразился в письме своему последнему издателю В. В. Обольянинову, «из-за каприза одной женщины» (по-видимому, Ларисы Михайловны Гарелиной, его первой жены. — П. К., Н. М.) стал произносить свою фамилию на французский манер, с ударением на конечном слоге — Бальмонт. Незадолго до смерти он признал, что правильнее надо произносить, как отец, — Бальмонт. И всё же в истории русской литературы поэт навсегда остался как Бальмонт, будучи зарифмованным с таким ударением в многочисленных стихотворных текстах современников.
На отце лежали хозяйственные заботы о растущей семье. Он построил в Гумнищах новый двухэтажный дом на 12 комнат и флигель, в котором предпочитал жить сам. Усадебной земли было две десятины, на ней Вера Николаевна вырастила новый сад, преимущественно из плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Он находился рядом с домом, тут же располагался «старый сад» (парк, заложенный, по-видимому, в конце XVIII века). За помещичьим хозяйством Бальмонтов числилось 60 десятин пашни, 10 десятин непойменных лугов, 251 десятина поруби, три близлежащие пустоши и деревни Матвейково, Мужиловки, Жигари, имелась своя мельница, одно время действовал крахмально-паточный завод с десятью рабочими, но в начале 1890-х годов он сгорел. Из приведенных данных видно, что владение отца Бальмонта не было значительным, средства в основном уходили на воспитание и образование детей, которых он очень любил.
Как земский деятель Дмитрий Константинович Бальмонт оставил в Шуе благодарную память. С его именем связаны строительство школ в уезде, земской больницы в Шуе, достройка здания мужской гимназии, организация врачебной помощи и другие достойные дела. Он привлекал к себе людей честностью, рассудительностью, доброжелательностью, бескорыстием. Принимая во внимание его долголетнюю и ответственную службу, уездная управа в 1906 году решила выдать ему при увольнении по болезни единовременное пособие в размере годового оклада — 2500 рублей, но Дмитрий Константинович поступил как бессребреник: он отказался от этого пособия. По сведениям, обнаруженным в архивах шуйским краеведом Евгением Ставровским, после смерти Дмитрия Константиновича Бальмонта в 1907 году земское уездное собрание постановило передать эти денежные средства «в фонд на постройку школы в с. Якиманнском имени Д. К. Бальмонта». Такая школа действительно была построена в 1908 году.
В очерке «На заре» (1929) Бальмонт отмечал, что отец — «необыкновенно тихий, добрый, молчаливый человек, ничего не ценивший в мире, кроме вольности, деревни, природы и охоты», — оказал на него сильное влияние, научив еще в детстве глубоко проникать «в красоту лесов, полей, болот и лесных рек».
В том же очерке не менее трогательно вспоминал Бальмонт и Веру Николаевну: «Из всех людей моя мать, высокообразованная, умная и редкостная женщина, оказала на меня в моей поэтической жизни наиболее глубокое влияние. Она ввела меня в мир музыки, словесности, истории, языкознания. Она первая научила меня постигать красоту женской души, а этою красотою, — полагаю, — насыщено все мое творчество». Отцу и матери Бальмонт посвятил сонет «Кольца» (1917) и стихотворения «Мать», «Отец», вошедшие в книгу «В раздвинутой дали» (1929).
О Вере Николаевне, урожденной Лебедевой (1843–1909), женщине действительно незаурядной, следует сказать особо. По материнской линии свою родословную поэт вел от татарского князя Белый Лебедь Золотой Орды. Вряд ли это соответствует действительности, подтверждений нет, но именно с «татарскими корнями» поэт связывал некоторые черты своего характера. «Быть может, этим отчасти можно объяснить необузданность и страстность, которые всегда отличали мою мать и которые я от нее унаследовал, так же как и весь свой душевный строй», — писал Бальмонт в автобиографии 1903 года.
Мать Бальмонта происходила из ярославских дворян, из военной семьи, родилась в 1843 году в Каменец-Подольском, где служил ее отец Николай Семенович Лебедев; позднее он стал генералом. Его братья получили хорошее образование, один из них, инженер, был строителем Мариинской водной системы, другой — Петр Семенович, генерал, служил в Польше, редактировал газету военного ведомства «Русский инвалид». Он написал несколько статей о русских писателях, выступал как историк, перевел с польского «Небожественную комедию» З. Красинского (в 1874 году была напечатана в журнале М. Н. Каткова «Русский вестник»). Дочь П. С. Лебедева, Лидия Лебедева, известна как поэтесса и переводчица. Дед Бальмонта Николай Семенович, как сообщает в мемуарах Е. А. Андреева-Бальмонт, «писал стихи. Его мать, прабабушка поэта, была урожденная Титова, дочь известного в свое время композитора». Можно сказать, что «художественные гены» передались Бальмонту от матери. Она любила и знала музыку, играла на фортепьяно, с успехом выступала в любительских спектаклях, которые нередко сама и ставила, по некоторым сведениям, публиковала статьи и заметки в провинциальной печати.
Вера Николаевна окончила Екатерининский институт в Москве, владела иностранными языками, особенно хорошо — французским, всю жизнь много читала. О широком круге интересов, любви к литературе свидетельствует ее тетрадь, хранящаяся в Российском государственном архиве литературы и искусства. В ней, наряду с разного рода заметками (многие на французском языке), есть выписки и цитаты из произведений русских и иностранных писателей. Среди них Тургенев, Полонский, Плещеев, Песталоцци, Томас Мор, Гёте, Жорж Занд (Санд), Шекспир, Байрон, Спенсер и др. На одной из страниц — биографические сведения о Шелли, который позднее станет любимейшим поэтом Бальмонта.
Вера Николаевна не чужда была либерально-демократических настроений, занималась общественной деятельностью, благотворительностью, содействовала пополнению городской библиотеки книгами и журналами, являлась попечительницей женского училища в Гумнищах, а позднее — женского училища в селе Введенье Шуйского уезда. Дом Бальмонтов в Шуе был открыт для нелегальных и преследуемых лиц. В делах Департамента полиции, находящихся в Госархиве РФ и в Госархиве Владимирской области, хранятся донесения, из которых видно, что семья Бальмонтов считалась неблагонадежной и за ее членами длительное время велась слежка. Это не означает, что семья была революционной, но дух вольнолюбия, сочувствия бедным и угнетенным был свойствен не только матери, но и детям, особенно Константину и Михаилу (который в студенческие годы состоял в социал-демократическом кружке и был особенно близок поэту).
Дмитрий Константинович политикой не интересовался, знал в основном службу и охоту. В семье по существу верховодила мать. Ее темперамента хватало на всё — и на дом, и на общественные дела. Впрочем, последними она занималась иногда охотнее, что вызывало размолвки между родителями. От матери Бальмонту передалось многое. Екатерина Алексеевна отмечала в мемуарах: «Бальмонт любил своих родителей, особенно мать, с которой никогда не переставал общаться. Где бы он ни был, он писал ей, посылал ей свои новые стихи, посылал „подарочки“. Но долго он тяготился ее шумным обществом, ее громким голосом. Лицом и белокуро-рыжей окраской волос он был похож на мать. На отца — чертами лица и кротким характером». Умерла Вера Николаевна в 1909 году и похоронена рядом с мужем в селе Якиманна. Усилиями дальних родственников могилы родителей Константина Бальмонта приведены в порядок, и в 2009 году там установлен памятник.
Детство будущего поэта до десятилетнего возраста прошло на лоне среднерусской природы, в обстановке усадебного быта и сельской тишины. «О, вспомни время золотое…» — писал Бальмонт о детских годах в стихе, вошедшем в первую его книгу «Сборник стихотворений» (Ярославль, 1890). А спустя 40 лет в очерке «На заре» вспоминал это время как «райское, ничем не нарушенное радование жизнью». Картины и впечатления детства особенно ярко, с ностальгическим чувством были воспроизведены Бальмонтом в эмигрантский период в автобиографическом романе «Под новым серпом» (Берлин, 1923). В нем лирический герой выступает под именем Георгия — Егорушки, Горика, Жоржика, родители выведены под фамилией Гиреевы: мать — Ирина Сергеевна, отец — Иван Андреевич, а в их усадьбе Большие Липы нетрудно узнать Гумнищи.
Немало автобиографических примет содержится и в некоторых рассказах, очерках, например в рассказе «Васенька», где поэт вспоминает раннее детство. Конечно, как и другие дети, он играл в прятки, снежки, горелки, другие игры, но более был склонен к уединению на природе, любил цветы, которых было много на лугу и в саду. Сад и цветы станут в его творчестве любимыми образами. Любил также наблюдать за жизнью бабочек, жуков, муравьев, ящериц, птиц и вообще всякого рода живности, безотчетно погружаясь в природный мир.
Второй страстью мальчика было чтение. Уже в пять лет он читал по-русски и по-французски книги с картинками. Чуть позже увлекался книгами о путешествиях, далеких сказочных странах. Рано в его жизнь вошли и стихи. Пушкина он воспринимал так же, как очарование сада, леса, поля. У Лермонтова его пленили «Ангел» и «Горные вершины». Поразили строки Никитина, рисовавшие знакомую картину летнего утра:
Ясно утро, тихо веет Теплый ветерок, Луг, как бархат, зеленеет, В зареве восток.Круг чтения постепенно расширялся, были прочитаны народные сказки, русская классика от Жуковского до Тургенева. В раннем детстве, как свидетельствует Е. А. Андреева-Бальмонт, наибольшее впечатление на него произвели такие книги, как «Путешествие к дикарям», породившее жажду открытия неизведанного; «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, открывшая мир страданий и заставившая плакать; ершовский «Конек-Горбунок», показавший, что в жизни есть много таинственного, фантастического.
В 1876 году Константина зачислили в подготовительный класс Шуйской мужской прогимназии (позже преобразованной в гимназию). До этого образованием и воспитанием занималась мать, предоставляя сыну большую свободу. Учеба старших детей в гимназии потребовала переезда семьи в город. Собрав необходимые денежные средства, Бальмонты в 1882 году в центре Шуи купили двухэтажный дом, тыльная часть которого выходила в сад и на крутой берег реки Тезы с прекрасными видами на заречные дали. Летом дети купались в реке, плавали на лодке, ловили рыбу, а зимой катались с горок. В Гумнищи лишь наведывались.
В первых двух классах гимназии Константин учился легко и успешно, затем к учению охладел. В третьем классе он просидел два года, в дальнейшем учился то лучше, то хуже, но в целом посредственно. Классическую гимназию он потом не раз вспоминал довольно нелестно; по его словам, она вытравляла из юных умов «все естественное, все природное, всякое вольное движение любопытствующего юного ума», отчего особенно трудно было тем, кто обладал художественным дарованием.
Недостаточную прилежность в гимназической учебе Бальмонт начал восполнять самообразованием. В 13 лет его будто осенило английское слово self-help — самопомощь, которое стало, по его признанию, «дорожным посохом» на всю жизнь. И Бальмонт, по выражению Марины Цветаевой, сделался «великим тружеником». Он прочитал целые собрания книг по самым разным отраслям, поражая окружающих знаниями.
Книг было много в домашней библиотеке, но он пользовался и городской земской библиотекой, необычайно богатой подбором книжных и периодических изданий. Бальмонт описал эту библиотеку в романе «Под новым серпом»: «Значительную ее часть составляли пожертвования, сделанные перед смертью неким чудаком-помещиком, имевшим страсть к собиранию разных коллекций. Руководствуясь благородной страстью, он собрал полные экземпляры всех русских журналов, какие только существовали с начала 19-го века до конца 60-х годов. Это ценное собрание послужило духовным фундаментом библиотеки, а влияние Ирины Сергеевны (как помним, прототип его матери. — П. К., Н. М.) сделало то, что в библиотеку были приобретены все сколько-нибудь ценные писания, бывшие в эпоху реформ ходовыми, не говоря уже, конечно, о том, что произведения всех крупных русских писателей имелись в ней полностью. Эта библиотека сыграла крупную роль в том стремлении к саморазвитию, которое ярко расцвело среди молодежи города…»
В школьные годы Бальмонт читал жадно, бессистемно, иногда тайком, по ночам. Майн Рид, Жюль Верн, Диккенс, Дюма, Лажечников, Гоголь, Марлинский, снова Пушкин и Лермонтов, французские бульварные романы (Понсон дю Турайль и др.) — вот далеко не полный круг его чтения. Вскоре он увлекся творчеством Тургенева, русской, немецкой, французской и английской поэзией. Еще раньше вместе с матерью он читал в подлиннике Гюго, Мюссе, Сюлли-Прюдома, а теперь, за три месяца выучив немецкий язык, в подлиннике начал знакомиться с Лессингом, Гёте, Гейне. Огромное впечатление на пятнадцати-шестнадцатилетнего подростка произвели «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского, а также «Фауст» Гёте. Слова из «Фауста»
Immer höher muß ich steigen, Immer weiter muß ich schau’n(«Все выше я должен всходить, / Все дальше я должен смотреть» — перевод Бальмонта), по его признанию, «заворожили душу» и стали для него девизом.
Чтение стимулировало собственное творчество, способствовало самовыражению в стихах. Гимназист Горик Гиреев из романа «Под новым серпом», когда ему исполнилось 14 лет, на вопрос друга о том, кем он хочет стать, «пальцем начертил на снегу: „Писатель“». Бальмонт отмечал, что стихи по-настоящему он начал сочинять в 16 лет, написанные же ранее были подражательными и вызвали неодобрение матери.
Из братьев самым близким Бальмонту был старший Николай, выведенный в этом же романе под именем Игорь. В диалогах Игоря и Горика несомненно нашли отражение беседы, происходившие между братьями, — о природе, Боге, любви, прочитанных книгах. Николай чувствовал художественную натуру брата и поддерживал его стремление стать поэтом. Самоуглубленный юноша, он уже учился в университете, много читал, увлекался вопросами религии и философии и во многом был примером для младшего брата. Однако при всем том Константин не принимал религиозно-мистического направления его мыслей и спорил с ним.
Об этом красноречиво говорит его большое письмо Николаю от 3 марта 1885 года. В нем речь идет о книге «Борьба с ложной ученостью», направленной против спиритизма, об «Исповеди» и «Толковании Евангелия» Льва Толстого, о том, что такое счастье, в чем цель жизни и т. д. Константина тревожит, что брат все более и более поддается религиозным настроениям, евангельское учение считает воплощением истины, склонен к аскетизму и даже собирается уйти в монастырь. Он отговаривает брата от этого шага, призывает критически относиться к Евангелию, поскольку воля Божья, выраженная в нем, как полагает он, не может считаться непогрешимой, больше надо повиноваться голосу собственной совести. В частности, он не принимает некоторые религиозные догмы, считает, что смириться со злом — это нечестно, нельзя всё прощать (например, если при тебе бесчестят девушку). В противоположность брату целью жизни Бальмонт считает счастье, которое, однако, не должно служить причиной несчастья других. «Я понимаю счастье как стремление к нравственному идеалу, нравственному совершенствованию и как наслаждение земными благами», — заявляет он. И далее формулирует свое представление о смысле жизни: «На всех нас лежит обязанность улучшать тот „свет“, в котором мы живем, заботиться о счастье „униженных и оскорбленных“, заботиться о том, чтобы была облегчена тяжесть, которая лежит на них…» Исходя из этого, он убеждает брата, что тот как честный человек не должен убегать от жизни, от помощи непросвещенному и бедному народу. Взгляды на жизнь у братьев разошлись, однако Бальмонт видел в Николае человека духовных исканий, любил его и тяжело переживал его смерть. Николай умер в возрасте двадцати трех лет вследствие душевной болезни, осложненной простудой.
Это неопубликованное письмо брату — важный документ о формирующемся мировоззрении Бальмонта. С одной стороны, очевидно влияние на него гуманистических традиций русской литературы, с другой — народнических идей. При этом народолюбие было искренним, о чем говорят его дальнейшие общественные выступления, а не являлось данью моде, как это нередко пытались истолковать.
Бальмонт рос и формировался под знаком освободительных реформ, связанных с отменой крепостного права, в атмосфере свободы, присущей его семье. Он довольно рано понял, что «мир стоит не на правде». Поэт не помнил свою бабушку по отцу Клавдию Ивановну, но в памяти деревенских жителей она осталась помещицей, круто расправлявшейся со своими крепостными. Рассказы об этом доходили до юноши как мрачные призраки крепостнических порядков. «Эти жуткие призраки, — отмечал поэт в брошюре „Революционер я или нет“ (1918), — вошли в полудетскую душу и заставили ее задуматься глубоко, а также такие писатели, как Никитин, Некрасов, Гоголь, Глеб Успенский, Решетников, Тургенев, были первыми водителями отроческих и юношеских размышлений о русском народе и неправде мира».
На размышления подобного рода наводили и обстоятельства жизни в Шуе, «уездном городе, но прекрасном», как назвал его в начале XIX века путешествующий князь И. М. Долгорукий. Расположенный на берегу небольшой, но благодаря шлюзам судоходной реки Тезе город был в екатерининские времена хорошо спланирован и производил впечатление патриархального местечка. В пореформенное время город вырос, в заречной части появились фабрики и заводы, к 1883 году их насчитывалось около пятидесяти. По соседству с Шуей вырос безуездный город Иваново-Вознесенск, который из-за размаха фабрично-заводского производства стали называть Русским Манчестером. И в Шуе, и в Иваново-Вознесенске преобладала текстильная промышленность, где были заняты тысячи рабочих из местных жителей и окрестных деревень.
«Шуйско-ивановский гусь», как обобщенно называл фабрикантов Некрасов в поэме «Современники», богател, народ бедствовал. Социальное расслоение и неравенство были наглядными. В стихотворении «Поэт — рабочему» (1905) Бальмонт писал:
Но видал я с детских лет В окнах фабрик поздний свет, — Он в уме оставил след, Этот след я не сотру…Ответы на тревожившие душу вопросы о правде жизни Бальмонт искал не только в художественной литературе. Он читал книги о социальных учениях, экономике, расколе, сектантах, об исторических событиях и революционных движениях. Социалистическое учение, о котором он узнал из книги бельгийского экономиста Лавеля «Современный социализм», показалось ему «скучным», а идею всеобщего равенства он находил противоречащей «свободе личности». Больше его заинтересовали революционеры, в частности Кропоткин, но революционные меры борьбы, связанные с насилием, вызывали у него сомнения.
Идейные искания привели гимназиста шестого класса Бальмонта в революционный кружок, появившийся в Шуе в 1883 году. Впрочем, как видно из анализа его деятельности, сделанного шуйским краеведом Н. Д. Агриковым, этот кружок точнее называть не революционным, а оппозиционным, «противоправительственным». Возглавлял его смотритель Шуйской земской больницы Иван Петрович Предтеченский, человек «поднадзорный», гонимый, устроенный на эту должность Верой Николаевной.
На первых порах это был кружок самообразования, собравший разных, настроенных на «просвещение» людей, в их числе пятерых гимназистов. Собирались в казенной квартире Предтеченского. Спустя некоторое время в кружке начали читать газету «Народная воля», народовольческие издания, установили связь с такими же кружками в Москве и во Владимире (где кружок возглавлял одно время писатель-народник Н. Н. Златовратский). Предтеченский несомненно стремился революционизировать кружок, что наиболее ярко проявилось на собрании 29 декабря 1883 года, когда обсуждались вопросы эксплуатации рабочих, возможность восстания, объединения с другими революционными организациями. Бальмонт согласился хранить нелегальную литературу.
В апреле 1884 года деятельность кружка была раскрыта, последовали допросы, обыски, однако Бальмонта это не коснулось благодаря общественному положению отца. Арестованы были три человека во главе с Предтеченским (который в 1886 году умрет в тюрьме от чахотки). В августе директора гимназии уведомили, что в кружке замешаны гимназисты, и всех пятерых, включая Бальмонта, в сентябре из гимназии исключили. Формально это выглядело так: родителям предложили забрать оттуда детей под разными предлогами, Бальмонта отчислили «по болезни». Начальство не хотело поднимать шума, так как среди кружковцев были дети высокопоставленных в городе родителей, да и боялось запятнать репутацию гимназии. Деятельность кружка была весьма скромной, однако в Шуе рассматривалась едва ли не как «потрясение основ».
Мать Бальмонта стала хлопотать о разрешении доучиться исключенным в гимназиях других городов, ездила в Москву к попечителю учебного округа графу Капнисту и такого разрешения добилась. Бальмонт и его друг, сын городского головы Николай Листратов (годом старше), начали учиться в гимназии города Владимира с конца первого полугодия, так что приходилось наверстывать пропущенное. Как и другие исключенные, Константин находился под надзором гимназического начальства: в качестве надзирателя был назначен его классный наставник, учитель греческого языка чех Осип Седлак, на квартире которого он и жил. Седлак настолько ревниво выполнял свои обязанности, что Бальмонт сравнивал жизнь у него с тюрьмой. Когда Седлак узнал, что в декабре 1885 года Бальмонт напечатал стихи в журнале «Живописное обозрение» (№ 48), то запретил ему публиковаться впредь до окончания гимназии.
В «Живописном обозрении» были опубликованы два оригинальных стихотворения («Горечь муки», «Пробуждение») и перевод из австрийского поэта-романтика Н. Ленау («Прощальный взгляд»). Стихи для восемнадцатилетнего юноши вполне литературно грамотные, хотя с печатью общей поэтической стилистики 1880-х годов: «горечь муки», «душа унылая», «жизнь постылая» и т. п. Несмотря на неудовольствие начальства, сам по себе литературный дебют в популярном российском журнале был для Бальмонта событием. Можно представить радость автора, впервые увидевшего свои стихи напечатанными! Поэт дорожил данной публикацией и юбилеи начала литературной деятельности отмечал по этой дате.
Гимназию Бальмонт окончил в июне 1886 года. История исключения из Шуйской гимназии и поднадзорная учеба во Владимире дали ему повод написать в автобиографии 1903 года: «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему».
Однако не всё было столь уж мрачным в гимназические годы. В шуйский период впечатления от гимназии скрашивали свобода саморазвития, разнообразное чтение, развлечения и увлечения.
В возрасте четырнадцати-пятнадцати лет пришла первая любовь. Предметом ее стала шестнадцатилетняя полуполька Мария Гриневская, служанка в их доме (в романе «Под новым серпом» она названа Лидией Волгиной).
С уважением вспоминал Бальмонт некоторых гимназических учителей. Преподаватель истории и географии Прозоровский (в романе Алексей Леонтьевич Полозовский) давал ему исторические книги, знакомил с сочинениями В. Г. Белинского и славянофилов; позднее Бальмонт называл его «большим другом». Об учителе русской словесности М. Н. Сперанском поэт говорил, что ему «обязан выработкой своего слога». В письме Георгу Бахману от 21 марта 1907 года Бальмонт передавал привет своему учителю немецкого Петру Яковлевичу Эссерлинг-Карклингу и с удовольствием вспоминал, как читал с ним пьесу Г. Лессинга «Минна фон Барнгельм».
Ярким событием жизни во Владимире стала встреча Кости Бальмонта осенью 1885 года с писателем Владимиром Галактионовичем Короленко, приехавшим к своим знакомым. Юный поэт передал ему тетрадь со своими стихами. Тетрадь включала 44 его собственных стихотворения и семь переведенных им из Николауса Ленау, австрийского поэта. В архиве Короленко тетрадь сохранилась, остался и приложенный к ней стихотворный перевод отрывков из «Фауста» Гёте, помеченный 23–24 октября 1885 года.
Эпиграфом ко всем стихам в тетради взяты предсмертные слова Гёте: «Licht, mehr Licht!..» («Света, больше света!..»). Эпиграфы к отдельным стихотворениям позволяют судить об увлечениях начинающего поэта поэзией Тютчева, Фета, Майкова, Надсона.
Вкусы, пристрастия Константина и влияния на него можно установить и по самим стихам. Например, «Ива» имеет подзаголовок «Подражание Гейне». В стихотворениях «Ночью в дороге» («Степь неоглядная…»), «Степь» («Степь глухая спит спокойно…») слышатся кольцовско-никитинские интонации. В строках «Родина-мать! Ото сна векового / Встань и кругом погляди…» («Под липами») нетрудно угадать некрасовское начало. Поэзией Лермонтова навеяны образы демона и злого гения («Слезинка демона», «Между небом и землей»).
Стихи из тетради опровергают представление о том, будто юный Бальмонт творил лишь в русле поэзии Семена Надсона, очень популярного в 1880-е годы. К надсоновской линии ближе его стихи на гражданские темы, в которых уловимы поздненароднические идеи и одновременно «горькие муки» одиночества и сомнения. «Правда», «истина», «зло», «свобода», «борьба», «счастье» и другие слова звучат в стихах Бальмонта так же отвлеченно и риторично, как и в стихах Надсона. Народ Бальмонт сравнивает с Прометеем, прикованным к скале (стихотворение «Как Прометей»). Лирический герой поэта хотел бы «водворить в этом мире любовь» и готов «пролить кровь», чтобы «приблизить далекое счастье» («Мы хотим…»). В то же время он видит в мире много зла и несчастий, осознает несовершенство человечества.
Наряду с гражданственными стихами в тетради значительное место занимали лирические стихотворения о любви («Если б я мог…», «У моря», «Помню я день…», «Царица весны» и др.) и природе («В дороге», «Ночью в дороге», «В деревне», «Небо от бури устало», «Степь» и др.).
В. Г. Короленко откликнулся на стихи начинающего поэта обстоятельным письмом от 23 февраля 1886 года и в подробном отзыве выделил именно пейзажную лирику. «У Вас прекрасные описания природы, — писал он Бальмонту, — прелестные эскизы „востока“, „заката“, „полудня“ и т. д. Вообще я бы назвал это — „живым чувством природы“. Вы проникаетесь картиной, и она тотчас же будит в Вас звучный, музыкальный отклик». Иначе он оценил стихи-рассуждения и стихи на гражданские темы: «Стихотворения, где Вы берете общественные мотивы, мне кажутся холоднее, и даже их форма дается Вам не так легко».
Короленко точно уловил то, что составит в дальнейшем сильную сторону поэзии Бальмонта: «живое чувство природы», звучность, музыкальность стиха. Отметив «несомненный талант» молодого поэта, он вместе с тем подчеркнул, что хороши у него именно задатки, отдельные элементы, что он еще не напал на свой «поэтический мотив»; в стихотворениях, если брать их в целом, нет самой картины, а между тем в творческом процессе, отмечал Короленко, «отдельные поэтические тоны» должны бессознательно сливаться «в целостную гармонию»; нужно выносить в душе «большую картину, в которой сразу выражается поэтическая физиономия, „индивидуальность“». «Для того, конечно, — наставлял писатель, — нужно также читать, учиться и, что еще важнее, — жить. А Вы ведь совсем не жили».
Это была программа поэту на будущее. «Он указал мне на мудрый закон творчества», — писал Бальмонт о совете Короленко.
К владимирскому периоду относится первое путешествие Бальмонта, оставившее неизгладимые впечатления. Сам он датирует это событие в очерке «Волга» летом 1886 года, то есть после окончания владимирской гимназии. Однако в тетради, переданной Короленко, есть стихотворения, связанные с этим путешествием, и некоторые из них помечены июлем 1885 года и указанием ряда деревень Шуйского и Меленковского уездов. О самом путешествии в очерке говорится так: «Мой приятель, земский технолог, В. Ф. Свирский, которому поручено было произвести ревизию заводов Владимирской губернии, предложил мне объехать с ним в земской таратайке несколько уездов, и я с восторгом принял предложение. Мы объехали уезды Шуйский, Суздальский, Меленковский, Муромский. Это было первое мое настоящее прикосновение к разным ликам чарующей природы России, и когда в Муроме я проезжал по улице, мне казалось, что я прохожу по Былине, и когда я купался в Оке, мне хотелось уплыть до Волги и до Каспия».
Осенью 1886 года Бальмонт начал учиться на юридическом факультете Московского университета. Юридические науки занимали его мало, усерднее он изучал языки, немецкую литературу, интересовался историей Великой французской революции и по-прежнему более всего — общественными вопросами. Поэтому не случайно он оказался в числе тех, кто организовал протест, когда ввели новый университетский устав, сильно урезающий права студентов. Как возбудитель студенческих беспорядков в ноябре 1887 года он был арестован, посажен на три дня в Бутырскую тюрьму, а затем выслан на родину, в Шую, под негласный надзор полиции.
Незадолго до студенческих беспорядков Бальмонт познакомился с известным публицистом, переводчиком и революционным деятелем 1860-х годов «каракозовцем» Петром Федоровичем Николаевым[2]. В 1886 году Николаев вернулся из ссылки в родной Владимир, где ему разрешили жить, но наведывался в Москву, там случайно они и встретились. Николаев поддерживал Бальмонта в его протесте против нового устава. Кроме того, в одном из разговоров натолкнул Бальмонта на мысль перевести очерк Г. Брандеса об английском поэте Шелли (с чего началась многолетняя работа Бальмонта над переводами произведений этого поэта). Очерк Брандеса в бальмонтовском переводе не без помощи Николаева был напечатан в 1888 году в московском журнале «Эпоха» (вышел один номер). В 1890-е годы, работая в известном издательстве К. Т. Солдатенкова, он немало способствовал деятельности Бальмонта-переводчика. Николаеву поэт посвятил стихотворение «Последний завет Прометея», а позднее обрисовал его с большим сочувствием в мемуарном очерке «Видящие глаза» (1922).
В Шуе Бальмонт пробыл до осени следующего года, когда возобновил учебу в Московском университете. Почти годичное пребывание на родине было временем усиленного чтения и писания стихов, что не исключало развлечений, свойственных молодым людям тех лет. Не оставляли Бальмонта и «протестные настроения»: он сблизился с рабочим-гравером А. Бердниковым, который распространял революционные листовки; бывая во Владимире, завел там знакомство с кружком «политических», недавно вернувшихся из сибирской ссылки, через них намеревался войти в контакт с боевой народовольческой организацией. Однако опыт знакомства с революционными деятелями и кружками со временем все больше разочаровывал его. Ему претил дух доктринерства, царивший в кружках и партиях и мешавший, по его словам, видеть жизнь глубже и шире.
Вторая попытка получить высшее образование также скоро оборвалась. 3 декабря 1888 года он сообщил Ларисе Михайловне Гарелиной, будущей жене, что вышел из университета, так как «нервное расстройство достигло крайней степени». Причины «нервного расстройства» скорее всего коренились в неудовлетворенности жизнью, кризисе мировоззрения. С одной стороны, Бальмонт в это время — остро мыслящий юноша с несомненными творческими задатками, которые не могут по-настоящему реализоваться, с другой — испробованные им пути «служения народу» во многом его разочаровали.
В этом состоянии его внезапно озаряет любовь-страсть к Ларисе Михайловне Гарелиной. До встречи с ней у него бывали увлечения и, как он пишет в рассказе «Крик в ночи», была невеста, красивая девушка, но Лариса Гарелина затмила всех. Красоту Ларисы поэт позднее называл «боттичелевой», сравнивая ее с героиней картины Боттичелли «Рождение Венеры». Неопубликованные письма Бальмонта к ней и некоторые другие материалы позволяют представить ее как личность и понять характер их взаимоотношений.
Лариса Гарелина, дочь иваново-вознесенского фабриканта Михаила Никоновича Гарелина, была старше Константина Бальмонта на три года. Она воспитывалась в Москве во французском пансионе Дюмушелей, увлекалась театром. «Театральная панорама — вот ее мир», — заметил Бальмонт в названном выше рассказе. Н. А. Энгельгардт, журналист, писатель и историк русской литературы, ставший вторым мужем Ларисы, охарактеризовал ее в воспоминаниях как прелестную женщину, «тонко понимавшую искусство, музыкантшу с большим дарованием для сцены, как писали рецензенты, когда она еще девицей выступала в любительских спектаклях в Шуе и в Иванове, с душой, проникнутой древними трагедиями и всем, что есть патетического и трагического в мировой литературе».
Предположительно, знакомство Бальмонта с Ларисой Гарелиной произошло осенью 1888 года в шуйском театре, куда ее пригласила мать поэта. Яркая, эффектная, Лариса произвела на Константина большое впечатление, очаровала его. Будучи в Москве, 31 октября он отправляет ей первое письмо, а начиная с декабря пишет часто. Находясь на рождественских каникулах в Шуе, он приглашает ее приехать в письме от 25 декабря; в приписке приглашение подтвердила и мать поэта Вера Николаевна. 31 декабря он уже пишет Ларисе в Иваново-Вознесенск: «Жизнь моя, радость моя, с новым годом, с новым счастьем» — и подписывается: «Ваш навсегда К.». В письме от 3 января 1889 года есть такие слова: «Любовь завладела всем моим существом».
Стремительно разгоревшиеся чувства завершаются предложением руки и сердца, а 10 февраля — венчанием в иваново-вознесенской Покровской церкви. Родители Бальмонта были против этого брака. Мать предупреждала сына о роковых последствиях этой женитьбы из-за неуравновешенности Ларисы, которую имела возможность наблюдать. Отец сказал: «Ты погубишь себя. Я дам тебе свое благословение, если ты этого так просишь, и даже требуешь. Но ты знаешь, что у меня нет денег. Вот из последних я даю тебе всё, что только мог наскрести».
Бальмонт заявил, что они с женой будут сами зарабатывать на жизнь. Он надеялся жить в дальнейшем на доходы от литературного труда и даже готов был пойти на разрыв с семьей и отказаться от своей доли наследства.
Вскоре после венчания молодожены отправились в свадебное путешествие. Оно описано в очерке «Волга»: их путь лежал на Кавказ, в Кабардинию, оттуда по Военно-Грузинской дороге в Тифлис и Закавказье: обратный путь — через Каспий, по Волге до Костромы. «Волга была в разливе, такой реки ни до, ни после я никогда не видал» — так завершил поэт свои впечатления.
Двенадцатого июля 1889 года Бальмонт сообщает своему приятелю переводчику В. Ф. Голдрину: «Мы только всего две-три недели, как вернулись из своих странствий». Далее пишет, что «в Гумнищах мы живем всей семьей». По-видимому, до полного разрыва с семьей у Бальмонта дело не дошло, и он бывал вместе с Ларисой у родных и в Шуе, и в Гумнищах. Однако Вера Николаевна, смирившись с женитьбой сына, в душе осуждала его брак и невестку не приняла. Та и другая, по словам Бальмонта, ненавидели друг друга. Это не могло не сказаться на его душевном состоянии: он любил обеих — и мать, и жену.
Мать оказалась права: их брак получился неудачным, и это стало очевидным не более чем через год. Лариса Михайловна изводила Бальмонта ревностью, даже к матери, и нелепыми подозрениями (ее болезненная подозрительность сказалась затем и во втором замужестве). Но дело не только в этом. Обнаружилось полное расхождение во взглядах: Лариса Михайловна не разделяла мечты и замыслы Бальмонта, не сочувствовала его литературным занятиям, что видно из признаний поэта в автобиографических рассказах. Любовь, по его словам, обернулась «демоническим ликом и даже дьявольским».
Жили молодые супруги бедно и неустроенно. Сначала они обосновались в Ярославле, где Бальмонт еще раз попытался получить высшее образование. В сентябре 1889 года он поступил в Демидовский лицей юридических наук, но вскоре его оставил. В начале следующего года Бальмонты переехали в Москву и жили в студенческих номерах гостиницы «Лувр и Мадрид» на Тверской улице. Бальмонт твердо решил стать литератором и поэтом.
Между тем пребывание в Ярославле связано с важным событием в жизни поэта. В январе 1890 года там вышла первая книга Бальмонта «Сборник стихотворений», изданная на скудные средства автора. В нее вошли 25 его стихотворений и 65 переводных. Это говорит о том, что собственное творчество Бальмонта к этому времени было еще довольно скромным. Среди переводов — французские поэты Сюлли-Прюдом, Альфред Мюссе, Жан Лягор, немецкий поэт Гейне (49 стихотворений) и австрийский Ленау. Любопытно, что из «короленковской тетради» в «Сборник стихотворений» перешло девять стихотворений: «Струя», «Степь», «Степь глухая спит спокойно…», «Лодка», «Золотая заря», «Пробуждение», «Полдень», «Горечь муки», «У реки». К ним прибавилось лишь 16 стихотворений из написанных с конца 1885 года по 1889-й, в основном любовная лирика, в которой значительное место занимают стихотворения, посвященные Ларисе Гарелиной («Л***», «Стансы», «Зачем ты так грустна…»).
Во всех стихах, хотя и не лишенных искренности, еще много банальностей: воспоминания о «золотом детстве», меланхолические сетования о бренности жизни и другие свойственные начинающим поэтам мотивы. В целом «Сборник стихотворений» не содержал в себе того, что, говоря словами Короленко, определяет «поэтическую физиономию», «индивидуальность» автора.
Книга успеха не имела, спросом не пользовалась, кроме того, поэт понял, что никаких доходов от нее не получит. Главным для Бальмонта, конечно, было осознание того, что его «первый блин» оказался комом. К тому же близкие люди — жена и друзья — по-разному, но единодушно его осудили. Жена, равнодушная к его творчеству, упрекала, что семья осталась без денег. Друзья из студенческого окружения и те, с кем он бывал раньше в кружках, увидели в книжке измену «общественному идеалу» ради служения чистому искусству.
Начало 1890 года сопряжено было с тяжелым обстоятельством в жизни Бальмонта и Ларисы Михайловны: в первых числах марта умер их первый ребенок, прожив всего четыре недели. Девочка умерла в страшных болях и муках от менингита. В рассказе «Крик в ночи», описывающем это событие, поэт приводит заключение врача: «Нервность родителей. Воспаление мозга. Обыкновенная история». Иначе говоря, гибель ребенка врач связывал с нервным напряжением, в котором жили его отец и мать.
Бедность, семейные неурядицы, неудача с книгой, смерть дочери еще более усугубили нервозность поэта. Лечение у московских врачей не помогало. Работать он совершенно не мог, не мог сосредоточиться, и к тому же донимали головные боли. В таком состоянии 13 марта 1890 года Бальмонт предпринял попытку самоубийства: он выбросился с третьего этажа гостиницы и чудом остался жив. В связи с этим брат Аркадий перед поездкой к нему в Москву писал Голдрину: «Костя страдал сильным нервным расстройством и сильнейшими головными болями, по словам „Новостей дня“, задумал кончить с собой <…>, переломив в бедре левую ногу, сильно повредил правую руку и левый глаз, последний цел».
Внешним толчком к самоубийству, «последней каплей», по какой-то странной мистике стала повесть Л. Толстого «Крейцерова соната» (герой ее, Позднышев, запутавшись в семейной жизни, пытался покончить с собой). В 1915 году Бальмонт, во время приступа депрессии, расскажет эту историю Максимилиану Волошину, который запишет ее в дневник:
«5 марта. Вечером.
Бальмонт лежит. Я сижу рядом, опершись рукой через его ноги:
„Да, это было в марте 1890 г. — 25 лет назад. <…>
У меня неврастения была еще хуже. <…> Психиатр Корсков мне прописал водолечение. Но мне лучше не стало. Когда Лариса заходила в магазин, а я ее ждал на улице, я вдруг ловил себя на мысли, что если бы она сейчас умерла, я мог бы жить. Нам мой товарищ, студент, принес ‘Крейцерову сонату’. Она тогда только что вышла. Еще сказал: ‘Только не поссорьтесь’. Я читал ее вслух. И в том месте, где говорится: ‘всякий мужчина в юности обнимал кухарок и горничных’, она вдруг посмотрела на меня. Я не мог и опустил глаза. Тогда она ударила меня по лицу. После я не мог ее больше любить. В нашей комнате, где две кровати стояли рядом, я чувствовал себя стариком. Мне все мерещился длинный коридор, сужающийся, и нет выхода. Мы накануне стояли у окна в коридоре номеров. Она, как будто отвечая на мою мысль, сказала: ‘Здесь убиться нельзя, только изуродуешься’. На другой день я в это окно бросился. Страшно было через подоконник перелезть. Я бросился бежать по коридору от самой двери. Потом, когда голова в воздухе вниз начала переворачиваться, я увидел в противоположном окне мужика, который мыл стекла. Мелькнула мысль: а вдруг я упаду на кого-нибудь… Я потерял сознание. Когда я очнулся, то вдруг понял, что это было неверно. Тогда я закричал. И моему крику из окна ответил такой же крик, ей уже сказали. У меня был рассечен весь лоб, разорван глаз. Кисть левой руки окровавлена, сломан мизинец, правая рука, нога переломаны. Доктора зашили мне лоб и глаз. Сказали, что нога зарастет, но рукою я никогда не буду владеть. И все оказалось неверно. Рукою я владею. А нога не зарастала 6 недель, и еще 6, и еще. Там был 80-летний старик — у него скорее зарос перелом, а в моем молодом организме не было совсем сил. Лариса приходила ко мне и упрекала меня. Было лето. Она томилась в Москве. Ей хотелось уехать. А у меня было отчаяние“. <…>»
Выздоровление Бальмонта было мучительным и долгим (около года). Он перенес две операции, много страдал физически и нравственно. В письме Голдрину от 25 февраля 1891 года поэт сообщает, что, выйдя из больницы, уехал с женой в Шую, ходит то с костылем и с палкой, то с одной палкой, бывает в Гумнищах. «Живу я „распрекрасно“, читаю, гуляю, езжу кататься, посещаю „старичков“, так как они у нас бывают тоже очень часто. Жду весны. <…> Нервы мои <…>, но, впрочем, у меня больше нет нервов».
День 13 марта 1890 года Бальмонт считал переломным, провиденциальным в своей жизни. Он не раз возвращался к нему в стихах («Воскресший», «Два строя») и в прозе (рассказы «Воздушный путь», «Крик в ночи», «Белая Невеста»).
…Зачем я бросился в окно? Ценою страшного паденья Хотел купить освобожденье От уз, наскучивших давно. Хотел убить змею печали, Забыть позор погибших дней… Но пять воздушных саженей Моих надежд не оправдали. ……………………………… И сквозь столичный шум и гул, Сквозь этот грохот безучастный Ко мне донесся звук неясный: Знакомый дух ко мне прильнул. ……………………………… «Ты не исполнил свой предел, Ты захотел успокоенья, Но нужно заслужить забвенье Самозабвеньем чистых дел…» То Смерть-владычица была. Она явилась на мгновенье, Дала мне жизни откровенье И прочь — до времени — ушла. И новый, лучший день, алея, Зажегся для меня во мгле. — И прикоснувшися к земле, Я встал с могуществом Антея. (Воскресший)С того дня он чувствовал себя как бы родившимся заново и еще более укрепился в мысли стать поэтом, служить высокой цели — искусству.
Глава вторая «ДУША КОСНУЛАСЬ БЕСКОНЕЧНОСТИ…»
Мечту стать поэтом не убили ни трагические переживания, связанные с попыткой самоубийства, ни тяжело пережитая неудача с первой книгой стихов. Он твердо решил осуществить эту мечту и находился в необычайном творческом подъеме. Свое состояние Бальмонт описал так: «Душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над ней властен, кроме творческой мечты».
С этим настроением он и отправился весной 1891 года в Москву «покорять» литературный мир. Начинать ему приходилось заново, почти с нуля, и он вскоре на себе испытал все трудности вхождения в литературу. В течение нескольких лет он скитался по редакциям газет, журналов, издательств, перебиваясь случайными заработками и порой едва ли не голодая.
Бальмонты часто жили врозь: Константин в Москве, а Лариса или в Иваново-Вознесенске у сестры Анны, или в Шуе и Гумнищах. Причины этого — отсутствие квартиры в Москве (ею Бальмонт обзавелся лишь в середине 1892 года) и две беременности жены: в декабре 1891 года она родила сына, которого нарекли Николаем, а в июле 1893 года дочь, названную Анной (весной следующего года она умерла).
Из писем Бальмонта Ларисе Михайловне, датированных апрелем 1891 года, известно, что в Москве он сначала побывал у писателей-земляков — ивановца Ф. Д. Нефедова и владимирца Н. Н. Златовратского. Нефедову стихи Бальмонта нравились, и он пытался их опубликовать в литературном, общественном и политическом еженедельнике «Заря», к которому был близок. Эта газета просуществовала только один 1891 год. Судя по письмам жене, в «Заре» стихи Бальмонта были напечатаны.
Седьмого апреля Бальмонт сообщает: «Вчера вечер провел у Златовратского, была у него чертова дюжина народу, никого только интересного». У Златовратского собирались люди народнических убеждений, они перестали интересовать поэта, их он определяет словами «старая погремушка». При всей приветливости и Нефедов, и Златовратский реально ничем не могли помочь Бальмонту. Он ищет новых знакомств и вскоре их завязывает: с редактором «Русской мысли» В. А. Гольцевым, литературным и театральным критиком И. И. Ивановым и заведующим кафедрой всеобщей литературы Московского университета Н. И. Стороженко[3].
В. А. Гольцев советует Бальмонту обратиться в популярный ежемесячный журнал «Сотрудник» (выходил в 1890–1891 годах), предложив ему написать статью о шотландском поэте Бёрнсе, а также о земстве и земцах. Бальмонт интересовался земской деятельностью, поскольку его отец возглавлял земскую управу в Шуйском уезде, он готов был даже заняться земской темой, в сущности чисто газетно-журнальной, лишь бы что-то зарабатывать. Однако об участии его в «Сотруднике» ничего не известно. В «Русской мысли» поэт начал печататься позднее: переводы — с 1893 года, а свои стихи — с 1894 года.
И. И. Иванов заведовал литературным отделом в журнале «Артист» и сотрудничал с газетой «Русские ведомости». При его посредничестве Бальмонт начал печататься в том и другом издании, а чуть позже, с 1893 года, в журнале «Мир Божий», где Иванов курировал отдел критики. В «Артисте» были опубликованы несколько стихотворений Бальмонта, среди них «Северный праздник», «Умер бедный цветок», «У берегов Скандинавии», а также его перевод стихотворения «Ворон» Эдгара По и сцен из драматической поэмы «Бранд» Генрика Ибсена. Но журнал этот, посвященный театру, выходил применительно к театральным сезонам и вряд ли мог стать «окном» в большую литературу.
На первых порах особое значение Бальмонт придавал печатанию в либеральных «Русских ведомостях». Первая его публикация в газете появилась в последнем номере 1891 года — это был перевод рассказа Матильды Росс «Маленький кубарь». В течение последующих трех лет там довольно часто печатались его переводы, заметки, рецензии, статьи, а также вышли стихотворения «Памяти А. Н. Плещеева» и «Чайка» (в составе лирико-прозаического этюда «Тени»). Публикации в таком солидном печатном органе, как «Русские ведомости», делали имя Бальмонта известным, но в основном как переводчика иностранной литературы и автора популярных статей о ней.
Самую существенную помощь Бальмонт получил от профессора Николая Ильича Стороженко. 21 апреля 1891 года он писал жене: «Был вчера у Стороженко — милый, очаровательный старик лет 45–50-и. Я ему отдал мой перевод Брандеса о Шелли и просил только высказать его мнение о доброкачественности перевода и желательности напечатать его отдельной брошюрой». Стороженко был крупным специалистом в области английской литературы, занятия Бальмонта творчеством Шелли не мог не одобрить, но идею об издании брошюры, судя по всему, не поддержал. Вместе с тем он искренне заинтересовался работой Бальмонта-переводчика и стал руководить его занятиями по изучению иностранных литератур, снабжал книгами, помогал найти работу как переводчику, предложил писать статьи для журнала «Мир Божий». Его привлекал энтузиазм Бальмонта, который регулярно приходил к нему домой для бесед и консультаций. Их отношения стали дружескими, покровительство Стороженко поэт сравнивал с отцовским. В 1893 году в журнале «Северный вестник» (№ 5) Стороженко опубликовал свою статью «Английские поэты нужды и горя», сопроводив ее переводами Бальмонта из Голдсмита, Бёрнса и Джорджа Элиота (псевдоним английской поэтессы, писательницы Мэри Энн Эванс).
Благодарный Бальмонт посвятил Н. И. Стороженко стихотворение «Заря», а позднее с чувством признательности писал о нем в мемуарных очерках «Видящие глаза» и «На заре». В последнем читаем: «Один, голодая, имея нравственную опору лишь в профессоре Николае Ильиче Стороженко, который гостеприимно принимал меня и руководил моим изучением истории европейских литератур, я перевел, а Прянишников или, точнее, П. П. Кончаловский, напечатал книгу норвежского критика Г. Иегера о Генрике Ибсене. <…> Н. И. Стороженко, к коему чувства мои — сыновняя любовь и признательность, ибо он поистине спас меня от голода и, как отец сыну, бросил верный мост, выхлопотал для меня у К. Т. Солдатенкова заказ перевести „Историю скандинавской литературы“ Горна-Швейцера и, несколько позднее, двухтомник „История итальянской литературы“ Гаспари».
Переведенная Бальмонтом книга Г. Иегера «Генрик Ибсен (1828–1888). Биография и характеристика» с приложением трех сцен из «Бранда» и драмы «Привидения» (также в переводе и с предисловием поэта) в марте 1892 года вышла в издательстве книжного магазина П. К. Прянишникова. Фактически ее изданием руководил П. П. Кончаловский, литературный и издательский деятель 1890-х годов, отец известного художника Петра Кончаловского. Но книгу арестовала цензура, и решением Петербургского цензурного комитета от 19 мая 1892 года она была запрещена и вскоре сожжена. «Почти все герои ибсеновских драм осуществляют резкий протест против существующего социального строя» — такова была главная причина запрещения книги, популяризировавшей творчество Ибсена. «Мое начало — пожар. Что ж, хорошая рама для поэтических зорь» — так оценивал поэт в очерке «На заре» сожжение переведенной им книги. Что касается трудов по истории скандинавской и итальянской литератур, то полученный через Стороженко заказ на их перевод существенно поправил его материальное положение. Но это произошло лишь в середине 1893 года.
Первые же полгода жизни в Москве не внушали Бальмонту надежд на прочное положение, к тому же среди его знакомых не было поэтов и людей, которые бы жили интересами поэзии. Он решил попытать счастья в Петербурге, но сначала поехал за советом и поддержкой к В. Г. Короленко, который в то время жил в Нижнем Новгороде. Бальмонт помнил его ободряющее февральское письмо 1886 года и надеялся на содействие. И в этот раз Короленко отнесся к поэту с большим вниманием и сочувствием. 21 сентября 1891 года он писал в рекомендательном письме редактору петербургского журнала «Северный вестник» писателю М. Н. Альбову: «Есть у меня знакомый молодой человек, Константин Дмитриевич Бальмонт. Уж несколько лет он пишет стихи <…>. Стихи, насколько могу судить, недурны <…>. Теперь он явился ко мне сильно помятый разными невзгодами, но, по-видимому, не упавший духом. Он изучил языки, много читал, продолжает писать и едет в Петербург искать работы. Ко мне он обратился за рекомендацией <…>. Не знаю, найдется ли у Вас что-либо подходящее для него. Не знаю также, найдете ли Вы и его подходящим для себя. Он знает языки, шведский, английский, французский, немецкий. Переводит хорошо, знаком с философскими течениями на Западе, склоняется, кажется, слегка к „пессимизму“ (точно не знаю, впрочем) и владеет пером». Рассчитывая на благожелательность адресата, Короленко добавляет: «Он, бедняга, очень робок, и простое внимательное отношение к его работе уже ободрит его и будет иметь значение». Короленко снабдил Бальмонта аналогичным письмом и к издателю Ф. Ф. Павленкову.
В середине октября Бальмонт отправился в Петербург и пробыл там больше недели. Он побывал в редакции «Северного вестника», познакомился с Михаилом Ниловичем Альбовым, встретился с Дмитрием Сергеевичем Мережковским, Николаем Максимовичем Минским, Зинаидой Николаевной Гиппиус, оставил стихи в «Северном вестнике» и в газете «Санкт-Петербургские ведомости», передал через Минского переводы для Павленкова. На постоянную работу в редакцию «Северного вестника» Бальмонту устроиться не удалось. «Альбов сказал мне, что сейчас все места в журнале заняты», — сообщил он жене в письме от 12 октября 1891 года. Вместе с тем поездку в Петербург Бальмонт считал удачной, поскольку познакомился там с интересовавшими его людьми, о чем рассказал Ларисе Михайловне в этом же письме:
«Познакомился я с Минским и Мережковским, и за два дня знакомств мы столько переговорили, <так> что я их считаю чуть не родными. Если бы ты знала, какие это милые, очаровательные люди, в особенности Мережковский. Минский читал мне свои новые, ненапечатанные еще стихотворения. Одно — просто очаровательное. Потом он подарил мне свою философскую книгу „При свете совести“, с положениями которой я, впрочем, совершенно не согласен. Ему очень нравятся мои переводы из Гейне: он говорит, что это мой жанр. Но Мережковский, Мережковский — это что-то небесное! Нужно только сказать, что он совсем некрасив… но и очень обаятелен. Умница, остроумный, живой — чистый француз. И он, и Минский убеждают меня переселяться поскорее в Петербург, говорят, что работа будет, но только непременно надо жить в Петербурге, „быть на виду“. Мережковский даже так сказал: „Если хотите серьезно заниматься литературой, обязательно переезжайте сюда, — из провинции продолжать — трудно, а начинать абсолютно невозможно“.
Жена Мережковского — представь — та самая барынька, которая пишет в „Северном вестнике“ за подписью З. Гиппиус (девичья фамилия), — помнишь, мы читали ее очерк „В Москве“, который нам не понравился. Говорят, что ее другие вещи очень хороши и что она очень талантлива. На днях они оба хотели у меня быть, и Минский тоже».
О чем говорили во время встреч Бальмонт и его новые петербургские знакомые, можно предположить, так как у них было немало общего. И Минский, и Мережковский, и Бальмонт переболели, как корью, народническими идеями и настроениями, теперь их взгляды переменились. Мережковский готовил к изданию книгу стихотворений «Символы» (СПб., 1892), в которой обозначился его поворот к религиозно-мистическим идеям и новым формам творчества. В конце 1892 года он несколько раз выступил в Русском литературном обществе с докладом «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», вышедшим затем отдельным изданием (СПб., 1893). Эта книга станет манифестом нового литературного направления с его тремя составляющими: мистическое содержание, символы и «расширение художественной впечатлительности», которое будет названо символизмом. Минский до встречи с Бальмонтом тоже выступил провозвестником «новых веяний» в искусстве, что выразилось в стихах мистического и импрессионистического звучания, а также в трактате «При свете совести» (СПб., 1890), где он развивал теорию «меонизма». Меоны (несуществующее), по Минскому, постигаются в момент экстаза, чаще всего в искусстве. Бальмонту книга не понравилась.
В июне 1892 года и в июне 1893 года Бальмонт совершил поездки в Скандинавию. Безусловно, Скандинавия манила его и как родина писателей, которыми он увлекался, в первую очередь — Ибсена. Бальмонту импонировали его герои — личности сильные, независимые, такие как Бранд из одноименной поэмы. Они подпитывали его стремление оставаться «самим собой». Маршрут первого заграничного путешествия Бальмонта пролегал через Гельсингфорс — Стокгольм пароходом, далее Упсала, Гётеборг, переезд из Швеции в Норвегию, где он пять дней провел в Христиании (старое название столицы Норвегии Осло), затем отправился в Копенгаген, а оттуда через Ригу вернулся в Москву. Путешествие заняло две недели. Вторая поездка в Скандинавию проходила по тому же маршруту, но завершилась недельным пребыванием в Германии (Берлин, Дрезден) и возвращением через Петербург. Продолжалась она около месяца. Скандинавские впечатления нашли отражение в ряде стихотворений Бальмонта («Северный праздник», «Среди шхер», «У скандинавских скал», «У фьорда», «Норвежская девушка», скандинавская песня «Горный король», «Чайка») и в лирико-прозаическом этюде «Тени».
Пребывание в Берлине было примечательно тем, что там он купил книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», тут же прочел и был ею захвачен. Позднее он говорил в беседе с корреспондентом газеты «Биржевые ведомости» (1915): «Лично для меня философ „Заратустры“ не был властителем дум, но я испытал его могучее влияние лет 25–26, когда, возвращаясь из Стокгольма, увлеченный Ибсеном, чувствовал необходимость внутреннего дополнения его кем-то».
В Петербурге началось движение по обновлению русской поэзии и в целом литературы. Реорганизованный журнал «Северный вестник» — с декабря 1891 года он перешел в издательские руки Любови Яковлевны Гуревич, а фактическим его редактором стал критик Аким Львович Волынский — превратился в центр русского символизма. В нем была провозглашена борьба за идеализм в широком смысле слова, и искусству отводилась особая роль. На его страницах широко печатались статьи и переводы, знакомящие читателей с романтическими традициями в литературе, с новейшими явлениями в европейском искусстве и философии, большое внимание уделялось религии. Волынский в своих статьях низвергал старые авторитеты в критике, резко полемизировал с, казалось бы, непререкаемым критиком-народником Николаем Константиновичем Михайловским. Журнал печатал стихи с признаками «модерна», появление которых было немыслимо в других изданиях.
Волынский не только давал в журнале «приют» гонимым декадентам-символистам, но и попытался сформулировать свое понимание символа и символизма. На страницах «Северного вестника» (1893. № 3) он писал: «Для символа нужна способность видеть преходящее в связи с безграничным духовным началом, на котором держится мир». Иначе говоря, символизм мыслился критиком как своего рода религиозное искусство, в котором, по его словам, мир явлений сочетался с таинственным миром божества. Он надеялся, что молодые искатели новых путей, пройдя через искус декадентства, выйдут на путь истинного символизма. В целом переоценка ценностей, проводимая «Северным вестником», будоражила общество, привлекала к журналу внимание. В нем печаталось немало созвучных Бальмонту произведений, и прежде всего Минского, Мережковского, Гиппиус.
В январе 1893 года Бальмонт специально, по литературным делам, приехал в Петербург и пробыл там более половины месяца. В его письмах жене, кроме старых знакомых, часто упоминается Волынский. Круг «Северного вестника» с его идейно-художественными исканиями становится для Бальмонта все ближе. Близок ему и интерес этого круга к Ибсену, Шелли, Э. По. Он сообщает Ларисе Михайловне, что при редакции образовался своего рода «шеллианский кружок», все интересуются Шелли, а Волынский пишет статью о нем; Минский, ознакомившись со стихами и переводами Бальмонта, сказал ему, что он сделал большой шаг в развитии и из него выйдет «настоящий большой писатель». Воодушевленный такой оценкой и благожелательным приемом, Бальмонт пишет жене 31 января: «Мое сотрудничество в „Северном вестнике“ <…> — факт решенный».
Его переводы и стихи стали печататься в журнале, начиная с майского номера, а в октябрьском (№ 10) появилось стихотворение «Фантазия», с которого, можно сказать, начинается «новый Бальмонт» — импрессионист и символист. Сотрудничество с журналом продолжалось вплоть до прекращения этого издания в 1898 году.
Помимо «Северного вестника» Бальмонт договорился о сотрудничестве в «Вестнике иностранной литературы». Кроме того, познакомился с Алексеем Сергеевичем Сувориным, в издательстве которого вскоре вышел его перевод «Житейских воззрений кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана, побывал в редакциях журнала «Вестник Европы», газет «Новости» и «Новая жизнь» и других изданий.
Значительной удачей Бальмонт считал публикацию в «Вестнике Европы» своего перевода поэмы Шелли «Мимоза» (1892. № 12). Редактор этого журнала Михаил Матвеевич Стасюлевич поддержал его работу по переводу произведений Шелли и уже в 1893 году издал отдельными книгами первые два выпуска сочинений этого поэта. В 1899 году вышел последний третий выпуск. В типографии Стасюлевича в январе 1894 года был выпущен и стихотворный сборник Бальмонта «Под северным небом»; с него поэт начал вести отсчет своего настоящего вступления в литературу. Подготовив сборник к печати, Бальмонт писал 29 декабря 1893 года Минскому: «Предчувствую, что мои либеральные друзья будут меня очень ругать, ибо либерализма в них нет, а „растлевающих“ настроений достаточно». Действительно, в книге выражены чувства и переживания человека, отъединенного от общественной суеты, задумавшегося над вечными вопросами: зачем жить, любить, страдать перед лицом смерти, каково его место в природе и Вселенной? Личностное начало и поиск новых поэтических средств выражения делали сборник «Под северным небом» заметным на фоне поэзии конца 1880-х — начала 1890-х годов. «Это первая ласточка новой весны, зябкий букет первых подснежников» — так оценивал впоследствии его значение поэт и критик Эллис.
Эпиграф к сборнику из Николауса Ленау — «Божественное в жизни всегда является мне в сопровождении печали» — определил основной минорный тон книги. Ее лейтмотив, созвучный сборникам других «старших» символистов (З. Гиппиус, Ф. Сологуба, А. Добролюбова), — «бесконечная печаль». «Элегии, стансы, сонеты» — такой подзаголовок, данный поэтом сборнику, указывал на традиционный принцип составления стихотворной книги, но композиционно она обрамлялась темой смерти, начатой первым стихотворением и завершенной своеобразной «колыбельной» — «Смерть, убаюкай меня». Название книги — «Под северным небом» — вызывало ассоциацию с чем-то хмурым, давящим. В одном из поздних эмигрантских писем Е. А. Андреевой Бальмонт напрямую связывал название «Под северным небом» с Петербургом. Лирический герой Бальмонта стремится вырваться из-под этой тяжести и мглы, подчас его тоска принимает христианскую направленность — отдельные стихотворения написаны в форме прямого обращения к Богу («Зачем?») или молитвы («Молитва»). Вместе с тем признание, что «есть свобода в разумной подчиненности Творцу», сопровождается нотами тревоги, горечи, сомнения:
…Но жизнь, любовь и смерть — все страшно, непонятно, Все неизбежно для меня. Велик Ты, Господи, но мир Твой неприветен… (Зачем?)В сборнике «Под северным небом» намечены некоторые общесимволистские мотивы, которые получат развитие в следующих книгах. В целом символизация в сборнике еще вполне традиционна для романтической поэзии:
Чайка, серая чайка с печальными криками носится Над холодной пучиной морской. И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы Так полны безграничной тоской? Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось. Закурчавилась пена седая на гребне волны. Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная, Бесприютная чайка из дальней страны. (Чайка)В статье «Имени Чехова» (1929) Бальмонт вспоминал, что это стихотворение «весьма прославило» его и часто сопоставлялось с чеховской пьесой «Чайка», успешно поставленной Художественным театром. Действительно, стихотворение было очень популярно; положенное на музыку, часто исполнялось как романс.
Бальмонт довольно скромно оценивал свой второй литературный дебют. В записной книжке 1904 года он писал: «Оно началось, это длящееся, только еще обозначившееся, творчество — с печали, угнетенности и сумерек».
Критика 1890–1900-х годов, в целом благосклонно принявшая сборник «Под северным небом», обратила внимание прежде всего на музыкальность поэтического языка Бальмонта, особую мелодичность его стиха. «Он впервые открыл в нашем стихе „уклоны“, открыл возможности, которых никто не подозревал, небывалые перепевы гласных, переливающихся одна в другую, как капли влаги, как хрустальные звоны», — писал в 1903 году Валерий Брюсов.
Хрестоматийным примером бальмонтовского поэтического языка станет его «Песня без слов». Сюжетно это стихотворение восходит к фетовскому «Шепот, робкое дыханье…»: там и тут любовное свидание. Однако главное, что отличает бальмонтовский стих от фетовского, — это мелодическое звучание:
Ландыши, лютики. Ласки любовные. Ласточки лепет. Лобзанье лучей, Лес зеленеющий. Луг расцветающий, Светлый свободно журчащий ручей.Здесь чувствуется установка на музыкальность и не случайно вспоминается девиз французского поэта-символиста Поля Верлена: «Музыка — прежде всего». Само заглавие идет от Верлена, от его «Песен без слов» («Romance sans Paroles»), и в целом стихотворение воспринимается как импрессионистическое и символическое.
С Петербургом было связано «крещение» Бальмонта в поэзии. Вместе с тем он стал получать поддержку и в Москве. В первую очередь благодаря знакомству с князем Александром Ивановичем Урусовым. Блестящий адвокат и оратор, Урусов был человеком широкой образованности. Театрал, знаток европейской — особенно французской — литературы, переводчик, поклонник Флобера и Бодлера, он выступал и в качестве критика, иногда под псевдонимом А. Иванов. В кружке Урусова популяризировалось творчество Ибсена и французских символистов, поддерживались новые веяния в русской литературе и искусстве.
С Урусовым Бальмонт познакомился, вероятнее всего, в начале 1893 года и скоро стал завсегдатаем его салона. Князь с большим интересом отнесся к поэзии Бальмонта, угадав своеобразие его дарования в любви «к поэзии созвучий», в стремлении «создать стих, основанный на музыке». «Урусов <…> помог мне найти самого себя», — признавался Бальмонт в статье «Князь А. И. Урусов (Страницы любви и памяти)». «Поэзия созвучий» ярко проявилась уже в сборнике Бальмонта «Под северным небом», в стихотворении «Челн томленья», посвященном князю Урусову. Александр Иванович считал Бальмонта не только оригинальным, талантливым поэтом, но и «одним из рыцарей духа, трудом которых создается высшая культура». Он ценил его переводческую деятельность, субсидировал в 1895 году издание двух переведенных Бальмонтом книг Эдгара По — «Баллады и фантазии» и «Таинственные рассказы». Влияние Урусова сказалось и в том, что он обстоятельно познакомил поэта с французской литературой, которую Бальмонт одно время недооценивал, открыл перед ним поэтический мир Бодлера. Урусов перевел на русский бодлеровские «Цветы зла», участвовал в издании произведений поэта во Франции (совместно с поэтом-символистом Малларме), выступал как исследователь и комментатор творчества Бодлера. Дружба Бальмонта с Урусовым продолжалась до смерти последнего в 1900 году. Его памяти поэт посвятил стихотворение «Радостный завет».
В Москве у Бальмонта состоялось еще одно чрезвычайно важное знакомство, вошедшее в историю русского символизма. В сентябре 1894 года на заседании Общества любителей западной литературы при Московском университете он встретился с Валерием Брюсовым. Этой встрече суждено было перерасти сначала в братские отношения, а затем в многолетнюю дружбу-вражду. В течение первых трех лет дружба Брюсова выливалась в преклонение перед талантом Бальмонта и нередко в прямое подражание ему.
Бальмонт, старше Брюсова на шесть лет, ко времени их знакомства уже обретал имя в литературе. Он печатался в «толстых» литературных журналах, его знали как переводчика нескольких книг и многих публикаций из европейской поэзии. 20 октября 1893 года Бальмонта избрали действительным членом Общества любителей российской словесности, и вскоре он читал там свое стихотворение «Памяти И. С. Тургенева», по приглашению профессоров Московского университета в январе и марте 1894 года он выступил в зале Исторического музея с лекциями о Шелли и Байроне, начал участвовать в концертах и литературных вечерах с чтением как своих стихов, так и близких ему авторов. На его книгу «Под северным небом» появилось около десяти рецензий и отзывов. Сборник вызвал интерес Брюсова, а следующую поэтическую книгу Бальмонта — «В безбрежности» (1895) — он воспринял с восторгом.
Творческие успехи Валерия Брюсова выглядели скромнее бальмонтовских. Изданные Брюсовым небольшими брошюрами три выпуска сборника «Русские символисты» (1894–1895) включали главным образом его собственные стихи под разными псевдонимами и еще несколько малоизвестных поэтов. В предисловии к первому выпуску Брюсов высказал намерение создать в России школу символической поэзии, передающей «тонкие, едва уловимые настроения». Однако «Русские символисты» принесли ему лишь скандальную славу. В многочисленных отзывах непременно вспоминали его однострочное стихотворение «О, закрой свои бледные ноги» (которое Владимир Соловьев в одной из рецензий предлагал дополнить строкой: «ибо иначе простудишься»). Вместе с тем в символизме Брюсов видел «путеводную звезду» и хотел быть вождем новой поэтической школы. В Бальмонте он нашел «нового поэта», способного создавать истинно символическую поэзию.
Бальмонт и Брюсов встречались чуть ли не еженедельно, читали друг другу свои стихи, засиживались в ресторанах, бродили по ночному городу, говорили о поэтах и поэзии. Оба высоко ценили Фета, Брюсов знал и любил французскую поэзию, Бальмонт — английскую. Позднее в «Автобиографии», написанной для первого тома книги «Русская литература XX в. 1890–1910», вышедшей под редакцией С. А. Венгерова в 1914 году, Брюсов вспоминал о Бальмонте: «Его исступленная любовь к поэзии, его тонкое чутье к красоте стиха, вся его своеобразная личность произвели на меня впечатление исключительное. Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось только через Бальмонта. Он научил меня понимать других поэтов, научил по-настоящему любить жизнь. <…> Вечера и ночи, проведенные мною с Бальмонтом, когда мы без конца читали друг другу свои стихи и стихи своих любимых поэтов… останутся навсегда в числе самых значительных событий моей жизни. Я был одним до встречи с Бальмонтом и стал другим после знакомства с ним».
В свою очередь дружба с Брюсовым оставила глубокий след в жизни и творчестве Бальмонта. «Его парадоксальность, — признавался он в очерке „На заре“, — крепила и радовала мою собственную парадоксальность. Его огромная любовь к стиху, и вообще к художественному и умному слову, меня привлекала к нему, и мы года три были друзьями-братьями». Своим горячим признанием того, что вносит Бальмонт в поэзию, Брюсов укреплял своего «брата» в сознании правильности избранного им пути. Оба они вдохновлялись стремлением «европеизировать» русскую поэзию, перенести на русскую почву мировой художественный опыт. Символизм для того и другого стал маяком в собственном творчестве. Свидетельством взаимного притяжения-отталкивания и плодотворных споров являются их письма и многочисленные стихотворные послания друг к другу на протяжении четверти века.
В круг знакомых Бальмонта вместе с Брюсовым вошли люди из его окружения: А. Ланг (Миропольский), А. Курсинский, В. Саводник, М. Дурнов, Г. Бахман, датский консул и поэт-лирик Тор Ланге и др. Все они в той или иной степени были причастны к «новой поэзии». В дальнейшем близки Бальмонту станут Модест Дурнов и Георг Бахман. Дурнов писал стихи, но по профессии был архитектором и художником. Он оформил обложку книги Бальмонта «В безбрежности», написал его портрет (хранится в Третьяковской галерее). Бахман преподавал немецкий язык, переводил русских поэтов, был страстным библиофилом и автором двух поэтических сборников на немецком языке. Его дом славился московским хлебосольством (он был женат на москвичке) и «литературными субботами», которые стали своего рода клубом символистов.
Кроме того, Бальмонт познакомился с А. П. Чеховым, И. А. Буниным, Миррой Лохвицкой (в замужестве Жибер). С Чеховым у него сложились теплые отношения, писатель ценил Бальмонта как создателя новых художественных форм, подходил к нему без предвзятости. С Буниным Бальмонт обменивался стихотворными посланиями (посвятил ему стихотворение «Ковыль»), некоторое время дружил с ним, но в 1901 году Бунин решительно отошел от символистов («декадентов»), в том числе и от Бальмонта. Более прочные и длительные отношения — как личные, так и литературные — сложились у Бальмонта с Миррой Лохвицкой. В творчестве их объединяли культ красоты, мотивы чувственной любви-страсти, тяготение к экзотике, мифу. Поэт посвятил «русской Сафо» несколько стихотворений: «Я знал», «До последнего дня», «Однодневка», «Звездный ландыш», «Мирра», «О, какая тоска…» (последнее — отклик на ее смерть в 1905 году). Ее имя присутствует среди тех, кому он посвятил книгу «Будем как Солнце» (1903). 27 февраля 1896 года Мирра Лохвицкая подарила ему свой первый сборник «Стихотворения» (М., 1896) с такой надписью: «Константину Дмитриевичу Бальмонту от его читательницы и почитательницы».
Вышедшая в 1895 году книга стихов «В безбрежности» (и переизданная в следующем году) укрепила репутацию Бальмонта как поэта. Этот сборник отличался от первого («Под северным небом») большей смысловой и композиционной цельностью. Он открывался ключевым стихотворением «Я мечтою ловил уходящие тени…», в котором можно обнаружить отзвук драмы Ибсена о строителе Сольнесе, возводившем башню — все выше и выше.
Книга включала в себя три раздела («За пределы», «Любовь и тени любви», «Между ночью и днем») и завершалась итоговым стихотворением-воззванием «За пределы предельного…». Центральные символы первого раздела — «болото» и «пустыня», создаваемые многими ранними поэтами-символистами. Знаковым символом всего сборника является образ «луны». Лунный мир (раздел «За пределы») завораживающе притягателен, в нем «жизнь и смерть — одно», «бесстрастие» и «безмолвие», нарушаемое лишь «шелестом» («Полночной порою в болотной глуши / Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши») да предсмертной «песнью лебедя» («Чья-то песня слышится, печальная, как последний вздох души»). Лирический герой Бальмонта тщетно пытается обрести здесь свой «путь», он оказывается в «пещере», в «лабиринте», обречен на мучительное одиночество:
Бесплодно скитанье в пустыне земной, Близнец мой, страданье, повсюду со мной. Где выход, не знаю, — в пещере темно. Все слито в одно роковое звено. (В пещере)Образ солнца («ярко-красного светила расцветающего дня») появляется в последних стихотворениях первого раздела как символ преображения лунного мира, одухотворения и «озвучивания» его («В час рассвета», «Зарождение ручья»). Непрестанное движение, «ненасытную тревогу» духа лирического героя символизирует образ ветра («Ветер», «Дух ветров», «Ветер перелетный обласкал меня…»), впоследствии излюбленный у поэта.
Символом жизнетворческого начала является у Бальмонта любовь. Эпиграфом ко всему сборнику поэт взял слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского: «Землю целуй, и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби, ищи восторга и исступления сего». Любовь осмысляется поэтом одновременно и в христианском, и в языческом смыслах. Образ Мадонны (стихотворения «Мэри» и «Трубадур») соседствует с образом безвестной шотландской красавицы Эльзи, мотивы дантовской «Vita nuova» с ницшеанскими нотами. Именно в любви лирический герой прорывается от житейской суеты и скорби в «безбрежность» страсти:
За сладкий восторг упоенья Я жизнью своей заплачу! Хотя бы ценой преступленья — Тебя я хочу! («Тебя я хочу, мое счастье…»)Особую значимость приобретает мотив «мгновения» как мироощущение поэта. «Поэзия запечатленных мгновений» (В. Брюсов) воссоздает переменчивое состояние души лирического героя Бальмонта.
Среди любовных стихотворений раздела заметно выделяются те, которые посвящены второй жене Бальмонта Екатерине Андреевой («Черноглазая лань», «Я боюсь, что любовью кипучей…», «Беатриче»).
В завершающем сборник разделе «Между ночью и днем» прозвучали оптимистические, жизнеутверждающие ноты. И хотя «восхождение» лирического героя по «ступеням» — это дорога «никуда» («Иду… пространству нет предела!»), поэт воспевает самоценность самого движения, восторг «краткого мига существованья». Весьма показательно, что в последнем стихотворении сборника «я» сменяется на «мы»:
Дерзкими усильями Устремляясь к высоте, Дальше, прочь от грани тесной, Мы домчимся в мир чудесный К неизвестной Красоте! («За пределы предельного…»)Критика 1890-х годов, упрекая Бальмонта за «непонятность» и «туманность» стихов, «неопределенность содержания», сомнительные стихотворные новации, все же находила его дарование «симпатичным», как высказался В. Гольцев, опубликовавший рецензию на сборник под псевдонимом О. Т. В. в «Русской мысли» (1894. № 4), и считала самым одаренным из современных молодых поэтов, как писал А. Скабичевский в газете «Новости» (1894. 7 апреля). Восприятие читателей было столь же противоречивым. Во время публичных выступлений Бальмонта слушатели резко делились на поклонников и недоброжелателей «новой поэзии». Из собратьев по перу самым пристрастным и заинтересованным читателем был Брюсов. В сохранившихся набросках статьи «Русская поэзия в 95 году» он ставит Бальмонта на одно из первых мест в современной литературе, видит в нем достижения символистской школы и особо подчеркивает его новаторство в сфере поэтики, музыкальность его стиха. Начиная с середины 1890-х годов популярность поэта все более и более растет, что дает основание Брюсову сказать: с этого времени Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией в течение целого десятилетия.
Позднее, в 1900-е годы в поведении Бальмонта появится то, что принято связывать с декадентством, — горделивая поза самовлюбленного поэта, экстравагантные поступки, богемность, эксцентричность и т. д. В середине 1890-х годов ничего подобного не было. Об этом писал в «Литературных воспоминаниях» даже недолюбливавший его П. П. Перцов: «Надо отдать справедливость Бальмонту: он не проявлял никакого высокомерия или рисовки. Напротив того: трудно было встретить такого приятного, предупредительно-приветливого человека». В Бальмонте, по его словам, «виделся прежде всего глубоко преданный литературе, идеалистически настроенный и в то же время лично скромный, всегда готовый признать чужую заслугу человек. Он выгодно отличался от Брюсова отсутствием той, слишком явной жажды прославления, которой страдал последний».
В письме от 8 декабря 1894 года Бальмонт сообщил матери, что ему предстоит прочесть в Обществе любителей художеств реферат о символизме. Чтения, как отметил Перцов, состоялись 15 марта 1895 года. Наиболее полное понимание символизма развернуто поэтом в лекции 1900 года «Элементарные слова о символической поэзии». Следует заметить, что бальмонтовская трактовка символизма в ряде существенных моментов совпадает с высказываниями Волынского, Мережковского, Минского, Брюсова и вместе с тем отличается от них. Символизм Бальмонт видел в «намеках и недомолвках», выражении неуловимого, таинственного и считал, что как творческий метод он связан с импрессионизмом стиля и декадентским мировосприятием. В целом это — психологическая лирика, призванная запечатлеть чувства и переживания раздвоенного человека на сломе двух эпох, в период упадка.
С выходом книг «Под северным небом» и «В безбрежности» Бальмонт коренным образом поменял ориентиры в своей творческой деятельности: на первый план вместо переводов он поставил поэзию, ей отдавал творческую энергию. Переводческая работа никогда у него не прекращалась, в ней были свой пафос и своя благородная цель — познакомить русского читателя с лучшими образцами мировой литературы. «Мне хочется сделать нечто крупное, что останется в русской литературе и русском театре надолго, на столетия», — заявлял он. Кроме того, переводы по-прежнему оставались для него одним из главных источников добывания средств на жизнь: не имея других доходов, он жил исключительно на литературные заработки. Все стихотворные сборники 1890-х годов издавались им за свой счет и вряд ли себя окупали. Но в них заключалось самое важное, то, что он считал своим призванием, — поэзия.
Середина 1890-х годов, отмеченная несомненными успехами Бальмонта-поэта, вместе с тем стала временем кризиса в его личной жизни. Долго длившийся мучительный разлад в семье достиг высшей точки, хотя многочисленные письма Бальмонта жене за 1891–1894 годы не дают материала для выяснения причин этого разлада.
Письма начинаются с ласкового обращения, общий их тон нежный, доверительный, в них нет ни упреков, ни раздражения. Бальмонт продолжал любить «милую Дару», писал, что скучает без нее, справлялся о здоровье детей, старался обеспечить семью материально, держал Ларису в курсе своих дел и интересов, пытался привлечь ее к переводам с французского, ко дню ангела посвящал стихи… Лишь однажды, в письме от 13 июня 1892 года, глухо прозвучало, что и он и она виноваты: «оба не сдержали себя». Значит, продолжалось то, что уже однажды привело Бальмонта к попытке самоубийства: ссоры, сцены ревности, истерика в тяжелой форме, подозрения.
По словам Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт, Лариса «следила за ним, подсматривала, распечатывала письма, рылась в его бумагах». Как уже говорилось, беспричинной ревностью она преследовала и своего второго мужа — Николая Александровича Энгельгардта. Их сын Александр вспоминал: «Мама, добрая и честная, имела ужасный порок. Она была необоснованно ревнива, без всякого повода со стороны отца. И это выражалось в диких сценах ревности».
Нечто подобное, надо полагать, происходило и в их жизни с Бальмонтом. Было еще одно обстоятельство, о котором поэт рассказал в исповедальном стихотворении «Лесной пожар»:
Мне стыдно плоскости печальных приключений. Вселенной жаждал я, а мой вампирный гений Был просто женщиной, познавшей лишь одно, — Красивой женщиной, привыкшей пить вино. Она так медленно раскидывала сети, Мы веселились с ней, мы были с ней, как дети. Пронизан солнцем был ласкающий туман, И я на шее вдруг почувствовал аркан. И пьянство дикое, чумной порок России, С непобедимостью властительной стихии Меня низринуло с лазурной высоты В провалы низости, тоски и нищеты.Екатерина Алексеевна в мемуарах прямо пишет, что Лариса Михайловна страдала алкоголизмом. Так это было или не так, но нельзя не верить признанию поэта, что в их жизни, как потом и в его судьбе, в определенном смысле роковую роль сыграло вино. Оно пагубно действовало на нервную и впечатлительную натуру Бальмонта, делало неуравновешенной, истеричной Ларису Михайловну и, скорее всего, стало причиной смерти их первого ребенка, а возможно, как знать, и душевной болезни сына Николая, проявившейся в 26 лет (умер он в 35-летнем возрасте).
Непосредственным поводом для разрыва брачных уз, по-видимому, послужил очередной скандал, разразившийся из-за ухаживаний Бальмонта за Екатериной Алексеевной Андреевой. У поэта была влюбчивая натура. «Люблю любовь», — говорил он о себе. О его многочисленных романах и влюбленностях впоследствии немало судачили в литературных кругах. С Екатериной Алексеевной Бальмонт познакомился 2 апреля 1893 года в доме Урусова на праздновании пятидесятилетнего юбилея хозяина. Как она вспоминала, поэт сразу же в нее влюбился. Ей посвящены стихотворения 1893 года «Я расстался с печальной Луною» и «Разлука», написанные во время второй поездки в Скандинавию. Подозрительная и чуткая Лариса Михайловна не могла не ощутить перемены в муже.
Собственно, пять лет их семейной жизни не были счастливыми. Они слишком часто жили врозь, долго испытывали материальные трудности. Лариса Михайловна, родившая за это время троих детей, не смогла реализовать свои задатки актрисы, а посвятить жизнь интересам мужа не сумела или из-за ревности не захотела. Что касается Бальмонта, то он с головой ушел в свои дела и мог едва ли не сутками работать, зарывшись в книги или уйдя в творческое одиночество. Характерно его признание в письме Минскому от 7 февраля 1893 года: «У меня приближается стихотворный жар. <…> Нужно, черт возьми, и мне свою поэму написать. Вошел в возраст. — Можете ли Вы представить, насколько я счастлив в своих мизантропических порывах: не вижусь ни с кем! Целуюсь с одиночеством, а эта Особа столь занятна! Право, я нахожу, что человек умнеет, когда он — один».
Человек творческий, увлеченный, малоспособный к семейному счастью в его женском понимании, Бальмонт после очередной сцены, устроенной женой, оставил ее и переселился в гостиницу, а Лариса Михайловна, по свидетельству Николая Александровича Энгельгардта, 17 мая 1894 года приехала к нему в смоленское имение Батищево, и вскоре началась их совместная жизнь — еще до вступления в официальный брак.
Как понять такой поворот в жизни Ларисы Михайловны? Здесь необходимо вкратце рассказать историю их отношений. Николай Энгельгардт был сыном известного профессора-агронома Александра Николаевича Энгельгардта, а его мать Анна Николаевна, писательница, в 1891–1893 годах редактировала журнал «Вестник иностранной литературы», где Бальмонт печатался. Он познакомился с Н. Энгельгардтом через Минского в Царском Селе 17 июня 1892 года. Они оказались одногодками, оба поэты, мечтатели, не удивительно, что они сразу коротко сошлись, не раз дружески встречались в Петербурге и Москве. В неопубликованной части своих мемуаров «Эпизоды моей жизни» Николай Энгельгардт рассказал, что неоднократно бывал у Бальмонта в московской квартире, познакомился с его женой. Так получилось, что при их знакомстве присутствовала и его мать Анна Николаевна, которая была очарована Ларисой и восклицала, обращаясь к сыну: «Какая у него жена! Какая жена!» Неменьшее впечатление Лариса произвела и на сына, он находил ее прелестной: «Она была так юна, что ей по наружности нельзя было дать более 17–18 лет». Не исключено, что уже тогда между Николаем Александровичем и Ларисой Михайловной возникла взаимная симпатия, и когда Бальмонт оставил ее, Энгельгардт сделал ей предложение.
Бракоразводный процесс Бальмонта затянулся: дело рассматривалось в духовной консистории и утверждалось Святейшим синодом. Лариса Михайловна настояла на том, чтобы виновным был признан Бальмонт. Указом Синода от 29 июля 1896 года брак был расторгнут «с дозволением вступить жене во второй брак, а мужу навсегда воспрепятствовать». Но еще до этого указа у Ларисы Михайловны и Энгельгардта родилась дочь Анна, которую Бальмонту пришлось записывать на свое имя, лишь позднее Николай Александрович ее узаконит.
Забегая вперед скажем, что в 1918 году Анна Энгельгардт станет второй женой поэта Николая Гумилёва, ей будет посвящена его книга «Огненный столп». Анна унаследовала «боттичелеву» красоту своей матери, в 1915 году Бальмонт встретится с ней, и Анна произведет на него впечатление «очаровательной» девушки.
Пока длился бракоразводный процесс, Бальмонту не раз приходилось испытывать претензии бывшей жены. «Тучи и буря» — так определил поэт свои переживания в письме Брюсову от 6 ноября 1895 года. Спустя два месяца, уже из Шуи, он сообщает, что «тучки тают», и пишет: «Милая Тень, я не простился с Вами. Умчался, как ветер. Бежал. Скрылся. Растаял. С 1-го января — вне Москвы. Жить в ней более не буду. Существую как философ. Среди звуков, красок, мыслей, слов».
Максимилиан Волошин записал в дневнике разговор с Бальмонтом, произошедший в марте 1915 года: «Ах, как трудно было уйти от Ларисы. Я раз сказал ей: „Я тебя больше не люблю, нам надо расстаться“. Она так согнулась в кресле и повторяла: „Чайка! Чайка!“ Ларисса — значит чайка. Т. е., что и она такая же бесприютная». После этого Бальмонт и напишет уже цитировавшееся стихотворение «Чайка» (вошедшее в книгу «Под северным небом»). Если учесть тот факт, что начиная с 1890-х годов между К. Д. Бальмонтом и А. П. Чеховым установились достаточно близкие отношения, представляется убедительной версия Л. И. Будниковой, предположившей, что Лариса Михайловна Гарелина, в юности страстно мечтавшая о сцене, могла стать одним из прототипов Нины Михайловны Заречной в чеховской «Чайке».
Нервные срывы, болезненная ревнивость Ларисы Михайловны отравляли жизнь Бальмонта, но, по словам Екатерины Алексеевны, «он не умел бороться ни с обстоятельствами, ни с людьми». Его переживания, связанные с женой, отразились в стихах (вошедших в книгу «Под северным небом»): «О, женщина, дитя, привыкшее играть…», «Дышали твои ароматные плечи…», «Кошмар», «Нет, мне никто не сделал столько зла…». При чтении этих стихотворений возникает образ обольстительной и вместе с тем коварной женщины в духе инфернальных героинь Достоевского, приносящих своей любовью не столько радости, сколько страдания, ощущения гибельности. Не случайно Бальмонт прозвал жену Мелитта — от древнегреческого слова «мелисса», что значит «пчела», «мед», а с пчелой связано и ядовитое жало. В позднем стихотворении поэта «Косогор» есть такая строка: «Пил я счастье, вместо меда выпил яд».
О своей первой жене, которая через много лет умрет от голода в блокадном Ленинграде, по свидетельству Екатерины Алексеевны, поэт «никогда не говорил дурно. Даже осудительно. Но он часто вспоминал ее, и всегда с добрым чувством, как будто никогда не страдал от нее». По самой своей природе Бальмонт не был злобен и мстителен, наоборот, доверчив и прямодушен. Ненависти он предпочитал любовь — как в жизни, так и в поэзии.
«Я полюбил тебя, лишь увидав впервые», — написал Бальмонт в стихотворении «Беатриче», в котором уподобил Екатерину Алексеевну Андрееву возлюбленной Данте. Сборник «В безбрежности» содержал и другие стихотворения, отразившие любовные чувства поэта, связанные с нею: «Отчего нас всегда опьяняет Луна?..», «Черноглазая лань», «Я боюсь, что любовью кипучей…», «Ночные цветы». Образ Луны в стихах Бальмонта почти всегда ассоциируется с женщиной, но применительно к Кате, как он звал вторую жену, этот образ имеет особый смысл: ее чувства подобны живительной прохладе, это не огонь, а ровный серебристый свет.
Катя до конца жизни будет для Бальмонта Беатриче. Она станет настоящей женой, она останется и самым любимым человеком, несмотря на то, что у него появятся новые любови, влюбленности, увлеченности, дети от других женщин. Образ Катерины-Беатриче, как прекрасное видение прошлого, не случайно возникнет в последней поэтической книге Бальмонта «Светослужение» (1937).
Сочетаться законным браком Бальмонту и Кате мешали два взаимосвязанных обстоятельства: решение Синода, запрещавшее ему второй церковный брак, и сопротивление ее матери, не мыслившей брак дочери без венчания. Между тем Бальмонт страстно хотел быть с той, которую любил.
Летом 1895 года Катя вместе со старшей сестрой и братом уехала в Швейцарию, в санаторий Уетлиберг близ Цюриха. Было условлено: встречаться в это время она и Бальмонт не будут. Но, несмотря на договоренность, Бальмонт отправился к ней, сначала побывав в Одессе, а затем выехав в Швейцарию через Вену. Свою поездку он держал в тайне, сообщив позже о ней лишь матери. За границей он пробыл больше месяца, значительное время проведя в Австрии.
Неожиданный визит Бальмонта в Уетлиберг, тайные свидания влюбленных подробно описаны в мемуарах Екатерины Алексеевны. А вот что писал Бальмонт матери 16 августа 1895 года:
«Большая часть впечатлений относится к числу несказанных. Я поехал за границу совершенно экспромтом. Я был (неведомо для всех) в Швейцарии <…>. Я нашел такое счастье, какое немногим выпадает на долю, если только выпадает (в чем сомневаюсь). Я люблю в первый и последний раз в жизни, и никогда еще мне не случалось видеть такого редкостного сочетания ума, образованности, доброты, изящества, красоты и всего, что только может красить женщину. Это моя неприкосновенная святыня, и по одному ее слову я мог бы принести самую большую жертву. Но нам предстоит не жертва, а жизнь, исполненная любви, заботливости, взаимного понимания, одинаковых духовных интересов. Этот год я золотыми буквами запишу в книгу своей жизни <…>. Впереди у меня перспективы, от которых кружится голова. Если исполнится всё, что существует в проекте, жизнь моя будет сплошной поэмой. Умирать мне теперь не хочется, о-о-о нет! Надо мной небо, и во мне небо, а около меня седьмое небо».
Катя действительно была хороша собой — поэт ее называл «черноглазая лань», — умом, темпераментом, обшей культурой она резко отличалась от Ларисы. Ее лаконичный, но точный портрет находим в мемуарном очерке Бориса Зайцева «Бальмонт», вошедшем в книгу его воспоминаний «Далекое»: «…женщина изящная, прохладная и благородная, высоко культурная и не без властности». Он же отмечает, что Екатерина Алексеевна упорядочила жизнь Бальмонта, направляла ее: «Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился <…> в верных руках, любящих и здоровых руках, и дома вел жизнь даже просто трудовую». Эти наблюдения относятся к 1903–1905 годам, но таковыми отношения Бальмонта и Екатерины Алексеевны оставались весь период их совместной жизни.
Екатерина Андреева была ровесницей Бальмонта. Она происходила из московской купеческой семьи, довольно известной, состоятельной и многодетной, но была уже человеком новой формации. Училась на Высших женских курсах Герье, много читала, изучала языки, увлекалась театром, в кружке Урусова приобщалась к новым идейным и художественным веяниям, пробовала писать сама. Большое влияние на нее оказала старшая сестра Александра Алексеевна, талантливый критик, историк литературы, переводчица.
Двадцать седьмого сентября 1896 года после многих переживаний брак между Константином Бальмонтом и Екатериной Андреевой был заключен. Этому помог случай: Бальмонт неожиданно получил из Владимира документ, по которому он числился холостым. Брат Михаил нашел деревенского священника, согласившегося обвенчать жениха и невесту в своей церкви, в семи верстах от Твери. Тогда же в Твери сыграли и свадьбу.
Екатерина Алексеевна стала сподвижницей и помощницей Бальмонта, с удовольствием выполняла секретарские обязанности и разные поручения, занималась переводами — и самостоятельно, и в соавторстве с Бальмонтом. Она безусловно обладала литературным дарованием, о чем говорят ее превосходные мемуары, и отнюдь не была тенью мужа. Оба чувствовали себя свободными и в то же время связанными общими интересами. «Я любила литературу так же, как Бальмонт, — вспоминала Екатерина Алексеевна. — Искусство и поэзия были неисчерпаемыми темами для нас. Вкусы наши были до удивительности схожи. Из всех прочитанных книг мы оба любили больше всего „Фауста“ Гёте, „Манфреда“ Байрона… <…> „Преступление и наказание“ Достоевского оказало в юности на меня, так же и на него, огромное влияние. Для нас обоих эта книга была поворотным пунктом в нашем мировоззрении, открытием. Мы оба были соблазнены идеей Раскольникова (что „все позволено“). Но совсем по-разному освободились со временем от увлечения этой односторонней попыткой утверждения личности. Я, согласная с Достоевским, нашла разрешение идеи о сверхчеловеке в евангельской правде. Бальмонт, всегда стремившийся к цельности, согласованности всего сущего, нашел ее в сверхличном, космическом. Эти искания гармонии и правды спасали его от многих других соблазнов».
28 сентября 1896 года Бальмонт и Екатерина Алексеевна через Петербург выехали во Францию, решив провести «медовый месяц» на курорте Биарриц, а затем остановиться в Париже, где Бальмонт намеревался изучить западноевропейские языки и литературу, знакомиться с культурной и научной жизнью Европы. Их путь лежал через Германию, и на неделю они задержались в Берлине и Кельне. Затем, после короткой остановки в Париже, уехали в Биарриц, но поселились не на этом курорте, модном и фешенебельном, а в маленьком городке близ него.
Вилла, где они жили, располагалась на берегу Атлантического океана. Ее снимала семья Нины (Антонины) Васильевны Евреиновой, которая была сестрой известных издателей Сергея Васильевича и Михаила Васильевича Сабашниковых. Сама Нина Васильевна в 1885–1890 годах издавала журнал «Северный вестник», заменивший по своему направлению закрытые «Отечественные записки».
Екатерина Алексеевна состояла с Сабашниковыми в родстве, так как ее сестра Маргарита была замужем за двоюродным братом издателей Василием Михайловичем Сабашниковым (к слову, отцом первой жены Максимилиана Волошина — художницы Маргариты Сабашниковой). Сабашниковы и Андреевы были дружны семьями. В дальнейшем и Н. В. Евреинова, и издатель М. В. Сабашников сыграют немалую роль в судьбе Бальмонта.
Атлантический океан и его побережье Бальмонт всегда считал лучшим из всего, что он видел. Океан в его поэзии стал символом первородной стихии («Океан, мой древний прародитель»). Первые два письма, отправленные Вере Николаевне, наполнены восхищенными описаниями океанских волн, озаряемых солнечными лучами, мощной силы прибоя, причудливой игры красок. «Все это красиво, — завершает он письмо матери от 12 ноября 1896 года, — но еще лучше будет, когда все это, много времени спустя, увидишь в душе своей как сон, под свист северной вьюги, родной и печальной, говорящей о чем-то таком грустном, таком задушевном, что об этом нельзя говорить словами».
Биарриц находится недалеко от Пиренеев и франко-испанской границы, и Бальмонт, всегда стремившийся к новому, неизведанному, мечтал побывать в Испании, читал о ней книги, начал изучать язык и вскоре уже мог читать испанские газеты и понимать разговорную речь. Своему тогдашнему приятелю В. Ф. Джунковскому он шутливо пишет 3 ноября:
Вот уж три недели вижу Я испанский горизонт, Но писанье ненавижу, Хоть люблю Вас. Ваш Бальмонт.Первое пребывание в Испании ограничилось двумя неделями. Бальмонты побывали в Стране Басков, в Мадриде, посетили знаменитый музей Прадо, увидели корриду, приобрели офорты испанского художника Ф. Гойи — альбомы «Капризы» и «Ужасы войны», сюжеты которых позднее будут использованы поэтом в статье «Поэзия ужаса». Увлечение Испанией нашло отражение в стихотворениях «Перед картиной Греко» и «В окрестностях Мадрида», продолжилось и тогда, когда на зиму они обосновались в Париже. Бальмонт познакомился с французом Лео Руане, переводчиком Кальдерона и испанских песен, совершенствовался в овладении испанским языком, расширял знакомство с испанской классикой XVII века. Кальдерон вскоре станет такой же его страстью, как и Шелли.
О жизни, духовных интересах в зиму 1896/97 года дает достаточно полное представление большое письмо Бальмонта матери от 9 декабря:
«<…> Мне почти невозможно рассказать о том, что я думаю и чувствую. Все последние годы, когда я жил в Москве, сперва с семьей, потом один, я не имел возможности отдаваться своим стремлениям к обогащению своего интеллекта, я вращался в замкнутом круге, я работал, работал, работал <…> и жил в кругу определенных впечатлений, что, конечно, сужало сферу моей внутренней жизни. Теперь передо мной целый мир: новые люди, новые нравы, философия, наука, искусство, религия, новая личная жизнь. Но ведь этого всего слишком много, все это спутывается, трудно разобраться, трудно остановиться на чем-нибудь <…>. Жизнь коротка, и счастлив тот, кто с первого дня своей сознательной жизни знал, что ему нужно и куда его влечет. Я не принадлежу к таким счастливцам. Мною всегда владели фантазия, любовь к новому, неизвестному <…>. Если что меня спасает от ненависти к жизни, это именно моя природная любовь к поэзии, к красоте всего мимолетного и к тихим маленьким радостям, заключающимся в пожатии руки и в глубоком взгляде. Моя душа не там, где гремит вечный Океан, а там, где еле слышно журчит лесной ручей. Моя душа там, где серая однообразная природа, где вьются снежинки, где плачут, тоскуют и радуются каждому солнечному лучу. Не в торжестве, не в гордости блаженства вижу я высшую красоту, а в бледных красках зимнего пейзажа, в тихой грусти о том, чего не вернуть. Да и стыдно было бы торжествовать в то время, как целые страны умирают под склепом сумрачного неба, в то время, как утро тебе приносит цветы, а другим — звуки холодного ветра.
Что же мне все-таки сказать о себе? Я читаю с утра до вечера, я ищу в книгах то, чего нет в жизни. Читаю по-французски книги Ренана по истории еврейского народа, книги разных авторов о демонизме; современные романы, современных поэтов, по-английски „Потерянный рай“ Мильтона, по-немецки — книги Куна Фишера о Шопенгауэре, статьи Гельмгольца по естественным наукам, специальные книги по истории средних веков, по-итальянски — „Divina Comedia“ („Божественная комедия“. — П. К., Н. М.) Данте; по-датски — статьи Брандеса о датских поэтах; по-испански буду читать с сегодняшнего дня „Дон Кихота“. Таким образом, как видишь, пребываю в обществе гениев, ангелов и демонов. Стихов я почти не пишу. Вообще писать мне теперь ничего не хочется. Знакомлюсь с живописью и с историей искусства. В этом отношении Катя мне очень помогает, так как она с историей искусства знакома гораздо больше, чем я, и при оценке произведений живописи у нее вкус — необыкновенно тонкое понимание и верное чутье.
Для меня знакомство с великими картинами в оригиналах открыло совершенно новый мир. Мне хочется подробно ознакомиться с историей живописи, и я уже прочел несколько специальных книг. <…> С будущей недели мы будем вместе с Катей подробно знакомиться с произведениями китайской и японской живописи, в которой так много совершенно нового, свежего, оригинального <…>. Были на социалистическом митинге, и супруга моя пленилась красноречием революционного оратора, а я пришел в бешенство от созерцания человеческой ограниченности, блистательно воплотившейся в социалистической аудитории. К социальным вопросам я вообще испытываю чувство, температура которого равняется нулю по Реомюру. Толпа внушает мне презрение, быть может, несправедливое, но непобедимое.
Съездите в Гумнищи, и поклонитесь им от меня».
В декабре Бальмонт получил известие из Англии о том, что его хотят пригласить в Оксфордский университет прочитать в весеннем семестре лекции о русских поэтах. Инициатива исходила от основателя кафедры славистики профессора Вильяма (Уильяма) Морфиля. Морфиль хорошо знал и любил русскую литературу, бывал в России, был знаком и переписывался с видными русскими учеными. Приглашение пришло от имени существовавшего при университете Тейлоровского института, занимавшегося изучением культуры, искусства и этнографии народов мира. Цель лекций — пробудить интерес к русской поэзии, которую в Англии в то время знали очень мало. Если имена Льва Толстого, Достоевского были там хорошо известны и популярны, то о поэтах, даже таких как Пушкин и Лермонтов, англичане имели смутные представления или совсем их не имели. Лекции Бальмонта должны были восполнить этот пробел. Обращение именно к нему не было случайным. Профессор Морфиль знал Бальмонта как поэта, ценил его переводы из Шелли, Эдгара По.
К лекциям Бальмонт начал готовиться с большой ответственностью еще до отъезда в Англию. Ему предстояло изложить историю русской поэзии от Пушкина до современных символистов. Поэта смущало то обстоятельство, что его устный английский был далек от совершенства (из-за произношения), и он решил читать лекции на французском языке, для чего специально перевел на французский около двадцати стихотворений русских поэтов. В этой работе ему помогала жена. Текст четырех подготовленных лекций и поэтические переводы Бальмонта просматривал и консультировал писатель Понсерве. Первая лекция была посвящена Пушкину, и Бальмонт не упустил случая познакомиться с известным знатоком Пушкина и собирателем пушкинских материалов А. Ф. Онегиным, жившим в Париже[4].
Из письма Бальмонта матери от 8 апреля 1897 года известно, что он и Екатерина Алексеевна прибыли в Англию за неделю до этой даты и что перед этим он писал матери из Голландии. Очевидно, их путь лежал через Амстердам, с которым связано знаменитое бальмонтовское стихотворение «Воспоминание о вечере в Амстердаме».
Когда Бальмонты приехали в Англию, там уже всё зеленело, весна была в разгаре. Оксфорд с его садами и парками, река Темза, средневековая архитектура монастырей и соборов сразу же покорили поэта, что нашло отражение в стихотворениях «Английский пейзаж», «Оксфорд», «Ручей» и «Вечер» (с посвящением В. Морфилю).
Однако время для лекций — конец мая и начало июня — было выбрано неудачно: студенты, озабоченные экзаменами, спортивными состязаниями, на лекциях присутствовали мало, среди слушателей преобладали преподаватели и дамы, всего человек шестьдесят. Бальмонт не мог не сравнивать свои выступления в России: когда он читал лекции о Шелли и Байроне, зал Исторического музея был заполнен целиком. Интерес к английской культуре в России был несравненно больше, чем у англичан к русской.
Бальмонта оттолкнуло самодовольство англичан, но смягчила это впечатление готовность английских ученых помогать ему в изучении английской поэзии, в знакомстве с историей Англии. Он много занимался в университетской библиотеке, где хранились рукописи Шелли и материалы о нем, открыл для себя новых английских поэтов, в частности Уильяма Блейка, которого стал переводить (он был неизвестен в России).
Среди знакомств с оксфордскими учеными особое значение имела встреча с крупнейшим индологом Максом Мюллером, который ввел его в мир индийских мыслителей, познакомил с мифологией, религией и культурой великого народа. Еще до этого, работая над переводами философской поэзии, в том числе Шелли, Бальмонт прочел книгу немецкого ученого Г. Ольденберга «Будда». Теперь тема восточной мудрости захватила его. Он заинтересовался изданными на английском языке сочинениями Е. П. Блаватской, в которых многое взято из Вед и Упанишад. Теософские воззрения Блаватской, изложенные ею в книге «Голос Молчания», вскоре отразятся в творчестве поэта. Что касается профессора Морфиля, то с ним у Бальмонта установились дружеские связи. Морфиль переводил стихи Бальмонта на английский язык, предложил поэту вести ежегодные обзоры русской литературы в английском журнале «Атенеум» (опубликованы обзоры за 1898, 1899 и 1900 годы). Позднее Морфиль стал сотрудником русского символистского журнала «Весы».
Трехмесячное пребывание в Англии в целом было плодотворным, обогатило Бальмонта новыми впечатлениями, идеями. Он еще дважды вернется туда, чтобы продолжить работу над Шелли. В этой стране многое Бальмонту нравилось, но вместе с тем его натуре была чужда регламентированность английской жизни. Делясь, как всегда, своими впечатлениями с матерью, он писал ей 17 июля 1897 года: «В Англии блуждают манекены, это нечто непостижимое. Можно подумать, что англичанин не человек, а одушевленная машина». Здесь же отразился и характерный для Бальмонта антиурбанизм: «Лондон — это мастерская дьявола. Там нет уважения личности, потому что там строят дома в двенадцать этажей. Это полное предвкушение ада! Смотришь из окна и видишь стены, серые, черные, серые, темно-серые, черные, черные, черные — и до бесконечности». «Но, — заключает поэт письмо, — есть две вещи, которые привлекают меня к Англии — английская поэзия и английские сады». Он мечтал подготовить том переводов из английской поэзии XIX века: Байрона, Вордсворта, Колриджа, Китса, Теннисона и др.
В начале июля 1897 года Бальмонты вернулись из Англии в Париж. В него, признавался поэт, он «бесповоротно влюбился». Действительно, этот город станет для него притягательным местом, куда он приезжал жить, откуда совершал поездки в страны Европы и длительные путешествия по миру. В июльских письмах матери он делился планами остаться в Париже на год: Екатерина Алексеевна будет здесь рожать, а он — много заниматься. «Мне нужно еще долго и упорно учиться, так как я во всем чувствую пробелы, которые необходимо заполнить», — пишет он 30 июля 1897 года из Виши. В Виши, на водах, Бальмонты провели три недели: жена лечила печень после непривычной английской пищи, а Бальмонт правую руку, которая из-за старого перелома часто болела.
В конце августа на полтора месяца Бальмонты отправились в Италию, чтобы осмотреть достопримечательности этой страны, наследницы греко-римской культуры. Побывали в Милане, Болонье, Венеции, Флоренции, Риме. Письма матери полны восторженных описаний увиденного. Из письма от 9 сентября 1897 года:
«За неделю, проведенную в Венеции, я так привязался к этой ночной красавице, что жаль уезжать отсюда. Площадь святого Марка — это самое красивое, что я видел когда-либо в каком-либо городе. Площадь, кажущаяся залой и замкнутая среди стен, зданий, построенных из мрамора! Византийский собор св. Марка, дворец дожей, напоминающий всю красоту мавританских построек, бесконечное разнообразие в окраске морских волн под вечерним светом неба от темно-лилового до воздушно-перламутрового, гондолы, черные, как гроб, и легкие, как призрак, — все это страницы из поэмы, впечатления, глубоко западающие в душу. И женщины, проходящие в сумеречном свете по набережной, так не похожи на женщин Англии или Франции: в них есть настоящая неподдельная прелесть, среди них можно встретить мадонну. Я говорю о женщинах из рабочего класса, гуляющих с непокрытой головой и закутанных в черные шали, — дамы совершенно некрасивы и неинтересны.
Море, искусство, пенье, красивые женские лица и мрамор — от всего этого мне хотелось вчера перенестись на Север, в осенний сад, с пышными настурциями. Таково капризное сердце человека. Вечно его тянет туда, где его нет».
Из письма от 2 октября из Рима:
«Милая мама, собирался написать тебе из Флоренции, где мы пробыли около двух недель, но в буквальном смысле от красоты слегли в постель. Мне так понравилось во Флоренции, как нигде еще не нравилось. Попасть в этот город — это целая эпоха в жизни, более того, это счастье. Ни итальянская природа, ни итальянская живопись, ни итальянская поэзия не понятны для того, кто не был здесь, и каждый день пребывания в этой столице итальянских очарований приносит неисчерпаемые впечатления…
Здесь, в Риме, я жалею, что мы уехали так скоро из Флоренции, я чувствую, что необходимо вернуться туда не на несколько дней, а на целый год, на два года. Но это в будущем. Теперь мы здесь, в Риме, в сказочной столице погибшего мира, призрачных видений и в святилище неумирающего искусства. Как я понимаю Гёте, который приехал в Италию, чтобы освободиться от себя! Здесь кажется нереальным все будничное, чем живешь ежедневно, и глубоко убедительным то, что называют снами. Я не в силах описать того, что вижу, у меня еще нет слов, я, как пилигрим, пришел наконец к чудотворным местам и могу только произносить „ох!“ и „ах!“».
Характерно, что второе письмо, как и первое, заканчивается чувством тоски по родным местам, которое его всегда сопровождало вдали от родины, — он намерен после возвращения в Париж «направить стопы в Российку». «Боже, до чего соскучился по ней, — пишет поэт. — Все-таки нет лучше тех мест, где вырос, думал, страдал, жил. Весь этот год за границей я себя чувствовал на подмостках, среди декораций. А там, вдали — моя родная печальная красота, за которую десять Италий не возьму».
Бальмонт еще дважды побывает в Италии: в июне 1902 года и в ноябре — декабре 1908 года. Впечатления от Италии, ее культуры, поэзии, живописи отразились в лирических стихотворениях Бальмонта: «Спящая Мадонна», «Данте», «Перед итальянскими примитивами», «Фра Анжелико», в сонетах «Италия», «Данте», «Микель Анджело», «Леонардо да Винчи». Осенью 1897 года он написал в Италии стихотворение «Прости!» (помечено: «У развалин Помпеи») и поэму «Звезда пустыни» (помечено: «Рим»).
Оставив Екатерину Алексеевну на попечение ее сестры Маргариты Сабашниковой и Н. В. Евреиновой, в середине ноября Бальмонт уехал из Парижа. 17 ноября он извещает мать, что вернулся в Россию, остановился в Москве у сестры жены — Татьяны (в замужестве Бергенгрин) и через неделю приедет в Шую. Побывал ли он в Шуе, неизвестно, в основном до конца декабря он находился в Москве и Петербурге.
В «Дневниках» Брюсова за 1897 год есть три ноябрьские записи, посвященные Бальмонту (19, 21 ноября и конец месяца). Из них можно заключить, что их встреча была дружеской: «беседа душ», чтение стихов. Бальмонт за границей тосковал по Брюсову, всегда ждал его писем. Однако за время разлуки они оба изменились. «Наши встречи были холодными. Что-то порвалось в нашей дружбе, что уже не будет восстановлено никогда. Я сам знаю, что я ушел от его идеала поэта», — записывает Брюсов в дневнике уже 22 декабря. В Брюсове заговорил дух соперничества, к которому примешались ревность и чувство зависти (в этом Брюсов признается сам в одной из дневниковых записей). Все это временами будет омрачать отношения поэтов, хотя до вражды дело долго не доходило во многом благодаря доброжелательности и великодушию Бальмонта.
Большую часть декабря Бальмонт был занят своими делами в Петербурге, где готовил к изданию третью книгу стихов «Тишина». В столице он возобновил встречи с петербургскими поэтами и редакцией журнала «Северный вестник». К этому времени обозначился конфликт Акима Волынского с Минским, Мережковским и Зинаидой Гиппиус, в результате чего эти ближайшие сотрудники журнала (Минский одно время был секретарем журнала) покинули его. Разрыв произошел из-за идейных и личных причин, отягощенных диктаторской позицией Волынского. Бальмонт «ближайшим сотрудником» не был, но находил «Северный вестник» одним из лучших русских литературных журналов и продолжал в нем печататься. В последние два года существования журнала (1897–1898) там были опубликованы восемь его стихотворений и лекции по русской поэзии, прочитанные в Оксфордском университете (1897. № 8). Положительно относясь к позиции журнала и некоторым статьям Волынского, Бальмонт вместе с тем не мог не видеть (как и близкие ему петербургские поэты), что критик-неокантианец Волынский оставался глухим к идеям и художественным исканиям символистов.
Вернувшись из Петербурга в Париж накануне нового, 1898 года, Бальмонт вел уединенный образ жизни: читал с женой книги французских и немецких писателей, занимался испанским языком и литературой. Это было тревожное время ожидания родов. 11 февраля 1898 года Бальмонт сообщал Вере Николаевне: «Катя страдала трое суток, ребенок умер не родившись. <…> Причина несчастных родов — невероятные размеры ребенка (девочка), — на семь сантиметров более нормального. <…> Здоровье ее удовлетворительное, но она угнетена, и мы все тоже измучились». Екатерина Алексеевна долго и сильно болела, температура доходила до сорока с лишком градусов, и все могло закончиться трагически. Написав обо всем этом 14 апреля А. И. Урусову, Бальмонт добавил, что теперь «Катерину можно считать воскресшей из мертвых».
После выздоровления Екатерины Алексеевны Бальмонты приехали в Москву. Лето 1898 года они провели в подмосковном имении Баньки (Лысые Горы), которое принадлежало Якову Александровичу Полякову, женатому на сестре Екатерины Алексеевны Анне. В это время Бальмонт познакомился с братом Якова Александровича — Сергеем Александровичем Поляковым, который позже возглавит символистское издательство «Скорпион» и станет издателем журнала символистов «Весы».
С. А. Поляков, родом из купеческой семьи (его отец был владельцем известной Знаменской мануфактуры), окончил Московский университет, отличался образованностью, тяготением к литературе и искусству, склонностью к меценатству. Математик по образованию, он был полиглотом, переводил с европейских языков художественную литературу, в частности — роман Кнута Гамсуна «Пан», который вышел с предисловием Бальмонта. Екатерина Алексеевна в мемуарах рассказывает, что уже летом 1898 года у Бальмонта и Полякова родилась идея создания символистского издательства и журнала. Такую потребность особенно остро чувствовал Бальмонт, выпускавший книги за свой счет и всякий раз искавший издателя. Однако эта идея осуществится позднее, когда Поляков познакомится с Брюсовым.
Самым примечательным событием 1898 года был конечно же выход в мае книги стихотворений «Тишина». В ней еще заметнее проявилось стремление Бальмонта к целостности поэтического сборника, что выразилось в композиционной циклизации, свойственной многим поэтам-символистам. Двенадцать разделов книги Бальмонт назовет «лирическими поэмами». Эти «поэмы» объединены не только сквозными символическими мотивами, но и определенным лирико-философским настроением, навеянным космической лирикой Тютчева, древними индийскими Упанишадами в их теософском истолковании Блаватской и трактовках в исследованиях М. Мюллера.
Философский настрой книги задан тютчевским эпиграфом: «Есть некий час всемирного молчания». Натурфилософская лирика Тютчева воспринималась символистами (Мережковским, Брюсовым, Вяч. Ивановым) как некая ранняя модель символизма. В «Элементарных словах о символической поэзии» Бальмонт подчеркивал, что Тютчев «первый из русских поэтов понял великую философскую сложность жизни Природы, ее художественное единство и полную ее независимость от человеческой жизни». Сжатую характеристику лирики Тютчева можно найти также в бальмонтовской лекции «О русских поэтах» и в обзоре 1900 года для английского журнала «Атенеум», где он выделяет как главный мотив тютчевской лирики «грозный голос хаоса».
Однако трагизм поэзии Тютчева был не вполне созвучен элегической минорности Бальмонта. Ему ближе не «голос хаоса», а «голос молчания». Значительный фрагмент из книги Е. П. Блаватской «Голос Молчания» Бальмонт перевел с английского и включил в свою статью «Кальдероновская драма личности» (1903). Он полагал, что религиозно-философские концепции Упанишад родственны символизму: постигая «голос молчания», поэт постигает «всемирное Я».
Название книги «Голос Молчания» мелькает в его переписке с Брюсовым. Бальмонт пытался доказать Брюсову приоритет индийской мудрости перед греко-римской. С конца 1890-х годов идеи и образы индийской мифологии, в том числе космогонические, окрашивают все творчество Бальмонта-поэта. Теософская идея мистического богопознания, мысли о перевоплощении человеческой души и космической эволюции духовного абсолюта увлекли Бальмонта, однако оккультизму Блаватской, как и позднее антропософии Р. Штейнера, он остался чужд. Вообще, когда речь идет о миропонимании Бальмонта, следует иметь в виду, что он многое брал не рассудком, а чувством: доказательства, как он подчеркивал, ему не требовались.
Лейтмотив «тишины» — сквозной во всех «поэмах» (разделах) бальмонтовского сборника «Тишина» — включает в себя весьма сложное содержание. В «Мертвых кораблях» «тишина» — это вечный покой, равнозначный смерти, небытию.
В следующих «поэмах» сборника «тишина» поэтически осмысляется уже как космическое «всемирное молчание», которое необходимо «услышать» внутренним слухом, соединившись с «Великим источником». В статье «Кальдероновская драма личности» Бальмонт заметил: «Земная жизнь есть отпадение от светлого Первоисточника». Поэтическое воплощение эта мысль нашла в символическом образе «искры» из одноименного цикла:
Я — искра, отступившая От солнца своего И Бога позабывшая — Не знаю для чего!Усложняется символика «ветра»: если в «Мертвых кораблях» «пловцы» были обмануты «шепотом ветра», то в «Искрах» лирический герой мечтает погрузиться в «ясное безветрие без плачущего я…».
Оказывается, что «тишина» — не только состояние природы, «дыхание космоса» в ней, но и некое душевное откровение — услышавший «голос молчания» обретает высшую свободу:
Кто услышал тайный ропот Вечности, Для того беззвучен мир земной, — Чья душа коснулась бесконечности, Тот навек проникся тишиной. (Прости!)Именно в книге «Тишина» зарождается миф о Бальмонте — «стихийном гении», причастном природным явлениям («Я вольный ветер, я вечно вею…», «Я, как ландыш, бледнея, цвету…»):
Я тревожный призрак, я стихийный гений, В мире сновидений жить мне суждено, Быть среди дыханья сказочных растений, Видеть, как безмолвно спит морское дно. (Цикл «Снежные цветы»)«Белая» окраска «тишины» (к примеру, в «Мертвых кораблях» «тишь моря» имеет характерную цветовую окраску: «Белый снег ложится, вьется над волной, / Воздух заполняя мертвой белизной») приобретает своеобразный налет мистики. В мироощущении «светлого гения», который «когда-то был сыном земли», исчезли границы между «правдой» и «ложью», «добром» и «злом», он живет «в мире сновидений»:
Мне открылось, что Времени нет, Что недвижны узоры планет, Что Бессмертие к Смерти ведет, Что за Смертью Бессмертие ждет. (Снежные цветы)Показательно, что книгу «Тишина» «очень одобрил» философ Владимир Соловьев. «Поэзия Бальмонта того времени, бестелесная, воздушная, снежно-белая, была сродни самому Соловьеву. И на Бальмонта Соловьев произвел неизгладимое впечатление», — свидетельствовал его современник, поэт и критик Сергей Соловьев[5], ссылаясь на бальмонтовскую характеристику философа в стихотворении «Воздушная дорога» (из книги «Только Любовь», 1903).
Эпиграфом к «поэме» «Воздушно-белые» Бальмонт взял слова из «Книги Тэль» У. Блейка, которого он называл «праотцом современных символистов», чей путь — «строгий путь отвлечения». «Отвлечение» — уход лирического героя поэта от «дум земных» в «Храм Гениев мечты», что особенно наглядно проявилось в цикле «Снежные цветы». Воспевая «уход» в мир мечты, Бальмонт не боится использовать привычные метафоры, как, например, «строить воздушные замки»:
Вдали от земли, беспокойной и мглистой, В пределах бездонной, немой чистоты, Я выстроил замок воздушно-лучистый, Воздушно-лучистый Дворец Красоты. (Вдали от земли)Стихи о любви включены в цикл «В дымке нежно-золотой». Любовь обманна, она живет «однодневкой золотой», в то же время открывая лирическому герою «бессмертный родник» красоты:
Вижу взоры красоты, Слышу возглас: «Милый! Ты?» Вновь спешу в любви сгореть, Сладкой смертью умереть. (Однодневка)Однако «красота любви» не только обманна, она опасна:
Нет. Уходи скорей. К восторгам не зови. Любить? — Любя, убить — вот красота любви. Я только миг люблю — и удаляюсь прочь. Со мной был яркий день — за мной клубится ночь. ………………………………………… Светить и греть?.. — Уйди! Могу я только жечь. (Пламя)В цикле «Мгновенья правды» Бальмонт по-своему осознавал неразрешимость противоречия между «мгновеньем» и «вечностью». Он задавал себе мучительный вопрос в статье «Кальдероновская драма личности»: «Одно из двух: или наша жизнь имеет реальную ценность, философскую и конкретную действительность каждого мгновения, или она не имеет ее и существует лишь как символ… <…> как красочное пятно в картине, скрытой от наших глаз». Поэту казалось, что ответ в соединении личности с «Первоисточником», но «не теряя себя». В стихотворении «Зов» он утверждал:
Все, на чем печать мгновенья, Брызжет светом откровенья, Веет жизнью вечно цельной, Дышит правдой запредельной.Эту «запредельную правду» Бальмонт готов искать и в Голубиной книге, и в христианстве, и в индийской философии (подобно Брюсову, он мог бы сказать: «Всем богам я посвящаю стих»):
Молитесь Митре в блеске дня, А ночью пойте гимн Таните. Зовите тысячью имен Того, кто сердце вам пробудит. (Сон)В «Тишине» сокровенная «правда» доступна лишь «волхвам откровений», людям искусства, в которых есть «намеки на сверхчеловека». Им посвящена «поэма» «Аккорды» с эпиграфом из английского драматурга начала XVII века Джона Форда — «Единство в разногласии». Это — самый «звучащий» цикл в сборнике, где «тишина» пребывает в гармонии с «музыкой». Среди «любимцев грядущих времен» оказываются «мучительный Гойя», «бессмертный Веласкес, Коэльо, Мурильо святой», «Винчи, спокойный, как Гёте», «и светлый, как сон, Рафаэль, и нежный, как вздох, Боттичелли», причудливый Греко («Пред картиной Греко») и, конечно, «мой лучший брат, мой светлый гений» Шелли («К Шелли»). Шелли, как уже говорилось, занимал особое место в творчестве Бальмонта. Его переводы английского поэта (особенно трехтомник Шелли, вышедший в 1903–1907 годах) до сих пор считаются лучшими. В личности Шелли Бальмонт видел черты «серафима», подлинного «избранника судьбы», который «был во все минуты своего земного существования таким, какими будут люди грядущего». К Шелли восходит один из псевдонимов бальмонтовского лирического героя — Лионель, из Шелли взяты многочисленные эпиграфы.
В «Аккордах» можно увидеть истоки демонической темы будущей поэмы Бальмонта «Художник-Дьявол» (из книги «Будем как Солнце»):
Не ангелы, а демоны со мной Печальную дорогу совершили, И дни мои в обители земной Развеялись, как груда темной пыли. (Отверженный)Демонические, бодлеровские мотивы прозвучали в следующем за «Аккордами» цикле «Кошмары». Этот цикл открывается печальным эхом стиха «Я мечтою ловил уходящие тени…» (из сборника «В безбрежности») — стихотворением «Узорное окно»:
На бледно-лазурном стекле Расписаны ярко узоры. Цветы наклонились к земле, Скала убегает к скале, И видно, как дремлют во мгле Далекие снежные горы. Но что за высоким окном Горит нерассказанным сном И краски сливает узоры? Не дышит ли там Красота В мерцании мира и лени? Всхожу, — и бледнеет мечта, К печали ведет высота, За ярким окном пустота, — Меня обманули ступени.В душе «стихийного гения» скрываются темные стороны, магия творчества таит «яд», искажающий даже такие «светлые» символические образы, как «цветок»:
От снежных гор с высокого хребта Гигантская восходит орхидея, Над ней отравой дышит пустота, И гаснут звезды, в сумраке редея. (Вещий сон)Зловещие предзнаменования поэт находит в библейском царстве Шеоле («Бог не помнит их»), египетском сфинксе, олицетворяющем собой «замысел чудовищной мечты» («Сфинкс»), названиях звезд «Змея и Скорпион, и Гидра, и Весы» («В час вечерний»), наконец — в самом космическом пространстве:
И в просторе пустыни бесплодной, Где недвижен кошмар мировой, Только носится ветер холодный, Шевеля пожелтевшей травой. (Равнина)«Кошмарные» виде́ния возвращают лирического героя к скорбным мотивам «Мертвых кораблей» — так появляется еще один полярный цикл «В царстве льдов». Жизнь осмысляется в нем как блуждание «в лабиринте», череда утрат, где слышатся редкие в «Тишине» автобиографические нотки:
Было много… Сны, надежды, свежесть чувства, чистота, А теперь душа измята, извращенна и пуста. Я устал. Весна поблекла. С Небом порван мой завет. Тридцать лет моих я прожил. Больше молодости нет. (В лабиринте)Несколько особняком в «Тишине» стоят отрывки к ненаписанной поэме «Дон Жуан». В статье «Типы Дон Жуана в мировой литературе» Бальмонт, рассматривая разные трактовки этого образа, приходит к выводу о «трагической силе», заложенной в «разрушающем пределы земного» вечном хотении «новой правды и новой любви». «Усталый» Дон Жуан Бальмонта «мстит» жизни, отнявшей у него подлинную Красоту:
Земная жизнь — постылый ряд забот, Любовь — цветок, лишенный аромата. О, лишь бы плыть — куда-нибудь — вперед, — К развенчанным святыням нет возврата.Меланхолический цикл «Забытая колокольня» призван напомнить о «греховности» всех человеческих помыслов, причем эпиграф из неведомой Летописи мира гласит: «третий грех — величайший» — в том, что люди «преступление смешали с Красотой и опьянили себя чарами искусства». Мотив «тишины» в этой «поэме» нарушается «долгим гулом» колокола:
Долгий мрачный гул встает. Это колокол поет! Совесть грозная земли Говорит: «Восстань! Внемли!» Это колокол гудит, Долгим гулом сердцу мстит За греховные мечты Искаженной красоты.Книга Бальмонта «Тишина» завершалась «поэмой» «Звезда пустыни» — своего рода молитвой, страстным воззванием к Богу:
О, Господи, молю Тебя, приди! Уж тридцать лет в пустыне я блуждаю. Уж тридцать лет ношу огонь в груди, Уж тридцать лет Тебя я ожидаю. О, Господи, молю Тебя, приди!Измученный «кошмарами» лирический герой дождался отклика, «зова», который вернул его к жизни. Утверждение нераздельной цельности бытия, земного и небесного, звучит в конце:
…Всё — в одном. Всё глубоко и цельно. Я незримым лучом над тобою горю, Я желанием правды в тебе говорю.Прочитав «Тишину», Брюсов писал Бальмонту: «Ваша истинная книга — „Тишина“». Александр Блок позднее в рецензии «К. Д. Бальмонт. „Собрание стихов“» (1905) признал «Тишину» лучшей книгой первого периода, так как «в ней больше сосредоточенности, вдумчивости, самая образность углублена…». Эллис, рассматривая творческую эволюцию Бальмонта в 1890-е годы, отмечал: «Эта книга соединяет в себе тишину успокоения после слишком дерзких исканий с тишиной перед новой бурей, затишье перед грозой».
Книгой «Тишина» завершается период творческого самоопределения Бальмонта. Уже в 1890-е годы Бальмонт нашел такие образы, звуки, интонации, мелодии, ритмы, строфические формы стиха, которые резко выделили его в современной поэзии и показали, что писать стихи так, как писали до него, нельзя. Это признавали и современники, и следующие поколения поэтов. Георгий Адамович в статье «К. Д. Бальмонт», написанной к пятидесятилетию появления первых стихов поэта в печати, отметил: уже в первых трех книгах стихотворений Бальмонт «показал, что словесные возможности беспредельны», именно в них прозвучал «первый голос поэтического ренессанса» («Последние новости» [Париж], 1935. 19 декабря).
Свое творчество Бальмонт рассматривал в виде преемственных книг, соединенных друг с другом. В записной книжке 1904 года он заметил: «От книги к книге <…> у меня переброшено звено». Творческая эволюция поэта — сложный процесс, включающий обычно и взлеты, и падения. За свою долгую творческую жизнь Бальмонт испытал и то и другое, но в пределах первого периода его восхождение несомненно.
Сентябрь 1898 года Бальмонт с Екатериной Алексеевной провел в Крыму, главным образом в Ялте, где встречался с Чеховым. В Крыму Бальмонт бывал и раньше. Там в мае 1894 года он познакомился с Виктором Сергеевичем Миролюбовым, будущим редактором «Журнала для всех», с ним долго поддерживал самые добрые отношения и печатался в этом журнале в 1899–1908 годах. Он мог вспомнить и 1895 год, когда вместе с Миррой Лохвицкой находился в Одессе и Крыму. А теперь, будучи в Балаклаве под Севастополем, он написал стихотворение «Чары месяца» — своеобразную перекличку со стихотворением Лохвицкой «Джамиле».
В октябре Бальмонты уехали на зиму 1898/99 года в Петербург. Судя по «Дневникам» Брюсова, в середине декабря он больше недели провел в Петербурге (напомним, что Брюсов жил в Москве), не раз встречался с Бальмонтом — то у него дома, то на «пятницах» у К. К. Случевского, к которому после недавней смерти Я. П. Полонского перешли пятничные собрания петербургских литераторов. Бальмонт и Брюсов вместе читали Кальдерона, посетили Эрмитаж, где рассматривали офорты Гойи, обедали с И. А. Буниным, были у Ф. К. Сологуба и т. д. Брюсов называет многих петербургских писателей, с которыми познакомился, в их числе Н. Минского, Д. Мережковского, З. Гиппиус, К. Фофанова, И. Ясинского, А. Коринфского и др. К тому времени Бальмонт со всеми ними был уже знаком, но дружбы ни с кем из них у него не было. Из петербургских знакомых Бальмонт выделял Зинаиду Гиппиус и Федора Сологуба. В обзоре русской литературы за 1898 год, напечатанном в «Атенеуме», среди книг, заслуживающих внимания, он упоминает «Тени» Ф. Сологуба и сборники рассказов «Новые люди» и «Зеркала» З. Гиппиус, находя авторов талантливыми.
Из петербуржцев наиболее близка была Бальмонту Зинаида Гиппиус, и прежде всего как поэт. Ее стихотворение «Любовь — одна» он называл «прекрасным» и сочувственно цитировал его («Единый раз вскипает пеной / И рассыпается волна. / Не может сердце жить изменой, / Измены нет; любовь — одна. <…>»). Стремление к неземному, незнаемому, что выражено ею в знаменитой «Песне» («<…> Мне нужно то, чего нет на свете, / Чего нет на свете»), — безусловно, в духе самого Бальмонта. Особое же почтение у него вызывал хозяин литературных «пятниц» Константин Константинович Случевский — старый литератор, в свое время непризнанный и теперь сочувственно относившийся к гонимым зачинателям «новой поэзии». В лекциях о русских поэтах Бальмонт назвал его «поэтом-философом с демонической душой», а в июльском номере «Атенеума» за 1900 год — «лучшим из современных русских поэтов». Бальмонту нравилась его поэма «Элоа» — об ангеле, отлученном от Бога, ценил он и его «Мефистофеля», другие произведения мистического и психологического содержания. Ему Бальмонт посвятил два стихотворения под одним заглавием «К. К. Случевскому» (первое из них печатается под названием «Скрижали»).
В творческом становлении Бальмонта большую роль сыграли традиции и влияния русской и европейской романтической поэзии (Фет, Тютчев, Шелли, Ибсен). Говоря о влиянии, поэт отмечал, что истинный художник, обращаясь к своим предшественникам, близким по духу, находит в них «самого себя, но выражает свои творческие силы — и вольно, и судьбинно». Бальмонт отличался не только своей поразительной начитанностью, литературностью в хорошем смысле слова, но и «переимчивостью» (вспомним это пушкинское слово) того, что трогало его поэтическую душу. Но какими бы влияния ни были, он всегда помнил заветные слова из ибсеновского «Пер Гюнта»: «Пребудь собой».
Глава третья СОЛНЕЧНЫЙ «ЗАВЕТ БЫТИЯ»
На рубеже 1890–1900-х годов Константин Бальмонт вступает в новый, наиболее яркий период творчества. Меланхолические интонации сменяются мажорными, в стихах все явственнее звучат бунтарские мотивы, вызов. В манере поведения появляется наступательность, а в облике нечто дерзкое, демоническое. Его выразительно описал в мемуарном очерке «Бальмонт» Борис Зайцев: «Слегка рыжеватый, с живыми, быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l’epogue), бородка клинушком, вид боевой <…>. Нечто задористое, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь („Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце“)».
Бальмонт по-прежнему много и неутомимо работает, полон творческих планов, в том числе переводческих. В 1899 году вышли два последних выпуска (VI и VII) Сочинений Шелли — итог напряженной работы в течение многих лет. С такой же страстью Бальмонт приступает к изучению и переводу произведений уже упоминавшегося Кальдерона де ла Барка, испанского драматурга XVII века, и увлекается всем испанским, как раньше увлекался английским. 10 марта 1898 года он пишет Чехову: «Я перевожу, читаю и перечитываю Кальдерона. Кончил перевод одной его драмы и на днях кончу перевод другой и не знаю, что с ними делать. Никто их, конечно, печатать не станет, да и прочтут не более 200 человек. Впрочем, я не унываю и хочу перевести не менее 15-ти пьес Кальдерона. Какая бы судьба его не постигла в России, он должен возникнуть в русской литературе. Он не менее интересен, чем Шекспир, только он более национален, менее общедоступен, он философ и лирик, он экзотичен, причудлив и пышен, как все истинно испанское. И герои его в своей судьбе превышают человеческое. Уже это делает его пленительным».
В творчестве Кальдерона прихотливо сочетались средневековая Испания, романтические тенденции, декоративность и пышность стиля барокко. Все это по-своему аукнется в стихах, которые войдут в следующую книгу Бальмонта «Горящие здания». Одновременно с Кальдероном он переводил «Испанские народные песни», которые будут опубликованы в журнале «Жизнь» (1900. № 5). Несколько позднее будет заключен договор с М. В. Сабашниковым об издании собрания сочинений Кальдерона. В 1900, 1902 и 1912 годах выйдут три выпуска его сочинений. Но всю работу по переводу испанского драматурга поэт завершит лишь в 1919 году.
В январе 1899 года Бальмонт приехал в Москву и 17 января прочел лекцию о Кальдероне в зале Исторического музея. Среди слушателей присутствовали Брюсов и его друзья. Бальмонт трактовал Кальдерона как предшественника современной поэзии и создателя драм, отмеченных приметами символической лирики. Поэт любил повторять название его драмы — «Жизнь есть сон», вкладывая в него особый смысл, характерный для поэтики символизма.
В этот приезд общение Бальмонта с Брюсовым продолжилось. Бальмонта волновали две темы, которые он хотел с ним обсудить. Во-первых, столетие со дня рождения А. С. Пушкина, а во-вторых, издание сборника петербургских и московских символистов. О предстоящем юбилее поэты говорили еще при встрече в декабре минувшего года. Для обоих Пушкин значил очень много. Размышления о творчестве великого поэта и его значении для страны и отечественной литературы нашли отражение в лекциях Бальмонта о русской поэзии, прочитанных в Оксфорде. Пушкин, по словам поэта, «сосредоточил в себе свежесть молодой расы, наивную непосредственность и словоохотливость гениального ребенка, для которого все ново, который на все отзывается, в котором каждое прикосновение с видимым миром будит целый строй мыслей, чувств, звуков. Инструмент, на котором он играет, многострунный, и каждая струна отличается одинаковой звонкостью. Подобно тому, как его излюбленный герой, Петр Великий, создал европейскую Россию, сам он создает русскую литературу…».
Обсуждая подготовку к юбилею Пушкина, Бальмонт и Брюсов пришли к мысли, что его надо ознаменовать чем-то значительным. У них возникла идея создать словарь языка Пушкина и обратиться по этому поводу в Академию наук. О пушкинском словаре написал и Урусов в статье «Четыре мысли по поводу чествования А. С. Пушкина», которую опубликовал (Биржевые ведомости. 1898. 20 декабря). Поэты были раздосадованы тем, что их инициативу перехватили, но все же предпринимали реальные шаги: Бальмонт обратился с письмом к академику А. Н. Веселовскому и связался с академиком А. А. Шахматовым. Кроме того, вместе с Екатериной Алексеевной занялся пробной росписью пушкинского текста. Брюсов, в свою очередь, тоже был настроен работать, занимался организационными делами, о чем свидетельствует его январская запись в дневнике. Однако все эти начинания вскоре заглохли, хотя сама идея поэтов оказалась плодотворной, но начала осуществляться лишь спустя полвека.
Предстоящий пушкинский юбилей стал причиной и очередного общения Бальмонта с А. П. Чеховым. По просьбе С. П. Дягилева, только что основавшего в Петербурге модернистский журнал «Мир искусства» (1809–1904), он обратился к Антону Павловичу с предложением написать небольшую статью для пушкинского номера журнала. Чехов отказался, сказав, что статей он не пишет. Однако для Бальмонта установившаяся связь с «Миром искусства» оказалась существенной: начиная с 1899 года он постоянно печатал в этом журнале стихи и статьи.
В юбилейном пушкинском празднике Бальмонт принял непосредственное участие. В мае он специально приехал в Москву, на родину Пушкина, где торжества отмечались особенно широко, выступал в Обществе любителей российской словесности. В большом «Пушкинском сборнике» (СПб., 1899), составленном из произведений писателей тех лет, опубликованы его стихотворения «Вопросы», «Нет любви» и «Затон». В обзоре русской литературы 1899 года для «Атенеума» поэт так писал о юбилее Пушкина: «Конец лучшего месяца этого года (я имею в виду последнюю неделю мая) стал памятным России благодаря национальному празднику — столетию со дня рождения Пушкина. Пушкин — наша слава, наша гордость, наше солнце. Его песни, проникнутые чистой красотой, были утренней зарей русской поэзии. В последние часы уходящего века, когда горизонт интеллектуальной жизни России окутан мглой, утешительно видеть, что по краям темных туч лучи этого солнца все еще сияют, озаряя нас в утренний час. Эти лучи обещают нам новую зарю, новое счастье, новую юность». И все же итогами юбилейного Пушкинского года Бальмонт остался недоволен, так как не нашел в журналах и газетах «разработки новых идей», «не появилась ни одна книга, ни одна статья, достойная великого поэта».
Второе дело, с которым Бальмонт приезжал в Москву в январе, — предложение издать совместный сборник-альманах петербургских и московских поэтов-символистов — развивалось так. Еще летом 1898 года в беседах с С. А. Поляковым Бальмонт говорил о необходимости организации для символистов собственного издательства и журнала, которые могли бы их объединить и утвердить как в литературе, так и в обществе. К тому времени петербургский журнал «Северный вестник» фактически перестал существовать. Да и единства среди петербургских символистов не было: неприкаянными ходили Александр Добролюбов и Владимир Гиппиус — у них была репутация крайних «декадентов», и в «Северный вестник» их не допустили. На «пятницах» Случевского, считавшихся поэтической академией, символисты держались порознь: Мережковские — одна линия, Минский — другая, Сологуб — сам по себе и т. д. На примере «суббот» Г. Бахмана, где Бальмонт был в центре внимания, он видел, что московская группа символистов живет дружнее. Он и задумал подготовить выступление петербургских и московских символистов в едином сборнике.
Толчком послужило знакомство Бальмонта с новым петербургским поэтом-символистом Иваном Ореусом, который писал под псевдонимом Коневской и нигде не печатался. Псевдоним происходил от слова Коневец — остров на Ладожском озере, на пути «из варяг в греки», где стоял старый монастырь. Бальмонт находил у Коневского большой талант. В январе он привез в Москву три тетради Коневского со стихами и критическими статьями, стихами заинтересовал Брюсова и всех присутствовавших на вечере у Бахмана. «Все были увлечены, — отмечал Брюсов в дневнике <…>. — Бальмонт задумал издать книгу стихов Ореуса, моих и других». Усилиями и настойчивостью Бальмонта в ноябре 1899 года вышла «Книга раздумий» — сборник, объединивший четырех поэтов: К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Дурнова и И. Коневского. Предполагалось еще участие Вл. Гиппиуса и Ф. Сологуба, однако в последний момент они от сборника отошли, стихов не прислали. Обращает на себя внимание то, что все участники сборника, кроме Бальмонта, не были допущены на страницы обычных изданий, чуждавшихся любого намека на «декадентство». «Книга раздумий» по-своему торила путь к будущему символистскому издательству «Скорпион» и его альманаху «Северные цветы».
Значительная часть 1899 года прошла под знаком задуманной поэтом новой стихотворной книги «Горящие здания». На лето он приехал в подмосковное имение Поляковых Лысые Горы (Баньки), чтобы там, в уединении, отдаться творчеству. Он находился в необычайном творческом подъеме, много писал. О жизни в Баньках позднее Бальмонт расскажет в очерке «Пьяность солнца», опубликованном в журнале «Золотое руно» (1908. № 3–4). В имении его навещал С. А. Поляков, с которым он в это время крепко и надолго подружился. Сергей Александрович, мягкий, деликатный, интеллигентный, был богат, не скупился на поддержку поэтов и… ресторанные угощения. Бальмонт его прозвал: «нежный как мимоза». Однажды Поляков привез с собой Юргиса Балтрушайтиса, литовца, писавшего стихи на русском языке, и он тоже стал верным и добрым другом Бальмонта. Как и Поляков, Балтрушайтис был математиком по образованию (они одновременно учились в Московском университете и хорошо знали друг друга) и, как Поляков, увлекался изучением языков — знал немецкий, скандинавские языки, учил итальянский, занимался переводами (Ницше, Д’Аннунцио и др.). В Баньках, по словам Бальмонта, возникла «радость двух дружб — братская дружба с Юргисом Балтрушайтисом и С. Поляковым».
Балтрушайтису Бальмонт помог войти в литературу, рекомендовав его стихи миролюбовскому «Журналу для всех», а с Поляковым не раз возобновлял разговор об издательстве. Для Бальмонта это было актуально: надо было искать издателя для новой книги стихов. Речь шла и о печатавшейся «Книге раздумий». Однако Бальмонт не был человеком практического склада.
Всё повернулось по-другому при встрече и знакомстве Полякова с Брюсовым. Произошло это в конце августа, когда Бальмонт, гостивший в имении Сабашниковых Богдановщина Смоленской губернии, вернулся в Москву. Именно к этому времени относится такая дневниковая запись Брюсова: «Потом приехал Бальмонт и сразу выбил из колеи мою жизнь. Он явился ко мне втроем с неким Поляковым и литовским поэтом Юргисом Балтрушайтисом. Пришел еще Бахман, Бальмонт читал стихи, все приходили в восторг, ибо все эти вещи удивительные („Джен Вальмор“, „Закатные цветы“, „Я на смерть поражен своим сознаньем“, „О да, я избранный…“). Вечер закончился в „Аквариуме“». Стихотворения, которые читал Бальмонт, войдут в его будущую книгу «Горящие здания».
Встречи Бальмонта, Брюсова и Полякова продолжались. При разговоре о символистском издательстве Брюсов сразу же ухватился за эту идею. В отличие от Бальмонта он обладал организаторским талантом и быстро нашел с Поляковым общий язык. С одной стороны, Брюсов страстно желал возглавить дело, которое помогло бы ему утвердиться, стать лидером символистского движения, с другой — у Полякова были свои честолюбивые стремления — желание печататься (и стихи, и переводы из новейшей западноевропейской литературы). Какие-то общие планы будущего издательства могли обсуждаться еще в сентябре, до отъезда Бальмонта за границу. Но все конкретные дела по организации издательства были решены Поляковым и Брюсовым лишь к концу 1899 года. Так родилось символистское издательство «Скорпион».
Имя оно получило по бальмонтовскому стихотворению «Скорпион», опубликованному в «Книге раздумий»:
Я окружен огнем кольцеобразным, Он близится, я к смерти присужден, — За то, что я родился безобразным, За то, что я зловещий скорпион. Мои враги глядят со всех сторон Кошмаром роковым и неотвязным, — Нет выхода, я смертью окружен, Я пламенем стеснен многообразным. Но вот, — хоть все ужасней для меня Дыханья неотступного огня, — Одним порывом полон я, безбольным. Я гибну. Пусть. Я вызов шлю судьбе. Я смерть свою нашел в самом себе. Я гибну скорпионом — гордым, вольным.Тем самым была выражена признательность Бальмонту, главное же, что скорпион, безобразный, гонимый, однако готовый постоять за себя, выражал идею нового издательства: да, мы, символисты, — отверженные, но мы готовы к борьбе за свое место в литературе.
В названии символистского издательства был вызов благонамеренному вкусу, момент эпатажа, и в ответ появилось немало издевательских публикаций, вплоть до того, что издательство обзывали «Тарантулом». Но атмосфера скандала привлекала к нему внимание, а затем стала обеспечивать успех умело разработанная издательская политика, большой спрос на современную зарубежную литературу, преимущественно французскую и скандинавскую — с нее и начали издатели.
Первой изданной «Скорпионом» книгой стала драма Генрика Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» в переводе Юргиса Балтрушайтиса и Сергея Полякова — она вышла в марте 1900 года. Первые стихотворные книги издательства — «Сборник стихов» Александра Добролюбова, «Tertia vigilia» («Третья стража») Валерия Брюсова и «Листопад» Ивана Бунина. Константина Бальмонта «Скорпион» издавал многократно: «Будем как Солнце» (1903), «Собрание стихов» в двух томах (1904–1905), «Полное собрание стихов» в десяти томах (1907–1914), «Звенья. Избранные стихи» (1913), «Поэзия как волшебство» (1915), ряд изданий в его переводах, стихи и статьи в скорпионовском альманахе «Северные цветы».
Сыграв значительную роль в создании «Скорпиона» и считаясь одним из его основателей, Бальмонт тем не менее прямого участия в деятельности издательства не принимал. Обусловлено это тем, что в Москве постоянно он жил мало, да и к практическим делам душа у него не лежала; его планы были связаны с творчеством. Умным стратегом, редактором и литературным бойцом был Валерий Брюсов, практическим руководителем — Сергей Поляков, а их прекрасным помощником — Юргис Балтрушайтис. Благодаря им «Скорпион» совершил настоящий прорыв в утверждении модернизма в литературе, подобно тому как с основанием журнала «Мир искусства» Сергей Дягилев, Александр Бенуа, Дмитрий Философов и другие сделали это в отношении изобразительного искусства и архитектуры. Поляков смело привлекал художников-модернистов к оформлению скорпионовских изданий, что выгодно их выделяло на общем фоне. Так на рубеже веков «новое искусство» стало завоевывать позиции в самых разных сферах. В этом, безусловно, была заслуга и Бальмонта.
Между тем его отношения с Брюсовым в это время резко осложнились. Вспоминая лето 1899 года, Бальмонт писал: «В это лето однако Брюсов представлял для меня мало интереса». Часто они стали встречаться в сентябре, но, по словам Бальмонта, это были скорее пикировки, колкости, хождения «по осколкам стекла». Брюсов не принимал многое в новых настроениях Бальмонта, он, который сам имел репутацию отъявленного декадента, считал их сверхдекадентскими, издержками неорганичного влияния Э. По, Ш. Бодлера и Ф. Ницше. Все это довольно жестко Брюсов выразил в сонете «К портрету К. Бальмонта», написанном в сентябре 1899 года:
Угрюмый облик, каторжника взор! С тобой роднится веток строй бессвязный, Ты в нашей жизни призрак безобразный. Но дерзко на нее глядишь в упор. Ты полюбил души своей соблазны. Ты выбрал путь, ведущий на позор; И длится годы этот с миром спор. И ты в борьбе — как змей многообразный. Бродя по мыслям и влачась по дням, С тобой сходились мы к одним огням, Как братья на пути к запретным странам, Но я в тебе люблю, — что весь ты ложь, Что сам не знаешь ты, куда пойдешь, Что высоту считаешь ты обманом.В этом «демоническом портрете» было что-то и от истинного Бальмонта того времени, а что-то звучало как явный «перехлест», диктуемый соперничеством, ревниво-завистливыми чувствами Брюсова, стремившегося уязвить «брата» («весь ты ложь»). Но до поры до времени Брюсов скрывал эти чувства ради устремления «к одним огням». К тому же он понимал, что где-то и не прав. Прочитав в феврале следующего, 1900 года на вечере нового искусства стихотворение Бальмонта «Избранный», по реакции зала он мог убедиться, что бальмонтовские стихи наиболее отвечают настроениям публики. Ради того, чтобы поддержать новое направление в литературе, Брюсов не раз демонстрировал и как руководитель «Скорпиона», и позднее как редактор журнала «Весы» общность позиций с Бальмонтом. И все же грань, отделявшая «дружбу» от «вражды» в их отношениях, с годами становилась все более зыбкой. На сонет «К портрету К. Бальмонта» герой сонета ответил Брюсову двумя стихотворениями: «Избраннику» и «Ожесточенному».
Бальмонту, конечно, тоже было дорого единство символистского движения. Однако он никогда не претендовал на роль «вождя», предпочитая оставаться «просто поэтом».
Ему были непонятны ненависть и ожесточение в сонете Брюсова, которые противоречили кодексу их братских отношений. В стихотворении «Ожесточенному» Бальмонт парировал:
Я знаю ненависть, и, может быть, сильней, Чем может знать ее твоя душа больная, Несправедливая и полная огней Тобою брошенного рая. …………………………………… С врагами — дерзкий враг, с тобой — я вечно твой, Я узнаю друзей в одежде запыленной, А ты, как леопард, укушенный змеей, Своих терзаешь, исступленный!Летом 1899 года Бальмонта более всего волновала будущая книга, которую он называл «книгой жизни и страсти». 28 июля поэт сообщал в письме И. А. Бунину: «Я пишу стихи, как сумасшедший. Моя новая книга будет совсем новой. Счастье писать». А через месяц, 24 августа, из Богдановщины он писал А. И. Урусову о работе над книгой: «Вот уже два месяца, как я не выхожу из поэтического возбуждения, совершенно заполнившего мою душу и заставляющего забывать о течении дней. Я не чувствую, что я живу. Я сознаю какой-то иной мир, который соприкасается со мной и сквозь мой или, как сквозь какую-то прозрачную среду, бросает световые волны и замыкает их в ритмические строки. Вы рассмеетесь, если я скажу, что я написал 80 стихотворений. Конечно, это чудовищное число не будет воспроизведено в печати <…> но я наслаждался, когда писал их. И во всяком случае чувствую, что за это лето я написал новую книгу, которая настолько выше всего, что я написал раньше, что для меня она открывает новую полосу жизни».
Бальмонту, как видно из письма, хотелось бы прочитать Урусову стихотворения «Красные цветы», предания из русской старины (стихи «В глухие дни» и «Смерть Димитрия Красного»), «Драгоценные камни», «Заколдованная дева», «Замок Джен Вальмор» и некоторые другие. К письму приложены автографы стихотворений «К Бодлеру» и «Альбатрос», очень важные для уяснения его эстетической позиции в это время.
Стихотворение «Альбатрос» Бальмонт написал не без влияния бодлеровского «Альбатроса». В этой одинокой, гордой и сильной морской птице, из поднебесья оглядывающей океан, Бодлер видел олицетворение поэта (перевод Д. Мережковского):
Поэт, вот образ твой!.. Ты царь за облаками.Бальмонт в своем «Альбатросе» как бы развертывает эту бодлеровскую строку:
Над пустыней ночною морей альбатрос одинокий, Разрезая ударами крыльев соленый туман, Любовался, как царством своим, этой бездной широкой, И, едва колыхаясь, качался под ним океан. И порой омрачаясь, далёко на небе холодном, Одиноко плыла, одиноко горела луна. О, блаженство быть сильным, и гордым, и вечно свободным! Одиночество! Мир тебе! Море, покой, тишина!А в стихотворении «К Бодлеру» поэт признается в любви к автору «Цветов зла» — «павшему в пропасти, но жаждавшему вершин»:
Как страшно-радостный и близкий мне пример, Ты мне все чудишься, о, царственный Бодлер, Любовник ужасов, обрывов и химер! Ты, павший в пропасти, но жаждавший вершин…Со стихотворением «К Бодлеру» прямо соотносится мартовское письмо Урусову. В нем Бальмонт сообщает, что закончил статью о художнике Гойе (имеется в виду «Поэзия ужаса»). Тема статьи (снабженной эпиграфом из Бодлера) заставила его перечитать этого поэта. «Вся моя любовь к нему воскресла до бешенства». — подчеркивал Бальмонт. Он собирался писать о Бодлере и спрашивал Урусова, нет ли у него новых работ о поэте. Вскоре была написана бальмонтовская статья «О „Цветах зла“».
Приверженец чистого эстетизма, неземной красоты, светлой лазури, теперь Бальмонт весь во власти мучительных противоречий, которые, как ему представляется, должны стать основой современной лирики. Душа современного человека расколота между Добром и Злом, между красотой и безобразием, между альтруизмом и преступлением и т. д. Но она в таких полярностях ищет «светильник молитвы», как пишет он в статье «О „Цветах зла“».
Три поэта и мыслителя с их парадоксами оказывают в это время сильнейшее влияние на Бальмонта: Бодлер, Эдгар По и Ницше. В Бодлере он видит «вид мучительства над самим собой, неудержимое стремление входить в диссонансы и вводить себя в волну противоречий» («О „Цветах зла“»). «Безумного» Эдгара По Бальмонт называет «величайшим из поэтов-символистов», «гением открытий», который творил в состоянии «величайшего экстаза» и «от самых воздушных гимнов серафимам переходил к самым чудовищным ямам нашей жизни, чтобы через остроту ощущения соприкоснуться с иным миром, чтобы и здесь, в провалах уродства, увидеть хотя серное сияние» (статья «Гений открытия»).
Приведенные высказывания о Бодлере и По характеризуют в первую очередь творческую позицию самого поэта. Что касается Ницше, то он привлекал Бальмонта прежде всего критической «переоценкой ценностей», неприятием устоявшихся моральных догм.
На вопросе о Бальмонте и Ницше следует остановиться подробнее. Бальмонт был знаком не только с книгой-поэмой Ницше «Так говорил Заратустра», но и с другими его трудами. «Самый блестящий поэт-философ 19-го столетия» — так определял Бальмонт Ницше (в статье «Гении охраняющие»). В то же время он считал, что Ницше в создании образа Заратустры следует за иранской Зенд-Авестой, а в своей философии «вышел из Достоевского», учился у него (статья «О Достоевском»). В понимании «сверхчеловека» Бальмонт скорее опирался на Гёте, чем на философа. Он писал: «Все узнать, все понять, все обнять — вот истинный лозунг Übermensch’a [6] — слово, которое Гёте употреблял раньше Ницше с большим правом» (статья «Избранник земли»). Не идея превосходства над другими привлекала Бальмонта в «сверхчеловеке», а идея нового человека — творческой личности, способной всё понять и обновить жизнь. В гётевском смысле выступает у Бальмонта сверхчеловек («И я в человеческом — нечеловек») в программном стихотворении «Мои песнопения», в котором «стозвучные песни» автора — не что иное, как «все узнать, все понять, все обнять». В своем «все дозволено» Ницше доходил не только до разрушительной критики христианства, но и до скандального тезиса: «Бог умер, Бога нет». Последнее было для Бальмонта абсолютно неприемлемо, хотя не раз в его стихах звучат богоборческие мотивы, Люцифер выступает в роли параллельного демиурга, а свободная творческая личность находится как бы над Богом и дьяволом.
В октябре 1899 года Бальмонт уезжает за границу до августа следующего года. Некоторое время он находится в Берлине, а затем отправляется в Париж. 13 октября в письме из Берлина он извещает поэтессу Л. Н. Вилькину (вторая жена Н. М. Минского): «У меня много новостей. И все хорошие. Мне „везет“. Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих».
И далее — о своих переменившихся взглядах:
«Я все в мире благословляю. Все люблю».
Белый воздух прохладен. Не желай. Не скорби. Как бы ни был ты жаден, Только Бога люби[7].«Я изменил свое понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: — Я понял мир. На многие годы, быть может, навсегда».
В Париже в начале 1900 года Бальмонт подготовил и прочитал в Латинском квартале для русской аудитории лекцию «Элементарные слова о символической поэзии». В виде статьи она вошла в книгу «Горные вершины» (1904). Это было первое в России развернутое суждение о символизме как новом направлении в литературе, высказанное одним из самых талантливых его представителей.
На март — апрель Бальмонт уезжает в Испанию, бывает в Мадриде, Толедо, Гренаде и других местах, но в основном пребывает в Севилье. 10 ноября он сообщает матери, что написал в Испании два десятка стихотворений и переводит Кальдерона. «Под этим солнцем цветы и стихи цветут и расцветают», — делится поэт своими впечатлениями об Испании. Следующее его письмо от 10 мая — уже из Биаррица, где Бальмонты поселились на четыре недели. «Надоели нам странствия до смерти, — жалуется поэт матери, — и, как ни красив океан, я сплю и вижу, когда же, когда же я буду в России. Но здесь очаровательно <…>. Ни о чем не хочется думать, ничего не хочется загадывать. Слушать музыку моря и дышать прохладой океана. Счастье — жить и мыслить».
После Биаррица Бальмонт на несколько недель съездил в Лондон и Оксфорд, вернулся в Париж, а затем, в августе, на две недели приехал в Москву. Жить Бальмонты устроились в Петербурге. Здесь у них 25 декабря 1900 года родилась дочь Нина — Ниника, как ее звали в семье. Названа она была в честь Нины Васильевны Евреиновой, верного друга семьи Бальмонтов. Поэт очень любил дочь, позднее он посвятит ей книгу пленительных стихов «Фейные сказки» (1905).
Сборник «Горящие здания» вышел в свет в мае 1900 года, в нем было помещено 131 стихотворение. Начиная со второго издания (1904), сборник открывался такими словами: «Посвящаю эту книгу рубиновых страниц моему другу С. А. Полякову, с которым мы вместе ее пережили». Первое издание сразу же было разослано литературным друзьям. Не без волнения поэт ждал оценки князя Урусова, с которым делился еще замыслом книги, но тот промолчал. Причина была не только в его тяжелой болезни, но и в том, что он не принял книгу. В письме от 4 июня 1900 года князь поделился своим впечатлением от «Горящих зданий» с писательницей Александрой Алексеевной Андреевой (сестрой жены поэта): «mania grandiosa[8], кровожадные гримасы. Искусство заменило какое-то гоготание». В «кинжальных словах», в диссонансах и кричащих противоречиях содержания гармоничный Урусов увидел крайности декадентства, вседозволенность лирического «я».
Отзыв Урусова стал известен Бальмонту, и в письме от 3 июля 1900 года из Оксфорда он решил объяснить другу свое творческое кредо: «Я думаю, что Вы очень несправедливы к „Горящим зданиям“. Вы издавна привыкли видеть во мне поэта голубых и серебряных тонов. Но эта полоса творчества отошла от меня надолго, может быть, безвозвратно. Меня уже давно манит совсем другое. Если бы я стал писать стихи в прежнем своем стиле, я стал бы лгать перед собой. Я люблю теперь „хорохориться“ и чувствую для этого силы. Я люблю реальную жизнь с ее дикой разнузданностью и безумной свободой страстей <…>. И это не романтика. Это другое. Я хочу причаститься к противоречиям мира, чтобы понять их».
Ответа на это объяснение не последовало: 16 июля А. И. Урусов умер. Можно представить себе, что пережил поэт: слишком многое связывало его с этим человеком.
Книга «Горящие здания» получила высокую оценку в символистской критике. Брюсов считал ее «высшей точкой, которой достиг Бальмонт в своем победном шествии в русской поэзии». Блок признавал новаторство «Горящих зданий» (хотя предпочтение все же отдаст следующей книге Бальмонта «Будем как Солнце»).
«Горящие здания» имели подзаголовок «Лирика современной души». Позднее Бальмонт сопроводит книгу тройным предисловием: «Из записной книжки (1899)», «Из записной книжки (1903). Мои враги» и «Из записной книжки (1904)». В первом — «Из записной книжки (1899)» — поэт объяснит, что книга «Горящие здания» «не напрасно названа лирикой современной души»: «В этой книге я говорю не только за себя, но и за многих других, которые немотствуют, не имея голоса, а иногда имея его, но не желая говорить, немотствуют, но чувствуют гнет роковых противоречий, быть может, гораздо сильнее, чем я».
Необычный образ лирического героя был заявлен уже в первом стихотворении, открывавшем книгу, это — «часовой»:
<…> Сады, пещеры, замки изо льда, Забытых слов созвучные узоры, Невинность чувств, погибших навсегда, — Солдаты спят, как нищие, как воры. Назавтра бой. Поспешен бег минут. Все спят. Всё спит. И пусть. Я — верный — тут. До завтра сном беспечно усладитесь. Но чу! Во тьме — чуть слышные шаги. Их тысячи. Всё ближе. А! Враги! Товарищи! Товарищи! Проснитесь! (Крик часового)В последующих стихах и циклах сборника он надевает всё новые и новые, подчас экстравагантные маски: «испанец, ослепленный верой в Бога и любовью» («Как испанец»), «скиф», который «на врага тетиву без ошибки натянет, напитавши стрелу смертоносною желчью змеи» («Скифы»), «кузнец», кующий «много слов» («Кузнец»), брахман, кто «приобщился в Браме — и утонул в бессмертной высоте» («Индийский мудрец»). Он пытается существовать в разных историко-мифологических пространствах, то оживляя сюжеты из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (стихотворения «В глухие дни», «Опричники», «Смерть Димитрия Красного»), то воссоздавая мотивы из Зенд-Авесты. «У каждой души есть множество ликов, в каждом человеке скрыто множество людей, и многие из этих людей, образующих одного человека, должны быть безжалостно ввергнуты в огонь», — утверждал Бальмонт в том же первом предисловии.
Центральный, сквозной мотив книги — горение, в нем сливаются стихийно-пантеистическое начало и пафос творческого самосожжения во имя преображения жизни («Прощай, мое Вчера. Скорей к неизвестному Завтра!» — напишет Бальмонт в третьем предисловии). Поэт демонстративно «поджигает» свое прежнее элегическое восприятие мира, отрекаясь от тютчевского завета «молчания», воплотившегося в предшествующей книге «Тишина», он восклицает:
Я устал от нежных снов, От восторгов этих цельных Гармонических пиров И напевов колыбельных. Я хочу порвать лазурь Успокоенных мечтаний, Я хочу горящих зданий, Я хочу кричащих бурь! Упоение покоя — Усыпление ума. Пусть же вспыхнет море зноя, Пусть же в сердце дрогнет тьма. Я хочу иных бряцаний Для моих иных пиров. Я хочу кинжальных слов И предсмертных восклицаний! (Кинжальные слова)Образ «горящих зданий», безусловно, нес в себе антиурбанистическое содержание, но отнюдь не сводился к нему. Бальмонт раньше многих других поэтов-символистов «причастился городу» (А. Блок) и отверг его «ненавистный гул». В «Горящих зданиях» он провозглашает новый «завет»:
О человек, спроси зверей, Спроси безжизненные тучи! К пустыням вод беги скорей, Чтоб слышать, как они певучи! Беги в огромные леса, Взгляни на сонные растенья, В чьей нежной чашечке оса Впивает влагу наслажденья! Им ведом их закон, им чуждо заблужденье. (Слово Завета)Теперь образ «здания» включает в себя более емкий символический смысл: «горящие здания» — «остов» прежнего миросозерцания Бальмонта, на котором он пытается утвердить новые эстетические и этические ценности. «И в смерти будешь жить, как остов мощных зданий» — так заканчивается стихотворение «Слово Завета».
Красоту и высший смысл жизни Бальмонт находит теперь в человеческой душе, во всех ее переменчивых «мигах» и «роковых противоречиях»:
В душах есть всё, что есть в небе, и много иного. В этой душе создалось первозданное Слово! ……………………………………………… Дивно и жутко — уйти в запредельность, Страшно мне в пропасть души заглянуть, Страшно — в своей глубине утонуть. Все в ней слилось в бесконечную цельность, Только душе я молитвы пою, Только одну я люблю беспредельность, Душу мою. (В душах есть всё)Импрессионизм поэта приобретает новый характер, меняется интонационный строй лирики. Не случайно вместо «поэзии созвучий» А. И. Урусов с осуждением услышал в книге «какое-то гоготание». Импрессионизм понимался Бальмонтом не только как стиль, но и как мироощущение. «Истинно то, что сказалось сейчас <…>. Вместить в каждый миг всю полноту бытия — вот цель» — так определял В. Брюсов поэтическое кредо новых бальмонтовских книг начала 1900-х годов. Сам Бальмонт в третьем предисловии к «Горящим зданиям» объяснял перемены в своем миропонимании по-другому:
«Я откидываюсь от разума к страсти, я опрокидываюсь от страстей в разум. Маятник влево, маятник вправо. На циферблате ночей и дней неизбежно должно быть движение. Но философия мгновения не есть философия земного маятника. Звон мгновенья — когда его любишь, как я, — из области надземных звонов.
Я отдаюсь мировому, и мир входит в меня».
В «Горящих зданиях» поэт по-своему стремился к преодолению «многоликой» расщепленности сознания, к цельности восприятия мира, однако цельность неизменно ускользает от него. Принято считать, что главный нерв лирики Бальмонта — его «прирожденный пантеизм». «Поэзия стихий», фрагментарно заявившая о себе уже в ранних книгах «В безбрежности» и «Тишина», начинает складываться в стройные звенья «мирового четверогласия» именно в «Горящих зданиях», когда
…уразумев себя впервые, С душой соприкоснулись навсегда Четыре полновластные стихии: — Земля, огонь и воздух, и вода. («Лишь демоны, да гении, да люди…»)Огонь — любимая бальмонтовская стихия, «аромат солнца» — «В солнце звуки и мечты, / Ароматы и цветы…» («Аромат солнца»), — ощутимый во многих стихотворениях «Горящих зданий», достигнет затем особой насыщенности в книге «Будем как Солнце» и пройдет через всё творчество поэта. Однако, думается, поэтическое мироощущение Бальмонта не ограничивалось стихийным пантеизмом. Стихи из «Горящих зданий», как и более ранние, дают основание говорить о своеобразном влиянии на поэта христианских идей. В одном из разделов «Горящих зданий», названном «Совесть», лирическое «я» поэта, по выражению Иннокентия Анненского в статье «Бальмонт-лирик», «живет двумя абсурдами — абсурдом цельности и абсурдом оправдания».
Мир должен быть оправдан весь, Чтоб можно было жить! —заявлял Бальмонт в цикле «В душах есть всё». Иногда он пытался «оправдать» мир с помощью «Слова Завета», идя «сквозь цепь случайностей к живому роднику», размышлял о Страшном суде, готовился принести себя в огненную жертву:
Скорее, Господи, скорей, войди в меня, И дай мне почернеть, иссохнуть, исказиться! (Молитва о жертве)Вместе с тем он увлечен философией индуизма, о чем свидетельствует раздел «Индийские травы», сопровожденный двумя эпиграфами. Первый: «То есть ты. Основоположение индийской мудрости», второй — из Шри Шанкара Ачарии (брахмана-ведантиста): «Познавший сущность стал выше печали». Интерес Бальмонта к Индии не был преходящим: в 1910-е годы он будет работать над переводами ведийских гимнов, драм Калидасы и «Жизни Будды» Ашвагхоши.
Видимо, в связи с разнонаправленностью философских увлечений и недостижимостью цельности мироощущения у Бальмонта впервые зазвучала тема двойничества в «Горящих зданиях» и возник образ «двойника» (вообще характерный для творчества символистов). Он появился среди «полумертвых руин полузабытых городов» прежде всего для того, чтобы «осветить» лирическому герою «сумеречные области совести». Поэт — «сын Солнца» — живет «у самого себя в плену», то «с диким бешенством бросаясь в смерть порока», то «снова чувствуя всю близость к божеству» (стихотворение «Избранный»). Образ двойника наиболее полно раскрывается в стихотворении «На рубеже» («Лесной пожар»):
Зачем так памятно, немою пеленою, Виденья юности, вы встали предо мною? Уйдите. Мне нельзя вернуться к чистоте, И я уже не тот, и вы уже не те. Вы только призраки, вы горькие упреки, Терзанья совести, просроченные сроки. А я — двойник себя, я всадник на коне, Бесцельно едущий — куда? Кто скажет мне! …………………………………… Мой конь несет меня, и странно-жутко мне На этом взмыленном испуганном коне. Лесной пожар гудит. Я понял предвещанье. Перед душой моей вы встали на прощанье, О тени прошлого! — Простите же меня На странном рубеже, средь дыма и огня!Символический образ мирового неблагополучия — «страна Неволи» — подчас получает конкретное наполнение:
Необозримая равнина, Неумолимая земля — Леса, холмы, болото, тина, Тоскливо скудные поля… О, трижды скорбная страна, Твое название — проклятье, Ты навсегда осуждена. (Равнина)Развивая тему бунта, крушения устоев мирового порядка, Бальмонт нередко ставит своего лирического героя «по ту сторону добра и зла». В «случайно» возникшем мире (стихотворение «Скрижали») Бог и Сатана взаимообратимы. «Злые чары» таит в себе любовь, тесно переплетаясь с «колдовством» (стихотворения «Замок Джэн Вальмор», «Заколдованная дева», «Я сбросил ее с высоты»).
Демоническое начало, явственно ощутимое в «Горящих зданиях», достигает своего пафоса в завершающем книгу стихотворении «Смертию — смерть». В нем «замкнутое» мироздание, воплотившееся в «лике Змея», разрушает Люцифер:
Вновь манит мир безвестной глубиной, Нет больше стен, нет сказки жалко-скудной, И я не Змей, уродливо-больной, Я — Люцифер небесно-изумрудный, В безбрежности, освобожденной мной.Красота и безобразие также утратили свою полярность — в сонетах «Уроды», «Проклятие глупости» Бальмонт воспевает «таинство» их нераздельности:
Для тех, кто любит чудищ, все — находка, Иной среди зверья всю жизнь провел, И как для закоснелых пьяниц — водка, В гармонии мне дорог произвол. (Проклятие глупости)Ноты этического и эстетического релятивизма, относительности всех понятий, прозвучали не только в лирике Бальмонта, это — общая тенденция у многих «старших» символистов, достаточно вспомнить знаменитые строки В. Брюсова:
Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья. И Господа и Дьявола Хочу прославить я. (З. Н. Гиппиус, 1901)Истоки этой тенденции — в идее сверхчеловеческой миссии творца, пересоздающего мир посредством искусства, что получило сложное и неоднозначное философское выражение у разных поэтов-символистов и часто соотносилось с ницшеанским сверхчеловеком. Обращаясь в цикле «Антифоны» к близким ему по духу поэтам (стихотворения «К Лермонтову», «К Бодлеру»), Бальмонт воспевал «нечеловеческую» роль искусства, избранничество творца, устремленного при всех падениях к «горным вершинам».
Нет, не за то тебя я полюбил. Что ты поэт и полновластный гений, Но за тоску, за этот страстный пыл Ни с кем не разделяемых мучений. За то, что ты нечеловеком был. О Лермонтов, презрением могучим К бездушным людям, к мелким их страстям, Ты был подобен молниям и тучам… ……………………………………… И жестким блеском этих темных глаз Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!» Ты говорил: «Как душно мне средь вас!» (К Лермонтову)Бальмонтовская книга получила резко отрицательную оценку в либеральных журналах «Мир Божий» (А. Богданович), «Образование» (Н. Ашешов). Совсем неожиданно ее поддержал молодой Горький в рецензии, напечатанной в газете «Нижегородский листок» 14 ноября 1900 года, где выделил три созвучных ему самому стихотворения: «Альбатрос», «Кузнец» и «Воспоминание о вечере в Амстердаме». «Горящие здания» он рассматривал вместе с брюсовским сборником «Tertia vigilia». Сопоставляя поэзию Бальмонта и Брюсова, Горький отмечал их «духовное родство», по таланту же первого ставил выше и считал, что Бальмонт стоит «во главе наших символистов».
Такое мнение высказывало большинство при сравнении Брюсова и Бальмонта. Несмотря на общую устремленность к новому искусству, их творчество было во многом противоположно: Брюсов — рационалист по складу ума, и его поэзия почти лишена непосредственного лиризма, свойственного Бальмонту. Как поэту современники отдавали предпочтение Бальмонту, что не могло не ранить самолюбие Брюсова. Впрочем, он и сам в стихотворном послании «К. Д. Бальмонту» (1902) писал: «Мы пророки, ты — Поэт». У Брюсова были свои достоинства, которыми не обладал Бальмонт: ясный аналитический ум, талант критика, теоретика и организатора.
Начало 1900-х годов в России ознаменовалось общественными волнениями, забастовками, антиправительственными демонстрациями, которые зачастую заканчивались разгоном со стороны властей. Бальмонт, один из самых демократически настроенных символистов, не остался в стороне от этих событий. Его возмущали расправы со студентами: их за участие в «беспорядках» исключали из учебных заведений, отдавали в солдаты. Он поддерживал протесты по поводу отлучения Святейшим синодом Льва Толстого от Церкви. 4 марта 1901 года Бальмонт участвовал в демонстрации студентов у Казанского собора в Петербурге, при разгоне которой несколько человек было убито. Протест сорока трех литераторов против расправы, направленный в газеты (в числе подписавшихся был и Бальмонт), привел к запрещению Союза взаимопомощи писателей.
Всё это вызывало у поэта негодование. Свои чувства он выразил на благотворительном вечере 14 марта в зале Петровского коммерческого училища на Фонтанке. После нескольких лирических произведений Бальмонт прочел только что написанное стихотворение «Маленький Султан», начало которого звучало так:
То было в Турции, где совесть вещь пустая. Там царствует кулак, нагайка, ятаган, Два-три нуля, четыре негодяя И глупый маленький Султан.Оно вызвало, по свидетельству современников, бурные аплодисменты. Слушатели без труда расшифровали подлинное содержание стихотворения, навеянное событиями у Казанского собора, а в маленьком Султане увидели царя Николая II. На вопрос присутствовавшего в зале агента охранного отделения, чье это стихотворение, Бальмонт ответил: перевод с испанского. Возникло дело о чтении на вечере недозволенного цензурой произведения, после чего последовал обыск на квартире поэта. Но стихотворение уже ходило в списках, попало в нелегальную печать, использовалось в прокламациях. Дело о стихотворении «Маленький Султан» приобрело политическую окраску, рассматривалось в Департаменте полиции, и 20 мая было принято постановление: выслать Бальмонта как политически неблагонадежного из Петербурга, запретить проживать в обеих столицах, столичных губерниях и университетских городах.
Однако это предписание Бальмонту вручили лишь в середине мая в Москве, куда он выехал из Петербурга еще 12 мая. В Первопрестольной он жил на разных квартирах, и полиция на время потеряла его след. После вручения документа о высылке поэт должен был немедленно покинуть Москву. 13 и 14 июня состоялись проводы Бальмонта его московскими друзьями: сначала у Сабашниковых, затем в ресторане на Курском вокзале. В дневнике Брюсова отмечена такая деталь: «Впрочем, Бальмонт не пьет. Конечно, он все тот же». Дело в том, что перед этим сильнейший нервный срыв, вызванный всем случившимся, он «топил в вине».
Пятнадцатого июня 1901 года Бальмонт выехал из Москвы в Курскую губернию, где поселился в имении Сабашниковых в селе Никольском близ железнодорожной станции Иванино. Там он провел все лето и часть осени.
Братья Сабашниковы, выходцы из богатого сибирского купеческого рода, получившие прекрасное образование (окончили Московский университет), рано приобщились к книгоиздательскому делу. Их издательство внесло большой вклад в историю русской науки и литературы. Михаил Васильевич после смерти младшего брата Сергея в 1909 году станет единоличным владельцем издательства. Бальмонт с ним дружил, неоднократно с его помощью издавался, помогал ему в разработке серии «Памятники мировой литературы». Кроме того, как уже отмечалось, через Екатерину Алексеевну он состоял с Сабашниковыми в родственных отношениях. Словом, Михаил Васильевич Сабашников хорошо знал Бальмонта, и здесь уместно привести его характеристику поэта, из которой видно, что его удивляло в поэте несоответствие репутации «стихийного гения» и реального человека, каким он был в жизни, работе, отношении к творчеству.
«В работе Константина Дмитриевича меня поразило то, что он почти не делал поправок в своих рукописях. Стихи в десятки строк, по-видимому, складывались у него в голове совершенно законченными и разом записывались им в рукопись. Если нужно было какое-либо исправление, он заново переписывал текст в новой редакции, не делая никаких помарок или приписок в первоначальном тексте. При необычной нервности Константина Дмитриевича почерк его не отражал, однако, на себе никаких перемен в его настроении <…>. Это казалось и неожиданным и удивительным, — свидетельствует М. В. Сабашников в своих „Записках“. — Да и в привычках своих он оказался педантично аккуратным, не допускающим никакого неряшества. Книги, письменный стол и все принадлежности поэта находились всегда в порядке гораздо большем, чем у нас, так называемых деловых людей. Эта аккуратность в работе делала Бальмонта очень приятным сотрудником издательства. Рукописи, им представляемые, всегда были окончательно отделаны и не подвергались изменениям в работе. Корректуры держал четко и возвращал быстро.
Недоумение вызывало во мне удивительное сочетание в нем беззаботной рассеянности и бессознательной наблюдательности. На каждом шагу приходилось удивляться его незнанию окружающих отношений, понятных иногда даже ребенку. И одновременно он, оказывается, интуитивно улавливал каким-то чутьем то, что, быть может, и не осознавалось окружающими. Это наблюдение мое относится, впрочем, к другому времени. Когда я как-то под свежим впечатлением выразил Константину Дмитриевичу свое удивление, он только с гордостью сказал мне:
— Миша, недаром же я поэт».
В этих наблюдениях несомненно отразились впечатления Сабашникова и во время общения с поэтом в 1901 году в Никольском.
Бальмонту в Никольском нравилась деревенская обстановка, напоминающая Гумнищи: парк, поля, лес, тишина. Летом там с ним находились жена и дочь. «Мы живем в полном уединении, по методу почти робинзоновскому, — писал он 10 июля В. С. Миролюбову. — Работается легко <…>. Девочка наша — очаровательнейшее существо, и я с неким удивлением нашел в себе большой запас отцовской нежности».
Осенью Сабашниковы вернулись в Москву. Уехала и Екатерина Алексеевна с дочерью. Бальмонт остался один. Как и летом, он продолжал много работать: писал стихи для новой книги, переводил, читал корректуры (Кальдерон, По, драматические произведения Гауптмана и Зудермана, охотно ставившиеся на сцене). Он привез с собой пишущую машинку, на которой привык работать, книги, рукописи — целый сундук, который всегда брал, уезжая куда-то на длительный срок.
Оставаться в осеннюю непогоду в деревенской глуши Бальмонту не хотелось, и он решил на месяц уехать в Крым, тем более что во время майской встречи с Чеховым в Москве писатель пригласил его к себе в Ялту (где в 1899 году закончил строительство дома и жил почти постоянно).
В Ялту поэт приехал в конце октября. Курортный сезон кончался, Чехова никто не навещал, он тяготился своим одиночеством и Бальмонту был рад. 30 октября 1901 года Антон Павлович писал Ольге Леонардовне Книппер: «Сегодня был Бальмонт и обедал со мной». Бывал он у Чехова часто, приходил иногда даже на утренний кофе. 6 ноября писатель сообщал Ольге Леонардовне: «Сегодня у меня Бальмонт. Ему нельзя теперь в Москву, не позволено, иначе бы он побывал у тебя в декабре, и ты бы помогла ему добыть билеты на все пьесы, какие идут в вашем театре. Он славный парень, а главное, я давно уже знаком с ним и считаюсь его приятелем, а он моим».
Как видно из письма, отношения между Чеховым и Бальмонтом были достаточно близкие. В первую их встречу 12 декабря 1895 года, когда Бальмонт и Бунин пришли знакомиться с Чеховым, приехавшим в Москву, писатель воспринял его как поэта, занятого поисками новых форм творчества, и это ему импонировало. А уже в 1902 году Чехов писал Бальмонту: «Вы знаете, я люблю Ваш талант, и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения».
Вскоре, 14 ноября, в Ялту для лечения приехал на длительный срок Максим Горький. Он был арестован за протестное письмо по поводу событий у Казанского собора (к слову, он тоже был на демонстрации 4 марта) и заключен в нижегородскую тюрьму. Там у него обострился легочный процесс, и под давлением общественности его из тюрьмы освободили. Чехов принимал в его судьбе живое участие, первое время пребывания в Ялте Горький жил у него. Здесь и состоялось знакомство Бальмонта с входившим в славу Горьким. О нем поэт уважительно отзывался как о «значительном имени» в русской литературе, а в связи с выходом повести «Фома Гордеев» отмечал в литературном обзоре для журнала «Атенеум»: «Среди современных писателей М. Горький сразу же занял одно из первых мест».
Вскоре после знакомства Горький писал редактору журнала «Жизнь» В. А. Поссе: «Познакомился с Бальмонтом. Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник. Настраиваю его на демократический лад». Бальмонт увидел в Горьком «законченную сильную личность», человека, расположенного к нему. Их объединяли активное отношение к жизни, идея раскрепощения личности, но по сути они были разными людьми и стояли на разных художественных позициях. Это Бальмонт подчеркнул в стихотворении-посвящении «Горькому» (1901): «Сильный! Ты пришел со дна, / Ты пришел со дна глубокого, чудовищного, мутного. / Мир твой — пропасть, / светлый мир мой — вышина, / Тишь забвенья, / Прелесть тучек, измененность их движенья / Поминутного» и т. д. Сопоставляя Чехова и Горького, Бальмонт отдавал предпочтение Чехову, он был ему ближе и как художник, и как человек. В статье «Имени Чехова» он так выразит впечатление от них: «Один — воплощение душевного изящества, уравновешенной скромности, при полном сознании своих высоких творческих качеств, и вежливость чувства и деликатность во всем. Другой — любопытство возбуждающий, частью даже и трогательный, но больше грубый, душевно угловатый и без надобности резкий человек».
Узнав, что у Чехова гостят два молодых писателя, Лев Толстой пригласил Антона Павловича вместе с ними к себе. Толстой жил в Гаспре в имении графини С. В. Паниной. Встреча состоялась 14 ноября. Толстого Бальмонт и Горький привлекали как писатели, гонимые властями, тут он был на их стороне. Присутствовавший при встрече зять Толстого М. С. Сухотин записал в дневнике: «Три писателя были сегодня: Чехов, Горький, Бальмонт, разговор шел с натужинкой», Бальмонт, по его словам, «все молчал и конфузился». Когда перешли к политическим событиям в России, разговорились. Беседа закончилась приглашением Толстого бывать у него.
Бальмонт воспользовался приглашением, навестил Льва Николаевича 22 ноября и провел у него несколько часов. На этот раз Толстой проявил интерес и к творчеству, и к личности поэта. Он услышал от Бальмонта более подробный рассказ о событиях у Казанского собора, о расправе над демонстрантами, о его высылке. Бальмонт прочел свои стихи, в том числе и стихотворение «Маленький Султан», после чего Лев Николаевич не без укоризны сказал: «А вы все декадентские стихи пишете? Нехорошо, нехорошо».
Толстой, автор трактата «Что такое искусство?», в котором декадентство и символизм оценивались им резко отрицательно, поскольку, по его мнению, противоречат здравому смыслу и не несут нравственного и религиозного содержания, не мог реагировать по-другому на творчество Бальмонта. Поэту хотелось познакомить писателя со стихами о природе, которыми дорожил и надеялся, что они найдут благосклонный отклик. Он прочитал стихотворение «Аромат солнца», начинавшееся так:
Запах солнца? Что за вздор! Нет, не вздор. В солнце звуки и мечты, Ароматы и цветы… и т. д.Толстой, прослушав, воскликнул: «Ах, какой вздор! Аромат солнца? Какой вздор!..» Об этом эпизоде поэт рассказал сам в статье «О книгах для детей» (Весы. 1908. № 3).
Бальмонт не мог поверить, что Толстой не понял метафорическое содержание стихотворения, и стал доказывать, что у него самого в повести «Казаки» есть нечто подобное в описании природы. По просьбе Толстого он прочел стихотворение «Белая страна», завершающееся почти по-лермонтовски:
Я один в просторах, где умолкло время, Не с кем говорить мне, не с кем, кроме Бога.После этого Толстой попросил Бальмонта рассказать о себе, и поэт подробно рассказал о своей жизни. В тот вечер и на Толстого, и на присутствующих Бальмонт произвел благоприятное впечатление. Софья Андреевна сообщала сыну Сергею 25 ноября: «Был опять Бальмонт и больше мне понравился тем, что он очень образован и начитан». Позже, в письме от 1 января 1902 года Чехов — в ответ на просьбу Бальмонта узнать о том, какое впечатление произвел он на Толстого, — ответил: «Пока слышал, что Вы произвели на него хорошее впечатление, ему было приятно поговорить с Вами».
К воспоминаниям о встрече с Толстым, столь значимой для него, Бальмонт возвращался не раз. В той же статье в «Весах» он писал: «Быть может, никогда в моей жизни ни один человек так не слушал меня. За одну эту способность — так приникать душой к чужой, чуждой душе, можно бесконечно полюбить Льва Толстого». В «Странице воспоминаний» (1923) Бальмонт изложил ту же мысль несколько по-другому: «Не то сейчас хочется вспоминать, о чем был разговор, а то, что одним взглядом, одним простым вопросом Лев Толстой умел, как исповедник, побудить к полной правде чужое сердце и заставить его мгновенно раскрыться. Видеть это лицо, полное внутреннего света, и не любить его — было нельзя. Слушать этот голос и не слышать полную правду внутреннего зрения — было невозможно».
Крымские встречи оставили в душе Бальмонта неизгладимый след. Почти месяц он пребывал не среди поэтов, у которых зачастую преобладали кружковые интересы, а среди писателей, которые были крупными художниками и личностями во всем. Один Толстой чего стоил! Это заставило его о многом задуматься, а что-то, может быть, и пересмотреть.
Двадцать четвертого ноября Бальмонт не без сожаления покинул Ялту и отправился в деревню Сабынино Курской губернии. Там, верстах в двадцати от Белгорода, находилось имение князя Дмитрия Алексеевича Волконского, замужем за которым была сестра Екатерины Алексеевны Мария. На зиму туда приехали и жена поэта с дочерью. Хозяева предоставили им просторный флигель, у Бальмонта был отдельный кабинет. Для наблюдения над ссыльным поэтом из Курска прислали жандарма — он должен был вести негласный надзор, который в условиях деревни, естественно, превратился в гласный. Архивные документы, между прочим, говорят, что негласный надзор над Бальмонтом осуществлялся и в Крыму, и за границей, когда он туда уехал.
Из Сабынина Бальмонт послал Л. Толстому книгу «Горящие здания» с дарственной надписью и отметками двадцати семи стихотворений, которые могли бы заинтересовать писателя, а его письмо от 6 декабря 1901 года звучало как исповедь. «Эта книга, — писал он Толстому о „Горящих зданиях“, — сплошной крик души разорванной и, если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной страницы и — пока — люблю уродство не меньше, чем гармонию. Может быть, незабываемое впечатление от встречи с Вами перебросит решительно от пропасти к высотам душу, которая блуждает. Вы не знаете, сколько Вы мне дали. Вы, богатый, как Солнце».
В Сабынине Бальмонт в основном был занят стихами для новой книги, которую решил назвать «Будем как Солнце». В частности, он написал главу поэмы «Художник-Дьявол» («Безумный часовщик»). Рукопись книги он подготовил уже в феврале и послал ее в издательство «Скорпион» Брюсову и Полякову. Одновременно он хлопотал у курского губернатора о выдаче ему заграничного паспорта. Поэт мечтал уехать в Англию, в Оксфорд, чтобы продолжить работать над Шелли: Горький во время крымской встречи обещал ему ускорить издание трехтомника в издательстве «Знание». Договор был заключен на очень выгодных условиях: гонорары обеспечивали жизнь и работу за границей почти в течение целого года. К ходатайству о выезде Екатерина Алексеевна подключила своих влиятельных знакомых в верхах, в этом ей помогала ближайшая ее подруга Татьяна Алексеевна Полиевктова, урожденная Орешникова (кстати, сестра Веры Алексеевны, жены писателя Бориса Зайцева). 14 февраля 1902 года курский губернатор распорядился выдать Бальмонту заграничный паспорт на полгода.
Пребывание в Сабынине было скрашено для Бальмонта знакомством с прелестной девушкой Люси Савицкой, которая гостила у родных в соседнем поместье. Она воспитывалась во Франции, писала стихи по-русски и по-французски, но мечтала поступить на сцену. Бальмонт, зная нравы французских театров, отговаривал ее от этого шага, советовал не торопиться. Чистая, трогательная дружба-влюбленность отразится в поэзии Бальмонта: Люси Савицкой в книге «Будем как Солнце» посвящен целый стихотворный цикл, а дружба с нею продолжится вплоть до 1930-х годов.
Пятнадцатого марта 1902 года Бальмонт приехал из Сабынина в Москву. Задержаться в Москве он мог только до отхода поезда в Варшаву. Об этом он известил Брюсова. Друзья устроили ему на квартире Брюсова встречу-проводы. Встретился он коротко и с Верой Николаевной, приехавшей провожать сына и хлопотать о его младшем брате Михаиле, который за участие в политической манифестации был осужден на шесть месяцев тюрьмы. В дневнике Брюсова есть запись о том, что Бальмонт не хотел уезжать из Москвы, твердил: «Мне все равно». «По счастью, мать приехала к нам, женщина властная <…>. „Костя, пора на вокзал“, — скомандовала она, и Костя повиновался».
За границей первое время Бальмонт жил в Париже. В письме матери от 8 апреля 1902 года поэт сожалел, что видел ее очень мало. Писал ей Бальмонт не так часто, и письма были лаконичные. Зато очень часто писал Брюсову: до конца 1902 года отправил более двадцати писем. Они читаются как дневник и дают довольно полное представление о жизни, интересах, литературной работе поэта. Некоторые из них имеют вид литературных посланий — он и Брюсов возродили в символистской среде этот жанр, так расцветший в пушкинскую пору. Бальмонт дорожил общением с Брюсовым, который выполнял его многочисленные просьбы, касающиеся книг, издательских дел и т. п. Поэт постоянно спрашивал его о литературных новостях в России, отвечал на присланные стихи Брюсова. Между ними продолжался живой диалог.
В Париже Бальмонт прожил три с половиной недели. Перед отъездом в Оксфорд он получил письмо от директора-распорядителя издательства «Знание» К. П. Пятницкого. Это был прекрасный редактор-профессионал, с его замечаниями и советами в корректуре Бальмонт не мог не считаться. Но его обстоятельное письмо от 6 апреля 1902 года, в котором он отстаивал свою позицию, свидетельствует о не менее серьезном, профессиональном подходе поэта к переводам.
«Прежде чем перевести ту или иную страницу, — писал поэт, — я перечитываю ее в разных настроениях не менее шести-семи раз. Мало того. Я любопытствую, как другой чувствует ту или иную строфу, и перечитываю французские и немецкие переводы Шелли, хотя хорошо знаю текст. Это делает впечатление многосторонним <…>. Иногда я перевожу целый вечер одно маленькое стихотворение, иногда в один час перевожу целую страницу. Это зависит от чего-то, что внутри меня <…>. Сверстанную корректуру я хочу непременно читать сам. Чужое чтение мне может только мешать. Мне видны все особенности орфографии и частностей в стихотворной структуре. Другому они не могут быть видны без специального изучения подлинника. Теперь, при чтении корректуры, я опять сверяю свой перевод с текстом, строка за строкой». Такова была методика работы Бальмонта-переводчика при подготовке к изданию в «Знании» трехтомного Собрания сочинений Шелли. Поэтому ему так важно было работать над первоисточниками Шелли, собранными в так называемой Бодлеянской библиотеке, входящей в библиотеку Оксфордского университета. Свое название Бодлеянская библиотека получила от современника Шекспира Томаса Бодлея, подарившего университету Оксфорда книги, собранные им за целую жизнь: по его примеру библиотеку в течение столетий пополняли новые дарители книжных раритетов. Там же были сосредоточены и другие материалы по Шелли, позволяющие поэту уточнить его старые переводы. Над всем этим Бальмонт усердно трудился в Оксфорде.
Приехал он туда 9 апреля и поселился в учебном интернате на улице Museum Road, 12. Свои напряженные литературные труды, связанные не только с Шелли, но и с Кальдероном, собственными стихами, Бальмонт прервал в начале июня, чтобы вместе с Екатериной Алексеевной совершить путешествие по Европе.
Бальмонты побывали в Дании, Голландии, Бельгии, Германии. Судя по письму поэта Брюсову от 14 июня 1902 года, они посетили Остенде — курорт в бельгийской Фландрии, где задержались до начала июля, купаясь в Северном море. Сообщая об этом в письме матери от 27 июня, Бальмонт добавляет: «Здесь солнце и царство звуков». А 5 июля ей же пишет: «Мы совсем „растроганы“ тем, что наша девочка так понравилась бабушке и дедушке. Через 2 недели Катя возвратится к ней».
Побывали Бальмонты и в Нюрнберге, центре немецкого средневековья и готики, откуда 10 июня ездили в Байрейт. Бальмонт любил музыку Вагнера, а в Байрейте, где композитор долго жил и работал, был создан «Театр Вагнера», там ставились его оперы и организовывались концерты.
С нелегким сердцем возвращалась Екатерина Алексеевна в Россию. Она знала за мужем две страсти, две слабости — женщины и вино, поэтому редко оставляла его одного, особенно опасаясь того, что в семье называли словом «отпадение», — запоев, когда поэт становился совершенно неуправляем. Больше всех он слушался Нюшу, Анну Николаевну Иванову, племянницу Екатерины Алексеевны. Нюша, рано осиротевшая, сначала воспитывалась в семье Василия Михайловича и Маргариты Алексеевны Сабашниковых вместе с их дочерью Маргаритой, а затем преимущественно жила в семье Бальмонтов. Добрая и сострадательная по натуре, она действовала на поэта успокоительно, Бальмонт звал ее своей «няней», любил и заботился о ней.
Екатерина Алексеевна старалась оградить мужа от вина, но это не всегда удавалось. Добрый и нежный по натуре, во время «отпадений» он становился неузнаваем. Вот что можно прочесть в ее «Воспоминаниях»: «С именем Бальмонта, „талантливого поэта“, всегда связывалось представление как о человеке беспутном, пьянице, чуть ли не развратнике. Только близкие люди знали его таким, как я, и любили его не только как поэта, но и как человека <…>. И все они соглашались со мной, что Бальмонт был прекрасный человек. Откуда такое противоречие в суждениях? Я думаю, это происходило от того, что в Бальмонте жило два человека. Один — настоящий, благородный, возвышенный, с детской и нежной душой, доверчивый и правдивый, а другой — когда он выпьет вина, полная его противоположность: грубый, способный на все самое безобразное <…>. Вино действовало на него как яд <…> вызывало в нем припадки безумия, искажало его лицо, обращало в зверя его, обычно такого тихого, кроткого, деликатного <…>. Ясно, что это был недуг. Но никто не мог мне объяснить его».
Врачи находили Бальмонта здоровым, и действительно физически он был на удивление крепок и вынослив. Единственный способ борьбы с недугом — ни капли алкоголя. Бальмонт понимал свой порок («чумной порок России», как написал он в стихотворении «Лесной пожар»), поэтому старался сдерживаться, усиленно работая. Но в богемной среде художественно-артистических натур, особенно модернистского толка, сильны были представления об «искусственном Эдеме» (будто с помощью алкоголя или наркотиков можно стимулировать творчество, вызывая особые состояния вдохновения, воображения, фантазии), и удержаться от этого «эдема» было трудно. Так, например, случилось с Бальмонтом летом 1899 года, когда он работал над книгой «Горящие здания» и вместе с новыми друзьями Поляковым и Балтрушайтисом впадал «в чары ядовитой услады алкоголя» (очерк «Пьяность солнца»). В состоянии опьянения Бальмонт становился неудержим, рвался из одного кабака в другой; вообще у него появлялась невероятная тяга ходить, двигаться, он был неутомим и всегда оставался на ногах. В этот момент важно было не оставлять его одного, иначе он мог попасть в беду. Это знали близкие и ценившие его люди, такие как М. В. Сабашников, С. А. Поляков, М. А. Волошин и др.
Надо отдать должное Екатерине Алексеевне: она несла свой тяжкий крест безропотно, с чувством ответственности за судьбу человека, обладавшего выдающимся талантом, и продолжала его любить несмотря ни на что. По сути это был подвиг, на который, впрочем, в ее мемуарах нет и тени намека.
То же самое можно сказать и о страницах, касающихся отношения Бальмонта к женщинам. Конечно, «романы» Бальмонта не могли не ранить ее. Но сколько в ней было сдержанности и понимания натуры человека, с которым она связала свою судьбу. «Мне не верили, когда я говорила, что прожила счастливую жизнь с Бальмонтом, — пишет она в воспоминаниях и подчеркивает: — Я очень мало встречала таких неизменно честных, благородных и, главное, правдивых людей, как Бальмонт».
Своих чувств Бальмонт не таил ни от кого, о его «романах» Екатерина Алексеевна знала. Сам он был совершенно неревнив, считал ревность противоестественным чувством. Состояние влюбленности было его органической потребностью, он претворял в стихи все «миги» любви, которые в предисловии к переводу пьесы Оскара Уайльда «Саломея» назвал «сказкой»: «Любовь, сказка мужской мечты и женской, не смешивается с жизнью. Она возникает в ней как сновидение и уходит из нее как сновидение, иногда оставляя по себе поразительные воспоминания, иногда не оставляя никакого следа, только ранив душу сознанием, что было что-то, чего больше нет, чего не вспомнишь, не вызовешь опять никакими усилиями…»
В письме поэтессе Людмиле Николаевне Вилькиной Бальмонт признавался: «Меня интересуют только женские души». Иногда он объяснял это тем, что женской души ему не хватало с детства: у него было шесть братьев и ни одной сестры. Поэтому некоторых женщин, с кем, помимо ушедшего «романа», его связывала душевная или творческая близость, он называл словом «сестра» и продолжал с ними дружить. Женские души Бальмонт считал более тонкими, отзывчивыми, мягкими, и в нем самом некоторые современники находили эти качества. Например, Брюсов считал, что лично в нем говорит мужское начало, а в Бальмонте — женское. О «женской душе» Бальмонта писал П. Флоренский, ее находили в поэте и многие другие.
В главе «Отношение к женщинам» своих мемуаров Е. А. Андреева-Бальмонт довольно подробно рассказывает о «романах» мужа и своем восприятии их.
Двадцать третьего июля 1902 года Бальмонт вернулся в Оксфорд, занимался Шелли, читал книги об Испании и Индии, правил первые корректурные листы своего нового сборника «Будем как Солнце». Но чувствовал себя одиноко. «Здесь я один, как в башне», — жаловался он в письме Брюсову. Поэтому в начале сентября, когда работы по Шелли были завершены, Бальмонт переехал в Париж. Там посещал Национальную библиотеку, вычитывал присылаемые из России корректуры, но по-прежнему тосковал в одиночестве. О своем настроении Бальмонт писал Брюсову: «Я первые дни несколько раз ходил один ночью над Сеной, и мне так хотелось броситься в нее». Чтобы рассеять мрачное настроение, он пригласил приехать в Париж из Норвегии Дагни Кристенсен.
Начало их знакомства установить трудно, но известно, что в 1900 году в Петербурге Бальмонт с ней встречался. Журналистка и поэтесса, Дагни Кристенсен работала в Петербурге корреспондентом одной из норвежских газет. Любовь к Скандинавии, занятия норвежским языком, литературой (Ибсен, Бьёрнсон, Гамсун) были началом их сближения, переросшего в любовные отношения, без каких-либо дальних планов с обеих сторон. В Париж она приехала по первому зову. Ей в книге «Будем как Солнце» посвящен «Трилистник» (стихотворения «Из рода королей», «В моем саду», «Солнце удалилось»).
О парижской встрече с Дагни поэт написал В. С. Миролюбову: «Помните ли Вы одну ночь, когда мы бродили с Вами по улицам и я рассказывал Вам о той норвежской девушке, которая приезжала ко мне в Петербург? С тех пор прошло два года, и она сейчас со мной здесь. Несколько недель мы были в сказке, теперь мечта кончается нежно и легко, как тает облако, чтобы возникнуть снова — где? — оно не знает. А люблю я все-таки ту, которая целые годы не перестает быть Беатриче. И, помня свою любовь к ней, я всех люблю и всё».
Кто Беатриче — ясно: это Катя, Екатерина Алексеевна. Дагни Кристенсен, как и многие другие из «романных» героинь Бальмонта, не была ей соперницей. Но Бальмонт ошибался, считая, что соперниц ей не будет…
Той же осенью в Париже Бальмонт обрел большого, настоящего друга в лице поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина, влюбленного во французскую поэзию и живопись. В прошлом студент-юрист, исключенный из Московского университета за участие в студенческих беспорядках, он увлеченно постигал европейскую культуру. Во Франции появился после путешествия по Италии, Испании, где посетил музеи Флоренции, Рима, Мадрида; в Париже в 1900-е годы сошелся с кругом художницы Е. С. Кругликовой и писательницы А. В. Гольштейн. Дружбе с Бальмонтом не помешали ни резкая критика его перевода драм Гауптмана (Русская мысль. 1901. № 5), ни разница в возрасте (Волошин десятью годами младше), ни различные приемы поэтического творчества: Бальмонт ориентировался на музыкальное звучание слова, Волошин — на живописную изобразительность. Их объединяли широкая образованность, новое мировосприятие и поиск новых форм творчества. Волошин в это время был близок к символистскому направлению. Бальмонта он относил к числу тех поэтов, у которых он «учился владеть стихом». Тогда же, еще до своего отъезда из Парижа, Бальмонт рекомендовал Волошина Брюсову: «Податель сего письма, Макс Волошин, да внидет в дом Ваш, приветствуемый и сопровождаемый моей тенью». Познакомившись с Брюсовым, Волошин стал деятельным автором символистских изданий, а с выходом журнала «Весы» регулярно публиковал в нем свои статьи о литературной и художественной жизни Франции.
Дружба с Волошиным, в свою очередь, обогащала и Бальмонта. Об этом со всей определенностью рассказывает в воспоминаниях о Волошине Екатерина Алексеевна: «Имя Макса Волошина я впервые услышала от Бальмонта. Он писал мне из Парижа осенью 1902 года, что познакомился в Латинском квартале (кажется, на одной из своих лекций) с талантливым художником М. Волошиным, который „и стихи пишет“. В каждом письме похвалы ему возрастали <…>. Он писал, что они часто бывают вместе, бродят по городу. Макс показывает ему уголки старого Парижа, доселе ему неизвестные. Писал, что разница возрастов и вкусов — Макс принадлежал латинской культуре, изучал французских живописцев и поэтов, а Бальмонт был погружен в английскую поэзию <…> — не мешала их сближению. К сожалению, я не могу привести подлинных слов Бальмонта из его писем, слов нежных и восхищенных о Максе, письма эти погибли в нашей парижской квартире во время войны 1914 года».
Надо заметить, что по характеру, темпераменту поэты были прямо противоположны друг другу: взрывной, подверженный «отпадениям» Бальмонт — и уравновешенный вечный примиритель Волошин. Как уже говорилось, он никогда не оставлял Бальмонта в его тяжелые периоды «отпадения», несмотря на коробящие других поступки «стихийного гения». И Бальмонт ценил Волошина, недаром писал ему через много лет, 14 февраля 1914 года: «Ты один из тех 3-х или 4-х мужчин, которых люблю по-братски».
Дружба с Волошиным отвлекала Бальмонта от мрачных настроений в Париже. Вместе с ним он бывал на лекциях, концертах, выставках, посещал мастерскую Е. С. Кругликовой. Там Бальмонт познакомился с молодым художником Фидусом (Гуго Хеппенер), который предложил ему бесплатно оформить обложку книги «Будем как Солнце». Издательство «Скорпион» на это согласилось, а сам автор принял лишь пятый вариант оформления книги. Ее корректура по-прежнему посылалась в Париж отдельными листками, поэт над ними работал. В декабре 1902 года он получил тревожный сигнал о задержке книги Московским цензурным комитетом и в связи с этим писал Брюсову: «Спасите мою книгу. В ней <…> верно <…> вырежут много страниц». Основные цензурные перипетии развернутся уже в следующем году, и выход книги задержится до начала июня.
В Париже в начале XX века жила довольно большая русская колония: политические эмигранты, художники, писатели, публицисты, ученые, студенты. Одни обосновывались на долгий срок, другие — на время. Слава поэта уже дошла до Парижа. Бальмонта приглашали на концерты с чтением стихов. Предложили читать лекции на выбранные им темы в Русском университете, или Вольной школе социальных наук, основанной в ноябре 1901 года. Бальмонт остановился на темах, близких ему: «Чувство личности в поэзии» и о Шелли. Первую лекцию, судя по письму Брюсову, он прочел 7 ноября, вторую — 4 января 1903 года.
Первая лекция была посвящена драматической поэзии Англии и Испании XVI–XVII веков. В качестве материала Бальмонт избрал драмы писателей елизаветинских времен — Шекспира, Марло, Флетчера, Форда и произведения золотого века испанской литературы — Сервантеса, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерона и др. Их содержание рассматривалось по отношению к любви, в ней чувство личности, по Бальмонту, проявляется наиболее ярко и сильно. Отстаивание чувства личности героями эпохи Возрождения, «знавшими высокое и низкое», должно стать примером современникам других времен. В таком, показательном для взглядов поэта, ключе осмысливалась тема лекции. В форме статьи лекция была опубликована в альманахе «Северные цветы» 1903 года. Главный ее тезис выражал и суть книги символов «Будем как Солнце». «Есть только один вопрос, — утверждал Бальмонт, — имеющий безусловное значение для человека: должен ли он видеть в себе средство или цель, должен ли он видеть в себе орудие чьей-то воли или, отрешившись от подчиненности, желать свободы во что бы то ни стало, считать каждый миг своим и единственным, быть как цветок, который расцветает, отцветает и не возобновится. Быть рабом или быть властелином. Быть невольником или повелителем той зеленой звезды, на которой мы живем и которая зовется Землей».
Лекция «Чувство личности в поэзии» связана в жизни Бальмонта с происшествием, которое закончилось его двухдневным заключением в парижской тюрьме предварительного заключения Консьержери.
Ах, черт французов побери: Я побывал в Консьержери —так в стихах, начинающихся шутливо, описал Бальмонт это совсем нешуточное происшествие. В результате недоразумения поэта, возвращающегося с лекции в возбужденном состоянии, обвинили в неуважении к полиции, заключили под стражу, а на суде приговорили к солидному штрафу.
Одно из выступлений Бальмонта в университете завершилось знакомством с более серьезными последствиями. К нему подошла 22-летняя девушка, большая поклонница его поэзии. Как оказалось, многие стихи поэта она знала наизусть, переписывала в альбом, собирала его книги. Звали ее Елена Цветковская. Дочь генерал-лейтенанта артиллерии, служившего в Киеве, она училась на математическом факультете в Сорбонне.
Вот как описывает в мемуарах знакомство с ней Екатерина Алексеевна:
«После выступления Бальмонт пошел в кафе и, выпив, пришел, как всегда, в неистовое состояние. Елена была с ним в кафе, а оттуда сопровождала его в блужданиях по городу ночью. Когда все кафе закрылись и негде было сидеть, она повела Бальмонта к себе в комнату, так как Бальмонт никогда не возвращался домой, когда был нетрезв. Елена ни минуты не колебалась произвести скандал в маленьком скромном пансионе, где она жила, приведя с собой ночью мужчину. Бальмонта она сразу поразила и очаровала своей необычностью. Он восторженно писал мне о встрече с ней. Я не придала ей значения, как не придавала значения его постоянным влюбленностям».
Всё обернулось не так, как думала жена Бальмонта. Их встреча оказалась роковой, прежде всего для Елены. Это была ее первая слепая страсть, а потом — обожание, почитание, обожествление Поэта, что ему льстило. В отличие от Екатерины Алексеевны она готова была следовать за Бальмонтом куда угодно, выполнять любые его капризы и прихоти. Сначала отнесшийся к встрече с Еленой как к очередному случайному роману, он всё более понимал, что становится пленником этой красивой девушки с голубыми глазами. В состоянии душевного смятения и противоречивых чувств покидает Бальмонт Париж в первых числах января 1903 года.
Благодаря хлопотам Екатерины Алексеевны в Департаменте полиции еще в ноябре Бальмонтом было получено разрешение вернуться в Россию. Таким образом, срок окончания высылки — май 1903 года — отменялся. 6 января Бальмонт приехал в Москву.
Произведения и переводы Бальмонта не раз подвергались цензурным изъятиям и запретам по разным причинам. Вообще символисты и декаденты как возмутители спокойствия были у властей на подозрении. Книгу «Будем как Солнце» отпечатали без предварительной цензуры еще в конце 1902 года. Но выход ее московский цензор Соколов задержал, главным образом из-за эротических мотивов. Указав на некоторые стихотворения, он отметил, что стихи «отличаются тщательной отделкой и несомненно рассчитаны не на чувство, а на чувственность читателя», а в отдельных текстах нашел элементы «кощунства». Бальмонту пришлось заменять их новыми стихотворениями. После этого, в конце мая 1903 года, книга получила необходимую визу «в свет». Редактору журнала «Ежемесячные сочинения» Иерониму Ясинскому Бальмонт писал 1 июля: «Получили ли Вы мою книгу „Будем как Солнце“, прошедшую сквозь строй московских и питерских цензоров и потерявшую при этом 10 стихотворений, в том числе напечатанного у Вас „Святого Георгия“? Хотели вырезать и „Художника-Дьявола“, но спасло указание на то, что он был напечатан в „Ежемесячных сочинениях“». Из-за цензурного вмешательства в книге осталось 198 стихотворений вместо 205, некоторые стихотворения подверглись авторской правке.
Книга «Будем как Солнце», по замыслу поэта, должна была прозвучать как призыв к жизни, что подчеркивалось и ее названием, и оформлением обложки: на ней был изображен обнаженный атлет с воздетыми к небу руками, вбирающий в себя энергию солнца и соки земли, раскрепощенный и свободный. По мнению Блока, высказанному им в рецензии (Новый путь. 1904. № 1), Бальмонт сумел в ней «обратить мир в песню» и «полюбить явления, помимо их идей».
Книга открывалась довольно необычным посвящением: «Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа: брату моих мечтаний, поэту и волхву Валерию Брюсову, — нежному, как мимоза, С. А. Полякову, — угрюмому, как скала, Ю. Балтрушайтису, — творцу сладкозвучных песнопений Георгу Бахману, — художнику, создавшему поэму из своей личности М. А. Дурнову, — художнице вакхических видений, русской Сафо, М. А. Лохвицкой, знающей толк в колдовстве, — рассветной мечте Дагни Кристенсен, валькирии, в чьих жилах кровь короля Гаральда Прекрасноволосого, — и песенному цветку Люси Савицкой, с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей». В этом общем посвящении названы те, к кому в сборнике обращены стихи (с конкретным посвящением и без него), чьи дружба и близость скрашивали жизнь поэта в последние годы. Кроме того, в разделе «Млечный путь» много стихотворений с посвящением женщинам, имена которых в большинстве случаев трудно расшифровать.
Особо стоит цикл из пяти стихотворений, озаглавленный «Д. С. Мережковскому» (вошел в раздел «Сознание»). Фигура Мережковского — знаковая для символизма и небезразличная для Бальмонта. В стихах он обрисован противоречиво. С одной стороны, поэт называет его «братом», говорит о любви к нему, с другой — о том, что от его любви в душе — «мертво». По мнению Бальмонта, Мережковский своей проповедью обновления христианства совершает безумный шаг, превращается в «ловца человеческих темных сердец». Впоследствии заглавие цикла «Д. С. Мережковскому» Бальмонт снимет и назовет «Одинокому».
На рубеже XIX–XX веков Мережковский почти перестал писать стихи, ушел в богоискательство, увлекся идеей создания «Церкви Третьего Завета», стал инициатором организации в Петербурге Религиозно-философских собраний с целью внесения «поправок» в русское православие. В собраниях принимали участие П. П. Перцов, В. В. Розанов, Д. В. Философов, Н. М. Минский, а также духовенство и столичная интеллигенция, интересующаяся вопросами религии. Собрания были разрешены самим обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым. Религиозные искания определили и концепцию задуманного Мережковским журнала «Новый путь» (редактор П. П. Перцов). К его организации был привлечен Брюсов в должности секретаря и представителя журнала в Москве. В связи с этим в переписке Бальмонта с Брюсовым за 1902 год Мережковский и «Новый путь» занимают значительное место. Бальмонту претит фигура Победоносцева, как и то, что поэзию Мережковский подчиняет религиозной цели. И хотя Мережковский по-прежнему ему нравится как «художественный идеалист», автор книги «Вечные странники», но по взглядам становится чуждым. Первый номер журнала «Новый путь» вышел в конце 1902 года. Бальмонт в нем печатался, однако считал журнал «помойной ямой», а в стихотворении «Далеким близким» (1903) недвусмысленно высказался, насколько резко расходится с позицией Мережковского и «новопутийцев» (Перцова, Розанова, З. Гиппиус и др.):
Мне чужды ваши рассуждения: «Христос», «Антихрист», «Дьявол», «Бог». Я — нежный иней охлаждения, Я — ветерка чуть слышный вздох. ………………………………… Вы так жестоки — помышлением, Вы так свирепы — на словах, Я должен быть стихийным гением, Я весь в себе — восторг и страх. Вы разделяете, сливаете, Не доходя до бытия. Но никогда вы не узнаете, Как безраздельно целен я.Бальмонт отстаивал художественную независимость поэта от каких-либо догм и доктрин, в том числе религиозных, и славил стихийный дар поэта, его свободу. Расхождение это хорошо подметили еще художники «Мира искусства», не принимавшие неохристианского проповедничества Мережковских и противопоставлявшие им Бальмонта как искреннего и восторженного «жреца искусства». Да, бывшие «близкими» для Бальмонта Мережковские теперь стали «далекими», что отразится на их дальнейших взаимоотношениях.
Впрочем, следует заметить, что декларируемая Бальмонтом собственная «цельность» сомнительна. Утверждая идею космизма, «четверогласия стихий» и жизнетворчество, он вместе с тем не избежал противоречий и раздвоенности, антиномичности, свойственной его художественному сознанию. Это нашло свое выражение и в книге «Будем как Солнце».
Глубокий душевный перелом, отразившийся в «Горящих зданиях», приводит Бальмонта к выстраданному убеждению, что «бунтом жить нельзя». Он страстно ищет всеединого начала, которое соединило бы христианскую жертвенность, языческий пантеизм и «молчаливую» мудрость Брамы. Утверждая приоритет личностного в творчестве, поэт в то же время стремится соотнести собственное «я» с универсальным космическим целым, равновеликим этому «я». Подобную модель художественного мира современные исследователи (к примеру, О. В. Сливицкая в работе «Космос и душа человека») называют антропокосмической. Четко определить, чем отличался бальмонтовский космизм от созвучных художественных исканий начала XX века, трудно. Сложившееся в литературоведении противопоставление индивидуализма «старших» символистов соборным устремлениям «младших» нуждается в серьезном уточнении, когда речь идет о тенденциях развития символизма 1900-х годов.
Сам поэт, подчеркивая свою «чуждость» рассуждениям о Христе и Антихристе, дал основание некоторым исследователям утверждать, будто он был чуть ли не единственным из символистов, кто прошел мимо религиозно-философских исканий. Нередко Бальмонта как носителя «аполлоновского» начала, то есть культа гармонии и красоты, противопоставляют трагическому дионисийству теургов (наиболее последовательно представленному в теоретических работах Вячеслава Иванова). Думается, что не следует абсолютизировать «мажорный» характер бальмонтовского космизма, в котором еще до младших символистов проявилось и дионисийское начало — в оргиастических стихах об Эросе, вошедших в книги «Будем как Солнце» и «Только Любовь».
Примечательно, что Андрей Белый в статье о Бальмонте уже в «Горящих зданиях» разглядел «решительный перегиб от буддийской окаменелости… к золотисто-закатному винному пожару дионисийства». Вячеслав Иванов в статье «О лиризме Бальмонта», характеризуя книгу «Будем как Солнце», не случайно сравнил лирического героя поэта с распятым на «солнечном колесе» Иксионом. «„Будем как Солнце“, кричит он нам с высоты своего вращающегося пламенного креста, каждый оборот которого — мука. Эту муку Иксиона знал и Ницше», — отмечает далее теоретик символизма. В статьях и письмах Бальмонта не упоминается Ницше как автор «Рождения трагедии из духа музыки» и «Веселой науки», но эти работы он, несомненно, знал. Попытке Вяч. Иванова соединить «эллинскую религию страдающего бога» с христианством и ницшеанством Бальмонт не сочувствовал. Однако О. Дешарт во вступительной статье к брюссельскому изданию собрания сочинений Вяч. Иванова вспоминала, что, по словам теоретика символизма, его с Бальмонтом «единило, вопреки всему, острое у обоих, непосредственное переживание „разлуки вселенной“ и „вселенского сочувствия“».
«Единил» Бальмонта с младосимволистами и пафос жизнетворчества, ярко выраженный в его книге «Будем как Солнце», которую Александр Блок в статье «О современной критике» (1907) назвал «одним из величайших творений русского символизма». Вряд ли можно характеризовать как чисто индивидуалистический и сам этот пафос, и принцип цельности, представленный в книге. Ведь уже в программном втором стихотворении поэт говорил от лица «мы», призывая каждого следовать солнечному «завету бытия»:
Будем как Солнце! Забудем о том, Кто нас ведет по пути золотому, Будем лишь помнить, что вечно к иному, К новому, к сильному, к доброму, к злому, Ярко стремимся мы в сне золотом. Будем молиться всегда неземному В нашем хотенье земном! ……………………………… Будем как Солнце, оно — молодое. В этом завет красоты! («Будем как Солнце! Забудем о том…»)Главный символ бальмонтовской книги — Солнце как душа мира — по сути мифологичен, «это первичный создатель, хранитель и разрушитель всего», как подчеркивал Эллис. Вряд ли имеет смысл искать происхождение данного символа в мифологии отдельных народов. «В какую страну ни приедешь, — в слове мудрых, в народной песне, в загадках легенды — услышишь хвалы Солнцу», — писал позднее Бальмонт в статье «Солнечная сила».
Композиция книги «Будем как Солнце» была довольно четко продумана Бальмонтом. В ее основу заложено «магическое» число семь — книга имеет семь разделов, — воплощающее для символистов идею вселенной. Показательно, что это же число позднее будет заявлено в сборнике Александра Блока «Нечаянная Радость» (1907). «В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги», — напишет Блок во вступительном слове к ней.
Символический смысл придавал Бальмонт и числу четыре, которое, по его мнению, олицетворяло «творческое четверогласие мировых стихий» — огня, воды, воздуха и земли, а также «четыре ступени познания».
Первый раздел «Будем как Солнце» так и озаглавлен — «Четверогласие стихий». Своеобразным символом вселенской гармонии становится образ «воздушного храма» в одноименном стихотворении:
Этот храм, из воздушности светом сплетенный, В нем кадильницы молча горят…Лирический герой поэта вхож в этот «храм», он ощущает «радостное и тайное соприкосновение» с природными стихиями, живет в согласии с «мировым».
Любимая бальмонтовская стихия — огонь. В цикле «Гимн огню» огонь представлен как символ вечного обновления, самосожжения и творческого преображения:
Я помню. Огонь, Как сжигал ты меня Меж колдуний и ведьм, трепетавших от ласки Огня. Нас терзали за то, что мы видели тайное, Сожигали за радость полночного шабаша, — Но увидевшим то, что мы видели, Был не страшен Огонь. Я помню еще, О, я помню другое: горящие здания, Где сжигали себя добровольно, средь тьмы, Меж неверных, невидящих, верные — мы. И при звуках молитв, с исступленными воплями Мы слагали хваленья Даятелю сил. Я помню, Огонь, я тебя полюбил!Балладной романтической традицией (возможно, «Морской царевной» и «Русалкой» Лермонтова) навеяно одно из лучших стихотворений раздела — «С морского дна», объединившее и водную, и лунную, и солнечную символику. «Прекрасная дева морской глубины» из царства «бледных дев» — где «нет дрожания страстей, / Ни стона прошлых лет», где «нет цветов и нет людей, / Воспоминаний нет. <…>/ У всех прозрачный взор красив, / Поют они меж трав, / Души страданьем не купив, / Души не потеряв…» — устремляется под влиянием «новолунья» из этой «бесстрастной глубины» к Солнцу, в мир чувств и красоты:
…И утро на небо вступило. Ей было так странно-тепло. И Солнце ее ослепило, И Солнце ей очи сожгло.Симптоматичен для Бальмонта по смысловой символике финал баллады:
Весной, в новолунье, в прозрачный тот час, Что двойственно вечен и нов… …………………………………………… Я вздрогнул от взора двух призрачных глаз В одном из больших городов. Глаза отражали застывшие сны Под тенью безжизненных век… …………………………………………… В том сумрачном доме большой вышины Балладу о море я пел, О деве, которую мучили сны, Что есть неподводный предел, Что, может быть, в мире две правды даны — Для душ и для жаждущих тел. И с болью я медлил и ждал у окна И явственно слышал в окно Два слова, что молвила дева со дна, Мне вам передать их дано: «Я видела Солнце, — сказала она, — Что после, — не все ли равно!»Стихию земли в книге символизируют два полярных образа: «камень» и «цветок». «Самоцветные камни земли самобытной» воспеты Бальмонтом в его «испанских» стихотворениях — «Испанский цветок» и «Толедо». Причем Толедо, «город-крепость на горе», «город-храм», — это символ запечатленной в камне истории человечества:
Ты, сказав свое, затих Навсегда, — Но поют в тебе отшедшие года, Ты — иссеченный на камне мощный стих.Цветок — определенная этическая и эстетическая норма для лирического героя поэта. Не случайно раздел «Четверогласие стихий» завершает одноименное стихотворение, символизирующее единение человека с миром природы:
Я цветок, и счастье аромата Мне самой судьбою отдано. От восхода Солнца до заката Мне дышать, любить и жить дано. (Цветок)Все четыре стихии поэтически воспринимались Бальмонтом, как он утверждал в «Поэзии стихий», именно в их «соучастии… <…> в их вечном состязанье, в празднестве их взаимной слитности и переплетенности».
Е. А. Андреева-Бальмонт вспоминала: в комнате у мужа «всегда стояли живые цветы, подношения дам, самые разнообразные. Иногда большой букет, иногда один цветок. Бальмонт любил приводить изречение японцев: „Мало цветов — много вкуса“. И любил носить на платье цветы. Не потому, что следовал моде, в подражание Оскару Уайльду или кому другому. Он прикалывал себе цветок в петлицу не только когда выходил куда-нибудь на парадный обед, собрание, свое выступление, но когда был и дома один, в деревне, где его никто не видел».
Второй раздел книги — «Змеиный глаз» — посвящен теме творчества. Символика «змеиного» чрезвычайно характерна для поэзии русского символизма: в разное время к ней обращались З. Гиппиус (стихотворение «Она»), Ф. Сологуб (цикл «Змеиные очи»), А. Блок (циклы «Снежная маска», «Фаина»). В этой символике соединились греческое («видение», «зрение», «познание»), христианское («злое», «демоническое»), фольклорно-мифологическое («огонь», «женское», «изменчивое») начала. В книге «Будем как Солнце» символика «змеиного» по-своему вписывается в русскую романтическую традицию. Уже первое стихотворение раздела «Праздник свободы» вызывает отдаленные ассоциации с пушкинским «Пророком» («Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, — / И шестикрылый серафим / На перепутье мне явился, / <…> И вырвал грешный мой язык, / И празднословный и лукавый, / И жало мудрыя змеи / В уста замершие мои / Вложил десницею кровавой. <…>»). Правда, пробуждение бальмонтовского лирического героя от «змеиного сна» — еще не осознание способности «глаголом жечь сердца людей», но уже обещает новое, особое предназначение:
О, как я нов и молод В своем стремленьи жадном, Как пламенно и страстно Живу, дышу, горю!Своеобразным манифестом нового ви́дения мира явилось стихотворение «Я — изысканность русской медлительной речи…», прекрасно проанализированное Иннокентием Анненским в статье «Бальмонт-лирик». «Для всех и ничей», слагатель «изысканного стиха» — в этом видит Бальмонт свою миссию в русской литературе. Истоки же «магии» поэтического слова находятся вне его, они таятся в жизнетворческой силе природы:
Я — внезапный излом, Я — играющий гром, Я — прозрачный ручей, Я — для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорванно-слитный, Самоцветные камни земли самобытной, Переклички лесные зеленого мая — Все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, Сильный тем, что влюблен И в себя и в других, Я — изысканный стих.Состояние «праздника свободы», когда «крылатая душа видит себя в мире расширенном и углубленном», — «бывает у каждого, как бы в подтверждение великого принципа конечной равноправности всех душ», утверждал Бальмонт в статье «Гений открытия». Однако существуют «избранники судьбы», сосредоточившие в себе «тайну понимания мировой жизни». Это «гении открытий», способные выявить в обыденном мире гармонию и красоту и воплотить в художественном произведении. Они обычно не вписываются в общепринятые, «людские», нормы: «Я полюбил свое беспутство, / Мне сладко падать с высоты. / В глухих провалах безрассудства / Живут безумные цветы». Им одинаково знакомы и «глухие провалы падений», и высшие взлеты:
Что достойно, что бесчестно, Что умам людским известно, Что идет из рода в род, Всё, чему в цепях не тесно, Смертью тусклою умрет. Мне людское незнакомо, Мне понятней голос грома, Мне понятней звуки волн, Одинокий темный челн И далекий парус белый… ………………………… Мне понятен гордый, смелый, Безотчетный крик: «Вперед!» («Что достойно, что бесчестно…»)Мотив избранничества нередко трактуется в литературоведении в духе ницшеанского индивидуализма. Однако вряд ли строки «Я проклял вас, люди. Живите впотьмах…» (из стихотворения «В домах», посвященного М. Горькому) можно считать свидетельством бальмонтовского «человеконенавистничества». В этом стихотворении передается пафос горьковских антимещанских произведений — «В мучительно-тесных громадах домов / Живут некрасивые бледные люди, / Окованы памятью выцветших слов, / Забывши о творческом чуде», — где презрение к «некрасивым бледным людям» сочетается с жалостью к ним:
Кто близок был к смерти и видел ее, Тот знает, что жизнь глубока и прекрасна. О люди, я вслушался в сердце свое, И знаю, что ваше — несчастно! Да, если бы только могли вы понять… Но вот предо мною захлопнулись двери, И в клеточках гномы застыли опять, Лепечут: «Мы люди, не звери». Я проклял вас, люди. Живите впотьмах. Тоскуйте в размеренной чинной боязни. Бледнейте в мучительных ваших домах. Вы к казни идете от казни!Лирический герой поэта тоже знает муки душевного страдания, переживает «пытки» (стихотворение «В застенке»), он прошел «сквозь строй» непонимания и жестоких наказаний.
Важнейшее звено творческого акта, по Бальмонту, — воля, верность своему предназначению, о чем он говорит в стихотворении «Воля» с посвящением Валерию Брюсову:
Неужели же я буду колебаться на пути, Если сердце мне велело в неизвестное идти? Нет, не буду, нет, не буду я обманывать звезду, Чей огонь мне ярко светит, и к которой я иду.Символом бесстрашия поэта перед лицом превратностей судьбы становится у Бальмонта традиционный для русской поэзии образ «кинжала»:
Ты видал кинжалы древнего Толедо? Лучших не увидишь, где бы ни искал. На клинке узорном надпись: «Sin miedo»[9]: Будь всегда бесстрашным, — властен их закал. (Sin miedo)В «Змеином глазе» Бальмонт затрагивает сокровенные вопросы «тайн ремесла». Поэзия, по его убеждению, разделяемому всеми поэтами-символистами, родственна музыке:
В красоте музыкальности, Как в недвижной зеркальности, Я нашел очертания слов, До меня не рассказанных… (Аккорды)Впоследствии Бальмонт развернет намеченные здесь мотивы в программной статье «Поэзия как волшебство».
Стихия Эроса, разные облики и оттенки любовных чувств раскрываются в разделах «Млечный Путь» и «Зачарованный грот». Именно в любовной лирике поэт интуитивно предвосхищает размышления Вяч. Иванова о дионисийском «расторжении граней» личности. «Эрос, неодолимый в бою» для Бальмонта — наиболее полное выражение космической, «солнечно-лунной» природы человеческой души. Раздел «Млечный Путь» — о любви одухотворенной — не отличается оригинальностью при всей многозначительности и легком налете мистики (в фольклоре Млечный Путь означает путь сошествия богов на землю или дорогу душ на небо). «Влюбленная истома» переживается лирическим героем «без блаженных исступлений», покрыта «тонкой сетью лжи». При раскрытии «колдовской» женской души варьируется символика «морской волны», «луны», «яркого луча», «певучего ключа», «роскошного цветка», «тонкого стебелька» и т. д.
Более интересен раздел «Зачарованный грот», где любовь явлена в своей чувственной, первозданной сути, что манифестировано в ставшем знаменитым стихотворении «Хочу»:
Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Из сочных гроздей венки свивать. Хочу упиться роскошным телом, Хочу одежды с тебя сорвать! Хочу я зноя атласной груди. Мы два желанья в одно сольем. Уйдите, боги! Уйдите, люди! Мне сладко с нею побыть вдвоем!Стихия исступленной страсти поэтически осознается Бальмонтом как оргиастическое начало, заложенное в единой природе человеческого и космического бытия:
Отпадения в мир сладострастия Нам самою судьбой суждены. Нам неведомо высшее счастие. И любить, и желать — мы должны. И не любит ли жизнь настоящее? И не светят ли звезды за мглой? И не хочет ли солнце горящее Сочетаться любовью с землей? (Отпадения)Эллис так представлял бальмонтовскую книгу «Будем как Солнце»: «…две стороны, два основных момента одной великой светотени, небывалого полета к солнцу, самых ярких движений воли к небу, а затем самого глубокого, испепелившего душу нисхождения в Ад». Путь «нисхождения в Ад» раскрывается в разделе «Danses macabres» («Пляски смерти»). Мироздание здесь повернуто своей «теневой» стороной. Символика «четверогласия стихий» сменяется символикой «бездн», «рокового круга», «темных склепов». «Детей Солнца» теперь манит не огненный диск мирового светила, а «игра кладбищенских огней». Возникают сниженные бесовские образы, как, например, «ведьма старая»:
Я встретил ведьму старую в задумчивом лесу. Спросил ее: «Ты знаешь ли, какой я грех несу?» Смеется ведьма старая, смеется, что есть сил: «Тебя ль не знать? Не первый ты, что молодость убил». ……………………………………………… Я вижу, ведьма старая все знает про меня, Смеется смехом дьявола, мечту мою кляня… (Ведьма)Могильный запах тления да хохот дьявола — всё, что остается от дионисийских исступлений страсти. Мечта о женском идеале оборачивается кошмаром:
В конце пути зажегся мрачный свет, И я, искатель вечный Антигоны, Увидел рядом голову — Горгоны. (Избирательное сродство)В стихотворении «Поэты», посвященном Ю. Балтрушайтису, «путь золотой» стал восприниматься как бесцельное вечное «кружение»:
Упившись музыкой железною, Мы мчимся в пляске круговой Над раскрывающейся бездною.Попытка познания жизни в единстве, при всех противоречиях «дня» и «ночи», добра и зла, красоты и безобразия, расщепленности современной души, представлена в разделе «Сознание». По выстраданному убеждению Бальмонта, мир, сотканный из противоположностей, должен быть «оправдан весь», ибо он внутренне целен. В «различности сочетаний» — залог «открытости» для непрестанного творчества свободной личности:
Что в мире я ценю — различность сочетаний: Люблю Звезду Морей, люблю Змеиный Грех. И в дикой музыке отчаянных рыданий Я слышу дьявольский неумолимый смех. («Жемчужные тона картин венецианских…»)В великих произведениях мирового искусства поэт сталкивается с теми же полярностями: «райские» лики (стихотворения «Пред итальянскими примитивами», «Фра Анжелико») сменяются демоническими («Рибейра», «Веласкес»). По мнению Бальмонта, красота абсолютна, она вмешает не только красоту гармонии и добра, но и красоту ужаса и зла. «Гармония сфер и поэзия ужаса — это только два полюса красоты», — писал он в статье «Поэзия ужаса» (о Ф. Гойе).
«Поэзией ужаса» — лирической поэмой «Художник-Дьявол» — Бальмонт завершает свою «солнечную» книгу. Он работал над этой поэмой в течение трех лет. В письме от 11 июня 1900 года поэт сообщал Г. Бахману: «Я <…> пишу новую поэму в терцинах <…>. Там слишком много движений души. Но ведь ты, Георг, не любишь философскую поэзию. Боюсь, что не только не будешь переводить мою книгу, проклянешь ее. Пусть. Это будет лучшая русская поэма 19 века». В 1901 году отдельные ее части печатались в журнале «Ежемесячные сочинения», позднее, в измененном составе, — в альманахе «Северные цветы» (1902). Первая часть, «Безумный часовщик», была написана последней.
Опасения Бальмонта относительно «проклятий» своему необычному произведению, состоящему в окончательном виде из пятнадцати глав, сбылись. Поэму «Художник-Дьявол» дружно осудили Горький и Бунин. Не принял ее и Брюсов, заметивший в статье «К. Д. Бальмонт» на выход книги «Будем как Солнце», что поэма, «кроме нескольких красиво формулированных мыслей да немногих истинно лирических отрывков, вся состоит из риторических общих мест, из того крика, которым певцы стараются заменить недостаток голоса». Трагический пафос «Художника-Дьявола» почувствовал, пожалуй, только Эллис, отметивший, что «это самый сильный отдел всей книги», и вспомнивший Данте, который терцинами «начертал свою огненную надпись на вратах Ада»[10].
В начале этой странной поэмы модель мироздания, в которой «я» и «космос» равновелики, не просто повернута своей «теневой» стороной (как в «Danses macabres»), но разрушена до основания. Любопытно, что поэт предпринял здесь «попытку эпоса» (В. Брюсов), стремясь отстраниться от своих героев. Демиург, Создатель мира выступает в первой главе «Безумным часовщиком», превращающим космос в хаос:
Слова он разделил на нет и да, Он бросил чувства в область раздвоенья, И дня и ночи встала череда…Во второй главе «художник» возносит свое «я» над природными и человеческими законами, провозглашая культ самоценной красоты:
Не для меня законы, раз я гений… Я знаю только прихоти мечты, Я все предам для счастья созиданья Роскошных измышлений красоты. (Художник)Сознание бальмонтовского лирического героя расщеплено на несколько «я». Перед ним «виденье мира тонет в море дыма» (глава «Дымы»), ему снятся кошмарные сны («Сны»), в которых появляется «бледный лик» дьявола («Наваждение»). «Жестокие химеры» на парижском соборе Notre Dame оттеняют «явное пороков превосходство» («Химеры»), колдовской шабаш сулит «блаженство соучастия греха» («Шабаш»), его истерзанному сердцу «всех желанней» картина «Пробуждение Вампира». Творчество осознается то как «сказочный узор», то как «паутина», сплетенная «злорадством паука», то как «кукольный театр», в котором «все — марионетки» («Кукольный театр»).
Одно из его «я» — «узник», заключенный в «тюрьму» вместе с другими за то, что они, «бросив Рай с безгрешным садом, / Змеиные не возлюбили сны» («Осужденные»), «Осужденный» герой мучительно ощущает недостаточность чисто эстетической позиции «художника», он воспринимает хаос как «новое утро мироздания», мечтает воссоздать разрушенный космос. Однако эта мечта оборачивается новым искушением Дьявола, и он обречен вечно
Искать светил, и видеть только ложь, Носить в душе роскошный мир созвучий, И знать, что в жизни к ним не подойдешь.В заключительной главе «Освобождение» намечается трагический катарсис, освобождение духа — лирический герой ценою «боли», «пыток» обретает новую гармонию с космосом:
Я радуюсь иному бытию, Гармонию планет воспринимаю, — И сам — в дворце души своей — пою. Исходный луч в сплетеньи мировом, ………………………………………… Мой разум слит с безбрежностью блаженства,Поющего о мертвом и живом.
Правда, экзистенциальный смысл «освобождения» бальмонтовского героя от «Дьявола» остается неясным, финал поэмы «размыт» его мистической окраской. Можно предположить, что «исходный луч в сплетеньи мировом» заключал в себе теософские идеи Е. П. Блаватской, с сочинениями которой Бальмонт познакомился еще в период работы над «Тишиной». Так, в «Религии мудрости» она писала: «<…> Дух Бога ничего не желал и ничего не творил. Но то, что бесконечно, озаряя все, исходит от Великого Центра; то, что создает все видимое и невидимое — это Луч, несущий в себе творящие и зарождающие силы; луч, который в свою очередь создал то, что греки называли Макрокосмос».
Книге «Будем как Солнце» суждено было стать самой «звездной» в творчестве поэта. Бальмонт стремился утвердить в ней «солнечную» роль поэзии, когда слово не просто отражает «лунный» отблеск явлений, а несет жизнетворческую энергию, способную творить новую действительность. Он по-своему переосмысливает идеи Ницше о сверхчеловеке, о «дионисийской» и «аполлонической» тенденциях искусства, драматически заостренно поднимает темы мессианства личности поэта, «тайн» его ремесла… Коротко говоря, книга Бальмонта оказалась в русле формировавшейся тогда в России новой «философии жизни».
Глава четвертая МЕЖДУ «ИЗЫСКАННЫМ» И «ПОБЕДНЫМ» СЛОВОМ
После возвращения Бальмонта из Франции на родину 6 января 1903 года местом его жительства на три года стала Москва. Это не значит, что он отказался от поездок и путешествий, однако жил в это время более-менее оседло.
Именно в этом 1903 году символизм заявил о себе как сильное, хорошо организованное литературное направление. К издательству «Скорпион» в Москве добавилось издательство «Гриф», выпускавшее кроме книг и ежегодные альманахи под этим же названием. Основал издательство юрист Сергей Алексеевич Соколов, более известный по псевдониму Сергей Кречетов и прозвищу Гриф. По его словам, к символизму он пришел самостоятельно. Кречетов писал стихи, выступал с критическими статьями и рецензиями, в 1906–1907 годах издавал и редактировал журнал «Перевал». Брюсов относился к «Грифу» как к конкуренту и нередко запрещал «скорпионам» печататься в этом издательстве, но в борьбе за утверждение нового искусства «скорпионы» и «грифы» выступали сообща. Бальмонт поддерживал и тех и других.
В Петербурге «ударной силой» символизма были Мережковский, Зинаида Гиппиус и журнал «Новый путь» (1903–1904). И хотя в «Мире искусства» и «Новом пути» возникали свои противоречия, оба журнала также утверждали идеи нового искусства.
На базе «Скорпиона» Брюсов решил создать новый журнал, и в январе 1904 года появился первый номер «Весов» (1904–1909), который сыграл решающую роль в символистском движении. Бальмонт стал ближайшим сотрудником этого журнала, занимая в нем особую позицию.
Успех книг Бальмонта «Будем как Солнце» и Брюсова «Urbi et Orbi» («Граду и миру») был воспринят как успех символизма в целом. Здесь достаточно сослаться на мнение Блока: в рецензиях на книги он назвал автора «Будем как Солнце» «поэтом прежде всего», а его книгу — «требовательной, властной» и означающей «величайший подъем» творчества; в «Urbi et Orbi» нашел «ряд небывалых открытий, озарений почти гениальных».
В 1900-е годы активно заявили о себе «младшие» символисты, или младосимволисты — Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Соловьев, Эллис и др. В Москве вокруг Андрея Белого сложился кружок «аргонавтов» (название которого, как он вспоминал в «Начале века», было приурочено «к древнему мифу, повествующему о путешествии на корабле „Арго“ группы героев в мифическую страну… за золотым руном…»). Благодаря Брюсову в 1902 году А. Белый дебютировал в «Скорпионе» автобиографическим произведением о московской повседневности «Симфония 2-я (драматическая)», он печатал статьи и рецензии в «Мире искусства», «Новом пути», а стихи в альманахе «Гриф». Стихотворения А. Блока появились в «Новом пути» и альманахе «Северные цветы» (цикл «Стихи о Прекрасной Даме»). «Младшие» символисты считали себя преемниками по отношению к «старшим», правда, не без противоречий, что скоро обнаружилось.
В 1903 году в Петербурге вышла первая стихотворная книга Вячеслава Иванова «Кормчие звезды». По возрасту он принадлежал к «старшим» (на год старше Бальмонта), но, поначалу зарекомендовав себя как ученый, знаток Античности, в литературу пришел поздно. Примкнув к символизму, он сыграл в нем весьма заметную роль, главным образом как теоретик; на «младших» символистов он оказал большое влияние идеями теургии и религиозно-мифологического символизма.
Ко всему сказанному следует добавить, что к символизму в это время примкнуло множество молодых поэтов, которых нередко называли «брюсенятами» и «подбрюсовиками», появилось также немало подражателей Бальмонта — «бальмонтистов» и «бальмонтисток». Символизм стал достаточно распространенным явлением, у него возникло много поклонников, как, впрочем, и недоброжелателей.
Бальмонт не был в стороне от всех этих литературных процессов, хотя, в силу ряда обстоятельств, с «младшими» символистами близко не сошелся, к окружавшим Брюсова поэтам относился несколько ревниво, а некоторых считал профанирующими символизм. К примеру, Андрей Белый в письме Э. К. Метнеру от 23 июля 1903 года приводил такое высказывание Бальмонта: если они будут так быстро множиться, то Москва «превратится в декадентский городок менее чем в два года». Вместе с тем в 1903 году Бальмонт принял непосредственное участие в борьбе за новое искусство. 3 февраля в Литературно-художественном кружке он выступил с лекцией «Чувство личности в поэзии». «К. Д. Бальмонт, — пишет Андрей Белый в мемуарах „Начало века“, — стрелял пачками пышных испанских имен, начиная с Тирсо де Молина, доказывая: поза позою, а эрудиция <Бальмонта> не уступает Н. А. Стороженке (правильно Н. И. — П. К., Н. М.), А. Н. Веселовскому в прекраснейшем знании Шекспира, английских поэтов, особенно же Перси Шелли, испанцев». 14 марта там же Бальмонт прочел лекцию «Тип Дон Жуана в мировой литературе». Лекции он сопровождал чтением стихов.
Колоритно описал борьбу за символизм в своем дневнике Брюсов: «Борьба началась <…>. Сторонники были „Скорпионы“ и „Грифы“ <…>. Я и Бальмонт были впереди, как „маститые“ (так нас звали газеты), а за нами шла гурьба юношей, жаждущих славы, юных декадентов: Гофман, Рославлев, три Койранских, Шик, Соколов, Хесин <…> еще М. Волошин и Бугаев. Борьба шла в восьми актах: вечер нового искусства, два чтения Бальмонта в кружке о декадентах, чтение о Л. Андрееве, две лекции в Историческом музее, два чтения Бальмонта в Обществе любителей российской словесности и „Chat Noir“ (кабачок „Черный кот“. — П. К., Н. М.). <…> Что бы ни читалось в Художественном кружке, во время прений тотчас возникал спор о новом искусстве <…> на другой день и еще три дня газеты изливались в брани — самой неприличной. <…> Говорено было о новом искусстве и писано в газетах столько (газеты всё нагло извращали, что говорилось), как никогда в Москве».
Хотя Бальмонт лично участвовал в акциях борьбы за новое искусство, подчас принимавших скандальный характер, более значительную роль играл в этой борьбе его авторитет первого поэта символизма, укрепившийся после выхода книги «Будем как Солнце». Вместе с тем его отношения как со «второй волной» символизма, так и с Брюсовым не были однозначными. Бальмонт приветствовал первые шаги в литературе А. Блока, искренне восхитился несколькими его стихотворениями («Погружался я в море клевера…», «Мой месяц в царственном зените»), однако совершенно не принял мистического пафоса книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме», вышедшей в октябре 1904 года (на титуле указан 1905 год). В письме В. Я. Брюсову в сентябре 1905 года Бальмонт называет ее автора «маленьким чиновником от просвещенной поэзии».
«Стихийному гению» импонировала книга Андрея Белого «Золото в лазури» (1904), стихотворения которой перекликались с его собственными стихами (одно из стихотворений книги — «Солнце» — было посвящено Бальмонту). Но, в отличие от Брюсова, Бальмонт мало соприкасался с этими поэтами и не очень внимательно следил за их творчеством. С Белым он познакомился в марте 1903 года, с Блоком — в январе 1904 года, когда тот приезжал из Петербурга в Москву.
Оба поэта неизменно подчеркивали роль Бальмонта в становлении и развитии символизма, особо ценили его творчество 1890-х — первой половины 1900-х годов, откликались на него в статьях и рецензиях. Белый в одном из писем Иванову-Разумнику от 1926 года признавался, что «дрожжами» его декадентской лирики конца 1890-х годов были Верлен и Метерлинк, а «тестом» — Бальмонт. Под «тестом» он подразумевал саму фактуру стиха, подражательность мотивам и образам Бальмонта. Блок уже в 1901 году, готовя «Набросок статьи о русской поэзии», включил в список «источников» книгу Бальмонта «Тишина». В дальнейшем он написал о поэте четыре статьи и шесть рецензий[11], даже в отрицательных из них не забывая отметить заслуги, особенно ценя его за талант и «певучесть» стиха.
О невероятном успехе Бальмонта свидетельствовал и поток пародий. Пожалуй, ни на одного из русских поэтов XX века не было сочинено их так много. Пародировать можно только своеобычное, оригинальное, талантливое. Для серости есть другой жанр — эпиграмма. А на Бальмонта сочиняли пародии как друзья, так и литературные противники.
Преемственность «второй волны» символизма по отношению к «первой» включала в себя и момент отталкивания, преодоления. В первую очередь это касалось декадентства, упадничества, что «младшие» символисты стремились преодолеть на путях «жизнестроительства», дополненного, в духе Владимира Соловьева, мистическими ожиданиями обновления жизни.
Жизнестроительного пафоса не был чужд и Бальмонт, что ярко отразилось в книге «Будем как Солнце». Но Бальмонт связывал обновление с сильным, свободным, «новым» человеком, несущим в себе «дары будущего». Это была по-своему, на русский лад, перетолкованная идея Ницше. Она соединялась с верностью идее Красоты, которая, по Достоевскому, спасет мир. Ницше в духовном мире «младших» символистов, как и у Бальмонта, занимал особое место, и в отношении к нему они нередко сближались. Это касается не только идеи «сверхчеловека», которая занимала и Блока, и Белого, и Эллиса, но и мыслей о преодолении рационализма, позитивного метода познания, предпочтения им интуиции, «новых ценностей», утверждаемых философом из Базеля.
По-своему отталкиваясь от декадентства и в этом совпадая со «второй волной» символистов, Бальмонт не был последователен и не порывал с чисто эстетической программой Брюсова. У них по-прежнему сохранялись отношения дружбы-соперничества. Бальмонт далеко не во всем был согласен с Брюсовым, вопреки ему, например, всячески поддерживал С. Кречетова и его издательство «Гриф». «Два врага в одном стане» — эту фразу Бальмонта о себе и Брюсове можно встретить в воспоминаниях С. Кречетова, относящихся в основном к 1903–1905 годам. В них Бальмонт представлен в «пленительном» образе «поэта-ребенка», капризного, обидчивого, нежного, кроткого и в то же время сложного, противоречивого, не укладывающегося «в привычные рамки нашего быта в житейском смысле». Как признак истинного, большого поэта Кречетов отмечает такое свойство Бальмонта: он живет «в постоянном духовном общении с отошедшими братьями-поэтами разных стран и эпох».
Это отчетливо проявилось в отклике Бальмонта на 25-летнюю годовщину со дня смерти Н. А. Некрасова. Получив от председателя Общества любителей российской словесности профессора Алексея Николаевича Веселовского (брата знаменитого академика-филолога Александра Николаевича Веселовского) предложение принять участие в чествовании памяти Некрасова, он писал ему 22 января 1903 года: «Я очень Некрасова люблю, с детских дней, и с удовольствием прочту о нем небольшую статью, минут на 15. Статья будет представлять как бы стихотворение в прозе — общий очерк творческой личности Некрасова. Главным образом я коснусь его как поэта Природы». Свое слово Бальмонт сдержал и статью прочел. Под названием «Сквозь строй. Памяти Некрасова» она была напечатана в журнале «Новый путь» (1903. № 3) и вошла в книгу «Горные вершины».
В названии статьи Бальмонт повторяет заглавие стихотворения «Сквозь строй», вошедшее из книги «Будем как Солнце»:
Вы меня прогоняли сквозь строй, Вы кричали: «Удвой и утрой, В десять раз, во сто раз горячей, Пусть узнает удар палачей». Вы меня прогоняли сквозь строй, Вы стояли зловещей горой, И, горячею кровью облит, Я еще и еще был избит.Эти же слова «сквозь строй» поэт применяет к себе, рассказывая в письме писателю, журналисту и издателю Иерониму Ясинскому о том, как он проходил с книгой «Будем как Солнце» через московскую и петербургскую цензуру. У читателя могут возникнуть ассоциации с рассказом Л. Толстого «После бала», где наказывают шпицрутенами солдата, прогоняемого сквозь строй. Бальмонт это выражение связывал с образом поэта, готового вынести всё ради своих убеждений.
В поэзии Некрасова, по мнению Бальмонта, «есть красота трагического», в ней ощутимы «музыка диссонансов и живопись уродства». Конечно, его восприятие Некрасова, как и других предшественников, субъективно, но важно отметить, что он один из первых среди символистов оценил некрасовскую линию в русской поэзии и считал себя преемником его музы.
Статья, посвященная памяти Некрасова, означала новый виток в духовном развитии Бальмонта: он более осознанно возвращался к социальным вопросам, которыми болел в юности. Не без влияния личного опыта, пережитого со стихотворением «Маленький Султан», последующей ссылки, встреч с Чеховым, Горьким, Л. Толстым, почти десятимесячной эмиграции, у Бальмонта резко возросли оппозиционные, демократические настроения. Он чувствовал необходимость выхода из декадентского эгоцентризма, приобщения к «живой жизни» во всем ее разнообразии.
Бальмонт еще до встречи с Горьким посвятил ему три стихотворения — «Ведьма», «Родник» и «Придорожные травы», напечатанные в журнале «Жизнь» (1900. № 6). В Горьком он ценил человека из народной среды. Для Бальмонта было важно, что в горьковском издательстве «Знание»[12] выпускался трехтомник Шелли в его переводе, рассчитанный на «многотысячную публику» (издание выходило тиражом более восьми тысяч экземпляров). Посылая издателю и редактору петербургского журнала демократического направления Виктору Сергеевичу Миролюбову стихи, он прибавлял в сопроводительном письме от 10 декабря 1902 года: «Мне очень хотелось бы часто печататься в „Журнале для всех“». В Бальмонте заговорил поэт-гражданин, хотя его продолжали считать чистым эстетом.
В творческом отношении 1903 год оказался одним из самых плодотворных для Бальмонта: он издал новую книгу стихов «Только Любовь. Семицветник», выпущенную в ноябре издательством «Гриф»; в издательстве «Знание» выпустил первый том Шелли, перевел «Балладу Редингской тюрьмы» Уайльда и написал о нем статью «Поэзия Оскара Уайльда» (Весы. 1904. № 1), которую в виде лекции прочитал 18 ноября на «вторнике» Литературно-художественного кружка.
В книгу «Только Любовь» вошли как ранее сочиненные стихи, так и написанные в этом году, главным образом летом. Он провел его с семьей в Эстонии, в дачном месте Меррекюль, близ Пернов, на берегу Балтийского моря. В Меррекюле отдыхал и Юргис Балтрушайтис, а также некоторые знакомые из петербургских литераторов, в том числе Федор Сологуб. Вблизи находилось имение Константина Случевского, и Бальмонт навестил старого поэта. О Меррекюле он сообщил Брюсову, что «здесь удивительно красиво», и пригласил приехать. У Бальмонта созрел план совершить вместе с Брюсовым длительное кругосветное путешествие, о чем он писал ему 8 июня 1903 года: «Я весь теперь в мечтах о следующем. К январю я печатаю Шелли, Эдгара По (Бальмонт в своем переводе с 1901 года начал издавать в „Скорпионе“ собрание сочинений Э. По в пяти томах; последний том выйдет в 1912 году. — П. К., Н. М.) и Кальдерона. Затем в течение многих месяцев читаю миллион книг об Индии, Китае и Японии. Осенью будущего года еду в кругосветное путешествие. Константинополь, Египет, вероятно, Персия, Индия, часть Китая, Япония. На обратном пути Америка. Путешествие — год. Если б Вы захотели поехать вместе со мной, это была бы сказка фей. Поедемте. Подумайте, что за счастье, если мы вместе увидим пустыню и берега Ганга, и священные города Индии, и Сфинкса, и Пирамиды, и лиловые закаты Токио, и все, и все». План этот, можно сказать, осуществился позднее, но по частям.
С Брюсовым Бальмонт продолжал творческий диалог. В коллективном посвящении к «Будем как Солнце» он назвал его «братом». Книга Брюсова «Urbi et Orbi» открывалась посвящением «К. Д. Бальмонту, другу и брату». При всех расхождениях и спорах оба поэта творчески оставались близкими и нуждались в общении друг с другом. И все же в книге «Только Любовь» — в стихотворениях «Различные», «Неверному» — Бальмонт не удержался от упреков в адрес брата-друга, отступившего от себя, прежнего, и допустившего двойственность по отношению к нему. Эта двойственность сказалась, например, в статье «Будем как Солнце!», написанной по поводу выхода бальмонтовской книги и опубликованной в «Мире искусства» (1903. № 7–8). В ней Брюсов писал о «силе и бессилии» Бальмонта и по существу утверждал, будто его поэзия достигла своего «предела»: «Можно сказать, что в этой книге <» Будем как Солнце «> творчество Бальмонта разлилось во всю ширь и видимо достигло своих вечных берегов. Оно попыталось кое-где даже переплеснуть через них, но неудачно, какой-то бессильной и мутной волной. <…> Но в этих пределах Бальмонт, — мы хотим этому верить, — будет достигать новой и новой глубины, к которой пока лишь стремится». При всей высокой оценке лирики Бальмонта (Брюсов поставил его в русской поэзии вслед за Тютчевым и Фетом) поэт увидел в статье непонимание своего творчества. Причину этого он выразил в стихотворении «Различные»:
В нас разно светит откровенье, И мы с тобой не властны слиться… Мы два различные явления, Моей душе с твоею больно.Книга «Только Любовь» вызвала неоднозначную оценку в символистской среде. Валерий Брюсов услышал в ней ноты «последней безрадостности, последнего отчаяния, которые захотел переложить в стихи автор книги, почти с иронией озаглавленной „Только Любовь“» (статья «Куст сирени»). Андрей Белый считал, что «Только Любовь» — «лучший бальмонтовский сборник» (письмо В. Брюсову от 22 октября 1903 года). В восприятии Александра Блока эта книга неразрывно слилась с предшествующей, «солнечной» (рецензия на книги «Будем как Солнце» и «Только Любовь»). Николай Гумилёв в рецензии на второе издание книги «Только Любовь» (1908) поставил ее в ряд исторических: «Так недавно написанная и уже историческая книга. Это выпадает на долю или очень хороших, или очень дурных книг, и, конечно: „Только Любовь“ принадлежит к первому разряду. По моему мнению, в ней глубже всего отразился талант Бальмонта, гордый, как мысль европейца, красочный, как южная сказка, и задумчивый, как славянская душа. <…> И читатели последних произведений Бальмонта (много ли их?) с грустью перечтут эту странно-прекрасную, изысканную по мыслям и чувствам книгу, в которой, быть может, уже таятся зачатки позднейшего разложения — растления девственного русского слова во имя его богатства. <…> И ничего не прибавляют к его славе те растерянные блуждания по фольклорам всех стран и народов, которыми он занялся в последнее время» (Весна. 1908. № 10).
«Только Любовь» включала семь разделов («Семицветник») и сопровождалась эпиграфом из «Бесов» Ф. М. Достоевского — в эпиграф были вынесены слова персонажа романа Кириллова: «Я всему молюсь».
Романы Достоевского занимали существенное место в формировании мировоззрения Бальмонта. В автобиографии 1903 года к числу наиболее «значительных» событий жизни поэт отнес «прочтение „Преступления и наказания“ (16 лет) и в особенности „Братьев Карамазовых“ (17 лет)» и добавлял: «Эта последняя книга дала мне больше, чем какая-либо книга в мире».
В начале 1900-х годов, когда отмечалось двадцатилетие со дня смерти Достоевского, творчество великого писателя оказалось в поле притяжения самых разных философов и литераторов (Д. С. Мережковский «Лев Толстой и Достоевский», 1900–1902; Л. Шестов «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», 1902; А. Волынский «Книга великого гнева. Критические статьи о „Бесах“ Достоевского», 1902–1903). Вероятно, образ провозвестника «человекобога» Кириллова, воспринятый через призму ницшеанских идей, был частично «подсказан» Бальмонту историко-литературной ситуацией. Выбранные в качестве эпиграфа слова Кириллова, которыми тот отвечает на вопрос Ставрогина, верит ли он в Бога, своеобразно проецируются на лирического героя бальмонтовской книги, прошедшего через искус «Художника-Дьявола».
Центральный мотив книги «Только Любовь» — возвращение. Этот мотив восходит к ницшеанскому и общесимволистскому «вечному возвращению», воплощенному (в завершающем книгу цикле) в символике «мирового кольца».
Для лирического героя возвращение — прежде всего погружение в мир детства, новое обретение первозданности восприятия природы:
Мне хочется снова быть кротким и нежным, Быть снова ребенком, хотя бы в другом, Но только б упиться бездонным, безбрежным, В раю белоснежном, в раю голубом. (Возвращение)Мотив возвращения тесно переплетается с цикличностью космической жизни, постоянным чередованием «восходов» и «закатов» солнечного диска. Книга «Только Любовь» открывалась стихотворением «Гимн Солнцу», где отражено наметившееся в «Будем как Солнце» раздвоение солнечного лика — «жизни податель» и в то же время «страшный, сжигающий свет»:
Жизни податель, Светлый создатель, Солнце, тебя я пою! Пусть хоть несчастной Сделай, но страстной, Жаркой и властной Душу мою! Жизни податель, Бог и создатель, Страшный сжигающий свет! Дай мне — на пире Звуком быть в лире, — Лучшего в мире Счастия нет!Солнце всё активнее отождествляется в сознании Бальмонта со «сверхчеловеческой» миссией поэта. Возникший еще в «Будем как Солнце» миф о Поэте-Солнце получает в новой книге «упоительно» яркое продолжение:
…Смешалось все. Людское я забыл. Я в мировом. Я в центре вечных сил. Как радостно быть жарким и сверкать. Как весело мгновения сжигать. Со светлыми я светлым говорю. Я царствую. Блаженствую. Горю. (Солнечный луч)Цельность любовного чувства, драматически расщепленного в двух разделах книги «Будем как Солнце» на духовное и телесное начала, теперь, кажется, достигнута бальмонтовским лирическим героем:
Мне звезды рассказали: «Любви на свете нет». Я звездам не поверил. Я счастлив. Я поэт. Как сон тебя я вижу, когда влюбленный сплю, И с грезой просыпаюсь и вновь тебя люблю. (Звезда звезде)В стихотворениях «К Елене», «Лунная соната», очевидно, посвященных Елене Цветковской, Бальмонт вновь и вновь воспевает сладостную любовную «пытку» в «лунном» ее преломлении:
О Елена, Елена, Елена, Как виденье, явись мне скорей. Ты бледна и прекрасна, как пена Озаренных луною морей. …………………………… Ты сумела сказать мне без речи: С красотою красиво живи, Полюби эту грудь, эти плечи, Но, любя, полюби без любви. Ты сумела сказать мне без слова: Я свободна, я вечно одна, Как роптание моря ночного, Как на небе вечернем луна. Ты правдива, хотя ты измена, Ты и смерть, ты и жизнь кораблей[13]. О Елена, Елена, Елена, Ты красивая пена морей. (К Елене)Мелькает в его памяти и другая незабвенная женская «тень» (Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт?):
Передо мною встаешь ты, родная, Ты, родная и в сердце хранимая, — Вдруг я вижу, что ты не забыта. Позабытая, горько-любимая. (Разлученные)Цикл любовной лирики «Мгновения слияния» сменяется в книге резко контрастным ему циклом «Проклятия», в котором Бальмонт с «детской» непоследовательностью отрекается от всего того, что только что страстно воспевал:
И губы женщин ласковы и алы, И ярки мысли избранных мужчин. Но так как все в свой смертный час усталы, И так как жизнь не понял ни один, И так как смысла я ее не знаю, — Всю смену дней, всю красочность картин, Всю роскошь солнц и лун — я проклинаю! (Отречение)Его лирический герой опять оказывается во власти «художника-дьявола», и единственным способом сохранить свою «самость» представляется ненависть:
Я ненавижу человечество, Я от него бегу спеша. Мое единое отечество — Моя пустынная душа. («Я ненавижу человечество…»)Однако в бальмонтовских «проклятиях» и «отречениях» нет трагического пафоса предыдущей книги, здесь ощущается элемент эпатажа, игровое начало. Эпиграф-строчка из любимейшего Шелли («Ненависть — обратный лик любви») разворачивается Бальмонтом в самостоятельное стихотворение, «кольцом» завершающее цикл «Проклятия»:
Мои проклятия — обратный лик любви, В них тайно слышится восторг благословенья. И ненависть моя спешит, чрез утоленье. Опять, приняв любовь, зажечь пожар в крови.В книге «Только Любовь» поэт нередко возвращается к мотивам и образам своей ранней лирики. Больше всего в книге реминисценций из «Тишины», правда, не всегда явных. Элегическая медитативность дополняется новыми эмоционально-смысловыми оттенками, один из самых удачных среди вновь найденных символов — «безглагольность»:
Есть в русской природе усталая нежность, Безмолвная боль затаенной печали, Безвыходность горя, безгласность, безбрежность, Холодная высь, уходящие дали. ……………………………………… Недвижный камыш. Не трепещет осока. Глубокая тишь. Безглагольность покоя. Луга убегают далёко-далёко. Во всем утомленье, глухое, немое. ………………………………………… Как будто душа о желанном просила, И сделали ей незаслуженно больно. И сердце простило, но сердце застыло, И плачет, и плачет, и плачет невольно. (Безглагольность)Своеобразной «визитной карточкой» импрессионизма в русской лирике XX века стало стихотворение «Я не знаю мудрости»:
Я не знаю мудрости, годной для других, Только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, Полные изменчивой радужной игры. Не кляните, мудрые. Что вам до меня? Я ведь только облачко. Видите, плыву. И зову мечтателей… Вас я не зову!«Знаковым» для книги «Только Любовь» явилось и знаменитое стихотворение «Тише, тише», в котором поэт прозорливо предсказал недалекое охлаждение читателей и критики к своей поэзии:
Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды, Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет. У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды, И слагатель вещих песен был поэт и есть поэт.В последние циклы книги — «Приближения» и «Мировое кольцо» — врывается риторическая струя. Автор стремится открыть глаза непосвященным «бледным людям» на истинные ценности жизни. Идеями Ф. М. Достоевского продиктовано воспевание нравственно-очистительной силы боли: «Мы должны бежать от боли, / Мы должны любить ее. / В этом правда высшей Воли, / В этом счастие мое». «Радостный завет» князя А. И. Урусова, по Бальмонту, состоит в том, что перед смертью человек обретает в душе Бога: «Он вдруг воскликнул звучно, как поэт: / Есть Бог, хоть это людям непонятно!» «Поэт-монах» Вл. Соловьев укрепляет веру в тайное единство земного и небесного (стихотворение «Воздушная дорога»). И, наконец, самый великий учитель для поэта — Всевышний:
Бог создал мир из ничего. Учись, художник, у него…«Человекобожеские» устремления героев Достоевского, собственные «демонические» порывы в стихотворении «Бог и Дьявол» («Я люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог, / Одному — мои стоны, и другому — мой вздох, / Одному — мои крики, а другому — мечты, / Но вы оба велики, вы восторг Красоты»), совершив «круг» по «мировому кольцу», приводят бальмонтовского лирического героя к символу веры детства и юности — Христу:
Он убедителен и кроток, Он упоительно-жесток, И Он — в перебиранье четок, Но больше — в пенье звонких строк. (Один из итогов)Из Библии поэту оказывается ближе всего исходная мысль: «О, да, в начале было Слово…».
Примечательное литературное событие 1904 года в жизни Бальмонта — выход в издательстве «Гриф» сборника его статей «Горные вершины». Книге предпослан эпиграф, выражающий ее идею: «Великие умы, как горные вершины, горят издалека» (индийское изречение). В предисловии автор подчеркивает, что с вершины «видно все: личное и общее, жизнь и смерть, грани и безграничность». В книге собраны статьи, лекции и эссе, которые неоднократно упоминались и цитировались нами. Это своеобразная литературно-критическая проза, в которой очень субъективно, в лирико-импрессионистическом ключе рассматриваются некоторые имена и явления русской и мировой литературы. Работы эти очень важны для понимания мировоззрения и поэзии Бальмонта, так как приоткрывают завесу над его представлениями о сути художественного творчества и личности творца.
Книга неожиданно вызвала широкий отклик в печати. Александр Блок в рецензии «К. Д. Бальмонт. Горные вершины» (Новый путь. 1904. № 6) писал: «Критик, вооруженный большой художественной эрудицией, воскрешает перед нами в творческих образах целый пантеон мировой литературы и искусства». Причем, по его мнению, «страницы, относящиеся к иностранцам (а таких большинство), как-то увереннее, напряженнее, красивее. <…> Бальмонт — европеец. От этого книга его, более слабая в „русском отделе“, приобретает для нас большую ценность в „европейском“». А в целом, заключает Блок, эта книга — «яркое и полное проявление того художественного индивидуализма, приемы которого далеко отошли от мещански-будничных приемов „объективной критики“, то есть критики без любви к тому, о чем она трактует. Лозунгом подобной критики служил (и, увы! до сих пор иногда служит) взгляд на литературу исключительно как на „социальный фактор“».
Сам Бальмонт придавал серьезное значение работам, вошедшим в «Горные вершины», и представлял их «только как начало длинного ряда очерков по литературе, искусству и религии». Прочитав статью Брюсова «Страсть» (Весы. 1904. № 1), в которой автор утверждал близкую ему идею о праве художника воссоздавать наряду с духовным и телесно-чувственное начало в природе человека, Бальмонт убеждал его собрать том статей «по самым основным вопросам творчества» (письмо от 12 июля 1904 года). Такую книгу — «Далекие и близкие» — Брюсов собрал и издал лишь в 1912 году, а Бальмонт свои литературные эссе выпустил и в 1907 году («Белые зарницы. Мысли и впечатления»), и в 1910 году («Морское свечение»).
Значительную часть 1904 года Бальмонт провел за границей. 4 мая он выехал во Францию и вскоре прибыл в Париж. Там он постоянно общался с Максимилианом Волошиным, который работал французским корреспондентом журнала «Весы» и был хорошо знаком с литературно-художественной жизнью Парижа. Бальмонта он нашел «на редкость жизнерадостным и бодрым». Он же познакомил Бальмонта с французским поэтом-символистом Рене Гилем, и они, как свидетельствует Волошин, «друг другу очень понравились».
Восемнадцатого мая (31-го по европейскому календарю) Бальмонта пригласил к себе известный драматург Морис Метерлинк. Его знаменитая «Синяя птица» шла на сцене Московского Художественного театра. Поэт переводил его пьесы для этого театра и поехал к нему вместе с Волошиным, чтобы поговорить, по просьбе К. С. Станиславского, о их постановке. Не без юмора эта встреча описана (очевидно, по рассказу Бальмонта) Екатериной Алексеевной: «Метерлинк был увлечен автомобилем и ни о чем другом не хотел говорить. Когда Бальмонт попросил позволения посмотреть библиотеку, Метерлинк (толстый, добродушный) открыл ему дверцы библиотечного шкафа и, смеясь, сказал: „Вам это будет неинтересно“. На полках оказались шины для колес авто и всякие приспособления для машины, книги по техническим вопросам, инструменты». Бальмонт был разочарован. Спустя некоторое время о творчестве Метерлинка он опубликует эссе «Тайна одиночества и смерти» (Весы. 1905. № 2).
В июне Бальмонт направился в любезную его сердцу Испанию, намереваясь уделить особое внимание Кастилии. 8 июня он был в Тулузе. Из Барселоны 14–15 июня он отправил шесть писем Екатерине Алексеевне в Париж. «Какое здесь ликование жизни», — восхищался поэт. «Здесь сумма Испании, Италии и чего-то африканского», — отметил он в другом письме. Но главное содержание этих писем — не описание красот Барселоны, а вопль о помощи.
Поездка в Барселону совпала с очередным «отпадением» поэта, во время которого он потерял денежный чек банка «Лионский кредит» и оказался в кризисном положении. Его письма Екатерине Алексеевне — это и крик отчаяния, и угрызения совести, и раскаяние: «Мое легкомыслие преступно и не знает границ. <…> Мне так больно, что я уехал один. Никогда не повторю подобной вещи. Я вижу твое лицо, твои милые глаза. Сердце дрожит, я люблю тебя, и нет тебя со мной. Все теряет смысл без тебя, мир — жестокая панорама. <…> Милая, не кляни меня, любимая! Без тебя мне смерть и гибель». В другом письме: «Прости. Было безумием уезжать одному в таком нервном состоянии. Ты была права, ты говорила, я не послушался. Катя, я всегда наказан, когда я упрямствую. <…> Каждая моя преступно-мальчишеская попытка „освободиться“ (как будто я с тобой не свободен) приводит лишь к рабству и тоске. Ты моя жизнь, ты мое все».
«Нервное состояние», о котором упоминает Бальмонт и которое закончилось запоем в Барселоне, было, очевидно, вызвано конфликтом с Екатериной Алексеевной из-за Елены Константиновны Цветковской. «С 1904 года, — читаем в воспоминаниях жены поэта, — Елена уже неукоснительно следовала за нами всюду. Она поселялась рядом, где бы мы ни жили… в Париже, в Петербурге, в Москве. Она бросила свои занятия, все время уходило на служение Бальмонту». «Елена живет в моей душе», — признавался Бальмонт Брюсову в письме 1903 года. Она властно притягивала его к себе, и он не хотел разрыва с ней, чего добивалась Екатерина Алексеевна, пригрозив уехать в Россию. Бальмонт решил отправиться один в Испанию, от чего жена его отговаривала, видя его нервно-возбужденное состояние. Чем это кончилось — ясно из процитированных писем.
Вопрос с деньгами был улажен, и через Сарагосу и Мадрид Бальмонт вернулся в Париж, чтобы затем остальную часть лета провести в России, в имении Борщен Нины Васильевны Евреиновой, куда должны были привезти дочь Бальмонтов Нину. 21 июня (4 июля) они выехали из Парижа. Решили возвращаться через Швейцарию. Их путь лежал через Женеву — Люцерн — Цюрих — Вену — Киев. По дороге из Тошене поэт писал Вере Николаевне:
«Тебе и отцу привет из глубины горных ущелий, где неустанно поют потоки свободной воды. Как вольно здесь дышит грудь, как сладостно мечте и упоительно глазам. Только небо и горы, больше нет ничего.
Узоры каменных громад Своим молчаньем говорят, Что красноречие без слов Есть между горных облаков.Целую. Обнимаю. Твой К.».
Восьмого июля Бальмонт приехал в Россию и остальную часть июля, весь август и начало сентября провел в Борщене. 8 сентября Бальмонт сообщает Татьяне Алексеевне Полиевктовой, что уезжает в Крым. Пребывание в Борщене и Крыму оказалось чрезвычайно плодотворным для поэта. Согласно данным В. Ф. Маркова, который знакомился с записными книжками Бальмонта в собрании Национальной библиотеки Франции, за июль — сентябрь им написано большинство стихотворений, составивших книгу «Литургия красоты». Книга довольно быстро, в декабре 1904 года (на титуле указан 1905 год), выйдет в издательстве «Гриф» в оформлении Маргариты Васильевны Сабашниковой.
Из Крыма Бальмонт вернулся в Москву в октябре и оставался там до конца января следующего, 1905 года. Непосредственного участия в литературной жизни Москвы он почти не принимал: она мало его интересовала. Зато события общественно-политического порядка захватывали его все больше и больше. Начавшаяся в январе 1904 года Русско-японская война кажется ему «чьей-то ошибкой». Он откликнулся на нее двумя стихотворениями — «Война» и «Война, не вражда», которые войдут в новую книгу. В первом из них война рисуется как наваждение, как «театр Сатаны».
Отклик в книге лирических стихов на общественно-политическое событие — едва ли не единственный до сих пор случай в творчестве поэта. Война осмысляется им в общегуманистическом плане. Сказались при этом и личные качества Бальмонта-человека: он не принимал насилие, кровь, вражду. Это проявлялось и в прямых политических протестах, в которых он участвовал. Так, 9 января 1904 года на квартире Бальмонта, по его инициативе, собралась группа литераторов (среди них Л. Андреев, Е. Чириков, Н. Телешов, Б. Зайцев и др.), чтобы письменно выразить протест в связи с жестоким разгоном полицией студенческой демонстрации в Москве. Россия неуклонно приближалась к революции 1905 года, политическая активность общества, в том числе поэта, все более нарастала. Письмо-протест, адресованное администрации Москвы, заканчивалось выводом о необходимости устранения правящего режима.
Явления современности — не только общественно-политические — все более привлекали Бальмонта и отражались в его творчестве. На научные открытия в области энергии атома поэт откликнулся в «Литургии красоты» стихотворением «Пляски атомов», которое начиналось словами: «Яйцевидные атомы мчатся…» Напрасно Андрей Белый иронизировал по этому поводу. В названном стихотворении Бальмонт одним из первых выразил тревогу в связи с наступлением атомного века.
В литературном отношении 1904 год отмечен не только подготовкой новой книги стихов. В журнале «Весы», кроме упомянутой статьи об О. Уайльде, были напечатаны также бальмонтовские статьи «Символизм народных поверий» (1904. № 1) и «Певец личности и жизни (Уитмен)» (1904. № 7). И, конечно, для Бальмонта много значил выход в 1904–1905 годах его двух книг «Собрания стихов» в издательстве «Скорпион». Это издание включало в себя шесть сборников — от «Под северным небом» до «Только Любовь» — и давало цельное представление о развитии лирического творчества поэта. Немаловажное значение в этом смысле имела и книга «Литургия красоты. Стихийные гимны».
«Литургия красоты» — книга итогов. «То, что прежде волновало, Бальмонт замыкает ключами своих „стихийных гимнов“», — отмечал А. Блок в рецензии на книгу (Вопросы жизни. 1905. № 7). Эта книга дала повод В. Брюсову, А. Белому и многим критикам заговорить о «падении» Бальмонта, угасании его лирического дарования. Эллис даже утверждал, что в «Литургии красоты» Бальмонт невольно «стал пародистом на самого себя». И только Владислав Ходасевич, не согласный с негативной оценкой бальмонтовской книги, писал в отзыве на нее (Искусство. 1905. № 5–7): «Здесь все <…> основные мотивы творчества Бальмонта, раньше то приходившие, то удаляющиеся, сливаются в одну изумительную по стройности картину».
В «Литургии красоты» поэт поставил перед собой грандиозную цель, которую выразил в начальном стихотворении:
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть, Свет Луны они забыли, потеряли Млечный Путь. Развенчав Царицу-Воду, отрекаясь от Огня, Изменили всю Природу, замок Ночи, праздник Дня. («Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть…»)Для решения подобной задачи стих должен быть уже не «изысканным», а «победным», — отсюда риторические, гимнические интонации в книге. Одно из программных стихотворений первого раздела «Праздник сердца» недаром называется «Призыв». В нем (как, впрочем, и в некоторых других стихах) Бальмонт напрямую обращается к читателям, «братьям» и «девушкам», настойчиво советуя им «сбросить то, что давит», апеллируя не к их разуму, а к подсознанию, к душе:
Что нам скитаться по мыслям, Что нам блуждать по идеям? Мы красоту не исчислим, Жизнь разгадать не сумеем. Пусть. Нам рассудок не нужен, — Чувства горят необманно, Нить зыбкоцветных жемчужин Без объяснений желанна.В процитированных строках лирический герой предельно приближен к автору, это — поэт, избранный Богом для того, чтобы «к стихиям людям бледным» показать «светлый путь». Впервые Бальмонт акцентирует внимание на «славянских» корнях своего лирического «я»:
Я знаю, что Брама умнее, чем все бесконечно-имянные боги. Но Брама — Индиец, а я — Славянин. Совпадают ли наши дороги? (Самоутверждение)Ему кажется, что именно «славянская душа» изначально ближе к природе и к «поэзии стихий»:
Славяне, вам светлая слава, За то, что всем сердцем открыты, Веселым младенчеством нрава С природой весеннею слиты. (К славянам)Позднее он выскажет ту же мысль в статье «Малые зерна» (1907): «Из всех существующих на земле рас только славянская находится в действенно-рождающем цикле. Все другие лишь повторяют и продолжают себя однотонно».
Конечно, Бальмонту по-прежнему «дороги все речи», он воспевает «создателя загадок» Египет, «девственную мать» Индию, «страну цветов и Солнца, и плясок, и стихов» Мексику. Мечтая увидеть все эти экзотические страны воочию, он, однако, делает важное признание:
Много есть еще мечтаний, сладко жить в бреду, Но, уставши, лишь к родимой, только к ней приду. (Три страны)Можно утверждать, что именно в «Литургии красоты» — зародыш будущей «русской» темы в творчестве Бальмонта.
Бальмонту, как всегда, ближе «женские души»; свою «литургию» он служит, уповая не столько на «братьев» (один из них, по-видимому, Брюсов, назван «темным братом»), сколько на «девушек» и «женщин». Им посвящен второй раздел — «Кружевные узоры». Со стихотворением «Жалоба девушки» в книгу приходит сквозной мотив неприятия жизни «современных человечков»:
И все, что в мысли просится, на деньги вы считаете, И в сердце оставляете проклятье пустоты. О, скупщики корыстные, глядельщики бесстыдные, Оставьте нас, — ужели же вам мало городов?Среди «героинь» раздела, кроме собирательного образа «милой юной девушки», можно отыскать Елену Цветковскую («Греза»), Люси Савицкую («Польской девушке»), дочь Нинику («Финская колыбельная песня»). Возникает здесь и образ Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок («В белом»). Друг Белого и Блока Сергей Соловьев, рассказывая о пребывании в Москве в январе 1904 года Блока и его жены, писал: «Успех Блока и Любови Дмитриевны в Москве был большой. Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дмитриевны всех очаровали. Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение, которое начиналось: „Я сидел с тобою рядом, / Ты была вся в белом“». В этом стихотворении неожиданно появились «пророческие» строки:
Ты — невеста, ты — чужая, Ты и он — мечтанья. Но застыл я, твердо зная, Что любовь — страданье.Здесь стих поэта вновь становится «изысканным».
В последнем, самом большом разделе книги — «Черная оправа» — авторская интонация усложняется тяготением к философичности, появлением страдальчески-драматических нот. Один из узловых символов — «атом». Появившийся еще «В безбрежности» (стихотворение «Горящий атом, я лечу…»), он наполняется новым смыслом, включающим и идею непреодолимого отчуждения индивидуального человеческого «я» от других «атомов»: «И двум их близость говорит, / Что атом с атомом не слит» («Границы»), и кошмарный «атомный век»:
Когда я думаю, как много есть Вселенных, Как много было их и будет вновь и вновь, — Мне небо кажется тюрьмой несчетных пленных, Где свет закатности есть жертвенная кровь. Опять разрушатся все спайки, склейки, скрепы, Все связи рушатся, — и снова будет тьма, Пляс жадных атомов, чудовищно-свирепый, Циклон незримостей, стихийная чума. И вновь сомкнет, скует водоворот спиральный Звено упорное сложившихся планет, И странной музыкой, безгласной и печальной, В эфирных пропастях польется звездный свет. (Мировая тюрьма)Бальмонт отрекается от всех ранее любимых богов древности (стихотворение «Пронунсиамиэнто»):
Брама, Вишну, Сива, Эа, Мирри-Дугга, Один, Тор, Витцлипохтли, маски, маски, это всё сплошной позор. В лабиринтах ли Индийских, или в бешеной Валгалле, На уступах пирамидных Мексиканских теокалли, Всюду — Демону в угоду — истязание умов, Трепет вырванного сердца, темный праздник, темный ров.Он снова, как в юности, сомневается в божественной справедливости и милосердии:
Есть ли Бог? Он сжалится ль над нами? Есть ли Бог, и как его найти? (Как знать!)Русско-японская война осознается как еще один аргумент, свидетельствующий о неизбывной жестокости жизни:
Боже мой, о, Боже мой, за что мои страданья? Нежен я, и кроток я, а страшный мир жесток. Явственно я чувствую весь ужас содроганья Тысяч рук оторванных, разбитых рук и ног. (Война)Современные «человечки» вызывают у бальмонтовского «читателя душ» откровенное презрение:
Человечек современный, низкорослый, слабосильный, Мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин, Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный, Вся душа его, душонка — точно из морщин. (Человечки)И все же горестные и обличительные интонации — «черная оправа» бальмонтовского космизма, темный фон для светлых гимнов во славу «четверогласия стихий». Видимо, сам поэт осознавал уязвимость сплава лирики и риторики в своих философских стихах:
Умствователь нищий, я слабею, Предаюсь безумному Поэту… (Их двое)«Литургия красоты» завершается четырьмя большими «стихийными гимнами»-поэмами, в которых Бальмонт вновь воспевает Огонь, Воду, Воздух и Землю. В поэмах есть очевидные повторы, кое-где поэт действительно будто «пародирует» свои же стихи из книги «Будем как Солнце» (что подметил Эллис), но в главном он остается верен себе. И пускай никогда не удастся вернуть «современных человечков» к Солнцу, его лирический герой твердо знает:
Огнепоклонником Судьба мне быть велела, Мечте молитвенной ни в чем преграды нет. (Огонь)После выхода в свет книги «Литургия красоты» Бальмонт решил осуществить задуманное «кругосветное путешествие». Особенно его привлекала Центральная Америка, древняя цивилизация индейских племен майя, ацтеков и тольтеков (ольтеков).
Поэта, как и многих его современников, волновал миф об Атлантиде: считалось, что этот материк, утонувший при мировой катастрофе, достиг высокой культуры и следы ее можно найти в древней стране Майя. Слово «Майя», обозначавшее территорию Мексики, Бальмонт заносит в записную книжку под датой 3 января 1904 года. Ранее Мексика упоминалась в некоторых стихотворениях книги «Только Любовь», а в «Литургии красоты» встречается Атлантида — в стихотворении «Читатель душ», и описание ее столицы — в стихотворении «Город золотых ворот», сочиненном после знакомства поэта с трудом Скотт-Эллиота «История Атлантии». Майя для Бальмонта была страной мечты, как Индия — страной мысли. Обе волновали его более всего…
Как всегда, готовясь к путешествию, Бальмонт знакомился с литературой о тех краях, которые намеревался посетить. Изучая испанский язык, он, конечно, читал книги об Испании, среди них были и работы по истории испанских завоеваний Америки и о походах конквистадоров. Но, в отличие от Николая Гумилёва, конквистадоры его интересовали меньше, нежели образ жизни и культура древних индейцев с их ярко выраженным культом Солнца. Среди возможных источников, которые мог читать поэт, нужно выделить эпос майя-киче «Пополь-Вух» и книгу американского историка В. Прескотта «История завоевания Америки». Отъезд из Москвы Бальмонт наметил на конец января 1905 года. Незадолго перед этим, 9 января, произошло событие, потрясшее всю Россию: расстрел мирной демонстрации у Зимнего дворца в Петербурге. Русско-японская война, длившаяся уже год, была для России тяжелой, армия и флот несли потери, что усугубляло и без того революционную обстановку в стране. Все это не могло пройти мимо Бальмонта, и он уезжал с тревогой в душе.
Сначала Бальмонт отправлялся в Париж. Проводить его пришли друзья и товарищи по литературе. Максимилиан Волошин в дневниковой записи от 27 января 1905 года передал слова Валерия Брюсова, произнесенные на вокзале после отъезда поэта: «Сию минуту кончился целый период. Бальмонт десять лет полновластно царил в литературе, иногда капризно, но царил. Наши связи рвались постепенно и порвались уже совсем в эти последние месяцы, но теперь он сам отрекся от царства и положил конец… <…> Мы будем жить без него. И я думаю, что мы все видели его в последний раз. Он не вернется из Мексики или вернется совсем иным…»
По Брюсову получалось, что Бальмонт своим присутствием в литературе уже мешал ей, и, похоже, он радовался, что его не будет. Так далеко зашла отчужденность поэтов, но, по формуле Брюсова, сохранилась «вражда в области вечного братства». Переписка продолжалась, и Бальмонт в письмах делится с ним впечатлениями от нового мира, открывшегося в Мексике.
Морской путь туда начался в феврале в Гамбурге, продолжился в испанском порту Корунья (Галисия), оттуда вел на Кубу и завершился в мексиканском портовом городе Веракрус. Об окончании путешествия через Атлантический океан Бальмонт так сообщал Екатерине Алексеевне в письме от 21 февраля 1905 года, отправленном из Веракруса: «Последние дни на корабле, день на острове Куба, эти три-четыре дня здесь были какими-то сумасшедшими. Я попал в вертящееся колесо. Я был в сплошной движущейся панораме. Минуты истинного счастья новизны сменялись часами такой тоски и такого ужаса, каких я, кажется, еще не знал. Ведь я до сих пор не знаю, что делается в России. В Москве кровавый дым. Я опишу подробно свои впечатления от Океана, очаровательной экзотической Гаваны и заштатной смешной Вера-Крус — когда приеду в Мехико; я уезжаю сегодня вечером. Корабль наш запоздал в пути на день, благодаря буре. В Гаване я видел цветы, цветочки родные, маленькие и пышные розы. Мне хотелось упасть на землю и целовать ее».
Екатерина Алексеевна, которой Бальмонт подробно описывал свое путешествие, делала выборки из писем, имеющие общезначимый интерес, и отдавала их в журнал «Весы». Там они публиковались под заглавием «В странах солнца. Из писем к частному лицу» (Весы. 1905. № 4, 6, 8); очерк «Два слова об Америке. Из писем с дороги» был напечатан в только что открывшемся символистском журнале «Золотое руно» (1906. № 1).
Третьего марта Бальмонт прибыл в Мехико, столицу страны. Мехико стало отправным пунктом поездок Бальмонта и его спутницы Елены Цветковской в разные места Мексики: в пригороды столицы, где сохранились археологические памятники, Пачуку, где поэт присутствовал на народном празднике, в области, где жили древние народы и можно было увидеть пирамиды, руины и другие следы былой цивилизации, — это Юкатан, Паленка, Ушмаль и др. Иногда приходилось делать пешеходные походы или переезды верхом на конях по горам. «Не боюсь никаких неудобств и пока еще не был укушен ящером, не ужален змеей или какой-либо мексиканской красавицей», — шутливо замечает Бальмонт в письме матери.
В Мехико поэт работал в Национальной библиотеке, где изучал литературу по истории страны, знакомился с Национальным музеем, в котором собраны уникальные материалы по культуре и искусству индейцев. Своеобразным гидом поэта, знакомившим его с историей страны и ее древнейшей цивилизацией, стал видный археолог Николас Леон, рекомендовавший необходимую литературу и маршруты поездок. Он же познакомил Бальмонта с известным историком Мексики Альфредом Чаверо. Поэт тщательно изучал исторические источники, приобретал книги и фотографии. Во время знакомства со страной Бальмонта поразили величественные останки древней мексиканской архитектуры, храмы, где люди молились Солнцу, прекрасные скульптуры, олицетворявшие богов (они были обнаружены во время строительных работ), космогония и эпос и многое другое, что затем найдет отражение в его творчестве (стихи сборника «Птицы в воздухе», книга «Змеиные цветы», переводы в «Зовах древности»).
Вместе с тем Бальмонта возмущали бедственное положение потомков индейцев, которые влачили нищенское существование в порабощенной стране, высокомерие колониальных завоевателей, их варварское отношение к прекрасной культуре и искусству завоеванных народов. Это отразилось в письмах, публиковавшихся в «Весах», в посланиях Брюсову. Последнему он писал 18 марта 1905 года о Мехико: «Город приезжих прожорливых белолицых и обнищавших последних ацтеков, пьющих свою пульке в вонючих кварталах. Рвань, нищета, голоножье, каких не увидишь в Москве. О, тень Кортеса (завоевателя Мексики. — П. К., Н. М.), христианского мусульманина, уничтожившего изваянные сны ацтеков и тольтеков! Да будут прокляты завоеватели, не пощадившие камня… <…> О, трижды, семью семьдесят раз мерзавцы европейцы!»
В Мексике Бальмонт находился три с половиной месяца, после чего решил посетить Соединенные Штаты. Перед отъездом туда послал на адрес Брюсова шесть бандеролей с книгами о Мексике. 18 июня поэт прибыл в пограничный североамериканский город Эль-Пасо. Проехав штаты Техас, Новая Мексика и Аризона, Бальмонт добрался до Калифорнии и ее главного города Сан-Франциско, который расположен на берегу Тихого океана. Очередные письма жене он отправил 27 июня 1905 года из Сан-Франциско и 21 июля из Нью-Йорка, куда прибыл, проехав всю страну с запада на восток, до берегов Атлантического океана.
Америка была для Бальмонта страной любимых им поэтов Эдгара По и Уолта Уитмена, но впечатление произвела неоднозначное. Он отмечал, что в США «мучительно мало свободы», американцы — это «карикатура на англичан», «смесь британцев, немцев, бельгийцев, швейцарцев и еще черт знает чего». «Американцы — хорошие работники, добродушны, честны, но грубы <…> воплощение материальности», для них главное не духовные интересы, а «делать деньги». В Нью-Йорке он долго искал и не нашел ни одного книжного магазина. И все же город показался ему прекрасным как воплощение индустриальной мощи Америки, символом которой поэту представлялась воздушная железная дорога, ей он посвятил специальное стихотворение («Я мчусь по воздушной железной дороге…»). «Я уже совсем ненавидел Америку, несмотря на ее сказочные области, вроде Аризоны, а Нью-Йорк примирил меня с ней <…>. Я верю в великое будущее Америки. Где есть природная даровитость и страстное стремление, там не может не быть достижения» — так заканчивает Бальмонт «письмо с дороги» (Золотое руно. 1906. № 1).
Следует сказать, что Бальмонт был первым русским писателем, посетившим Мексику и так обстоятельно ее изобразившим. В Мексике он нашел то, что искал, и вдохновенно описал древнемексиканское искусство, высокую культуру ее народов, перевел образцы их поэтического творчества. Современные исследователи отмечают верность наблюдений Бальмонта, проникновение в особенности мировоззрения и искусства майя, ацтеков и других древних народов. Кстати, в письме Брюсову от 6 мая он так переводил их названия: майя — сыны Земли, тольтеки — строители, ацтеки — красиво говорящие.
Во время путешествия в Мексику и США Бальмонт почти полгода был оторван от родины. Вести оттуда приходили редко и с опозданием. Кое-что он узнавал из иностранных газет. В сообщениях было много тревожного. Как всегда, находясь за пределами России, он тосковал, по-особому переживал происходящее в ней. Во втором письме, опубликованном под шапкой «В стране солнца», он сообщал: «Меня невероятно мучают известия из России <…>. И я — русский <…>. Я не могу примириться с мыслью о нашем беспримерном поражении на Востоке <…>. Тоска! Я чувствую в воздухе новые бури кровопролитий» (Весы. 1905. № 6). У Бальмонта резко обострилась любовь к родине, ко всему русскому. Сравнение с увиденным за границей заставило поэта взглянуть по-новому на Россию, русского человека и привело к такому выводу: «Русские — самый благородный и деликатный народ, который существует. Нужно отойти от России, и тогда поймешь, как бездонно ее любишь и как очаровательно добродушие русских, их уступчивость, мягкость, отсутствие деревянности немцев, этой металличности англичан, этой юркости французов. Одни испанцы мне милы, но в них утомительна повторность все тех же возгласов и быстрых кастаньет» («Змеиные цветы»). На первый взгляд может показаться странным, что увидев экзотические страны, Бальмонт возвратился страстным поклонником России и воспел березу:
Береза родная, со стволом серебристым, О тебе я в тропических чащах скучал. Я скучал о сирени в цвету, и о нем, соловье голосистом, Обо всем, что я в детстве с мечтой обвенчал. (Береза)Из путешествия Бальмонт вернулся в Москву в июле 1905 года и вскоре отправился с семьей в Эстонию, в Силламяги, что на берегу Финского залива. «Я здесь, у воли, пишу стихи, читаю книжки, словом, все, как оно мне и полагается, — сообщал поэт Брюсову 1 сентября. — Не чувствую, чтобы, увидев Мексику и Майю, Аризону и Калифорнию и всякие там Нью-Йорки, я изменился „хоть на волос“».
За лето им была написана книга «Фейные сказки», которая уже осенью 1905 года вышла в издательстве «Гриф». Имеющая подзаголовок «Детские песенки», она появилась в результате общения с четырехлетней дочерью Ниникой и ей посвящена. Стихи, вошедшие в книгу, проникнуты неподдельным детским очарованием. Предварительно они почти нигде не публиковались.
К этому же времени, а возможно, к осени 1904 года относится драматургический опыт Бальмонта «Три расцвета». Во всяком случае, эта трехчастная пьеса, названная лирико-драматической сюитой, была опубликована в альманахе «Северные цветы Ассирийские на 1904–1905 гг.». Отдельным изданием под заголовком «Три расцвета. Драма. Театр юности и красоты» пьеса вышла в 1907 году. Однако еще в самом конце 1905 года она однажды появилась на сцене в театре «Дионисово действо», основанном актером и режиссером Николаем Вашкевичем как «театр эмоций» и «мистической трагедии». Из рецензии Брюсова на премьерный показ известно, что «пришедшим перед началом спектакля раздавали цветы».
Лирическая драма «Три расцвета» — одно из первых произведений русского символизма в драматургическом роде. В ней сплетены характерные для символизма темы Любви, Красоты и Смерти, окрашенные символикой цвета. Героиня пьесы Елена не принимает желтый цвет — как символ счастливого неведения, отвергает красный — как символ страсти и гнева, ее истинный расцвет связан с голубым цветом Луны, который она зажигает в своей душе в ответ на призыв Поэта, — это сближает ее с призрачными странами Неба. В финале влюбленные Поэт и Елена умирают, вступая в «царство великого Молчания». В пьесе господствует свойственная творчеству Бальмонта импрессионистическая стихия, не случайно семь девушек, олицетворяющих цветы, хором их славят: «Мы цветы, цветы, цветы, / Мы живем для Красоты…»; «Красный, желтый, голубой — / Три расцвета пред Судьбой…» и т. д. Идея с помощью театра прославить Юность и Красоту владела Бальмонтом и позднее, но к драматургии он больше не возвращался.
Находясь в Силламяги, Бальмонт размышлял и о своей десятилетней дружбе с Брюсовым, и о современной русской поэзии. В письме от 5 сентября 1905 года он писал Брюсову: «Я искренне думаю, что за все эти последние десятилетия в России было лишь два человека, достойные имени Поэта, священнее которого для меня нет ничего». Для Бальмонта слово «Поэт» всегда звучало с большой буквы, не отказывал он в таком звании и Брюсову, для которого Поэзия также была превыше всего. Письмо заканчивалось словами: «Когда я думаю, каким путем, как твердо и красиво ты идешь уже столько дней, мне делается радостно. Как хорошо, что ты есть на Земле». К письму было приложено стихотворение «Запорожская дружина» с посвящением Валерию Брюсову. Обращение Бальмонта к «дедам-запорожцам» с их верностью братству имело определенный автобиографический смысл, так как среди своих вероятных предков он видел и казаков-запорожцев. Вместе с тем это был призыв к Брюсову быть верным в дружбе:
Запорожская дружина — нас, познавших силу света, Нас, чей гордый лозунг — Утро вечно юного лица, Да пребудет неизменной, как звенящий стих Поэта, Да пребудет полновластной, как победный крик Певца!Оценки других современных поэтов в письме явно занижены. Может быть, это связано с тем, что некоторые из них (Блок, Белый да и Балтрушайтис с Вяч. Ивановым) еще находились в начале своего поэтического пути. О Блоке Бальмонт отзывался скептически: «Блок не более как чиновник от просвещенной лирики <…> уж такой чистенький да аккуратненький. „Дело о Прекрасной Даме“ все правильно расследовано»; Андрей Белый, по его мнению, мог бы с честью носить звание Поэта, но, уйдя в публицистику и критику, он «изолгался перед самим собой, он может еще воспрянуть, но трудно»; «Балтрушайтис — какой-то после дождичка в четверг». Не всем нравились Бальмонту и более старшие поэты: «Хорош многим Вячеслав <Иванов>, но, к сожалению, он более, чем что-либо — ученый провизор. Медоточивый дистиллятор»; «Лохвицкая — красивый романс»; «Гиппиус уж слишком Зиночка. Тонкий стебелек, красивый, но кто его не сломит?»
После окончания дачного сезона в Силламягах Бальмонт 14 сентября на два дня приехал к Вячеславу Иванову, который летом 1905 года поселился в Петербурге, сняв квартиру на верхнем этаже, в «башне» углового дома на Таврической улице. «Башня» вскоре стала знаменитой своими «средами» — собраниями столичной литературно-художественной интеллигенции, на которых высокообразованный хозяин задавал тон в обсуждении не только читаемых произведений, но и новых философско-эстетических идей.
С Ивановым Бальмонт познакомился еще весной 1904 года, когда тот, после многолетней жизни за границей, приехал в Москву. Но заочно он был ему известен и до этого книгами стихов «Кормчие звезды» (1903) и «Прозрачность» (1904). Об этом поэте и крупном ученом-филологе, знатоке Античности Бальмонт много знал со слов Брюсова, который познакомился с Ивановым в Париже в апреле 1903 года и завязал тесные отношения, помогая ему в издательских делах и постепенно включая в работу журнала «Весы». Знал, конечно, Бальмонт и работу Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога», печатавшуюся в журнале «Новый путь» (1904. № 1–3, 5, 8, 9).
В этом исследовании о греческом боге плодородных сил земли Дионисе автор пытался, не без влияния Ницше, соотнести культ дионисийской стихийности с Христом. Стихия дионисийства не могла не импонировать «стихийному» поэту Бальмонту, и все-таки связь Диониса с христианской религией казалась ему искусственной, что он и выразил в стихотворении «У океана». Что касается поэтического творчества Вяч. Иванова, то отношение Бальмонта к нему было противоречивым: он то хвалил его, то критиковал за излишнюю «ученость».
В Петербурге Бальмонт и Иванов встретились как хорошие знакомые и общались на «ты». Поэт пробыл на «башне» пять часов, читал свои новые стихи — детские и обличительные. Вячеславу Иванову он показался «совсем обновленным». Общение продолжилось и на другой день. Визит Бальмонта Иванов подробно описал в письме Брюсову от 20 сентября 1905 года. По поводу прочитанных Бальмонтом стихов он заметил: «Намечаются две новые струи: детская поэзия, которая, кажется, будет действительно детской в лучшем смысле (а это в своем роде „венец“, конечно, завидный для каждого поэта), и сатирическая. Я советовал ему объединить сатиры в самостоятельный сборник, написать „Xenien“ на недруга и друга, — потому что он часто хорош как сатирик (вопреки мнению большинства) и даже прикоснулся к стихии юмора (также „венец“). Он сидел с нами до 5 часов утра и неохотно ушел…»
Упомянутые в письме «xenien» («ксении») — это жанр больших стихотворений-посвящений хвалебного или юмористического содержания, популярный в древнегреческой поэзии. По-видимому, что-то подобное Бальмонт читал у Вячеслава Иванова, в том числе стихи о нем, Брюсове и других поэтах. Как можно предположить, были «ксении» не только «на друзей», но и «на недругов» — из обличительных стихов, вошедших в «Литургию красоты»: «Проклятие человекам», «Человечки», «Бедлам наших дней».
В письме Вячеслав Иванов сообщает также, что на следующий день Бальмонт завтракал у него, «мы гуляли на крыше нашего жилища и опять, как некогда, заглядывали в бездны, потом я проводил его на вокзал». На вокзале простодушный Бальмонт признался Иванову: «Ты бы меня не встретил так, если бы ты знал, что я недавно в письме к Брюсову тебя уничтожил в трех строчках…» Что это за «три строчки» Бальмонта Брюсову, мы уже знаем: «Хорош многим Вячеслав, но, к сожалению, он более, чем что-либо — ученый провизор. Методочивый дистиллятор».
Этот отзыв (его Бальмонт передал Иванову в устной форме) не повлиял, однако, на отношения поэтов. Их чувства взаимной приязни отразились в дружеских посланиях друг другу. В книге Вяч. Иванова «Прозрачность» Бальмонту посвящено стихотворение «Solo sato» («Солнцем рожденному»), написанное по-латыни и по-русски: в книгу «Cor ardens» («Пламенеющее сердце», 1911) он включил стихотворение «К. Бальмонту» (написанное в 1909 году), в журнале «Русская мысль» (1915. № 5) напечатал поэтическое послание «Бальмонту». В свою очередь известно стихотворение «Вячеславу Иванову», опубликованное в томе К. Д. Бальмонта «Стихотворения» (1969) из Большой серии «Библиотеки поэта»; по свидетельству комментатора произведений Вяч. Иванова в серии «Новая библиотека поэта» Р. Е. Помирчего, в архиве писателя, хранящемся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, есть несколько шуточных стихотворений Бальмонта, связанных с Вяч. Ивановым.
В сонете Вячеслава Иванова «К. Бальмонту» поэт фигурирует как изгнанник и сравнивается с Байроном — «бардом», «что Геллеспонт / Переплывал: он ведал безучастье. / Ему презренно было самовластье». Такова же участь и Бальмонта: «Изгнанника злосчастье — твой рок». Иванов имеет здесь в виду эмиграцию Бальмонта во Францию, о чем речь впереди, из-за участия в революционных событиях 1905 года. В дневниковой записи от 19 августа 1909 года Иванов заметил: «Написал стихи, ему <Бальмонту> посвященные. <…> Его, изгнанника, кажется, еще никто не приветствовал».
Когда Бальмонт из Петербурга вернулся в Москву, она буквально бурлила: митинги, демонстрации, забастовки. По воспоминаниям Екатерины Алексеевны, Бальмонт «страстно увлекся революционным движением»: «Все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезал на тумбы. На университетском дворе полиция стащила его с тумбы и хотела арестовать, но студенты отбили». В это время Бальмонт часто встречался с Горьким, сопровождал его в походах по Москве. Во время Декабрьского вооруженного восстания был на Пресне, на Тверской, когда на этих улицах велась стрельба.
Но главное участие Бальмонта в революции состояло не в этом. В октябре — ноябре он написал ряд революционных и сатирических стихотворений, которые, при посредстве Горького, появились в легальной большевистской газете «Новая жизнь», издаваемой гражданской женой Горького Марией Федоровной Андреевой и редактировавшейся поначалу поэтом-символистом Н. М. Минским. С 10 ноября и до дня закрытия газеты (3 декабря) ее редактором был В. И. Ленин. В числе сотрудников были объявлены М. Горький, Л. Андреев, К. Бальмонт, И. Бунин, Л. Вилькина, З. Венгерова, Е. Чириков, Н. Тэффи (сестра М. Лохвицкой) и другие писатели. Бальмонт, в частности, напечатал там стихотворения «Русскому рабочему», «Поэт — рабочему» («Я поэт и был поэт…»), «Начистоту» и «Мещане». Второе из них заканчивалось строфой:
Был я занят сам собой, Что ж — я это не таю. Час прошел. Вот час — другой. Предо мною вал морской, О рабочий, я с тобой, Бурю я твою — пою.Восставшие рабочие в этих стихотворениях воспеваются как истинные борцы, проливающие кровь за свободу, в отличие от «краснобаев», ведущих о свободе «застольные речи». В стихотворении «Начистоту» Бальмонт, славя рабочих, гневно обличает «болтливых, трусливых»: «Этих мирных, облыжно-культурных, мишурных и прочих / Я зову: „Старый сор!“ И во имя восставших рабочих / Вас сметут! В этом вам я, как голос прилива, клянусь!»
Горький высоко ценил революционные стихи Бальмонта. В статье «По поводу» (Новая жизнь. 1905. 16 ноября), отмечая «чистый восторг поэта», искреннее увлечение революцией, он защищал его от «мещан», которые «не способны понять поэта». По инициативе Горького 12 стихотворений Бальмонта были собраны в отдельную книжку «Стихотворения» и в начале 1906 года изданы в «Дешевой библиотеке» издательства «Знание» огромным по тому времени тиражом — 21 тысяча экземпляров. Сборник был тут же конфискован за революционное содержание.
Однако революционность Бальмонта на самом деле решительно отличалась от горьковской, была родственна его природной стихийности. В отличие от Горького Бальмонт не был человеком партии, выступал как «революционер духа», свободный писатель.
В то время как в Москве еще только чувствовалось приближение восстания, в типографии печатался тираж «Фейных сказок». Как и предыдущая книга «Литургия красоты», «Фейные сказки» композиционно оформлены в виде «трилистника» — трех частей: «Фея», «Детский мир», «Былинки». Они, по определению Брюсова, составляют единую «лирическую поэму о сказочном царстве, доступном лишь ребенку и поэту». В ней, как выразился Брюсов, «Бальмонт позволил себе снова быть самим собой —
…снова быть кротким и нежным, Быть снова ребенком, хотя бы в другом…<…> Это песни нежные, воздушные, сами создающие свою музыку». Особенно критик выделяет первую часть книжки: «Здесь создан — теперь навеки знакомый нам — мир феи, где бессмертной жизнью живут и ее спутники, друзья и враги: стрекозы, жуки, светляки, тритоны, муравьи, улитки, ромашки, кашки, лилеи…»
Фея-волшебница не входит в число традиционных персонажей русской сказки. Она «заскочила» в поэзию Бальмонта из фольклора и мифологии западноевропейских народов. Причина обращения к этому и другим сказочным образам кроется в «детскости» мироощущения поэта, породившей, как отметил Вяч. Иванов, творчество по природе своей «наивно-восторженное». В «Фейных сказках» оно торжествует в полной мере. Кстати, образ феи как существа фантастического встречался в стихах предшествующих сборников поэта, но в «Фейных сказках» фея — сама ребенок, осваивающий мир, сталкивающийся с незнакомыми явлениями и попадающий в забавные ситуации.
Если в первой части мир осваивается феей и вместе с ней девочкой, которой посвящена книга, то во второй мир раскрывается в непосредственном восприятии ребенка, при этом поэт часто обращается к образам русского фольклора. Примечательно в этом отношении стихотворение «У чудищ»:
Я был в избушке на курьих ножках. Там все как прежде. Сидит Яга. Пищали мыши и рылись в крошках. Старуха злая была строга. Но был я в шапке, был в невидимке. Стянул у старой две нитки бус. Разгневал ведьму и спрыгнул в дымке. И вот со смехом кручу я ус…Взятые из сказок образы-чудища у Бальмонта совсем не опасны: они попадают в веселое «игровое поле» автора с его шапкой-невидимкой и теряют свои устрашающие свойства.
Остроумно переосмыслены поэтом в «Раковинке» образы Старика и Старухи (у Бальмонта — Старушки) из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». В таких стихотворениях, как «Глупенькая сказочка» («Курочки-хохлаточки по двору ходили…»), «Кошкин дом» («Мышка спичками играла, / Загорелся кошкин дом…») и некоторых других, Бальмонт предваряет интонации и мотивы лучших детских стихов К. Чуковского и С. Маршака.
В «Былинках» на первый план выходит сам автор. Здесь скорее не детские стихи, а стихи для детей — мир, открываемый им глазами поэта. Раздел начинается стихотворением «Как я пишу стихи», рассчитанным на детей, но имеющим и более общее значение:
Рождается внезапная строка, За ней встает немедленно другая, Мелькает третья, ей издалека Четвертая смеется, набегая. И пятая, и после, и потом, Откуда, сколько, я и сам не знаю, Но я не размышляю над стихом, И, право, никогда не сочиняю.Проникновенное прочтение «Фейных сказок» дал в рецензии Александр Блок (Слово. 1906. 27 февраля): «Поэзия Бальмонта не стареет. <…> …она опять распустилась пышно и легко. <…> „Фейные сказки“ — душистый букетик тончайших цветов. Сам себя перебивая в песнях, сам, точно изумляясь богатству своих стихов, своих рифм и впечатлений, Бальмонт переходит от нежных фей к лесным и полевым тварям; он совсем переселяется в детскую душу и уже сам… боится обойти хоть одну тварь, забыть хоть одну былинку. Эта непременная память обо всех чиста и трогательна, как молитва Франциска Ассизского. Истинно, „камни оживают“ под легкие звуки таких стихов. Это прозрачный мир, где все сказочно — радостно и мудро детской радостью и мудростью».
Возвращаясь к стихотворению «Как я пишу стихи», необходимо сказать, что процесс творчества у Бальмонта был сложнее, чем это описано им в духе игры. Да, импровизация была присуща ему, он действительно «мыслил стихами». Андрей Белый считал Бальмонта «гением импровизации». Однако сводить дело к одной импровизации нельзя. Творческий процесс поэта превосходно описала в мемуарах Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, поэтому позволим себе длинную цитату из них:
«Писал, как известно, Бальмонт много, особенно стихов. Иногда по несколько стихотворений в день. Когда у него была такая стихотворная полоса (обыкновенно осенью, когда он жил у моря), он еле успевал записывать стихи. Клал около постели бумагу и карандаш, так как просыпался ночью с готовым стихотворением.
И как странно возникали в нем стихи, как будто непредвиденно для него самого: от созвучия слов, произнесенных кем-нибудь случайно, от взгляда, цветка, шороха, запаха…
Стихотворение „У моря ночью темно и страшно“ возникло от слов, произнесенных нашей знакомой, с которой Бальмонт встретился на берегу моря в темноте. Стихотворение „Чет и нечет“ — от шума падающих с крыши капель. „В столице“ — от проезжающего воза с сеном. „Бойтесь старых домов“ внушено ему было картиной Борисова-Мусатова, изображающей старый дом в парке.
От музыки почти всегда рождались в нем стихи. Они слагались в его душе без размышлений, без раздумий. (Может быть, мне это казалось только со стороны.) Бальмонт же как-то написал мне, правда, будучи уже стариком, что ему приходилось для заработка писать прозаические очерки. „И стихи я писал, ну, стихи-то сами приходят, хотя им нередко предшествуют долгие часы поглощающих размышлений“ (из письма 15 декабря 1926 года). <…>
Стихи возникали у него мгновенно. Сидит, погруженный в латинскую грамматику, и, оторвавшись от нее на минуту, рассматривает нарциссы, стоящие перед ним. Смотрит долго и начинает отбивать ритм пальцами:
Точно из легкого камня иссечены, В воду глядят лепестки белоснежные…В другой раз сидим у моря, смотрим на закат. Вдруг Бальмонт срывается с места и, заложив руки за спину, сгибая и разгибая в такт пальцы, ходит по берегу взад и вперед, от всех отдалившись. По дороге домой молчит. Спешит к себе в комнату записать новый стих „Закатный час“. И записывает его в свою записную книжку прямо набело, уже не меняя в нем ничего. <…>
Все стихи Бальмонта в сущности точные пересказы его душевных переживаний, чувств, мыслей и мечтаний».
На первый взгляд «Фейные сказки» разительно отличаются от других книг поэта 1900–1905 годов («Горящие здания», «Будем как Солнце», «Только Любовь» и «Литургия красоты»). «Сказки» действительно новы и необычны на фоне бальмонтовской лирики и поэтому воспринимаются как нечто промежуточное между названными книгами и последующими сборниками 1906–1909 годов. Но есть основание считать, что «Фейные сказки» завершают второй период творчества Бальмонта. В книгах «Только Любовь» и «Литургия красоты» настойчиво звучит мотив «вечного возвращения» — мотив воспоминания о детстве, личностном и вселенском. В «Фейных сказках» детство как бы воскрешается. В стихотворении «Утро», обращаясь к дочери, поэт писал:
Ты причудливой с первых мгновений была, И ко мне возвратилось младенчество лет.Мысль о целостном единстве своего творчества Бальмонт высказывал сам. В 1904 году он писал: «Мое творчество началось Под северным небом, но силой внутренней неизбежности, через жажду безграничного, Безбрежного, через долгие скитания по пустынным равнинам и провалам Тишины, подошло к радостному Свету и Огню, к победительному Солнцу».
Аналогичную точку зрения на творчество Бальмонта высказывал и Александр Блок — в рецензии на «Литургию красоты». Во-первых, он увидел неразрывную слитность этой книги с его предшествующими сборниками: «То, что прежде волновало, Бальмонт замыкает ключами своих „стихийных гимнов“». Во-вторых, в некоторых стихах «Литургии красоты» Бальмонт, по мнению Блока, «открывает выход» в новые сферы творчества.
Творчество Бальмонта первого пятилетия XX века имело ключевое значение для символизма. Отсюда пристальный интерес к нему в это время как «старших», так и «младших» символистов. Помимо Валерия Брюсова, Александра Блока, Андрея Белого, Владислава Ходасевича о нем писали Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский.
Так, Анненский в статье «Бальмонт-лирик», не отрицая дерзости, смелости и многих противоречивых высказываний в стихах поэта, которые могут вызвать возмущение, делает такой вывод: «В лирическом я Бальмонта есть не только субъективный момент <…> — его поэзия дала нам и нечто объективно и безусловно ценное, что мы вправе учесть теперь же, не дожидаясь суда исторической Улиты. <…> Изысканность Бальмонта далека от вычурности. Редкий поэт так свободно и легко решает самые сложные ритмические задачи и, избегая банальности, в такой мере чужд и искусственности, как именно Бальмонт. Его язык — это наш общий поэтический язык, только получивший новую гибкость и музыкальность».
Глава пятая «РАЗВЕНЧАННЫЙ ВЕЛИКИЙ»
С 1906 года обозначился один из самых сложных периодов в биографии и творчестве Бальмонта. В жизни — это семилетняя эмиграция, отрыв от родины, родного языка. В творчестве — осмысление пережитого за последние годы кризиса, поиски нового содержания, новых поэтических форм.
В ночь с 31 декабря 1905 года на 1 января 1906 года Бальмонт с семьей выехал во Францию. Выехал спешно, так как над ним нависла реальная угроза ареста: после подавления Декабрьского вооруженного восстания на московских улицах были развешаны портреты подстрекателей к бунту, среди них портреты Горького, Андреева, Чирикова, других писателей, в том числе Бальмонта.
В Париже Бальмонты устроились в тихом районе Пасси, недалеко от Максимилиана Волошина. С ним и его женой Маргаритой Васильевной Сабашниковой, занимавшейся живописью, они часто встречались. Когда Волошины уехали в Петербург, Бальмонты переселились в их квартиру. А в начале третьего года жизни в Париже в том же районе Пасси на улице Tur (Башня) нашли двухэтажный домик в пять комнат, с садиком во дворе. Поэт был очень доволен жильем: вдали от городского шума, суеты, назойливых звуков автомобилей. Это жилье Бальмонт сохранял за собой вплоть до 1915 года.
Нужно было привыкать к положению эмигранта. В России Бальмонт много печатался в периодике, издавался и хорошо зарабатывал. Теперь возникали издательские трудности. В письме Волошину он сетовал: «Написал много стихов, но не знаю, что с ними делать. Горе мне, прошли времена, когда меня просили и разрывали». Издательские дела скоро поправились: Бальмонта стали так же, как и раньше, много печатать в газетах и журналах, издавать книги, оригинальные и переводные. Главная проблема заключалась в том, что он оказался в чужой, хотя и хорошо знакомой стране на неопределенный срок. В России революционные волнения продолжались еще два года, по политическим мотивам закрывались газеты, журналы, типографии. Всё происходящее на родине Бальмонт принимал близко к сердцу. «Душно в России, низко, — писал он Брюсову 2 июля 1906 года. — Я надолго ушел опять в свои перламутровые раковины». Описывал и свое душевное состояние: «Эту зиму я был в жестоком чистилище, терзал и терзался…»
Антимонархические и революционные настроения у Бальмонта сохранялись. На этой почве он сблизился в Париже с Александром Валентиновичем Амфитеатровым. Прозаик, публицист, поэт, Амфитеатров получил громкую известность в 1902 году своим памфлетом «Господа Обмановы», в котором высмеивал членов династии Романовых и самого царя Николая II (под именем Ники-Милуши). Газету «Россия», где был напечатан памфлет, закрыли, а автора памфлета сослали в Минусинск. В 1904 году Амфитеатров уехал во Францию, где с начала 1906 года начал издавать журнал «Красное знамя» (вышло всего шесть номеров). К активному сотрудничеству в нем Амфитеатров привлек Бальмонта. В журнале также печатались М. Горький, А. Куприн, А. Федоров, М. Рейснер, два стихотворения опубликовал М. Волошин.
Бальмонт весьма сочувственно отнесся к программе «Красного знамени» и, приветствуя выход первого номера, в письме от 26 апреля 1906 года вдохновлял редактора: «Это именно то, что нужно было сказать. Эти слова нужно разбросать по всей России. Ненавижу мягкотелость русских и их неумение мстить». После получения третьего номера «Красного знамени» так отозвался Амфитеатрову о журнале: «К сожалению, лишь то, что Вы пишете, интересно. Другие сотрудники, у compris notre grand М. Gorky (включая нашего великого М. Горького [фр.]. — П. К., Н. М.), очень плохи».
В «Красном знамени» Бальмонт напечатал 42 стихотворения. Все они вошли в его книгу «Песни мстителя», выпущенную за свой счет в Париже в первой половине 1907 года. Всего в ней было 50 стихотворений, в том числе семь перешли из сборника «Стихотворения».
О содержании этой книги и настроении, в каком она создавалась, Бальмонт сообщал Брюсову в письме от 30 августа 1907 года: «„Песни мстителя“. Это вопль мой, это отклик на 9 января и на нашу чудовищную Цусиму, с которой примириться не могу, ибо люблю Славян <…>. Это вопль человека, который не хочет и не может присутствовать на бойне, и потому уехал из России, которая ему именно в данную минуту его внутреннего развития так нужна, как не была еще нужна никогда. Хороши или плохи эти песни, не знаю, но каждая вырвалась из души, „рабочие“ стихи создавались потому, что, слыша в душе своей залпы орудий и ружей, расстреливающих рабочих, чувствовал себя рабочим».
В «Стихотворениях» и «Песнях мстителя» (если рассматривать их вместе, для чего есть все основания) можно выделить несколько тем, объединенных образом лирического героя-мстителя. Значительную часть составляют стихотворения, обличающие царя и самодержавие: «Наш царь», «Царь-ложь», «Будто бы Романовы», «Николаю Последнему», «Истукан». Некоторые из этих стихов написаны в стиле эпиграммы. Среди них есть пророческие, как, например, «Наш царь» и «Николаю Последнему». Известность приобрели строки:
Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима, Наш царь — кровавое пятно… ………………………………… Кто начал царствовать Ходынкой, Тот кончит, встав на эшафот. (Наш царь)Не вдаваясь в подробный анализ, назовем другие тематические группы. Это обличающие стихотворения в адрес защитников и приспешников самодержавия («Русскому офицеру», «Неистовое воинство», «Дева-Обида», «Нарыв»). К ним примыкают стихи, обличающие мещан, либералов, уклонившихся от борьбы («Начистоту», «Слепцы», «Темным»). В некоторых стихотворениях отражены эпизоды революционной борьбы: 9 января, всеобщая политическая стачка, вооруженное восстание в Москве и т. д. («Двенадцатый час», «Слитный голос», «Зверь спущен»). Гимнические стихотворения, прославляющие восставших («Русскому рабочему», «Земля и воля», «К рабочим» и др.). Особняком стоят стихотворения, опубликованные в «Красном знамени» в виде цикла «Гнев славянина» («Руда», «Вестники», «Слепцы», «Неизбежность», «Гунны»). Сюда можно присоединить стихотворение «Славянский язык» и «Песни польского узника» из «Дзядов» А. Мицкевича, ассоциативно соотносящие революцию 1905 года и Польское восстание. Во всех этих стихотворениях есть отзвуки славянской темы, которую Бальмонт заявлял в «Литургии красоты» и целиком посвятит ей книгу «Жар-птица».
Пестроте и разобщенности содержания соответствовала и пестрота стилистики. Надо учитывать, что некоторые стихотворения, вошедшие в книгу «Песни мстителя», писались одновременно со стихами для будущих сборников «Злые чары» и «Жар-птица». Поэтому встречаются, например, мотивы чар и ворожбы, образы из русского и славянского фольклора, из «Слова о полку Игореве».
«Песни мстителя», изданные за границей и запрещенные для распространения в России, не могли стать предметом рецензий, а вот на сборник «Стихотворения» отозвались оба символистских журнала — «Весы» и «Золотое руно» (рецензия поэтессы Л. Столицы). В том и другом Бальмонта упрекали за измену своему поэтическому призванию и таланту. Особенно его задела рецензия Брюсова в «Весах» (1906. № 9): «В какой же несчастный час пришло Бальмонту в голову, что он может быть певцом социальных и политических отношений, „гражданским певцом“ современной России! Самый субъективный поэт, какого только знала история поэзии, захотел говорить от лица каких-то собирательных „мы“, захотел кого-то судить с высоты каких-то непонятных принципов». И далее Брюсов делает такое заключение: «Трехкопеечная книжка… производит впечатление тягостное. Поэзии здесь нет и на грош». Свой вывод он подкрепляет убийственными для такого поэта, как Бальмонт, примерами антихудожественности и неряшливости его «рабочих» стихов. Многие из упреков Брюсова могут быть адресованы и «Песням мстителя», что не исключает наличия в книге отдельных сильных стихотворений («Поэт — рабочему», «Руда», «Славянский язык», «Волчье время»), образных находок, афористичных строк. Блок, между прочим, писал, вероятно, имея в виду и Брюсова: «Новый Бальмонт с его плохо оцененными рабочими песнями и с песнями, посвященными „только Руси“, стал писать более медленным и более простым стихом».
С эстетической точки зрения Брюсов был прав. Горький оказал Бальмонту медвежью услугу, издав, да еще массовым тиражом, его скоропалительные, сочиненные на злобу дня «Стихотворения». Однако с нравственной точки зрения в отношении к поэту-изгнаннику Брюсов был не безупречен. Тон его рецензии Бальмонт нашел «нелитературным, уличным». Кроме того, он почувствовал в рецензии нотки злорадного торжества и истолковал ее как проявление давней ревности и зависти Брюсова, о чем сообщил Бахману в письме от 21 марта 1907 года, присовокупив разъяснение своей позиции в 1905 году: «Я никогда не был демагогом. И никогда не буду. А определенный исторический момент не мог меня не волновать, и я не мог так или иначе не отозваться на него! Может, не выразительно отозвался, но только, знаю, вполне чистосердечно». Почти то же самое Бальмонт писал Брюсову спустя четыре месяца. Слова о «ревности» и «зависти», дошедшие до Брюсова, вызвали у него резкую ответную реакцию, что отразилось в переписке поэтов.
Разумеется, речь надо вести не только о ревности и зависти, но и о принципиально разном отношении поэтов к революции 1905 года. Свое отношение к ней Брюсов выразил в словах: «Революцией интересуюсь лишь как зритель». Бальмонт воспевал бурю и при публикации стихотворения «Слепцы» в «Красном знамени» сделал такое посвящение: «Поэту, не понимающему бури, В. Брюсову». В «Песнях мстителя» посвящение он снял, но 1 ноября послал Брюсову это стихотворение на открытке, воспроизводящей картину Питера Брейгеля «Слепые» с недвусмысленным намеком, что он, Брюсов, не оценил искренние революционные порывы автора стихотворения.
Позицию Бальмонта в 1905 году иногда трактуют в литературе как анархическую. По-видимому, у него в какой-то мере сохранились симпатии к теоретику анархизма Кропоткину, которым он увлекался в юности, но говорить о сознательной приверженности Бальмонта идеям анархизма нет никаких оснований. Он проявлял себя как «стихийный гений», «стихийный поэт», живущий настроениями момента. В письме Брюсову от 30 августа 1907 года он еще раз высказал свою чуждость партийности и партиям: «Социал-демократы мне глубоко противны. <…> Презирая партию Социал-демократов, я презираю и партию Декадентов, и партию Академиков, все партии в мире». Социал-демократы упомянуты не случайно: в рецензии Брюсова на «Стихотворения» прямо говорилось, что Бальмонт «сотоварищ социал-демократов».
Впоследствии Бальмонт пересмотрел свое отношение к революции и стихам, с нею связанным. После Февральской революции Амфитеатров возобновил издание «Красного знамени» (вышло три номера) и предложил Бальмонту перепечатать в первом номере произведения, появившиеся в журнале в 1906 году. Поэт позволил это сделать, но исключил самые резкие, сказав по этому поводу: «Это не соответствует моему теперешнему настроению. Тогда я жаждал крови!» Эти слова Бальмонта записал в дневник сын Амфитеатрова и далее, сообщая, что было снято стихотворение «Истукан» («Есть такой большой болван…»), направленное против императора, добавил: «Бальмонт не хочет, считает неблагородным нападать на низверженного…»
В послеоктябрьский эмигрантский период 16-страничный сборник «Стихотворения» и книжку «Песни мстителя» в рекомендательных библиографических списках, прилагаемых к своим изданиям, Бальмонт ни разу не упомянул. Издание этих сборников он считал своей ошибкой, как и само участие в революции.
Весной 1906 года Бальмонт составил новую поэтическую книгу. В нее вошли лирические стихотворения, написанные в 1905 году и только что сочиненные. Во второй половине 1906 года книга под названием «Злые чары» в оформлении художника Е. Лансере вышла в издании журнала «Золотое руно». Журнал этот издавался московским миллионером-меценатом Н. П. Рябушинским и продолжал традиции «Мира искусства» — выходил на прекрасной бумаге, богато оформленный (рисунки, заставки, виньетки, великолепные цветные иллюстрации и репродукции). В журнале Бальмонт постоянно печатался, опубликовав, помимо стихов, статьи-эссе и очерки «Об О. Уайльде», «Чувство расы в творчестве», «Наше литературное сегодня», «С Балеарских берегов», «Певец побегов травы» (об Уитмене) и др.
Книга «Злые чары» наметила новую веху в творчестве поэта — выход в сферу «народных стихий» через устное творчество русского народа и славянский фольклор. Само название сборника намекает на «чарование» народной души темными силами, передает душевное состояние поэта, высказанное в письме Брюсову («Душно в России, низко»), и по-своему выражает протест против этой «душной» атмосферы. Наиболее сильно это настроение проявилось в стихотворениях «Отречение», «Пир у Сатаны», «Будь проклят Бог!». В них лирический герой, и раньше не раз обращавшийся к Богу с упреками за такое устройство мира, где человек обречен на страдания, доходит до отчаянного вызова, до отречения от всех богов на земле.
Книгами «Злые чары» (1906) и «Жар-птица» (1907) Бальмонт своеобразно перекликался с неославянофильскими тенденциями в русском символизме второй половины 1900-х годов. Обозначенный Вяч. Ивановым путь развития современной литературы «от символа к мифу», к стихийному «погружению в тайники народной души» одновременно и притягивал поэта, и отталкивал его мистическими «безднами». Он по-прежнему стремился идти собственным путем. Пережитый опыт первой русской революции, ностальгические чувства во время заморских путешествий и в эмиграции приводят Бальмонта к обостренной связи с родиной. «Славянские корни», обозначившиеся в «Литургии красоты», подвигают его к изучению национального фольклора и мифологии древних славян, чтобы глубже понять «народную душу». Большой интерес вызывают у Бальмонта книги А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» и С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903). На последнюю в 1904 году он написал рецензию «Символизм народных поверий». В письме от 10 августа 1905 года из Бретани поэт спрашивает Т. А. Полиевктову: «Не пора ли возвращать Афанасьева, или можно еще подержать? Эта книга дала мне за <последний> год столько светлых минут, что не знаю, как ее благословлять». Кроме того, в других письмах Бальмонт просит прислать ему во Францию сочинения Ф. Е. Корша, Всеволода Миллера, а также Ореста Миллера, «Церковно-славянскую грамматику» Ф. И. Буслаева.
В эссе «Флейты из человеческих костей. Славянская душа текущего мгновения» (1906) поэту во сне является «тень родной страны, душа народной песни». «Тень» дает ему два амулета, «светлый и темный», один из них «возрождает», другой «отомщает», и призывает быть «твердым», способным разрушить «злые чары», околдовавшие родную страну. Намеченные в эссе мотивы получили воплощение в книге «Злые чары». Символистская критика встретила ее неблагосклонно. В частности, Брюсов, отметив несколько «прекрасных страниц», особо подчеркивал, что «русской стихии в его <Бальмонта> душе нет», писал если не о «закате», то об «ущербе» дарования поэта. Современные исследователи постсоветского времени обращают внимание не на национальный колорит «Злых чар», а на «дьявольские» интонации в сборнике, восходящие к древнему гностицизму.
Действительно, образы народных сказок, легенды, заговоры художественно осмысляются Бальмонтом на космогоническом уровне извечного противостояния-взаимообратимости Добра и Зла, Бога и Сатаны. Движение здесь подчинено неумолимому закону «вечного возвращения»:
Круговидные светила — Без конца и без начала. Что в них будет, что в них было, Что в них нежность, станет жало. (Круги)Лирического героя преследует «чудовище с клеймом: Всегда-Одно-и-То-же». Он утерял свои индивидуальные «начала» и «концы», с болью ощущает:
Я письмен безвестных странный знак, Вписан — да, но для чего — не знаю. (Не знаю)Жизнь предстает как «оргия», где царит жестокость борьбы за существование:
Безжалостны птицы. Без жалости звери. Безжалостность — свойство всех тех, кто живет. (Оргия жизни)Бальмонтовский герой то обращается к Всевышнему с «молитвой последней» («Боже, не дай мне людей разлюбить до конца»), то проклинает Бога, отождествляя его с Дьяволом в стихотворении «Будь проклят Бог!»:
Будь проклят, Дьявол, Ты, чье имя — Бог, Будь проклят, проклят в громе песнопений.Символика «змеиного», вырастая из библейского контекста («Люцифер светел как Змей»), расширяется до всеобъемлющей «змеиноликости» («змеиность чар», «змеиность» женских душ, «змеиные валы», «змейности извива жизни»).
В «Злых чарах» впервые появляется очень важный для лирики Бальмонта образ «мирового древа» (Иггдрасиль, Игдразиль, Игдразил; в скандинавской мифологии — это исполинский ясень), навеянный не только скандинавской Эддой, но и «Поэтическими воззрениями славян на природу» А. Н. Афанасьева, видимо, оттуда пришло название «древа» — «дуб». У Афанасьева читаем: «Предания о мировом древе славяне по преимуществу относят к дубу». Мировое древо — «посредствующее звено между вселенной (макрокосм) и человеком (микрокосм)»[14] — символизирует в бальмонтовской книге бессмысленность и тщетность всех человеческих усилий:
Не так ли мы жужжим, поем В пещерах мировых? В дуплистом Небе, круговом, Поем судьбе свой стих, Но нас не слышит Игдразиль Таинственных судеб. Мы в мед сольем цветную пыль, Но мед мы сложим в склеп. (Мировое древо)Впоследствии символ «мирового древа» — один из главнейших у поэта — пройдет через многие сборники и найдет наиболее сложное и глубокое мифопоэтическое выражение в книге «Ясень. Видение Древа» (1916).
Другой интегрирующий символ в «Злых чарах» — «камень». «Самоцветные камни земли самобытной», как одна из граней бальмонтовского «изысканного» стиха, имели принципиальное значение для поэтики всего русского символизма. «Темный», «страшный» камень драконит наделен в «Злых чарах» колдовской силой мщения, не случайно он таится в «мозге зверя» Дракона. Мотив отмщения, борьбы с силами зла, весьма существенный в книге, достигает кульминационного пафоса в стихотворении «Святой Георгий», написанном еще в 1900 году и не пропущенном цензурой в книге «Будем как Солнце». Бальмонтовский «святой Георгий», как богатырь на распутье, не знает, куда идти после победы над «сильным Змеем»:
Святой Георгий, убив Дракона, Взглянул печально вокруг себя. Не мог он слышать глухого стона, Не мог быть светлым — лишь свет любя. Он с легким сердцем, во имя Бога, Копье наметил и поднял щит. Но мыслей встало так много, много, И он, сразивши, сражен, молчит.«Светлый» «возрождающий» камень, электрон, ассоциируется с русским заговорным камнем «алатырь», пришедшим в книгу Бальмонта из «Поэтических воззрений славян на природу». Народная вера в магическую силу слова оказалась созвучной поэту, в «Злых чарах» он создает несколько удачных стилизаций русских народных заговоров: «Одолень-трава», «Зоря-Зоряница», «Заклинание», «Заговор от двенадцати девиц», «Наговор на недруга» и др.
«Злые чары», окутавшие мироздание, иногда приобретают у Бальмонта конкретные очертания. В стихотворении «Черные вороны» можно обнаружить отголоски трагических событий 9 января 1905 года:
Словно внезапно раскрылись обрывы. Выстрелы, крики, и вопли, и взрывы. Где вы, друзья?Эпиграфы из Красинского и Мицкевича («Пой и проклинай!») ко второму разделу достаточно откровенно говорят о сочувствии Бальмонта польским вольнодумцам. В эссе «Флейты из человеческих костей» поэт включил стихотворение «Я с ужасом теперь читаю сказки…», в котором речь идет не о воспоминаниях детских лет, лирический герой воспринимает настоящую, несказочную «…живую боль в ее огласке, / Чрез страшный шорох утренних газет».
Мотив «околдованной» русской народной души впервые прозвучал в статье Андрея Белого «Луг зеленый» (Весы. 1905. № 8), где он сравнивал Россию с гоголевской «пани Катериной», душу которой украл колдун. Видимо, Бальмонт читал эту статью (хотя она и не была для него таким откровением, как для Блока, использовавшего найденный Белым образ в своем будущем цикле «Родина»), Во всяком случае, лирический герой поэта тоже готов бороться за свободу попавшей во власть «злых чар» народной души. Эпиграф к книге из «Слова о полку Игореве» о «кровавых зорях» и «синих молниях» предвещает неизбежность и трагичность этой борьбы. Из «Горящих зданий» возвращается мотив «набатного слова», столь необходимого в дни битв и «пожаров» («Гуди же, колокол, трезвонь, / Будь криком в сумраке неясном…»).
В нескольких стихотворениях («Два строя», «Над морем») мелькают автобиографические черты бальмонтовского «я», дающие ему возможность «заглянуть» в память о неудачной попытке самоубийства, осознать драматичность метаний «меж двух любимых».
Эссе «Флейты из человеческих костей» завершалось мечтой поэта о том, что «ручей» его лирики впадает в реку народной поэзии. «„Злые чары“ были тем лабиринтом, пройдя который, поэт вернулся на просторы своей родины — иным, чем ушел от них», — писал об этом сборнике А. Блок в статье «О лирике» (Золотое руно. 1907. № 6).
За стихотворения «Отречение», «Будь проклят Бог!» и «Пир у Сатаны» сборник «Злые чары» был запрещен цензурой. Но еще до ареста тиража 300 экземпляров книги успели продать. Дело о запрещенных стихотворениях будет возобновлено в 1911 году, когда встанет вопрос о включении «Злых чар» в состав VI тома Полного собрания стихов Бальмонта в издательстве «Скорпион». Эти стихотворения цензура признает кощунственными и в состав VI тома не допустит. Автор же стихотворений подвергнется судебному преследованию, так что, появись Бальмонт в России, — его бы арестовали и судили. Амнистия 1913 года судебное дело прекратит.
По всей вероятности, особое возмущение цензуры вызвало стихотворение «Пир у Сатаны», построенное на гротескном сопоставлении пира у Сатаны и пира у Господа, причем Сатана изображался более могущественным, нежели Бог. Сам Бальмонт обвинения в богохульстве считал недоразумением. «Обвинение <…> явно противоречит всему моему творчеству, писатель не может быть ответственным за ту форму, в какую выливается творчество. Помимо того, я люблю Бога, и если бы обвинители знали другие мои книги, кроме „Злых чар“, то они не стали бы обвинять меня в кощунстве», — скажет поэт в беседе с корреспондентом газеты после возвращения в Россию (Возвращение К. Д. Бальмонта // Русское слово. 1913. 7 мая).
На наш взгляд, о любви к Богу, при наличии в стихах демонических мотивов, в сущности говорят все книги Бальмонта, но божественное выражается у него не в религиозно-христианских догмах, а в характерных для символической поэзии тематике и формах — в виде диалога или переживаний лирического героя, далеко не всегда совпадающего с личностью автора. В эти филологические тонкости цензура, конечно, не вдавалась. Цензурный запрет «Злых чар» не мог не огорчить Бальмонта, но не мог и повлиять на его творчество. Уже летом 1906 года он усиленно работал над следующей книгой «Жар-птица».
Лето этого года Бальмонт провел в местечке Примель в западной части Франции, омываемой Атлантическим океаном. Еще в конце 1890-х годов он написал стихи о Бретани, не побывав там. Его всегда привлекала экзотика. Жители Бретани, бретонцы, разительно отличались от французов, они сохранили свой язык и обычаи, восходящие к далеким предкам. Приведя два стихотворения под общим названием «Бретань» в очерке «Пьяность солнца (Бретань)», Бальмонт заметил: «Мне странно теперь знать, после того, как я видел Бретань, узнал ее, — эти строки воистину овеяны бретонским воздухом».
Стихи о Бретани, вошедшие в «Горящие здания», и там же опубликованные стихотворения «К Бодлеру», «Сумрачные области…» (из цикла «Совесть»), «Молебен» были написаны как трехстрочия, то есть как стихотворения из трех строк с одной рифмой. По словам Бальмонта, их ритм «был колдующей новостью как для меня, так и для тех поэтов, которым я читал свои стихи». Летом же 1906 года он с удивлением обнаружил, что его эксперимент в области ритмики совпал с обычной формой стиха в ритуальных друидических песнопениях бретонцев. В 1906 году в форме трехстрочий Бальмонт написал стихотворение «Три неба», напечатанное в «Жар-птице», позднее эта форма стиха не раз встречается у поэта, особенно в «Зеленом вертограде», где имитируются сектантские песнопения.
В очерке «Пьяность солнца» Бальмонт описал Примель, окружающую природу и образ жизни бретонцев-рыбаков. Бальмонта вполне устраивали скромный быт и обстановка: близкий берег моря, зеленые холмы, поля, тишина. Приезжих было мало — не то что на каком-либо модном курорте. «Снова судьбою мне было послано счастливое солнечное лето, — вспоминал поэт. — <…> В это лето я написал „Жар-птицу“, а также целый ряд вещей, которые вошли в „Песни мстителя“ и <…> книгу „Птицы в воздухе“». В одно время с Бальмонтом в Примеле отдыхали и работали художник Александр Бенуа и молодой ученый-филолог Александр Смирнов, товарищ Блока по Петербургскому университету. Оба в дальнейшем прославятся — каждый в своей области: А. Н. Бенуа — как выдающийся деятель искусства, а А. А. Смирнов — как переводчик, видный специалист по западноевропейским литературам, профессор Ленинградского университета.
Бальмонт приехал в Примель с семьей по совету Бенуа, который с женой и дочерью провел там и предыдущее лето. О встречах с Бальмонтом в Примеле он расскажет в своих известных мемуарах «Мои воспоминания», правда, отнесет эти встречи ошибочно к 1905 году.
После Примеля, по приглашению Дагни Кристенсен, Бальмонт ездил в Норвегию. Как обычно, Скандинавия притягивала его. О месячном пребывании поэта в Норвегии, к сожалению, мало что известно. Состоялась встреча с Кнутом Гамсуном, которого он любил как писателя, оригинального певца любви и природы, о чем писал в предисловии к гамсуновскому роману «Пан». Отзвуки поездки в Норвегию можно обнаружить в цикле коротких стихотворений «Свет прорвавшийся», который вошел в книгу «Птицы в воздухе» (скандинавский ландшафт, ибсеновский строитель башни Зодчий и др.).
Книги «Жар-птица. Свирель славянина» и «Птицы в воздухе. Строки напевные» вышли одна за другой в 1907 году. Первая была издана издательством «Скорпион» как седьмой том Полного собрания стихов и более не переиздавалась. Но часть тиража с обложкой, оформленной художником Константином Сомовым, продавалась отдельно. Выход второй книги — она была выпущена издательством «Шиповник» — датируется ноябрем 1907 года (на обложке указан 1908 год). Обе книги, как и «Злые чары», пронизаны стремлением проникнуть в стихию народной жизни и стихию природы. Следует заметить, что в новый период творчества круг книжных источников, вдохновлявших Бальмонта (всегда немалый), значительно расширился. Большую роль в нахождении и пересылке поэту нужных книг играла близкий друг семьи Татьяна Алексеевна Полиевктова, о чем свидетельствуют многочисленные письма Бальмонта к ней, хранящиеся в РГАЛИ. Так, получив трехтомник А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», Бальмонт писал ей 1 февраля 1906 года с благодарностью: «Ни Вы не знали, ни я не подозревал, сколько они мне дадут. Они послужат исходной точкой для целой эпохи, новой эпохи в моей жизни. Я ничего не могу читать — только их <…>. У меня возникает в душе целый мир замыслов и литературных планов». Т. А. Полиевктова стала также помощником и доверенным лицом поэта по издательским делам в России. В одном из писем он послал ей такое дружески-шутливое стихотворение:
Ты медлительно-русская, Но нежна ты, как лилия, И душой ты не узкая, Ты святая Цецилия! Ты подводная лилия. Ты в расцвете азалия, Ты святая Цецилия, Голубая Италия.В последней строке — намек на итальянские корни Татьяны Алексеевны.
В связи с подготовкой издания «Жар-птицы» между Бальмонтом и Брюсовым возникла полемика в письмах. 28 ноября Бальмонт, отправив «Жар-птицу» в «Скорпион», заявил в письме Брюсову: «До „Жар-птицы“ у нас не было славянского поэтического самосознания. В „Жар-птице“ оно впервые появилось». При этом, как явствует из многих контекстов, говоря о славянах и славянском, поэт в первую очередь подразумевал Россию и русских. Брюсов, еще со «Злых чар», подобное направление в творчестве Бальмонта не одобрял и в письме от 16 февраля возразил ему: «Славянское поэтическое самосознание уже есть в творчестве наших великих поэтов». Что касается Бальмонта, то он, по мнению Брюсова, «никогда не чувствовал русской стихии». «Это вне твоей души, — убеждал он Бальмонта. — Стиля, взятого тобой в „Жар-птице“, ты не выдерживаешь ни на одной странице».
Бальмонта особенно задело, что Брюсов отказывает ему в национальном содержании и значении его творчества в то время, когда, по словам Блока, его волновала «только Русь», когда он весь был устремлен к познанию и воплощению ее души. Брюсову поэт ответил в том смысле, что ему, Брюсову, отравленному городом и городской цивилизацией, которую он, Бальмонт, не принимает, просто не дано понять его творчество: «То, что ты говоришь о моей „Жар-птице“ и о моем творчестве, прости, убого. Ты ведь не умеешь отличить кукушкины слезки от подорожника, ты не знаешь, что такое заячья капуста и что такое росинка на дреме <…>. Ты не знаешь, что такое Иванова ночь и папоротник. И сколько ты еще не знаешь и никогда не узнаешь в этой жизни. Так тебе ли говорить о понимании, до глубины, Русской Стихии, этой Великой Деревни». В Брюсове Бальмонт видел лишь талантливого певца города.
Если отбросить неизбежные в споре задор и преувеличение, нельзя не увидеть, что в этой полемике шла речь о принципиально важных для Бальмонта вещах — о выходе в творчестве к теме России и образу России. Выходе не легком, не прямом, но связанном с постижением национальных особенностей России и русского характера. Эстетизированный и разносторонний Брюсов с его сильной ориентацией на французскую поэзию казался Бальмонту очень далеким от русской жизни и проблематики, хотя это было не совсем так.
Во многом не устраивал Бальмонта и журнал «Весы», ведомый Брюсовым, что также отразилось в их эпистолярном общении. Тут была и сугубо личная причина: появление в журнале подряд нескольких негативных оценок бальмонтовских стихов и переводов, в том числе фельетонный отзыв Корнея Чуковского о его переводах из Шелли, в котором критик придерживался чисто буквалистского взгляда на сущность перевода, отвергнутого современной теорией и практикой переводческого искусства. Бальмонт справедливо выражал негодование по этому поводу: он в принципе не принимал грубости в критике, развязного и пошлого тона в ней — в духе скандально известного Виктора Буренина. В «Весах» особенно огорчали его полемические статьи Андрея Белого. Осуждал он и проявление кружковщины, сектантства в журнале, так как придерживался более широких взглядов на литературу. С ожесточением третировались в «Весах» писатели-реалисты из горьковского «Знания» и сам Горький («конец Горького» — писал Дмитрий Философов). И внутри самого журнала отражалось столкновение групповых интересов, вкусов, пристрастий, свидетельствующее о разладе в символистском движении.
Замечания о «кружковщине» Брюсов не мог не признать, он хорошо знал то, что Бальмонту издалека было мало известно. «Кружковщина» была одним из показателей кризиса, который переживал символизм. С одной стороны, символисты выглядели победителями, их перестали ругать, они стали модными, их художественные приемы заимствовались писателями и поэтами из других литературных направлений. «Творчество победителей» — так симптоматично озаглавил в 1907 году свою статью о символистах известный критик Аркадий Горнфельд. С другой стороны, сами символисты чувствовали неблагополучие в своем лагере. Идеалы и ценности символизма компрометировались, профанировались многочисленными эпигонами, Андрей Белый назвал их «обозной сволочью» символизма.
Брюсова как лидера символизма не могло все это не тревожить. Летом 1907 года он писал отцу: «Среди декадентов, как ты видишь отчасти по „Весам“, идут всевозможные распри. Все четыре фракции: „скорпионы“, „золоторуновцы“, „перевальцы“ и „оры“ — в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят один другого». Каждая из фракций выступала со своей программой. «Скорпионы» (в их числе «Весы») пытались отстоять автономное искусство. «Золотое руно», следуя принципу эстетизма, не прочь было поддержать такие литературные течения, как «мистический анархизм» и «неореализм». Кречетовский «Перевал» стремился соединить эстетизм с «общественностью» и вторгался в область политики. В альманахах издательства «Оры», руководимого Вяч. Ивановым, развивались идеи соборности и теургического мифотворчества. Споры между фракциями нередко приобретали ожесточенный характер. Бальмонт особенно не вникал в их содержание, но общее состояние литературы вызывало у него тревогу, что он высказал в статье «Наше литературное сегодня», напечатанной в «Золотом руне» (1907. № 11–12).
Статья эта примечательна. Во-первых, Бальмонт формулирует в ней свое понимание критики и ее задач. Во-вторых, в ней есть краткие характеристики некоторых современных писателей и поэтов и общего положения в литературе. По мнению Бальмонта, «когда речь идет о творчестве, можно говорить лишь о своем впечатлении», тут не нужны никакой анализ, никакие доказательства; ничего не дает и распределение писателей по рубрикам; классик, реалист, декадент, символист и т. п. В критике можно говорить только о своем ответном, «обогащенном моей собственной личностью, новом, измененном или вовсе новом, вновь родившемся художественном впечатлении». Как и во всем своем творчестве, в критике Бальмонт также остается верен импрессионизму. Характерно, что в статьях о литературе, зачастую написанных в виде эссе, — они составили книги «Белые зарницы» и «Морское свечение» — он часто делает пометки: мысли, впечатления, ощущения, видения и т. п.
Главным критерием в оценке творчества, с точки зрения Бальмонта, должен стать талант творца. Исходя из этого, он и выстраивает обзор текущей литературы России в рассматриваемой статье. Оценки писателей субъективны, ограничиваются личными впечатлениями, часто выраженными метафорически, с помощью ассоциаций. Например, «Блок неясен, как падающий снег, и как падающий снег уводит мечту, приведет ли куда, не знаю — хорошо, что порою уводит ее». Картина литературной жизни в настоящее время, по Бальмонту, определяется тем, что в литературе нет больших талантов. В поэзии, которая стоит гораздо выше прозы, еще есть значительные имена, которые уже что-то дали и могут дать (Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов, Блок, Балтрушайтис). Однако, по мнению Бальмонта, и здесь господствуют мелкие дарования, которые довольно успешно пользуются яркими достижениями в русском стихе, добытыми в предшествующее семилетие, — они-то, занимающиеся «словесным спортом», и определяют «мутную осень» в литературе. Из молодых, обещающих Бальмонт выделяет Михаила Кузмина и Сергея Городецкого и с надеждой говорит об Аделаиде Герцык, Любови Столице и Маргарите Сабашниковой. Герцык он вскоре посвящает очерк «Сибилла» (Золотое руно. 1909. № 10).
Между тем русский символизм со второй половины 1900-х годов начал культивировать новые эстетические ценности. Его представителей привлекали «старина, в пламенеющий час обуявшая нас мировым» (А. Белый), голоса далеких эпох, переживания забытых предков. «Стилизация — вот наиболее общая и важная черта нового искусства», — отмечал историк литературы Евгений Аничков в исследовании «Реализм и новые веяния» (СПб., 1909). Стилизация открывала широкие возможности нового освоения античных и восточных мифов, немецкого Средневековья, эпохи русского XVIII века. «Умение воспроизводить стили покоится на особом эстетическом внимании к созерцаемой эпохе; стилизация, являющаяся результатом эстетического созерцания той или иной эпохи <…> предполагает общие принципы стиля опознанными», — писал Андрей Белый в «Арабесках» (М., 1911).
В универсально-всемирных увлечениях символистов фольклорная стилизация до 1906–1907 годов занимала незначительное место. Постепенное пробуждение национального чувства, связи со своей страной, природой у символистов совпало с событиями первой русской революции. В статьях и выступлениях А. Блока («Стихия и культура», «Народ и интеллигенция»), работах Вяч. Иванова («О веселом ремесле и умном веселии», «О русской идее») и А. Белого («Луг зеленый», «Настоящее и будущее русской литературы») происходит напряженное осмысление задач, стоящих перед символистским искусством.
Одним из наиболее прямых способов приобщения к народным формам художественного мышления становится фольклорная стилизация, в области которой по-разному работали К. Бальмонт, С. Городецкий, А. Толстой, А. Ремизов. Сам термин «стилизация» понимался неоднозначно. Для М. Кузмина это — «перенесение своего замысла в известную эпоху и обличение его в точную литературную форму данного времени», как писал он в статье «О прекрасной ясности» (Аполлон. 1910. № 4). Вяч. Иванов, приветствуя освоение молодыми поэтами «родных древностей», указывал в «Письмах о русской поэзии», что «речь идет не о подражательном воссоздании старинных напевностей, но о естественных новообразованиях, органически воспроизводящих древние формы» (Аполлон. 1910. № 7).
В конце 1907 года в журнале «Весы» была организована специальная дискуссия о формах освоения современной литературой народно-поэтических традиций. Примечательно, что поводом к ней послужило издание книги Константина Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина».
В «Жар-птице» поэт поставил перед собой труднейшую задачу: по «неполным страницам» народных заговоров, былин, языческих мифов воссоздать «улетевшую Жар-птицу — мир психологических переживаний древнего славянина». «У меня возникает в душе целый мир замыслов и литературных планов. Если создастся Новая Россия (а она создастся), у свободного славянина найдется золотая узорная чаша, из которой он будет пить светлый мед Поэзии», — делился Бальмонт своими надеждами с Татьяной Алексеевной Полиевктовой в письме от 1 февраля 1906 года. Через полгода, 10 августа, поэт сообщал Татьяне Алексеевне: «Новая книга „Жар-птица“ готова почти совсем. Думаю, что недели через две отошлю ее в Москву искать счастья и что крылья этой птицы достаточно ярки, чтобы найти его».
Книга в законченном виде включала в себя четыре раздела: «Ворожба» — заговоры, «Зыби глубинные» — легенды и предания, «Живая вода» — былины и «Тени богов светлоглазых» — славянские языческие мифы. Каждый раздел был снабжен эпиграфом-знаком определенного драгоценного камня: хризолит, горный хрусталь, рубин, изумруд. Очевидно, поэт вкладывал символический смысл в эти обозначения и в само их количество, излюбленное «четверогласие».
В большинстве бальмонтовских текстов легко обнаруживаются фольклорные источники. Так, в разделе «Ворожба» это «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» И. П. Сахарова, в разделе «Живая вода» — «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», «Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом». Особенное влияние оказала на поэта книга А. Н. Афанасьева, что уже ощущалось в образном строе «Злых чар» и заметно в новых стихотворениях, вошедших в разделы «Зыби глубинные» и «Тени богов светлоглазых».
Воспроизводя образы древней славянской мифологии, Бальмонт стремился по-своему причаститься «поэзии мировых стихий», которой поклонялись наши предки. В легендарной «Глубинной книге» («Голубиной книге») поэт хочет получить ответ на вопрос:
Отчего у нас зачался белый вольный свет, Но доселе, в долги годы, в людях света нет?«Противопоставленность света и тьмы, тепла и холода, весенней жизни и зимнего омертвения» (А. Н. Афанасьев), лежащая в основе древних верований славян, образует причудливую космогонию бальмонтовских стихов. Верховным владыкой славянского «пантеона» поэт провозглашает «Небо, носящее имя Сварога». Однако небесная воздушная стихия, в интерпретации Бальмонта, живет переменчивыми настроениями существ, лишь внешне напоминающих грозных славянских богов далекого прошлого. «Арконский идол Руевита был вооружен семью мечами, привязанными сбоку в ножнах, а восьмой меч он держал в правой руке наголо», — сообщает А. Н. Афанасьев, повествуя о языческих божествах гроз, туч и вихрей. Вот как преобразует это повествование Бальмонт:
У Руевита семь мечей Висит, в запас, в ножнах. У Руевита семь мечей, Восьмой в его руках. У Руевита семь есть лиц, Что зримы над землей, А для богов, певцов и птиц Еще есть лик восьмой… (Руевит)Из всех природных стихий, обожествляемых древними предками, наиболее важной и таинственной представляется Бальмонту огонь, горение. «Огонь, будет ли это пламя Солнца, или пламя пожара, или хотя бы пламя свечи <…> освобождает нашу душу», — писал он в статье «Поэзия стихий». Стихотворения, воссоздающие древнеславянский культ огня и солнца, — лучшие в «Жар-птице». Недаром Брюсов, в целом негативно оценивший бальмонтовский сборник, признавал: «В „Жар-птице“ есть несколько прекрасных стихотворений, причем не все они чужды славянской и народной стихии (например, мне кажется очень значительным „Стих о величестве Солнца“)». Интересно обработан Бальмонтом фольклорный сюжет о вольном царе Огненном Щите. Лирический герой поэта довольно органично персонифицируется в образе бога Ярилы.
В венке из весенних цветов, Цветов полевых, Овеян вещаньями прошлых веков. В одеждах волнистых, красиво-живых, На белом коне, Тропою своей, Я еду, Ярило, среди Белорусских полей. (Ярило)«Многосложно и благоговейно отношение народа к другой мировой стихии, парной с Огнем, Воде», — писал Бальмонт в статье «Символизм народных поверий». «Странная и страстная» водная стихия представлена в «Жар-птице» в основном образами народной демонологии, которые поэт почерпнул не только у А. Н. Афанасьева, но и из книги С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила». Здесь «весь голый в тине, в шапке, свитой из стеблей», «старик-водяной», «дух смешливый» болотняник, что «как кочка предстает», коварное Морское чудо, глядящее «несчетностью пляшущих глаз». Богатую пищу воображению Бальмонта дал «поэтический образ фантастических жилиц надземных вод, вдохновлявший поэтов всех стран и соблазнявший художников всех родов изящных искусств» (С. В. Максимов). Помимо традиционной романтической русалки, по ее подобию создаются «водная пани», «морская панна», «берегини», сказочная «Мария Моревна» и легендарная «птица Сирин».
Жанровая стилизация фольклорных произведений в других разделах «Жар-птицы» ограничивала возможности лирического поэта, требуя или максимальной верности народному источнику, или его принципиального переосмысления. Бальмонт в основном работал с двумя фольклорными жанрами: заговором и былиной.
Народные заговоры ценны тем, как позже заметил поэт, что в них наиболее полно раскрывается «магическая сущность поэзии». В лучших книгах Бальмонта стремление «заклясть» хаос жизни было весьма далеко от народной магии. Приметы фольклорных заговоров впервые появились в «Злых чарах», но не в столь очевидной жанровой стилизации, как в «Жар-птице».
В раздел «Ворожба», открывающий книгу, поэт включил 19 текстов, представляющих собой прямое переложение народных заговоров, большей частью взятых из главы «Сказания русского народа о чернокнижии» известной работы И. П. Сахарова. «Черная магия не дается заклинателю стихий и света. Я сказал бы далее, что выбор заговоров, которые мне приходилось изучать подробно, — не вполне удачен», — отметил Блок, анализируя «Жар-птицу» в статье «О лирике». Действительно, многие важные для народных заклинаний мотивы и образы не получили отражения в книге.
Вместе с тем Блок оценил любовные заговоры, «которые Бальмонт передает лучше всех». Вот, например, как переработана поэтом заговорная формула № 41 («Заговор для любви») из сахаровского собрания:
Вы мечитесь к ней, тоски, К деве киньтесь вы, тоски, Опрокиньтесь вы, тоски, Киньтесь в очи, бросьтесь в лик, Чтобы мир в глазах поник, И в сахарные уста, Чтоб страдала красота. Чтобы молодец был ей Света белого милей, Чтобы Солнце ослепил, Чтобы месяцем ей был. Так, не помня ничего, Чтоб плясала для него. Чтобы тридцать три тоски Были в пляске позвонки. Чтоб кидалася она, И металася она, И бросалася она, И покорна, и нежна.В фольклорном источнике эта формула выглядит так: «Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски, в буйную ея голову, в тыл, в лик, в ясныя очи, в сахарныя уста, в ретивое сердце, в ея ум и разум, в волю и хотенье, во все ея тело белое, и во всю ея кровь горячую, и во все ея кости, и во все ея жилы…» и т. д.
Самые серьезные нарекания со стороны критики, в первую очередь символистской, вызвали попытки Бальмонта стилизовать былины. Резкий отзыв дал Брюсов (Весы. 1907. № 10): «Должно быть, находя, что наши русские былины, песни, сказания недостаточно хороши, он всячески прихорашивает их… Он одевает их в одежду рифмованного стиха… вставляет в былины изречения современной мудрости, генеалогию которых надо вести от Фридриха Ницше. Но как Ахилл и Гектор были смешны в кафтане XVIII в., так смешны и жалки Илья Муромец и Садко Новгородский в сюртуке декадента».
Между тем сам Бальмонт придавал былинному разделу «Жар-птицы», названному «Живая вода», особое значение. И не только потому, что, по его словам, в былинах состоялась «встреча» с «первородным, заколдованным миром, соединившим чарования личности с чарованиями Природы». В образах былинных богатырей он пытался разгадать жизнестойкие национальные черты характера русского человека. В раздел вошли стихотворные стилизации древних былин о Волхе Всеславлевиче, Святогоре, Соловье Будимировиче, Чуриле, Микуле Селяниновиче, Илье Муромце и Садко. Наиболее близким для поэта оказался герой русского богатырского эпоса Вольга (Волх Всеславлевич), мифический сын змея и женщины, наделенный таинственной силой перевоплощения. Ему посвящены два стихотворения раздела, в первом Бальмонт многозначительно заявлял:
Мы Славяне — дети Волха, а отец его — Словен, Мы всегда как будто те же, но познали смысл измен. (Волх)Выделяются в «Живой воде» стихотворения, посвященные Илье Муромцу («Две реки», «Хвала Илье Муромцу», «Отшествие Муромца», «Волшебная криница»). В отличие от Брюсова Блок отозвался о них сочувственно: «…образ Ильи Муромца поразил поэта до того, что Илья стал одним из сильнейших вдохновителей Бальмонта. Можно ли сказать об этом богатыре более задумчивые, более гордые, более русские слова, чем эти:
И заманчив он был, как, прощаясь с родною рекою, Корку черного хлеба пустил он по водам ее…»Создавая образ Ильи Муромца, Бальмонт отходил от жанровой стилизации. Он пытался осмыслить глубинную сущность героя национального эпоса. «И есть такой Человек, который из немой и немотствующей тишины, от тихих рек и из страшных глубин, придет, как дух Освобождения. Он освящен союзом с Землей, этот человек <…>. Среди бессмертных призраков, увиденных Русской былинной мыслью, самый красивый и самый таинственный — это простой мужик, притом еще увечный, ставший в единый миг — из калеки — исполином. Илья Муромец, спавший тридцать лет… гений русской пашни, твердо знающий архимедовское „дай где стать — и переверну мир“», — рассуждал Бальмонт в статье «Рубиновые крылья». «Хвала Илье Муромцу» в его поэтической интерпретации — своеобразная ода русскому народу, пробудившемуся от долгого «сна»:
Спавший тридцать лет Илья, Вставший в миг один, Тайновидец бытия, Русский исполин. Гений долгих вещих снов, Потерявших счет, Наших Муромских лесов, Топей и болот.Одно из наиболее значительных в «Жар-птице» — стихотворение «Славянское древо» — новое, гармоническое воплощение символа мирового древа в лирике поэта.
В целом книга «Жар-птица» не принесла автору ожидаемого успеха. Один Александр Блок сумел увидеть в ней, как «декадентские приемы „дурного тона“ побеждаются высшей простотой». Сергей Городецкий назвал бальмонтовский сборник «дурной тенью народной души» (Тень прочтенной книги // Весы. 1907. № 8). Андрей Белый, встречавшийся с Бальмонтом в Париже в период его работы над книгой, иронически заметил: «Теперь ему кажется, что на Златопером Фениксе летит он в мир славянской души, а мы видим Бальмонта верхом на деревянном петушке в стиле Билибина» (Луг зеленый. М., 1910).
В чем причина творческой неудачи поэта? Видимо, его поэтический мир оказался слишком далеким от фольклорного художественного мышления. Притягательная народная душа так и осталась для Бальмонта «заколдованным садом», где «на миг показалась Жар-птица, длиннокрылая птица славян».
Эстетическое обаяние труда А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» своеобразно проявилось и в образной системе книги «Птицы в воздухе» (1907). Символика ее названия восходит к древним представлениям многих народов о человеческих душах «как о существах летающих, крылатых» (А. Н. Афанасьев). Однако, в отличие от «Жар-птицы», в этой книге поэт не пошел по пути фольклорной стилизации. Мифопоэтическая образность в ней имеет заметную теософскую окраску. Мифологические сопоставления души, ветра и птицы дополняются причудливым преломлением буддийских идей, а также их интерпретацией в сочинениях Е. П. Блаватской. Видимо, поэта привлекала теория о троичности природы человека (дух, душа, тело), которую Блаватская противопоставляла ортодоксальной христианской доктрине. Особенно ощутим теософский контекст в стихотворении «Звездное тело»:
Страстное тело, звездное тело, звездное тело, астральное, Где же ты было? Чем ты горело? Что ж ты такое печальное?Однако теософские увлечения поэта не исчерпывают всё поэтическое содержание «Птиц в воздухе». Образ птицы-души вызывает ассоциации с «полетом» творческой личности. «Птицей между птиц» ощущает себя лирический герой поэта, оправдывая «измену» любимым женщинам (стихотворение «Измена без изменника»). В стихотворении «Любовь», по-видимому, связанном с Еленой Цветковской, «крылья птиц» — одно из звеньев образного ряда, воспевающего «крылатые» очи любимой. Грустные личные, автобиографические, ноты прозвучали в стихотворении «Птицы»:
Я сейчас летаю низко над землей, Дух забот вседневных виснет надо мной. Можно ль быть свободным огненным орлом, Если ты притянут тусклым этим днем? Можно ль альбатросом ведать ширь морей, Если ты окован тесностью своей?Вновь и вновь лирический герой Бальмонта обращается с неразрешимыми вопросами к символу веры своей юности — Христу:
Твой образ дивен, взор твой синь, Ты свет и жизнь души смущенной… О, кто же, кто ты, зыбкий дух? Благословитель или мститель? Скажи мне ясно, молви вслух. Иль свод небесный вовсе глух? Спаси меня! Ведь ты — Спаситель! (Над вечной страницей)В завершающем сборник разделе «Майя» немало образов из латиноамериканской мифологии, экзотических птиц мифического происхождения, навеянных мексиканскими впечатлениями автора. Параллельно с этим в своей странно-эклектичной книге Бальмонт активно использует русские народные песенные мотивы (возможно, поэтому «Птицы в воздухе» сопровождались подзаголовком «Строки напевные»). Среди них «святочные песни» — «Золотая парча развивается…» («Золотая парча»), «Несет кузнец три молота…» («Три молота»), «Игорная песня» — «Уж я золото хороню, хороню…» («Мысли сердца»).
Символистская критика, громко заговорившая об «угасании» таланта Бальмонта, не удостоила книгу «Птицы в воздухе» ни одной серьезной рецензии.
В 1906–1908 годах на фоне творческого кризиса в личной жизни поэта произошли серьезные перемены.
«Большую часть нашей жизни с Бальмонтом, — вспоминала Екатерина Алексеевна, — мы проживали во Франции, в Париже <…>. Но все лето мы неизменно проводили на море или у океана <…> из Парижа уезжали на западное побережье Франции. Его мы изъездили от самого севера, Примеля в Бретани, до Бордо. Несколько раз мы бывали в любимом нашем Сулаке (Soulac-sur-Mer). Мы уезжали из Парижа раньше сезона морских купаний и возвращались оттуда последние, иногда в ноябре <…>. Бальмонт любил море и не мог без него жить. <…> Мы разыскивали на карте побережье не пустынное, каменистое, как в Бретани, но где был бы лес, зелень. И вот Сулак, местечко в нескольких часах <езды> от Бордо, как раз отвечал нашим вкусам: бесконечная даль океана и тут же, на дюнах, сосновый лес <…>».
В Сулаке Бальмонт провел значительную часть лета и осени 1907 года, но перед этим побывал в любимой Испании. 9 мая он послал Вере Николаевне краткое сообщение из Барселоны, а 27 мая пишет ей из Пальмы с острова Мальорка, входящего в группу Балеарских островов в Средиземном море: «Две недели у Балеарских волн. Здесь все озарено солнцем и украшено яркими цветами». 30 мая сообщает: «Уезжаем через два дня в Валенсию. Сколько красоты здесь! Люди — не вялые тени, в их жилах течет солнечная кровь, и солнце чувствуется во всем: в цветах олеандры и кипарисов, в полудневном и вечернем пенье соловьев, в беглом женском взгляде, в котором нежный трепет сердца».
Пребывание на Балеарских островах отразилось в очерках «С Балеарских берегов» (Золотое руно. 1908. № 7–9) и «Испания — песня» (Русская мысль. 1908. № 12). Позднее, в 1911 году, Бальмонт издает книгу «Испанские народные песни. Любовь и ненависть», проникнутую искренним интересом к испанскому народному творчеству и проявлениям испанского характера.
Очевидно, после путешествия по Испании, пробыв некоторое время в Париже, Бальмонт отправился в Сулак, о чем говорит его письмо матери от 24 июля 1907 года. В нем, кроме прочего, он сообщает Вере Николаевне: «Написал новую книгу стихов (полна вдохновения) (вероятно, речь идет о будущей книге „Зеленый вертоград“ с подзаголовком „Слова поцелуйные“. — П. К., Н. М.). Здесь с Катей и Ниникой гостит сестра Кати Александра Алексеевна и наша подруга Татьяна Алексеевна Полиевктова», а также радуется за брата Мишу, окончившего университет.
В Сулаке произошло решительное объяснение Екатерины Алексеевны с мужем по поводу его отношений с Еленой Цветковской. К тому времени учение Елена давно забросила и подчинила свою жизнь одной цели — соединиться с Бальмонтом. Она следовала за ним как тень, всячески подчеркивала свои страдания, говорила ему, что без него жить не может и покончит с собой. Елена во всем потворствовала Бальмонту, звала его не по имени, а пышно величала Поэт, Вайю (Ветер), Курасон (Сердце), выучила испанский язык и переводила с него (позднее вместе с Бальмонтом учила другие языки, в том числе египетский; французский и немецкий она знала хорошо), подражала ему вплоть до копирования почерка, словом, была сама преданность. Ее страдания, беспомощность в житейских делах, беззащитность трогали Бальмонта, он ее искренне жалел и любил.
Ему казалось, что раз он любит и Катю, и Елену, а они любят его, то должны любить и друг друга, следовательно, можно жить втроем. Екатерина Алексеевна отвергала «супружеский треугольник» (что французы называют «menage a trois» — «семья втроем»). Елена не раз своим подчеркиванием близости к Бальмонту ставила Екатерину Алексеевну в фальшивое положение. Так было, например, в Примеле, когда Елена в качестве гостьи поселилась в рыбацкой гостинице вместе с Бальмонтами, на прогулки отправлялась вместе с поэтом, задерживалась, заходила с ним в кабаки и пила вино. Бальмонт стал много пить со всеми вытекающими отсюда последствиями в поведении. Не случайно Александр Николаевич Бенуа в упомянутых мемуарах в неприглядном виде описывает и Бальмонта, и «щупленькую Еленочку» (впрочем, многие находили ее красивой, необычной, оригинальной). Своим поведением она давала повод для пересудов в обществе и для выражения сочувствия Екатерине Алексеевне, которую Бенуа характеризует как женщину «изящную, чрезвычайно бонтонную, очень культурную и очаровательную».
Бальмонт разрывался между двумя женщинами, по-своему любимыми. Екатерина Алексеевна до поры до времени терпела его измену, которую он не признавал, убеждая, что ни в чем по отношению к ней не изменился. Конечно, по-своему страдала и Елена, ревнуя его и желая быть вместе с ним. Возникла ситуация, достойная пера романиста…
Поэт воспроизвел эту ситуацию в двух сонетах под единым названием «Два строя». Стихотворения эти были написаны еще в 1906 году и вошли в «Злые чары», в раздел «Отсветы раковин». В поэтической системе Бальмонта раковина — символ одиночества, замкнутости, когда поэт, как улитка, закрывает створки и уходит в себя. Заглавие сонетов вызывает ассоциации с образом поэта, проходящего «сквозь строй» в одноименном стихотворении из книги «Будем как Солнце». Там лирический герой, как помним, проходит «сквозь строй» врагов-палачей при равнодушно взирающей толпе. Здесь, в сонетах, герой терзаем внутренними противоречиями. В первом сонете он находится в конфликте с «любимой, проклятой, женой», не принимающей его мечты, и возвращается к ситуации, запечатленной в стихотворении «Воскресший» (попытка самоубийства). Во втором сонете герой-поэт находится «в разъятости двух душ», но теперь он «печальный», «проклятым никого не назовет». Заключительный терцет гласит:
Вот с этих дней, сквозь смех, меж двух любимых, Два строя звуков дух мой различил: Двойной напев — врагов непобедимых.Как примирить их, любимых женщин, — «врагов непобедимых» — поэт не знает…
После Примеля Екатерина Алексеевна прервала всякие личные отношения с Еленой Цветковской. Бальмонт остался жить в семье, ему были обеспечены все условия для работы, творчества. Но его тянуло к Елене, и он встречался с нею. Так долго продолжаться не могло, к тому же Елена забеременела.
«Когда я узнала от Бальмонта, что Елена в ожидании ребенка, — пишет Екатерина Алексеевна, — я бесповоротно решила расстаться с ним. И сказала ему это. Он был потрясен неожиданностью. „Почему расстаться, я хочу быть с тобой. Но я не могу оставить Елену, особенно теперь, это было бы нечестно с моей стороны“. С этим я была согласна <…>. Выслушав мои упреки и стенания, он не оправдывался, не врал. Я много позднее только оценила, как честно и деликатно было все, что он говорил тогда. <…> „Я никогда к тебе не изменюсь“, — говорил он печальный и расстроенный. И это была правда. Всю жизнь он не менялся ко мне…»
В октябре 1907 года, после возвращения из Сулака, Екатерина Алексеевна с Татьяной Алексеевной Полиевктовой осталась в Париже, а Бальмонт и Елена уехали в Брюссель, чтобы там ожидать рождения ребенка. Брюссель был выбран потому, что находится близко от Парижа. Поселились они в пригороде бельгийской столицы, местечке Иксель. 6 декабря 1907 года Елена родила дочь, которую назвали Миррой — в честь любимой Бальмонтом поэтессы Мирры Лохвицкой, которой уже не было в живых. В письме Т. А. Полиевктовой от 11 декабря поэт сообщал:
В ночь, 6 декабря, Когда 7-й свершился час, Упала звездочка, горя, И в мире Миррой назвалась.На Бальмонта свалилось множество забот, всевозможных хозяйственных проблем. К житейским делам Елена оказалась неприспособленной, и он должен был всем заниматься сам. Поэт чувствовал, что в его жизни сплелось много тугих узлов, которые надо как-то распутать, «никому не причиняя боли». «Но быть среди спутанных узлов — сколько тут всего…» — жаловался он в письме от 22 октября 1907 года Т. А. Полиевктовой, которая стала в это время едва ли не единственным близким ему человеком. Вскоре она уехала в Москву, и Бальмонт поверял ей в письмах свои душевные терзания и заботы.
Бальмонт тосковал по жене, их дочери Нинике, которую все больше любил. Он хотел поехать в Париж, но Елена, ревнуя его к Екатерине Алексеевне, не отпускала, удерживала под разными предлогами. «Он стал тогда пить, — пишет в воспоминаниях Екатерина Алексеевна. — И в невменяемом состоянии спрыгнул с балкона со второго этажа на мостовую». Он не разбился, но сломал другую ногу, здоровую. Рассказанное Екатериной Алексеевной находит подтверждение в словах Анны Николаевны Ивановой, ее племянницы, в письме Т. А. Полиевктовой от 29 февраля 1908 года из Брюсселя (Нюша навещала Бальмонта в больнице). «Она, — говорил ей Бальмонт о Елене, — всею тяжестью лежит на моих плечах. Я не смогу больше, я спрыгнул с этой жизни с балкона. Я покончу с собой. Я не могу так жить».
Правда, сам Бальмонт отрицал, что хотел покончить с собой. Он писал А. С. Елиасбергу 10 февраля 1908 года: «…В припадке безумного возбуждения… я бросился с балкона на улицу. Я не искал смерти — о, нет! — и всего второй этаж, ступени две — я хотел чего-то сильного и, быть может, я упал бы счастливо, но рукою захватив край балкона, почувствовал, что шипы железные срывают кожу с пальцев, сделал судорожное движение, и уже не спрыгнул, как хотел, а сбросился. Я опять лежал со сломанной ногой, на этот раз правой, а не левой. Опять — но как иначе!»
Произошло это печальное событие в начале января 1908 года. Бальмонт пролежал в больнице брюссельского Института медицины почти три месяца, и еще в мае мог ходить только с помощью палки. В больнице у него была отдельная палата, и время пребывания там он называл «благословенным». В письме от 27–28 марта 1908 года накануне выхода из больницы он писал Брюсову:
«Много раз в эти незабвенные недели, в эти одинокие — счастливо одинокие — полярные дни и ночи, я мысленно обнял безмерные пространства. Как в книге Иова: „Я ходил по земле и обошел ее“. Но я ходил еще по продольности времен и по зыбям воздушного пространства. И я видел, я вижу, в эту свою ночную страну, что я безмерно любил и люблю тебя. <…>
Эта ночь пройдет, и я отсюда уйду. Завтра, в праздник Солнца. Мне радостна воля и мне больно прощаться с этой творческой отдельностью. Я был на крае Мира.
Я смотрю на эту комнату. Вот эти любимые книги мои. Их много, их много. Вот это дерево магнолии, которое цвело для меня, а теперь зеленеет. Вот рядом со мной, на стакане, в свете свечи, белые ландыши, келейки шестигранные, нежно-лиловые гроздья сирени. Как любит сердце эти малости».
Письмо Брюсову вводит в замысел подготовленной здесь, в больнице, книги стихов «Хоровод времен», которая выйдет в следующем году как последний, десятый том «скорпионовского» издания Полного собрания стихов Бальмонта. В конце каждого раздела книги поэт пометил время и место создания стихотворений данного раздела. Ясно, что этому он придавал особый смысл. Три раздела написаны в Беркендале (Berkendael), в переводе с французского Долина Берез. Так называлось место, где находилась больница. Бальмонт писал Брюсову, что у него в больнице было много книг. Книги эти присылала по его просьбе Т. А. Полиевктова. В это время он много занимался польской литературой, и Татьяна Алексеевна отправляла ему из Москвы книги польских поэтов, в том числе издания и письма Юлия Словацкого, которого он задумал перевести полностью. Интересовался он и Литвой, запрашивал книги литовских поэтов, учебник литовского языка. В иных случаях просил прислать курсы по астрономии, геологии, зоологии, палеонтологии (ссылался, что они есть у Сабашникова). Писал о необходимости переслать его библиотеку в Париж — всё, что касается Англии, Испании, Скандинавии, Италии, фольклора, истории литературы, сочинений немецких, французских, русских поэтов. Многие из присылаемых книг использовались им в период «благословенного заключения», в больнице, где ему никто не мешал и не отвлекал от работы.
Судя по письмам, в конце февраля Бальмонт закончил книгу «Зовы древности» (1908) для издательства «Пантеон». О ее содержании говорит подзаголовок: «Гимны, песни и замыслы древних». По словам поэта, их скорее надо считать перепевами, переложениями, а не переводами. В книге задействованы мифы и предания разных народов и стран: Египет, Мексика, Майя, Перу, Халдея, Ассирия, Индия, Иран, Китай, Океания, Скандинавия, Эллада, Бретань. Во вступительной статье «Костры мирового слова» Бальмонт подчеркивает, что он давно сроднился «с замыслами древних космогоний» и хочет услышать «подземные голоса и зовы времен отошедших». При всей удаленности привлеченного материала от русской стихии произведения, вошедшие в «Зовы древности», имеют безусловные аналогии в творчестве Бальмонта, обращенном к русским и славянским древностям.
Выход книги «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (1908) заставил символистскую критику внести коррективы в суждения о неуклонном «падении» поэтического таланта Бальмонта во второй половине 1900-х годов. Валерий Брюсов первым заметил «мощный творческий подъем» в новом сборнике поэта. Истоки этого подъема он усматривал в бальмонтовской «мистической тоске о Боге», выделяя поэта среди современников как одного из немногих «неустанных искателей Бога», в чьем творчестве с наибольшей остротой «выражена мучительная противоположность между святостью и грехом». В «распевках» хлыстов и «белых голубей» поэт нашел причудливый сплав экстатических переживаний, в которых, говоря его словами, «исступленная влюбленность тела переплетается с влюбленным просветлением души» («Край Озириса»).
Интерес к национальному религиозному сектантству был приметной чертой русского символизма 1906–1909 годов, что нашло разностороннее выражение в романе Андрея Белого «Серебряный голубь», последней части трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», переписке А. Блока с Н. Клюевым. Однако у Бальмонта хлыстовские распевы, при несомненно «русском» колорите, включены в более широкий религиозно-мифологический контекст. В частности, для «стихийного гения» представлялось совершенно естественным сопоставление хлыстовских песнопений с напевностями древних египтян, ибо это — следствие «родственности» русских сектантских радений «мистическим состояниям всех экстатических сект, без различия веков и народностей», как утверждал он в работе «Край Озириса».
Лирический герой «Зеленого вертограда» — «свирельник»-поэт, «гусляр», подчас пытающийся играть роль сектантского пророка, то есть «ходить в слове» (на хлыстовском языке — говорить от Святого Духа). Проповеднику, пугающему «безумного свирельника» адским огнем, тот противопоставляет светлую веру в божественную силу Слова:
Зачем быть в аду мне, когда я пылаю Пресветлой свечою? Я сердце и здесь на огне оживляю И радуюсь зною. И светом рожденное жгучее Слово Ведет нас в восторг торжества золотого, К нетленному Раю. Я знаю. (Куда же?)Изображая атмосферу хлыстовских радений в стихотворениях «Радение», «В горнице тайной», «Хоровод», «Гусли», Бальмонт вводит читателей также и в круг мистических переживаний (прекрасно описанных в романе П. И. Мельникова-Печерского «На горах» и его статье «Белые голуби»), и в игровую ситуацию фольклорного обряда, «хоровода»:
Мы как птицы носимся, Друг ко другу просимся, Пляшем, разомлелые, И рубахи белые Как метель кругом. В вихре все ломается, Вьется, обнимается, Буйность без конца. Посолонь кружения, С солнцем наше мление, Солнечны сердца. (Гусли)К тому же «божьи люди» названы в одном из стихотворений «детьми Солнца». Не случайно Вяч. Иванов в своем сонете «К. Бальмонту» (1909) выделил именно эту книгу:
Тебя любовь свела в кромешный ад — А ты нам пел «Зеленый вертоград».В целом Бальмонт не нарушает в книге хлыстовских представлений, согласно которым плотские связи между духовными «мужем» и «женой» не составляют греха, ибо здесь проявляется уже не плоть, а духовная, «Христова» любовь. Николай Гумилёв в короткой рецензии на издание бальмонтовской книги в Полном собрании стихов отметил наивное «лукавство» «божьих людей», говорящих:
Мы не по закону, Мы по благодати, Озарив икону, Ляжем на кровати. (По благодати)Принятое в сектантской среде обращение «сестра» поэту было близко, так он называл своих любимых женщин. Не будет большой натяжкой сказать, что в некоторых стихотворениях («Нетленное», «В храме ночном») содержится «зашифрованное» отражение личных отношений Бальмонта с Еленой Цветковской. В стихотворении «Белый парус» поэт, будто осознав, что роль «гусляра» им сыграна, просит прощения у «Матери сырой Земли» и признается:
Может, я хожденье в слове и постиг, да не довольно, Может, слишком я в круженьи полюбил одну сестру…Для «общников святости», «братьев» и «сестер», поэт придумывает еще одно, весьма характерное, определение — «звездопоклонники», которое проецирует уже не на сектантскую, а на символистскую поэзию, на «братство» творцов нового искусства:
Звездники, звездозаконники, Божией воли влюбленники, Крестопоклонники, Цветопоклонники, Здесь в Вертограде мы все В невыразимой красе. Бездники, мы стали звездники, В Вечери мы сотрапезники, Цветопоклонники, Звездозаконники, Хлеб и вино — в хоровом, Во всеокружном поем. (Звездопоклонники)Торжественно-ликующей осанной любви, красоте божественного мироздания, «поющей крови» людских сердец завершает поэт свои «Слова поцелуйные» (стихотворение «Осанна»).
В письмах Бальмонт выражал чрезвычайное неудовольствие изданием «Зеленого вертограда» в «Шиповнике». «„Вертоград“, — отмечал он в письме Т. А. Полиевктовой от 12 ноября, — напечатан изумительно плохо <…>. Свыше 30 ошибок, обложка идиотская. — Уж этот Билибин <…>. Нарисован какой-то живот, перетянутый ремнем <…>. Формат, впрочем, отчасти идет к несколько церковному характеру книги». Известно, что Бальмонт не терпел опечаток в стихах. Так, к примеру, он выговаривал Леониду Андрееву в письме от 21 октября 1917 года: «Для меня одна ошибка убивает стихотворение».
Когда Бальмонта выписали из больницы, появился план отвезти дочь Мирру к матери Елены Цветковской, но та наотрез отказалась брать внучку на воспитание, заодно осыпав поэта обвинениями в совращении дочери. С помощью Т. А. Полиевктовой в Москве была найдена семья, которая согласилась взять девочку на определенный срок. Позднее маленькая Мирра все-таки жила и воспитывалась у бабушки довольно длительное время.
Елена уехала с девочкой в Москву, а Бальмонт вернулся, как он выразился, «домой», в семью. Несмотря на всякие тяжелые события и неприятности, пребывание в Бельгии он вспоминал с удовольствием. Бельгия нравилась ему тем, что ее меньше коснулись пороки современной цивилизации. Он лучше познакомился с бельгийской литературой, кроме Метерлинка, читал Эмиля Верхарна, Фернанда Кроммелинка, особенно увлекся творчеством бельгийского поэта и драматурга Шарля Ван-Лерберга, в котором видел оригинального человека и художника. Ему он посвятил статью в «Весах» (1908. № 5) и восторженные строки в статье «Певец побегов травы» (Золотое руно. 1909. № 1), перевел с французского его стихи и драму «Ищейки» (в соавторстве с Е. Цветковской).
О своих бельгийских впечатлениях поэт рассказал в письмах переводчику, поэту и литературоведу Юрию Верховскому: «Я люблю Бельгию очень <…>. Там могучие деревья, первобытные сильные лица, стихийность еще жива, и там старинность умершая не уничтожена дикой и безобразной свистопляской современности. Из бельгийских писателей я наиболее люблю Ван Лерберга <…>. К Верхарну холоден, хотя и признаю его силу». Несмотря на такую характеристику Верхарна, Бальмонту вместе с тем было приятно узнать от Брюсова, что знаменитый бельгийский поэт одобрил его перевод драмы бельгийского писателя Кроммелинка «Ваятель масок».
После Бельгии Бальмонт фактически жил «на два дома». Основной — в Пасси, где у него были кабинет, библиотека, рабочая обстановка, уход за ним Екатерины Алексеевны и Нюши; другой — в городке Фонтенбло, недалеко от Парижа, затем в парижском Латинском квартале, куда вскоре переехала Елена, чтобы Бальмонту было ближе к ней ездить. У Елены он бывал часто, с ней совершал путешествия: короткое — в Англию, более длительное — в Италию в ноябре — декабре 1908 года, долговременные — в Египет и «кругосветку».
Жизнь «на два дома» не могла не тяготить Бальмонта. Не раз в письмах Т. А. Полиевктовой он жаловался: «Вся моя жизнь теперь против всех желаний <…>. И так будет всегда» (письмо от 4 октября 1908 года). Называя свое существование «слитно-неслитным», добавлял: «Не о себе думаю, а о любимых». Тут же, сетуя на судьбу, говорил о возникающих житейских проблемах: «А борьба за жизнь, гоняться за рублем, неуверенность в завтрашнем дне» (письмо от 7 января 1909 года). Однако решительного выбора Бальмонт не делал, стараясь исполнить свой долг и обязанности по отношению к обеим женщинам и семьям. И так продолжалось едва ли не десять лет.
Как обычно, лето и часть осени 1908 года Бальмонт провел на море. «Море — единая моя Родина, вечно живой, вечно свободный, голубой символ вечности», — признавался поэт. На этот раз он жил в курортном местечке Боль. Там его навестил Волошин, который приехал к нему из Парижа на велосипеде, попутно посещая замки и достопримечательные места в долине реки Луары. Волошин в осеннем письме А. М. Ремизову, рассказывая об этом, сообщает и такую новость: «Бальмонт за это лето написал пять рассказов. Про себя. Но реальные. Мне читал в Боле лишь первый. Очень, очень хорошо. Хотя, может быть, потому что его очень жалко: это как он в окно бросился». Рассказ Волошин не называет, но это, конечно, «Воздушный путь», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1908. № 11). Почти безошибочно можно назвать и другие четыре рассказа, вскоре появившиеся в печати: «Крик в ночи» и «Ревность» (Шиповник. Кн. VI. 1908), «Васенька» (Золотое руно. 1908. № 11–12) и «Ливерпуль» (Русская мысль. 1909. № 3).
О работе над рассказами сообщал и сам Бальмонт — в письме Брюсову от 28 ноября 1908 года из Флоренции (куда он приехал с Еленой Цветковской): «Я стихов не писал все лето, и не предвижу, когда буду писать, и буду ли. Рассказов могу обещать три, небольшие: „На волчьей шубе“, „Глаза в глаза“ и „Пытка“». Названные рассказы «Весы» анонсировали на 1909 год, но там они не были опубликованы.
Все известные рассказы Бальмонта автобиографичны. Не станем задерживаться на их характеристике. Интереснее другое: почему Бальмонт вдруг перешел на прозу? Представляется, что как поэт он переживал кризис. Увлечение имитацией и стилизацией прошло, русско-славянскую тему он в основном исчерпал. Поэтический сборник «Хоровод времен» (1909) стал именно «хороводом» — кружением памяти во времени и пространстве. В известном смысле эта книга являлась итоговой по отношению к предшествующим сборникам «Жар-птица», «Птицы в воздухе», «Зеленый вертоград», в ней повторялись их мотивы, образы, стилистика.
Критика встретила «Хоровод времен» весьма нелестными рецензиями и отзывами, к примеру в «Современном мире» (1909. № 9), газете «Новая Русь» (1909. 15 января). Снисходительнее рецензентов этих изданий был Брюсов. Упрекая поэта за повторы самого себя и ряд «несносных стихов», он отметил и такие, которые достойны Бальмонта, особо выделив завершающую книгу поэму «В белой стране», где автор «с немалой силой изображает ужас одиночества» (Русская мысль. 1909. Апрель).
Сам Бальмонт считал лучшей другую поэму, открывающую «Хоровод времен», — «Белый Лебедь». Так или иначе, новое обращение к жанру лирической поэмы после «Художника-Дьявола» представляется весьма симптоматичным. Поэт отходит от предыдущих исканий в области стилизации, стремится расширить границы своего творчества.
В «Белом Лебеде» Бальмонт впервые пытается воссоздать собственную легендарную родословную. Образный строй поэмы перекликается с блоковским циклом «На поле Куликовом» («степь», «полет» коней, «костры», «пожар»), однако в основе сюжета — не «вечный бой», «когда Мамай залег с ордою», как у Блока, а любовь Белого Лебедя к «полоняночке», заставляющая его забыть о лихих набегах:
Мне уж мало взять костры, разбить обоз, Мне уж скучно от росы повторных слез. Мне уж хочется двух звездных близких глаз, И покоя в лебедино-тихий час.Изменив сотоварищам по бранной жизни ради любви, Белый Лебедь вместе с «полоняночкой» возлетает «выше, к Солнцу». Так сюжетно завершается поэма, утверждающая единение двух излюбленных поэтом начал жизни — Любви и Солнца.
Пять следующих, не сказать чтобы удачных, разделов книги призваны передать соотношение временного и вечного в «хороводе времен». Опираясь на работу Е. Ермолова «Народный месяцеслов» (1901), Бальмонт выстроил «календарный» цикл «Тринадцать лун», воспроизводящий круговое движение времен года (от января до декабря).
В цикле «Майя» ставшее уже привычным для поэта утверждение самоценности каждого мгновения жизни — «секунда — атом, живой алмаз» — сменяется воспеванием вечных ценностей: «Египет сквозь Вечность скользит по зеркальности Нильских вод…» (стихотворение «Египет»); «Лишь Бог творец, лишь Бог — всезрячий…» («Лишь Бог»).
Цикл «Голубая птица» возвращает читателя к мотивам предшествующих книг поэта: вновь появляются мировое древо — Иггдрасиль («Идуна»), «голубая птица» — космическая душа («Голубая птица»), «зеленые святки» («Семик»), антиномия «души» и «тела» («Тело играет»).
Цикл «Пляска зноя» напоминает о Божественном провидении, управляющем и «атомами времени», и «круговым полетом комет». Поэт непривычно кратко определяет свое место в «хороводе времен»:
Место мое — на пороге мгновенья, Дело мое — беспрерывное пенье, Сердце мое — от огня, Люди, любите меня. (Место мое)Под влиянием произведений Ю. Словацкого Бальмонт создает «сюрреалистический» цикл «Крадущееся завтра» с апокалиптическими видениями и космогоническими предчувствиями. Стихотворение цикла «Комета» спровоцировало в рецензии на сборник «некорректную» реплику Брюсова: «…нелепости астрономические, логические и просто грамматические громоздятся одна на другую».
Здесь можно было бы поставить точку в разгадывании этой, не самой удачной в творчестве поэта, книги. Но, как представляется, разгадка причин появления такой книги и метаний поэта по старым темам и местам, где был так счастлив и несчастлив, таится в ее финальной поэме.
(А в скобках заметим: в дальнейшем мы не станем столь подробно останавливаться на новых книгах нашего героя. Надеемся, читатель уже получил представление о характере его дарования, круге интересующих тем и идей, в целом совпадающих с общесимволистской тематикой. Наша задача — жизнеописание поэта, и мы будем обращаться лишь к тем произведениям, которые имеют прямое отношение к его биографии и ее ключевым событиям.)
Истоки поэмы «В белой стране» можно отыскать в раннем творчестве Бальмонта — стихотворении «На дальнем полюсе» (книга «В безбрежности»), поэме «Мертвые корабли» (книга «Тишина»). В них «пустынный мир» льдов символизировал некое «безмолвное» космическое пред-бытие, лишенное человеческого присутствия. В новой поэме в «ледяной пустыне» обречен жить бальмонтовский герой — «охотник», «полярник» (?) — оказавшийся на полюсе и полностью отрезанный от внешнего мира. Он перестает различать бег времени, для него «вечность в минуте — одна».
«На полюсе» поэт поселил зверей из разных полушарий. «Медведь», «тюлень», «морж», «пингвин» («альбатрос наоборот») — вот соседи героя поэмы, рядом с которыми он «беспредельно один»:
И сам я стал как зверь. Все дни одно — Теперь.Очевидно, что Бальмонт пытается выразить «ужас одиночества» (В. Брюсов) героя поэмы совершенно по-новому, непривычными для себя художественными средствами: «Ряд белых алтарей, глядящих в Небо, льдов, / Всходящая мольба, без просьб, Псалом, без слов». «Двоемирие» — характерный образ символизма, символизированный конгломерат зверей, птиц, ползучих гадов, смешение низших и высших смыслов, что свойственно символистской поэзии, — всё деформируется, «сдвигается»:
В моей груди дрожит благоговейный вздох. (В нем и проклятье.) Вокруг моих гробниц седой и цепкий мох. (Он и с расцветами.) Со мною говорят и Сатана и Бог. (Их двое, я один.)«Снежинки» («серебринки», «с цветов пушинки») оборачиваются «струпьями Моровой Проказы». «Белый мир» становится воплощением ужаса, здесь герою поэмы являются то «снежные люди», то зловещие «полузвери, полурыбы, птице-змеи, жадный рот», как будто все символы ожили и вторглись в реальность, превратив ее в кошмар.
В финале поэмы, пытаясь спасти свою «неземную» душу, бальмонтовский герой уходит из «белой страны»:
Белый Мир, в последний бой Выхожу теперь — с тобой, Ты не сможешь победить И в тебе найду я нить В сказку Жизни Голубой.Однако этот «уход» представляется таким же иллюзорным, как и вся жизнь «охотника», потому что остается неясной конечная цель его «пути»:
А коль я направо — так —? Что-то спуталось во мне. А коль я налево — так —? Все тропинки я смешал.Лирическая поэма «В белой стране» выявила «перелом» в поэтическом мироощущении Бальмонта. Более того — и в этом причина появления такой книги, как «Хоровод времен» — поэт одним из первых почувствовал и наглядно выразил наметившийся общий кризис символизма.
Символистская критика, за исключением Брюсова, восприняла «Хоровод времен» более узко — как творческий кризис самого Бальмонта. В наиболее резкой форме это прозвучало в статье Александра Блока «Бальмонт», опубликованной в газете «Речь» 2 марта 1909 года. По воспоминаниям В. Пяста, Блок всегда очень ценил Бальмонта «за талант». В статье «О лирике» (1907) Блок еще высказывал убеждение, что распространившаяся в символистской среде мысль об «убыли певучей силы» Бальмонта «есть миф». Для него Бальмонт — «поэт с утренней душой», прошедший «необъятный путь» в русской литературе. Блок и в статье «Бальмонт» называет его «поэтом бесценным», но главным образом за «прежние стихи». Что же касается последних книг, то «Злые чары» и «Жар-птицу» он характеризует в статье как «на три четверти вздорные», а о «Птицах в воздухе», «Зовах древности», «Зеленом вертограде» и «Хороводе времен» (вышедшем как десятый том Полного собрания стихов Бальмонта) пишет следующее:
«…это почти исключительно нелепый вздор… В лучшем случае это похоже на какой-то бред… <…> По-моему, здесь не стоит даже и в грамматике разбираться; просто это — словесный разврат, и ничего больше… И писал это не поэт Бальмонт, а какой-то нахальный декадентский писарь.
Что же случилось с Бальмонтом и что будет с ним дальше?
<…>
Я знаю то особое чувство, которое испытываешь, перелистывая некоторые страницы старого Бальмонта: чувство, похожее на весеннее. <…>
Так вот, я считаю своим приятным долгом посоветовать читателю, не желающему осквернить памяти о большом поэте, содействовать истреблению последних книг Бальмонта… <…> потому что с <его> именем… еще не все отвыкли связывать представление о прекрасном поэте. Однако пора отвыкать: есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового поэта Бальмонта больше нет».
В одном из писем родным от 4 марта Блок (в ответ на упрек) признавал: «Да, статья о Бальм<онте> скверная, точно так же бранила меня Люба. Я написал утром и снес в „Речь“, не перечитав, как следует». В статье нет разбора упомянутых книг Бальмонта, но их общая оценка шла в русле символистской критики творчества Бальмонта последних лет. Эта критика уязвляла его творческое самолюбие и заставляла задуматься, как заставляли задуматься не безусловные, но в целом доброжелательные оценки «Зеленого вертограда» и «Хоровода времен» Брюсовым.
Рецензия Брюсова на «Хоровод времен» была напечатана в апрельском номере «Русской мысли» за 1909 год, поскольку к этому времени Брюсов уже не был редактором «Весов». Ему не удалось преодолеть внутренние конфликты, раздирающие редакцию журнала, и он остался в нем лишь заведующим литературно-библиографическим отделом, о чем известил читателей специальным письмом, опубликованным в «Весах».
Связи Бальмонта с «Весами» в последнее время тоже ослабли, у него накопилось много обид и претензий к редакции журнала. В 1909 году в «Весах» он уже не печатался и объявил в газетах о прекращении всякого сотрудничества с этим журналом. Его письмо из газет перепечатало «Золотое руно» (1909. № 6): «Считая роль журнала „Весы“ — одним из основателей которого был, между прочим, и я, — окончательно сыгранной, видя также, что в этом году он стал систематическим прибежищем для литературных подростков, коим не суждено никогда подрасти, имея, кроме того, ряд фактов, указывающих на недопустимое по отношению ко мне небрежение правилами простой деловой добросовестности, — я отказываюсь от какого-либо дальнейшего участия в этом журнале».
Следует отметить, что в журнале «Золотое руно» Бальмонт публиковался больше и чаще, чем в «Весах», и сотрудничал с ним более активно. Но, как и «Весы», в конце 1909 года «Золотое руно» тоже прекратило свое существование. Закрытие двух ведущих журналов символистского направления было наглядным симптомом кризиса этого литературного направления. С 1910 года символизм как нечто единое перестал существовать, и писатели-символисты, по словам Блока, разошлись по своим одиноким путям.
В 1909 году Бальмонт и Брюсов встретились. Весной Бальмонт посвятил другу стихотворение, начинающееся словами: «Мы два раба в одной каменоломне…» В октябре Брюсов с Ниной Ивановной Петровской[15] был в Париже. Бальмонт специально вернулся в Париж из Георг-Дидонне, и они свиделись. В течение недели встречались едва ли не ежедневно. 7 октября 1909 года Брюсов писал жене Иоанне Матвеевне: «Сегодня был у Бальмонта. Он был очень мил, очень ласков, очень рад меня видеть. Мы целовались, смеялись, говорили без конца, читали друг другу стихи, вспоминали прошлое». Через три дня ей же сообщает: «Вчера вечером опять был у Бальмонта <…>. Читал мне свой перевод драмы Словацкого. Он очень изменился. Поумнел, говорит о себе и своих стихах трезво. Видит и понимает свои недостатки, чего раньше не было никогда». Под впечатлением этих встреч Брюсов написал очередной сонет «К. Д. Бальмонту»:
Как прежде, мы вдвоем, в ночном кафе. За входом Кружит огни Париж, своим весельем пьян. Смотрю на облик твой; стараюсь год за годом Все разгадать, найти рубцы от свежих ран. И ты мне кажешься суровым мореходом. Тех лучших дней, когда звал к далям Магеллан; Предавшим гордый дух безвестностям и водам, Узнавшим, что таит для верных океан. Я разгадать хочу, в лучах какой лазури, Вдали от наших стран, искал ты берегов Погибших Атлантид и призрачных Лемурий, Какие тайны спят во тьме твоих зрачков… Но чтобы выразить, что́ в этом лике ново, Ни ты, ни я, никто еще не знает слова!Несколько иные впечатления от встречи остались у Бальмонта. Он изложил их в письме Брюсову от 27 октября: «Валерий, мы свиделись с тобой, но не увиделись <…>. Причины? Во-первых, я был в растерянности. Ведь я насильственно вырвал себя из морской идиллии, из творческой тишины, для того чтобы не потерять радость встречи с тобой. Для меня никогда насильственный переход от летней приморской тишины к городу не проходил безнаказанно. Это был я, и это не был я. А потом… О, всегдашнее препятствие всех бесед всех друзей. Фемина. Женщина. Я очень люблю Нину Ивановну. Искренне. Но, правда, без нее лучше с тобой видеться, думаю я». В письме выражалась надежда на более близкие и тесные встречи.
Во время встречи старых друзей-соперников не обошлось без разговоров о литературных делах, о Москве, о России. Брюсов хорошо почувствовал, как тяжело Бальмонту жить и творить вне родной страны. Ностальгические чувства прорывались иногда в письмах. «Завидую тебе в одном, — признавался Бальмонт Брюсову, — ты видишь падающий снег и слышишь скрип санок». Но вскоре после встречи с Бальмонтом Брюсов написал о нем в письме Н. И. Петровской, имея в виду нечто более значительное и важное, чем просто ностальгия: «По глубокому моему убеждению, жить русскому человеку, а особенно русскому писателю, можно только в России. <…> Прочти последнюю книгу Бальмонта (которую я тебе посылаю) и особенно поэму „В белой стране“. Ты увидишь, поймешь, что значит быть без России, без той России, которую мы все клянем и клеймим последними словами».
В поэме «В белой стране» Брюсов услышал трагические ноты и в этом письме затронул самое больное место Бальмонта-эмигранта. Душой поэт жил в России. В Европе жизнь была благополучнее, более упорядоченной, но прагматизм европейцев не компенсировал душевной отзывчивости русских. «Упрямые, завистливые, суетно-тусклые призраки» — так, может быть, сгоряча отзывался поэт о европейцах. Как писателю ему не хватало атмосферы русской жизни и быта, родной природы и родного языка, вошедших в его душу с детских и юношеских лет и питавших его творчество. Именно к этой поре возвращается его память постоянно, что отчетливо сказалось в автобиографии, написанной 27 июня 1907 года сорокалетним поэтом: «Я родился и вырос в деревне, люблю деревню и море, вижу в деревне малый Рай. <…> Мои родители — добрые, мягкие люди, они не посягали никогда на мою душу, и я вырос в саду, среди цветов, деревьев и бабочек. Уже не изменю этому миру. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют, дрема, василек, незабудка, лютики, смешная заячья капустка, трогательный подорожник — и сколько — и сколько еще».
В автобиографии с любовью упомянуты родители. Память о них жила, что отразилось в стихах, связанных с их родословной. В сборник «Птицы в воздухе» вошло стихотворение «Запорожская дружина», в котором слова: «Слышу, деды-запорожцы, мне звенит о вас ковыль» увлекают мысли поэта к его вероятным предкам по линии отца. Отец, Дмитрий Константинович, умер в 1907 году. Матери, Вере Николаевне, Бальмонт посвятил поэму «Белый лебедь», первоначально опубликованную в «Золотом руне» (1908. № 3–4). Поэма была написана в начале 1908 года, когда Бальмонт лежал в брюссельской больнице. В это время в письме матери он спрашивал ее о судьбе людей и деревни Гумнищи. Ее ответы стали основой автобиографического рассказа «Простота». Последнее сохранившееся письмо Бальмонта матери датировано 5 января 1908 года. В 1909 году она умерла.
Память — один из лейтмотивов как в упомянутых выше автобиографических рассказах Бальмонта, так и в лирике этих лет, где родина предстает в опоэтизированном виде. Тема России часто встречается и в письмах того времени. С грустью пишет он литературоведу и критику Федору Дмитриевичу Батюшкову в 1907 году: «Жизнь заставила меня надолго оторваться от России, и временами мне кажется, что я уже не живу, что это только струны мои еще звучат». Поэт несомненно следил за тем, что происходило в послереволюционной России, но, судя по письмам, в основном откликался на то, что касалось литературы, однако встречается и «момент политики». Революционные потрясения 1905–1907 годов обострили «еврейский вопрос» в России, и, видимо, отзываясь на какое-то событие из этого ряда, он пишет Т. А. Полиевктовой 9 декабря 1909 года: «Политикой ни в каком смысле я не занимался и никогда не буду заниматься, а националистической в том или ином смысле тем менее. До семитов мне мало дела, и до антисемитов тоже». Бальмонт с неизменным уважением относился ко всем народам — большим и малым, ценил каждую самобытную культуру. «Мне лично евреи сделали больше добра, чем зла, и, как поэт, я Библию люблю», — тогда же отмечал Бальмонт.
Известно, что Библия была его настольной книгой, обращался он к ней постоянно. Однако в цитировавшемся письме Полиевктовой от 9 декабря он высказал и свое неприятие отдельных «мстительных» положений Ветхого Завета в Библии: «…Роль семитов в истории куда как некрасива — жестокая их Библия и есть их исторический фантом христианства, это именно тот семитизм, тот кошмар, который изуродовал человеческую впечатлительность». Ветхому Завету он противопоставлял Новый Завет, в частности, Евангелие от Иоанна с его проповедью добра и человечности.
Особенно обострился интерес Бальмонта к Библии в 1909 году, он ее перечитывал, готовясь к путешествию в Египет, история которого тесно связана с историей еврейского народа и христианства. Первая глава египетских очерков поэта «Край Озириса» (1914) открывается эпиграфом из Библии: «Не бойтесь идти в Египет».
Глава шестая «ЖРЕБИЙ ВСЕМИРНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
Среди поэтов Серебряного века Константин Бальмонт выделялся многим, в том числе и неутомимой страстью к путешествиям. Не случайно А. В. Амфитеатров, давая характеристику русской «Литературы в изгнании» (Белград, 1929), писал, что Бальмонту выпал «жребий всемирного путешественника». После поездки в Мексику и США поэт мечтал о новом увлекательном путешествии.
Египет давно манил к себе Бальмонта самобытной историей и культурой. «Захотел я посетить и Египет, — вспоминал поэт. — Увидеть настоящих египтян. Хотя бы и сегодняшних. Памятники Египетские хотел увидеть. Все узнать Египетское. Египет ведь Египет. Из Египта чуть не все вышло, чем дорожим мы».
По обыкновению путешествию предшествовала длительная и серьезная подготовка. Он изучал труды египтологов, читал книги путешественников, занимался египетским языком. В 1924 году, посылая свою книгу египетских очерков «Край Озириса» профессору Евгению Александровичу Ляцкому, Бальмонт писал ему, что эта книга — «не компиляция, а самостоятельная работа, основанная на путешествии в Египет и на многолетнем его изучении под руководством Жана Капара (Брюссель), А. Море (Париж) и Масперо (Каир)». Бальмонт назвал лишь тех египтологов, с которыми был связан непосредственно. Но он знал труды и других ученых. Так, в главе «Повествование гробниц» он называет восемь имен, в том числе Шамполиона (Шампольона) и Данюноса-Паши, на чьи работы опирался в описании египетских могильных памятников.
Двадцать четвертого ноября (по европейскому календарю) 1909 года Бальмонт и Елена Цветковская отплыли из Марселя в Египет на немецком пароходе. Прибыв в Александрию, — которая на рубеже старой и новой эры в течение шести веков была средоточием греко-римской цивилизации и многих культурных ценностей Древнего Египта и Передней Азии, — на некоторое время там задержались. Осматривали то, что осталось от былой славы города, опустошенного завоевавшими его арабами. Александрии, ее былой славе посвящен первый очерк книги «Край Озириса» — «Преддверье в Египет».
Значительное время Бальмонт провел в Каире, где постоянно общался с французским ученым Гастоном Масперо, изучая под его руководством египетский язык и знакомясь с трудами о Египте. Много работал с материалами каирского Национального музея, был в Мемфисе, ездил в долину реки Нил, осматривал знаменитые пирамиды Гизе и менее значительные пирамиды в других местах, а также надгробные пирамиды, мумии, саркофаги, плиты с рельефными изображениями, предметы религиозного культа и многое другое. О посещенных им местах Бальмонт пишет так: «Углубясь в Египет, мы посещаем Абидос, Луксор, Карнак, Фивские гробницы, иные святые места Египта, достигаем Ком-Омбо, завершаем наши впечатления на границе Нубии, в последней часовне Египетского многобожия, в островном храме Филэ».
Книга «Край Озириса» мало похожа на записки путешественника. В этом отношении она резко отличается от книги Бальмонта «Змеиные цветы» (1910), в очерках которой большое место занимают личные наблюдения и впечатления от увиденного в пути. В «Краю Озириса» он уже не путешественник, а исследователь древностей, поэтому в книге почти нет сведений о жизни современного Египта (не случаен и подзаголовок книги «Египетские очерки», а не, допустим, «Путешествие в Египет»). В ней преобладает строгий, деловой стиль изложения, в отличие от стиля прозаических эссе поэта, где он остается прежде всего лириком.
В книге выдержана строго тематическая композиция. Первые 12 очерков посвящены различным сторонам жизни и религии Древнего Египта: Нил и Нильская долина, в которой особую роль играет вода, культ Солнца, боги и человек, мировые стихии, душа человека, смерть и культ мумий, поклонение мертвым, пирамиды и их назначение, бог жизни Озирис, сокровенные обряды и слово, поклонение зверям, поклонение Солнцу. В остальных очерках преобладают переложения или переводы египетских песен, преданий, иногда с элементами исследования: «Забытые сокровища» — о египетской любовной лирике, «Египетская горлица» — о взаимоотношениях возлюбленных. Завершаются «Египетские очерки» «Словом египетского Старца» (42 наставления отца сыну из древнеегипетской книги на папирусе — «Книги мертвых») и «Славословием Солнца и Луны».
Описывая миропонимание, религиозные представления и культы египтян, Бальмонт сопоставляет их с мифами, легендами, песнопениями других народов мира и подчеркивает своеобразную гармоничность всех составных частей жизни этого древнего народа. Его привлекает жизнерадостный культ Озириса, и в противовес «мрачному» изречению библейского Иова («Человек рождается на страдание») он даже в культе умерших у египтян видит оптимистическое начало: «Египтяне в безмерной любви к жизни создали культ мумизированных умерших, дабы никогда они не истлевали и в самой смерти не умирали».
В Древнем Египте Бальмонт нашел много такого, что было близко его поэтическому мироощущению и, по его мнению, не должно быть забыто человечеством: близость к природе, к четырем стихиям — Огню, Воде, Воздуху, Земле, детскость первобытного человека, естественность, радостное ощущение мира и бытия.
Из полуторамесячной поездки в Египет Бальмонт вернулся во Францию в январе 1910 года и в течение 1910 и 1911 годов много работал над египетскими очерками, пересылая их для публикации в газеты «Утро России», «Современное слово», «Речь», «Русское слово», а также в альманах «Северные цветы на 1911 год» и журнал «Русская мысль». Отдельное издание очерков — книга «Край Озириса» — состоялось в начале Первой мировой войны. Книга быстро разошлась, и, по словам автора, она была «хвалебно отмечена русским египтологом, учеником Тураева, В. М. Викентьевым».
В Египте до Бальмонта побывали писатели В. Дедлов, Вас. Немирович-Данченко, И. Бунин, Н. Гумилёв, философ Вл. Соловьев, но только лирико-философские этюды Бунина, включенные им в «путевые поэмы» «Тень птицы», могут быть в определенной степени сопоставимы с книгой Бальмонта «Край Озириса», также отмеченной философскими размышлениями и обобщениями.
Пребывание в Египте оставило след и в поэзии Бальмонта. В книгу «Зарево зорь» (1912) вошли стихотворения, написанные во время путешествия или под его впечатлением, хотя к поэзии в это время Бальмонт обращался мало. Сообщая об этом Брюсову, он добавлял: «Относительно стихов у меня такое ощущение, что два или три года будет у меня перерыв полного молчания, а потом…» «Полного молчания» не получилось, но перерыв в три года в выпуске стихотворных сборников — срок для Бальмонта значительный.
Книгу «Зарево зорь» постсимволистская критика расценила как свидетельство возвращения «вечно юного» Бальмонта на «круги своя». «К. Бальмонт находится в том же кругу переживаний, что десять лет тому назад. Опыт этих лет прошел мимо него», — подчеркивал Н. Гумилёв, хотя признал, что «Зарево зорь» «радует прежним зорким вниманием к природе». В. Ходасевич в обзоре русской поэзии вскользь заметил: «Его последняя книга была бы очень хороша, если бы не принадлежала Бальмонту. Там, где Бальмонт повторяется, встречаем стихи очень хорошие, но как будто уже известные». Тем не менее М. Волошин нашел в книге несколько «изумительных» стихотворений, «за которые можно простить сотни равнодушных страниц», и в отзыве полностью процитировал «долгий степной напев» — стихотворение «Тоска полей».
Надо сказать, что русская тема врывалась и в цикл «египетских» стихотворений «Потухшие вулканы». «Святая страна пирамид» постоянно напоминает поэту о «душистых лесах» родной страны, а «царственный Нил», чьи «истоки безвестны, затеряны», остается внутренне «чуждым». Потрясенный былым величием «края Озириса», он все же признается:
Прекрасней Египта наш Север. Колодец. Ведерко звенит. Качается сладостный клевер. Горит в высоте хризолит. А яркий рубин сарафана Призывнее всех пирамид. А речка под кровлей тумана… О, сердце! Как сердце болит! (Прекрасней Египта)После «Зарева зорь», в 1913 году, Бальмонт издал избранные стихи, озаглавив книгу «Звенья» и тем самым подчеркивая взаимосвязь между всеми вышедшими до этого поэтическими книгами. Рецензент петербургского журнала «Современник» Сергей Астров определил ее как «хрестоматию» — в ней «ступени лестницы, по которым шел поэт». И тут же дал оценку всего творчества Бальмонта: «Чародей стиха, внесший в русскую поэзию дотоле неслыханные формы и образы <…> Бальмонт самый любимый и читаемый нынешний поэт. Влияние его огромно. <…> „Звенья“ несомненно станут настольной книгой каждого любящего родную литературу» (Современник. 1914. № 4). Интересен отзыв историка литературы, профессора Харьковского университета Николая Федоровича Сумцова в газете «Южный край» (1914. № 11 936). Он находил, что в сборнике «Звенья» отразилась способность автора «воплощать причудливые современные мечтания и искания», в них «особенно заметна эта чуткость к всечеловеческой жизни, к душам близких и чужих <…> слияние части с целым — человека с жизнью — в одном творческом порыве, в одном устремлении к Свету».
Хотелось бы отметить, что в 1909–1911 годах, как и в предшествующее и последующее время эмиграции, Бальмонт активно трудился в области перевода. Отдельными изданиями вышли сборники «Из чужеземных поэтов» и «Испанские народные песни», книги Г. Ибсена (драмы «Дикая утка», «Маленький Эйольф», «Привидения»), Кальдерона (третий том), Э. По (собрание сочинений), Ю. Словацкого («Три драмы»), Ф. Кроммелинка («Ваятель масок»), К. Марло («Трагическая история доктора Фауста»), У. Уитмена («Побеги травы»), П. Шелли (трагедия «Ченчи»), Этот список не претендует на полноту, вместе с тем свидетельствует о поразительной работоспособности поэта.
Безусловно, дорого было для Бальмонта завершение издательством «Знание» выпуска в 1907 году трехтомного собрания сочинений Шелли. На выход его откликнулся не только Корней Чуковский, как уже говорилось, ругательной рецензией в «Весах» (к тому же оскорбил поэта, назвав его «Шельмонт»). Тогда же, как позже выяснилось[16], Иннокентий Анненский в обстоятельном разборе бальмонтовского перевода (сличив его с подлинником) писал, что перевод сделан с любовью, поэт много трудился «над претворением английского подлинника в русские стихи». «И это, — заключал Анненский, — заставляет смотреть на лежащий передо мною труд как на вещь серьезную и почтенную, независимо даже от частных ошибок, шероховатостей и неточностей, которыми так несправедливо было бы затушевывать солидные достоинства этого литературного вклада».
Обращает на себя внимание и то, что расширился круг газет, журналов, издательств, в которых поэт стал печататься и издаваться. Это связано с тем, что «промежуточные» произведения, соединяющие реалистическую и модернистскую манеры письма, становились всё популярнее, и печатные органы теперь не столь строго делили литературу по направлениям и течениям.
После закрытия «Весов» и «Золотого руна» Бальмонт публиковался в журналах «Русская мысль», где литературный отдел возглавлял Брюсов, «Аполлон», «Современный мир», «Заветы» и др. Из издательств, в которых выходили его книги, отметим, кроме упоминавшихся, издательство «Польза» С. Скирмунта, а также издательства А. Маркса, М. О. Вольфа, К. Ф. Некрасова, М. В. Пирожкова.
По-прежнему, несмотря на возникающие временами противоречия с Сергеем Поляковым, «Скорпион» оставался самым близким Бальмонту издательством. Там в 1911 году вышел первый в России более или менее полный сборник стихов Уолта Уитмена «Побеги травы». Вслед за Шелли, По, Кальдероном это был для Бальмонта наиболее близкий по духу автор. Переводить его поэт начал в 1903 году, усиленно занимался им в 1905-м, неоднократно писал о нем. Уитмен привлекал его демократизмом, мощным выражением природного начала в человеке, преклонением перед стихиями природы. Однако издание «Побегов травы» претерпело цензурные осложнения: в марте 1911 года на книгу был наложен арест за «культ человеческого тела и чувственной любви». Суд приговорил издателя к штрафу в 25 рублей, а из книги изъяли раздел «Дети Адама» и стихотворение «Ласки орлов». С остальной части арест сняли, и книга вышла в свет.
Живя во Франции и Бельгии, Бальмонт иногда встречался с соотечественниками. После революции 1905 года в Париже три года жили Мережковские и, по воспоминаниям Зинаиды Гиппиус, Бальмонт порой появлялся по «субботам» в их салоне. Но близости между писателями не было. Чаще Бальмонт встречался с Волошиным, бывал у писательницы Александры Васильевны Гольштейн, в мастерской художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой. В 1909 году в Париж приезжал художник Николай Павлович Ульянов и тогда же написал портрет Бальмонта (ныне находится в Третьяковской галерее). Навешали его молодые поэты, присылали ему стихи, о чем можно встретить свидетельство в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Эренбург познакомился с Бальмонтом в 1911 году, преподнес ему свою первую книгу стихов и посвятил стихотворение. Среди гостей Бальмонта часто встречались польские писатели, жившие во Франции, поэт близко познакомился с известным польским романистом и драматургом С. Пшибышевским.
В 1911 году Бальмонта посетил Алексей Михайлович Ремизов, к которому поэт хорошо относился еще с момента знакомства в 1903 году. Ремизов выделял Бальмонта из всех символистов, группировавшихся вокруг «Скорпиона». «Только у Бальмонта, единственного <…> звучит долгая странная нота из корней сердца, а остальные „играют в игры любовные“» — так отзывался он о поэте в одном из писем. Из письма Ремизова Блоку от 28 апреля 1911 года явствует, что в первый же день приезда в Париж к нему заходил Бальмонт. «От Вас я кланялся, — сообщает он Блоку. — А он говорит: „Блок меня ругает все!“». С Бальмонтом Ремизов встречался неоднократно. Ему и Георгию Чулкову, который в это время тоже находился в Париже, поэт читал переведенные фрагменты из поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды». 18 июня Ремизов пишет Блоку, что на понедельник намечено прощание с Бальмонтом, и в этом же письме передает впечатление от него: «В Россию он не вернется, застрял он тут и сил уж нет выкарабкаться. А столько еще молодости в нем и порывистости и нежности». Здесь же он советует Блоку послать Бальмонту свои произведения и сообщает его парижский адрес. Ремизову хотелось сгладить отношения поэтов. Блок внял его совету и отправил Бальмонту «Стихи о Прекрасной Даме», вышедшие в издательстве «Мусагет» (1911), с инскриптом, заканчивающимся словами: «От неизменного почитателя». Бальмонт послал Блоку книгу «Зарево зорь» с надписью: «Певцу певучему Блоку». С Ремизовым Бальмонт состоял в переписке.
Из писем Бальмонта Брюсову видно, что у него не раз возникала мысль вернуться в Россию, несмотря на возможный арест и тюрьму, но близкие люди в России отговаривали, писали об опасности этого шага. Между тем Бальмонт все сильнее тосковал по России, все более задумывался о новом путешествии, предполагая его кругосветным. 16 августа 1911 года он сообщает Ф. Д. Батюшкову о своих планах: «Я хотел бы вернуться все же — не отклоняя приезд (с его вероятной карой мне, той или иной) по свершении своего большого путешествия. Если после этого посадят в тюрьму на неограниченное время, буду там писать „Заокеанские Видения“».
К кругосветному путешествию Бальмонт специально готовился. Он писал Михаилу Васильевичу Сабашникову, другим близким людям, чтобы ему прислали книги по буддизму — труды русских и зарубежных ученых (среди них академики И. П. Минаев и В. П. Васильев, Р. Пишель, Г. Ольденберг), книги о путешествиях в страны Индийского и Тихого океанов. Особый интерес проявлял к традициям и религиям народов Востока, по этому поводу консультировался с видным этнографом и антропологом, профессором Московского университета Дмитрием Николаевичем Анучиным, создавшим при университете Музей антропологии. В письме к нему читаем: «Уезжая в дальний путь, обращаюсь к Вам с просьбой. Если бы Вы были добры послать мне что-нибудь из Ваших работ по антропологии и этнографии, я был бы Вам очень благодарен. Охотно поквитался бы с Вами чем-либо из своих книг, если Вам это любопытно. Не укажете ли Вы мне также на какие-либо вопросники, приспособленные для собирателя фольклорных сведений?» Незадолго до отъезда он просит Т. А. Полиевктову прислать книги, которые, как ему представляется, потребуются в дальней дороге: «Мироздание» Вильгельма Мейера, «Общедоступную астрономию», «Кометы и падающие звезды» астронома Сергея Павловича Глазенапа, «Астрономический календарь на 1912 год», «Сравнительное языкознание» лингвиста Федора Евгеньевича Корша (письмо от 6 января 1912 года по европейскому календарю). Книга Корша, надо полагать, помогала ему разобраться в языках незнакомых народов, и, по его словам, он даже «лепетал в путях» по-сомалийски и по-малайски.
В январе 1912 года Бальмонт отправил в газету «Русское слово» цикл из восьми лирических стихотворений «Покидая Европу», и 24 января они были опубликованы. Стихи пронизаны тревогой и болью за Россию, раздумьями о ее настоящем и будущем:
Россию вижу я. Туманы там нависли. И тени мстительно там бродят вдоль могил.И все же за «долгой ночью» он надеется увидеть «венец зари» (стихотворение «Гиероглифы»). Тревога за родную страну, за ее народ усугубляется вестями о голоде в Поволжье (стихотворение «А кровь?»):
Я чувствую жестокую обиду, Я слышу вопль голодных матерей. И как же я в свое блаженство вниду, Когда есть боль вкруг радости моей?В статье «Привет Москве», написанной перед возвращением на родину, Бальмонт признавался, что одной из главных причин, заставивших его отправиться в долгое и дальнее путешествие, была неизбывная тоска по родине: «Последний год было невозможно оставаться в Париже. Я уехал в кругосветное плавание» (Русское слово. 1913. 12 мая).
Усилиями разных лиц, в первую очередь Максимилиана Волошина, перед отъездом Бальмонта было устроено его чествование по поводу 25-летия литературной деятельности. Строго говоря, если считать началом этой деятельности первую публикацию в журнале «Живописное обозрение», то юбилей следовало бы отмечать год назад. Но все понимали, что поэт отправляется не в легкую туристическую поездку, а в очень серьезное, трудное и длительное путешествие. Его называли кругосветным, так как Бальмонт предполагал вернуться в Европу через Америку. Забегая вперед скажем, что этого не получилось: из Океании (Полинезия), минуя Гавайские острова, он повернул свой маршрут в сторону Индии и вернулся через Суэцкий канал, пропутешествовав одиннадцать месяцев вместо намеченных тринадцати.
Юбилей отмечался в большом зале знаменитого парижского Лидо. Присутствовали около двухсот человек, среди них русские, французские, польские писатели. Юбиляра приветствовали Волошин (стихотворение «Напутствие Бальмонту», где он представлен как «пловец пучин времен»), Рене Гиль, Поль Фор, польский поэт Болеслав Лесмян и др. Были преподнесены юбилейные «адреса», в речах звучали слова признания его немалых заслуг в литературе.
В ответ Бальмонт прочел стихотворение «Четверть века», отражающее чувства человека, которому скоро предстоит дальний путь:
Неужели четверть века Что-нибудь Для такого человека, Пред которым дальний путь! О, неправда! Это шутка. Разве я работник? Нет! Я лишь сердцем, вне рассудка, Жил — как птица, как поэт, Я по снегу первопутка Набросал, смеясь, свой след. Я порою тоже строю Скрепы нежного гнезда. Но всегда лечу мечтою В неизвестное Туда. Все же, милых покидая, Милых в сердце я храню, Сердцем им не изменю. Память — горница златая, Верь крылатым — и огню!«Нечаянной радостью» назвал поэт этот вечер, он был растроган. Но мысленно он уже прощался с Парижем.
В самом конце января Бальмонт выехал в Лондон. «1 февраля н. с., — извещает он Брюсова, — из Лондона уезжаю с кораблем „Athenic“, Albion Company, 3-го февраля, на преломлении дня, гляжу в последний раз на Европу, в Плимуте, 8-го уже буду на Канарийских (Канарских. — П. К., Н. М.) островах». Дальнейший маршрут, согласно письмам Бальмонта, выглядит так: Кейптаун, Оранжевая республика, Трансвааль, побережье Южной Африки, Мадагаскар, затем — Тасмания, Австралия (Аделаида, Мельбурн), Новая Зеландия, группа островов Тонга, Табу, Самоа, Фиджи, снова Австралия (Сидней, Брисбен), Новая Гвинея, Целебес, Ява, Суматра, Цейлон (Коломбо и старая столица Анурадхапура), Индия (от Тьюитикорана до Мадраса, Бенареса, Агры, Дели, Бомбея); из Индии — через Порт-Саид в Марсель. В Париж Бальмонт вернулся 30 декабря. Таким образом, во время путешествия он ознакомился с образом жизни, бытом, верованиями, культурой народов Африки, Австралии, Азии, Новой Гвинеи, Индонезии, Океании (Полинезийских островов).
Эллис видел в поэте «старый тип испанского искателя». Он писал: «Воистину более всего явил свое „я“ Бальмонт в своих странствованиях без орбиты, цели и устали. Что ищет он? Погибшую Атлантиду? Или даже Лемурию?» Возможно, Бальмонт верил в Атлантиду и Лемурию, но все же у его путешествий была и своя «цель», и своя «орбита».
Как известно, Д. Н. Анучин охотно откликнулся на просьбу Бальмонта перед его путешествием. Он послал ему свои труды, сообщил ряд ценных сведений, дал советы и рекомендации. В свою очередь, Анучин попросил поэта, если будет возможность, собрать в заморских странах для Музея антропологии предметы из области этнографии и антропологии. В статье «Заморское путешествие К. Д. Бальмонта» (Русские ведомости. 1913. 1 марта) Анучин пишет, что Бальмонт не забыл своего обещания и «вывез из посещенных им стран много интересного, потратив на то немало средств». Привезенные и переданные в Музей антропологии предметы до сих пор хранятся там и представляют собой немалую ценность. По словам хранителя музея Натальи Новиковой, бальмонтовских экспонатов более ста. В статье «Странствующий певец» (Вокруг света. 1990. № 2) она описала их и сообщила, что они используются в экспозициях музея.
В письме Анучину Бальмонт сетовал, что привез маловато, но тут же отмечал: «Конечно, будучи любопытствующим писателем и довольно опытным путешественником, я умел в несколько минут заметить многое, чего другой глаз, быть может, не увидит в гораздо более долгий срок, но для того, чтобы вполне освоиться в любой стране, нужна известная длительность, которой я был лишен. Впрочем, до поездки я мысленно путешествовал по этим странам через книги, что продолжаю делать и теперь».
Несмотря на разнообразие впечатлений, их новизну и экзотичность, мысли поэта неизбежно возвращались в родные края. «Мне хочется сказать Вам, — признавался Бальмонт Анучину в письме, отправленном с Явы, — что 7 лет назад, когда я вернулся в Россию, взметненную бурей, из долгого путешествия по Мексике, Майе, Калифорнии, во мне загорелась неугасимым костром моя бывшая ранее скорее спокойной любовь ко всему русскому и ко всему польскому. Есмь славянин и пребуду им. С тех пор я прочел все, что касается русских былин, преданий и вымыслов. „Все“ это преувеличение, но много. И одновременно я полюбил все народы земли в их первотворчестве <…>. Но лишь теперь <…> я понимаю, почему Миклухо-Маклай, с детства меня пленивший, так возлюбил папуа и был ими возлюблен. Я думаю, что сейчас на всем земном шаре есть только две страны, где сохранилась святыня истинной первобытности: Россия и Новая Гвинея»[17].
Еще находясь в пути, Бальмонт иногда делился своими впечатлениями с читателями. Так, в газете «Русское слово» 24 июля 1912 года был опубликован его очерк «Из южных далей». Но в основном путевые очерки Бальмонта, обработки мифов, преданий, легенд, сказок народов, с которыми он встречался, публиковались после его возвращения в Россию: в 1913–1916 годах они появились в газетах «Русское слово», «Современное слово», «Речь», «Утро России», в журналах «Северные записки», «Вокруг света», «Заветы» и других изданиях.
В каждой из посещаемых стран Бальмонт стремился отметить что-то свое, самобытное. В Южной Африке, например, он обратил внимание на пещерную живопись бушменов с первобытной символикой, которую нашел «до чрезвычайности близкой современному французскому импрессионизму» (очерк «Из южных далей»). В Новой Зеландии его поразило искусство народа маори — в строительстве резных домов-храмов, в создаваемых ими ладьях, в сложных узорах их татуировок. Особо увлекли поэта мифы маори и жителей Полинезийских островов о небе и земле, первом человеке, космогоническое понимание любви. Он записывал их предания, легенды, сказки, которые войдут в подготовленную, но, к сожалению, неизданную книгу «Океания».
Вообще Океания, образ жизни ее народов увлекли Бальмонта так же, как когда-то французского художника Поля Гогена, поселившегося в свое время на острове Таити. Два путевых очерка поэта о Полинезийских островах имеют емкие по смыслу названия: «Острова счастливых. Тонга», «Острова счастливых. Самоа».
Океания станет темой многочисленных литературных вечеров Бальмонта после возвращения на родину, во время поездок по России в 1914–1917 годах. Приведем для примера программу одного из вечеров, опубликованную в газете «Речь» 17 октября 1915 года:
«Океан — лик вечности и неистощимой жизни. Свежесть вечного возврата. Очарование Атлантики. От туманов снежного севера к солнцу Южной Африки. Предполярные области Южного Океана. Тасмания. Австралия. От Белоликих к Смуглоликим. Маорийское царство Новой Зеландии. Полинезия как острова счастливых.
Царство смеха, улыбок, красивых лиц. Тонга. Табу. Тишина Золотого Самоа. Остров Фиджи. Новая Гвинея — последний оплот красоты первобытности. Кристалл мгновения в оправе вечности».
Неверно думать, будто Бальмонт видел и отражал в очерках только красивое и счастливое. Как и в мексиканских зарисовках, он поднимал тему варварского вторжения цивилизации в жизнь аборигенов Тасмании, Австралии, Новой Гвинеи, других посещенных им стран. Симпатии поэта были на стороне этих народов и их самобытной культуры. Зато много нелестного высказано им в адрес колонизаторов-европейцев, особенно англичан.
Конечной целью путешествия стала Индия, страна древней мудрости, куда он давно стремился, о которой много читал и специально изучал санскрит. С Индией, можно сказать, он не расставался все время пути, так как работал над переводом поэмы Ашвагхоши (в транскрипции Бальмонта — Асвагоша) «Жизнь Будды». Во время путешествия он случайно познакомился с переводом грузинской поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на английский язык и тут же загорелся желанием переложить ее стихами на русский язык (чем вскоре и станет заниматься в течение ряда лет).
Накануне возвращения из путешествия Бальмонт писал Анучину: «Если бы я должен был ответить, что произвело на меня самое сильное впечатление, я ответил бы — звездные ночи на корабле и вечерние зори. Это вольность безграничного Неба над безграничным Морем. Дикие красивые лица зулусов и папуасов, этих истых детей Солнца. Упоительные глаза маорийских женщин и их татуированные лица. Сновиденно прекрасные, неправдоподобно воздушные лагунные воды коралловых затонов. Смеющиеся лица тонганцев и самоанцев, дающих наконец почувствовать европейцу, что есть еще на земле счастливые народы, где все сплошь счастливы. Пляски самоанок, на которые нельзя смотреть, не влюбляясь в них. Исполненный нежности и грусти гамеланг[18], музыка Явы, выслушав которую однажды, уже будешь тосковать по ней всю жизнь. Малайки, которые все очаровательны и грациозны, как красивые маленькие сказки. Необузданный лес на горах дикой Суматры. Это последнее, вместе с коралловыми лагунами, я считаю самым красивым из всего, что я видел в своей жизни, наряду с Кавказом, Мексикой, Испанией и Египтом. Хорошо было также первое впечатление от Цейлона. Почувствовалось странное братство с Сингалезами, расовое сродство, большое и таинственное. Индия мне понравилась всего менее. После России она кажется повторением. И та же тоска земная, та же тяжкая ужасающая глушь. Не понравилось — не то слово. Щемящая боль от нее дрожала в душе все время. Трижды несчастная страна, безвозвратно пригнетенная. Вот и все, что пока я могу сказать. Мне глубоко грустно от всего хода человеческой истории. Я считаю, что человечество переходит от ошибки к ошибке, и теперешняя его ошибка — порывание связей с Землей и союза с Солнцем, наравне с идиотическим увлечением механической скоростью движения, есть самая прискорбная и некрасивая из всех ошибок. Чтобы не чувствовать отчаяния и не потерять радость бытия, мы имеем, я думаю, лишь один Архимедов рычаг — мысль личного совершенствования и внутреннего умножения своей личности».
В то время когда Бальмонт находился в районе Южной Африки, Неофилологическим обществом при Петербургском императорском университете было устроено чествование поэта по случаю 25-летия его литературной деятельности. Действительным членом Неофилологического общества Бальмонт был избран еще в 1899 году. Одним из активных организаторов юбилейного торжества стал Вячеслав Иванов. Он продолжал с симпатией относиться к творчеству Бальмонта и сочувствовал ему, вынужденному жить вне родины. Напомним, что ранее поэты неоднократно обменивались дружескими стихотворными посланиями, а в 1909 году Иванов обратился к «изгнаннику» с сонетом «К. Бальмонту», в котором сравнил его с Байроном, тоже вынужденно покинувшим родину. Вяч. Иванов вошел в юбилейный комитет и много приложил усилий, чтобы чествование прошло хорошо и достойно. Приглашая Брюсова на юбилей, он писал: «Затеяв дело, я естественно желаю, чтобы его осуществление было на высоте замысла». Так это и случилось: юбилей прошел торжественно и деловито.
Первоначально 5 марта состоялся большой литературно-музыкальный вечер в Театре драмы и комедии на Моховой. Заседание Неофилологического общества проходило 11 марта в здании городской думы. С докладами и речами выступили известные ученые: председатель Общества профессор Ф. А. Браун, профессора Ф. Д. Батюшков, Е. В. Аничков, Д. К. Петров, приват-доцент К. Ф. Тиандер, а также поэт Вячеслав Иванов. Во вступительном слове Ф. А. Браун охарактеризовал Бальмонта как «необходимое звено в мировой поэтической мысли», связал его творчество с «могучей идеалистической волной» и вниманием к тому, что «властно говорит в области подсознательного», — все это было столь показательным для литературы рубежа XIX–XX веков. В докладах Е. В. Аничкова, Д. К. Петрова и К. Ф. Тиандера Бальмонт оценивался как замечательный переводчик и пропагандист английской, испанской и скандинавской литератур. Ф. Д. Батюшков раскрыл новаторство Бальмонта в русской поэзии, а Вяч. Иванов остановился на особенностях его лиризма и закончил свою речь стихотворным приветствием на латинском языке, тут же прозвучавшим в переводе на русский.
В протоколе заседания Общества указывалось, что не могли произнести речи Брюсов (из-за невозможности приехать в Петербург) и Блок (по нездоровью), перечислялись многочисленные телеграммы и приветствия от университетов, журналов, издательств, литературных и художественных организаций, в том числе Художественного театра, «Цеха поэтов» (Ахматова, Городецкий, Гумилёв, Лозинский, Мандельштам, Нарбут), писателей и поэтов Л. Андреева, Брюсова, Блока, Чулкова, Зайцева, Ремизова, Балтрушайтиса, Волошина, Кузмина и других, а также от иностранных писателей Рене Гиля, Анри де Ренье, Эмиля Верхарна, Стефана Жеромского, режиссера Гордона Крэга и многих других.
Следует заметить, что доклады и речи не походили на юбилейные славословия. В них серьезно анализировались достижения и достоинства Бальмонта-поэта и переводчика, его место и значение в русской культуре. Эти материалы составили седьмой выпуск «Записок Неофилологического общества» (1914), благодаря чему можно увидеть, что они во многом противостояли импульсивным и часто субъективным оценкам газетно-журнальной критики. Особый склад творческой индивидуальности Бальмонта блестяще показан в докладе Ф. Д. Батюшкова «Поэзия К. Д. Бальмонта» и в речи Вячеслава Иванова «О лиризме Бальмонта». Кроме того, к юбилею Иванов опубликовал в газете «Речь» (11 марта) статью, в которой встречаются акценты и суждения, к примеру, о присущей поэту «мимолетности»: «В Бальмонте это не есть только любование отдельными моментами и наслаждение ими и не распыленность индивидуальности в мгновениях (не гедонизм, не эпикурейство), а утверждение в себе и в мире солнечной энергии, той энергии, за которой стоит божественная любовь. Поэтому в лице Бальмонта мы имеем дело не с разрушительным началом общественности и нравственности, а с энергией, глубоко утверждающей бытие и действие — божественный смысл вселенского, народного, личного бытия и свободного творческого порыва».
В то время когда в критике широко муссировалась мысль, будто время поэзии Бальмонта прошло, прекрасный педагог-словесник Владимир Гиппиус печатно высказался о необходимости знакомить гимназистов с самыми популярными и достойными писателями современности и назвал при этом имена Бальмонта, Сологуба, Брюсова, Андреева. Между тем Бальмонта очень беспокоила мысль, помнят ли его в России.
Узнав о чествовании в Неофилологическом обществе, поэт был тронут этим фактом. Отвечая на приветствие Общества, он писал 20 января 1913 года Ф. Д. Батюшкову: «Если воистину я что-нибудь сделал для России, то это не более как малость, и я хотел бы сделать для нее, я хотел бы сделать для торжества русского художественного слова в сто, в несчетность раз больше». И далее продолжил: «Я рад, что я родился русским, и никем иным быть бы я не хотел. Люблю Россию. Ничего для меня нет прекраснее и совершеннее ее. Верю в нее — и жду. Напряженно жду. Золотые струны русской души утончатся, вытянутся. Час идет, когда грянет Музыка».
Чувства, выраженные в этих словах, скажутся не раз в стихотворениях, которые войдут в книгу «Белый Зодчий» (1914).
В феврале 1913 года российское правительство объявило амнистию по случаю трехсотлетия Царствующего Дома Романовых, и для Бальмонта открылся свободный путь для возвращения на родину. Правда, минутами его одолевали сомнения. «Истинно ли ждет меня кто-нибудь в России?» — спрашивал он в письме М. В. Сабашникова.
С возвращением в Россию Бальмонт задержался до начала мая. Одна из главных причин — подготовка к печати его перевода поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды». Он изучал санскрит, знакомился с переводами поэмы на европейские языки, консультировался со специалистами по санскритской и китайской литературе, постоянно советовался с выдающимся специалистом в области древней индийской литературы французским ученым С. Леви (он был членом-корреспондентом Российской академии наук), при подготовке книги к печати подбирал иллюстрации с помощью знатока буддизма Фуше (кстати, в издании использованы и фотографии, сделанные самим Бальмонтом, в том числе знаменитого храма Боро-Будур в Яве). Любовно изданная поэма «Жизнь Будды» с предисловием С. Леви вышла в свет в 1913 году и стала заметным событием в плане знакомства русского читателя с индийской культурой.
Пятого мая Бальмонт прибыл в Москву. На Брестском вокзале его встречала масса народа: родственники, друзья, почитатели, газетные репортеры, фотографы и, конечно, писатели — Брюсов, Балтрушайтис, Борис Зайцев и др. Множество цветов, кто-то начал произносить приветственную речь, но тут вмешался жандарм и объявил, что речей «велено не допускать». Всё же кому-то удалось сказать экспромт:
Из-за туч Солнца луч — Гений твой. Ты могуч, Ты певуч, Ты живой.«Это было очень весеннее, свежее, радостное. Так много молодых лиц, и все такие светлые. Мне приятно, я рад, я горжусь этой встречей», — сказал Бальмонт репортеру газеты «Русское слово», озаглавившему свою заметку «Возвращение К. Д. Бальмонта» (1913. 7 мая). Отчеты о встрече поместили почти все московские газеты. В «Воспоминаниях» Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт пишет: «Девочка наша страшно была удивлена. „Разве папа такая знаменитость? Я совсем этого не знала“, — повторяла она. Потом ее очень занимало, что отца ее приходили интервьюировать и снимать в дом сестры, где мы остановились. И ее сняли с ним — очень удачно».
«Русское слово» 12 мая опубликовало письмо поэта «Привет Москве». «Сколько пытки и боли, — говорится в нем, — сколько безысходной тоски возникает в душе, когда на семь лет оторван от родины. Можно жить в стране, где люди говорят на таком изящном, красивом языке, как французский <…> но по истечении известного времени, — что мне все эти красоты, я хочу русского языка, который мне кажется красивейшим в мире. Я хочу, чтобы он звучал мне отовсюду, как птичий гомон в весеннем лесу, как всеохватная мировая музыка 9-й симфонии Бетховена, как гул пасхальных колоколов священной, древней, русской, воистину русской, Москвы!!!»
В беседе с корреспондентом «Русского слова» Бальмонт подробно рассказал о своей жизни вне России, о путешествиях и работе. И снова всплыла тема языка, чрезвычайно важная для писателя: «За границей мне особенно тягостно было без русского языка. Я вот теперь хожу по Москве и слушаю. И сам заговариваю, чтобы слышать русскую речь <…>. Не хватало мне и мужиков, и баб. Сегодня утром пошел в Кремль, зашел в Благовещенский собор и там увидел мужиков — тех, кого хотел» (Русское слово. 1913. 20 мая). Характерное признание в смысле тоски поэта именно по народному языку.
В честь Бальмонта, по случаю его возвращения в Россию, были организованы торжественные приемы в Обществе свободной эстетики, возглавляемом Брюсовым (7 мая), в Литературно-художественном кружке (9 мая). Как обычно, говорилось много приятного в адрес виновника торжества, но не обошлось и без «ложки дегтя». В Обществе свободной эстетики от имени «врагов Бальмонта», футуристов, выступил почти никому не известный молодой Владимир Маяковский. В нагловато-эпатажной манере он прочел бальмонтовское стихотворение «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды…» и повернул его содержание так, что оно било по автору:
Дети Солнца, не забудьте голос меркнущего брата, Я люблю в вас ваше утро, вашу смелость и мечты, Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката, — В первый миг и в миг последний будьте, будьте, как цветы.Дерзкая выходка не смутила Бальмонта, считавшего, что между поэтами не может быть вражды, а возможно только соперничество, в ответном стихотворении, которое он прочел, звучало снисходительное великодушие поэта, который «не знает, что такое презрение».
Чествование Бальмонта состоялось также в Петербурге 8 ноября. Оно происходило в поэтическом кафе «Бродячая собака». От имени петербургских литераторов Бальмонта приветствовали Ф. Сологуб и Е. Аничков. В воспоминаниях Надежда Тэффи описала это событие следующим образом (очерк «Бальмонт»):
«Его приезд был настоящей сенсацией. Как все радовались! — „Приехал! Приехал! — ликовала Анна Ахматова. — Я видела его и ему читала свои стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс: Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью — меня, Анну Ахматову“. Его ждали, готовились к встрече, и он приехал. Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была обвернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.
Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц — „жен-мироносиц“. „Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь“, — повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама. Обезумев от любви к поэту, она забыла, что „Бродячая собака“ находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни. Бальмонт отвечал презрительно: „Не стоит того. Здесь недостаточно высоко“. Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале».
Однако и в Петербурге праздничная обстановка встречи сопровождалась скандальным эпизодом. Некий молодой человек, желая быть «дерзким», оскорбил поэта: не то плеснул в Бальмонта вином, не то, по другой версии, ударил. Очевидно, Бальмонта считали «столпом» символизма и в его лице боролись с «литературным противником».
Так началось вхождение Бальмонта в литературную жизнь Москвы и России. В это время в литературе формировались два новых течения, противостоящих символизму и друг другу, — акмеизм и футуризм. Их шумные выступления и декларации не прошли мимо внимания Бальмонта, но в литературную борьбу он не вмешивался. Что касается теории и поэтической практики новых модернистских школ, тут не всё ему было чуждо. Ориентация Бальмонта на «явления», а не на мистику, была близка акмеистам, как и возвращение к первоначальным смыслам, к первоприродному. Последнее было близко и футуризму («душа стремится в примитив»). В своих новациях стиха, стихотворной речи футуристы немало позаимствовали у Бальмонта.
Бальмонту ближе были акмеисты. Появившийся сразу же после закрытия «Весов» и «Золотого руна» журнал «Аполлон» (1909–1917) стал площадкой для формирующегося акмеизма. Первое время в нем большую роль играли символисты, в особенности Вяч. Иванов. Бальмонта в «Аполлоне» охотно печатали, там же была опубликована статья Иванова «О лиризме Бальмонта» (1912. № 3–4). Внутренняя борьба между символизмом и развивающимся акмеизмом закончилась в журнале победой последних. В первом номере «Аполлона» за 1913 год появились сразу две статьи — Сергея Городецкого «Некоторые течения современной русской поэзии» и Николая Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм». Это были манифесты нового литературного течения — акмеизма, пришедшего на смену символизму. Однако о символизме Гумилёв говорил как о «достойном отце», сам он начинал с перепевов Бальмонта. И хотя в более поздних «Письмах о русской поэзии» Гумилёва можно найти разные высказывания о Бальмонте, преобладает утверждение, что «с него надо начинать очерк новой русской поэзии». Городецкий, тоже испытавший влияние Бальмонта, в статье-манифесте говорил о нем как о поэте, который своими «солнечными протуберанцами» вырывался из символистских доктрин, и провозглашал «адамизм» (другое название акмеизма), не без оглядки на Бальмонта, как «свежесть» в архаическом бытии.
Творческие планы Бальмонта после возвращения в Россию не укладывались в какое-либо одно направление. Он писал очерки о виденном в путешествиях, загорелся идеей познакомить русских с индийским театром, стал переводить драмы Калидасы и, разумеется, писал стихи. В письме от 21 августа 1913 года он известил Брюсова: «Кончил новую книгу стихов, написанную за последние два года. И мысленно еще в Тихом океане». Речь идет о книге «Белый Зодчий. Таинство четырех светильников» (1914), созданной в основном по впечатлениям последнего, «кругосветного», путешествия. В этой книге ощутимы переклички с новыми течениями в русской литературе. Идея жизнетворчества получает в ней другой, по сравнению с книгой «Будем как Солнце», импульс развития.
Основной пафос «Белого Зодчего» оптимистичен, в сборнике отсутствует драматическая расщепленность лирического «я», заметно усилившееся тяготение Бальмонта к созданию больших стихотворных циклов поэмного типа, ранее расцененное Брюсовым как «попытка эпоса».
В «Белом Зодчем» поэт вновь предстает «неустанным искателем Бога» (В. Брюсов). Центральный образ книги, давший ей название, — Всевышний создатель мира — соединяет в себе черты разных религиозных систем. Сам Бальмонт выделяет в качестве главных «два лика» — Будду и Христа, которые кажутся ему «всех совершенней»:
Один — спокойный, мудрый, просветленный, Со взглядом, устремленным внутрь души, Провидец, но с закрытыми глазами. ……………………………………… Другой — своей недовершенной жизнью — Взрывает в сердце скрытые ключи, Звенящий стон любви и состраданья… (Средь ликов)Однако не менее дорог поэту египетский бог солнца Ра. Не случайно в качестве эпиграфа ко всей книге выбран «портрет» Белого Зодчего, созданный им в поэме «Месть Солнца»: «Кости его — серебро, тело его — золотое, волосы — камень лазурь». Кроме того, во время кругосветного путешествия Бальмонт открывает для себя новых океанических богов, среди них полинезийского Мауи-строителя (стихотворение «Мауи»).
Возможно, подзаголовок книги — «Таинство четырех светильников», — который литературовед В. Ф. Марков трактует в духе верности поэта «четырем стихиям», истолковывается в религиозно-мифологическом ключе как «четыре лика».
Так или иначе, для «всебожника» Бальмонта Белый Зодчий является «неземным Художником», строителем-творцом космической и человеческой жизни. «В повторностях человеческой жизни есть смысл Вечного Строительства, приводящего к целям, несоизмеримым с маленькой личной жизнью, или с замкнутой отдельной эпохой», — писал поэт в очерке «Океания».
Всевышний создатель мира осмыслен поэтом главным образом через «звездные» видения с борта океанического парохода. Поэту поверяют свои сокровенные тайны то «южный Сириус», то «Млечный Путь», то «Ориона три звезды» и, наконец, «Южный Крест», пять звезд которого символизируют распятие и муки Господни:
Откуда Крест во взвихренной мятели Планет и лун и этих вышних льдин? Пять алых капель в крайний час зардели, Когда в прозреньи снов был распят Сын… (Южный Крест)Приобщение к звездному миру вновь оживляет в душе поэта чувство его сопричастности и земной, и космической жизни. «В одно и то же время чувствуешь, что в нераздельном целом слились в тебе Великий Мир и Малый Мир, человеческое сознание и безграничное, звездное, миротворческое, на чьем ночном лоне мы мчимся среди мировых светил. Лишь в Океанических ночах увидишь воистину звездное Небо, поймешь, что ты звезда между звезд…» — писал Бальмонт в «Океании».
«Всезвездность душ» находит поэт не только в ночном небе, но и в гармонической жизни народов океанийских островов (Самоа, Тонга-Табу, Фиджи, Ява), которая представлена в книге несколько идеализированной:
В одном недвижном чуде, Забывши счет столетий, Здесь счастливы все люди, Здесь все они как дети. (Тонга-Табу)Вторжение цивилизации в этот сказочно прекрасный мир оценивается как катастрофа:
Нет Австралии тех детских наших дней, Вся сгорела между дымов и огней. Рельсы врезались во взмахи желтых гор, Скован, сцеплен, весь расчисленный, простор… И от города до города всегда Воют, копоть рассевая, поезда. (Черный лебедь)Из новозеландского фольклора приходит образ бога-строителя Мауи, которому Бальмонт приписывает функцию чародея-рыболова, создателя Самоа:
Закинул крюк он со всего размаха, И потонул напруженный канат. Вот дрогнула в глубинах черепаха, Плавучая громада из громад. За знойным Солнцем нежится Самоа… (Мауи)Образ зодчего, уходящий корнями к популярной в то время драме Г. Ибсена «Строитель Сольнес», становится у Бальмонта Белым Зодчим, несколько сконструированным символом Всевышнего творца:
Когда великий Зодчий мира Скрепил размеренность орбит, И в дымах огненного пира Был водопад планет излит, ………………………………… Была в свеченьях восхищенья Его высокая душа, Узрев, что эта песнь творенья В огнистых свитках хороша. (Белый Зодчий)В целом книга Бальмонта 1914 года отразила новый этап его религиозных исканий.
Летом 1913-го обострились отношения Бальмонта с Брюсовым. Поводом послужили статьи Бальмонта в газете «Утро России» за 29 июня и 3 августа 1913 года — «Восковые фигурки» и «Забывший себя. Валерий Брюсов». В них Бальмонт весьма критично оценил прозу Брюсова и переиздания его поэтических сборников. Брюсов ответил статьей «Право на работу» (Утро России. 1913. 18 августа). Главное в их полемике — полярность взглядов на литературное творчество, на сущность лирической поэзии.
Как правило, Бальмонт не перерабатывал свои стихи, лишь изредка, при перепечатках, внося небольшие коррективы и уточнения. Он считал: «Лирика по существу своему не терпит переделок и не допускает вариантов» («Забывший себя»). С этой точки зрения он осуждал Брюсова, который при переиздании ранних стихотворений внес в них существенные исправления. При этом Брюсов, отстаивая свое «право на работу», на совершенствование своих произведений, опирался на литературный опыт больших поэтов и писателей. Точку зрения Бальмонта он считал ложной и вредной. Тут схлестнулись, по выражению Бальмонта, «два догмата», и каждый из поэтов остался при своем мнении. Но аргументацию Бальмонта важно учитывать, имея в виду именно особенности его лирики, ориентированной на правду мгновения. Каждое явление, мгновенно схваченное поэтом-лириком, несет неповторимые переживания; ушедшее мгновение — это «раз пережитое, раз бывшее цельным и в сущности своей неумолимо правдивым» — так настаивал Бальмонт в статье «Забывший себя».
По словам Екатерины Алексеевны, Бальмонт был правдив не только в стихах, но и в прозе, он «ничего не придумывал», шел от пережитого, испытанного им, и мгновения действительно играли огромную, хотя не единственную роль в его творчестве. Брюсов видел в Бальмонте только поэта мгновений и провел это убеждение через все статьи о нем. В Бальмонте, как он утверждал, «истинно то, что сказано сейчас». Вслед за Е. Баратынским Брюсов сам увлекался «мгновением» — недаром у него есть циклы стихов, озаглавленные «Мгновения». Но понимание процесса творчества у поэтов было разным. После летней полемики Брюсов резко отошел от Бальмонта, их отношения приобрели формальный характер. Он уже давно пришел к выводу, что Бальмонт сказал свое последнее слово в литературе, и перестал интересоваться им.
На этом, пожалуй, можно поставить точку в многолетней истории дружбы-вражды двух поэтов. Особенности их взаимоотношений не были секретом для литераторов. Многие из них писали о ревности Брюсова к таланту Бальмонта, о зависти первого к славе второго. Марина Цветаева в статье «Гений труда» противопоставляла Брюсова и Бальмонта как Сальери и Моцарта (в пушкинской трактовке). Максимилиан Волошин в дневниковой записи от 20 сентября 1907 года, отмечая огромное честолюбие Брюсова, утверждал: «Его мучит желание быть признанным первым из русских поэтов. В этом его роман любви и зависти к Бальмонту. Теперь он считает Бальмонта побежденным».
У Бальмонта после разрыва с Брюсовым остались старые верные друзья — Балтрушайтис, Поляков, Волошин, Сабашников, установились хорошие отношения с Вяч. Ивановым, который вскоре переехал из Петербурга в Москву. Появились новые знакомства в творческой среде. Бальмонт близко сошелся с композитором Александром Николаевичем Скрябиным, установил связь с Камерным театром Александра Таирова, для которого стал переводить пьесу Калидасы «Сакунтала», и вообще заинтересовал Таирова идеей индийского театра.
Возможно, полемика с Брюсовым подтолкнула Бальмонта к размышлениям о сущности поэзии. Сначала им была подготовлена лекция «Поэзия как волшебство», которую он в 1914 году многократно читал в разных аудиториях, а в 1915 году под этим названием в издательстве «Скорпион» выпустил книгу (на титуле указан 1916 год). В ней Бальмонт развивал свои мысли о поэтическом творчестве. В условиях, когда шла дискуссия о художественных возможностях символизма («Заветы символизма» Вяч. Иванова в журнале «Аполлон», выступления там же Блока, Брюсова, Белого, статья Сологуба о символизме в журнале «Заветы») и когда провозглашали свои манифесты акмеисты и футуристы, работа Бальмонта тоже воспринималась как своего рода запоздалый манифест поэта-символиста.
Крупнейшие поэты-символисты, по сути уже «преодолевшие символизм», находились в расцвете творчества, символистские же доктрины о теургическом жизнестроительном призвании художника в новых условиях не отвечали потребностям времени, и кризис этих доктрин был неизбежен. Бальмонт в книге «Поэзия как волшебство» не касается, условно говоря, ни «брюсовской», ни «ивановской» концепций искусства. Он развивает собственные представления о сущности и цели поэзии и выражает их поэтически-метафорическим языком. Об этом хорошо сказал в рецензии на выход книги Ходасевич: «Эту небольшую книжку, неоднократно прочитанную автором публике, менее всего можно назвать исследованием о природе поэзии. Она сама должна быть причислена к созданиям поэтическим <…>. Она сама по себе лирика» (Русские ведомости. 1916. 6 января).
Основные положения книги, схематизируя, можно изложить так. Мир нуждается в преображении и совершенствовании, и это делает Бог, в том числе через поэта. Оба — и Бог, и поэт творят красоту. Особая роль в творчестве принадлежит музыке, поскольку она ближе к первоосновам бытия, — в ней есть колдовская, чарующая сила. Музыка реализуется в поэзии как размеренность, ритм, мелодика стихотворной речи. «Мир есть всегласная музыка. Весь мир есть изваянный стих», — утверждал Бальмонт в книге.
Находясь в «кругосветном» плавании, Бальмонт страстно мечтал о другом путешествии. Он писал в то время Д. Н. Анучину: «Я мечтаю о том, какое было бы счастье объехать всю Россию». Эту мечту Бальмонт по возвращении в Россию стремился осуществить. В 1914–1917 годах он совершил четыре длительные поездки по России. Обычно пишут о турне 1915 и 1916 годов. Между тем уже в марте — апреле 1914 года он совершал поездки с чтением лекции «Поэзия как волшебство». В письме из Ростова-на-Дону от 1 апреля 1914 года критику Иванову-Разумнику поэт сообщил, что находится в литературном турне по городам Минск — Киев — Одесса — Харьков — Ростов, затем едет в Екатеринодар — Тифлис — Баку, а в Петербург вернется к 27 апреля. Вероятно, турне и началось в Петербурге, где он «опробовал» свою лекцию, опубликовав ее под названием «Поэзия как волшебство» (Речь. 1914. 5 марта). В Петербурге организацией поездок занимался импресарио Долидзе. Сначала Бальмонт направился в Ригу, которая в письме Разумнику не упомянута, но о выступлении там, состоявшемся 17 марта, есть отчеты в местных газетах «Рижская мысль» и «Рижский вестник», вышедших на следующий день.
По дороге в Ригу поэт написал 10 марта стихотворение «Лишь с ней», представлявшее собой раздумья о России. В его записной книжке оно озаглавлено «Весна» и под ним, кроме даты, указано место написания: Двинск. Так, со стихотворения о России начались его поездки по стране. Есть смысл процитировать это стихотворение, вошедшее затем в незавершенный цикл «В России» и перекликавшееся с блоковскими стихами о России. Любопытно, что Бальмонт, как и Блок (вспомним его строки: «О Русь моя, Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь!»), уподобляет Россию жене, с которой он обвенчан:
Я был в России. Грачи кричали. Весна дышала в мое лицо. Зачем так много в тебе печали? Нас обвенчали. Храни кольцо. Я был повсюду. Опять в России. Опять тоскую. И снова нем. Поля седые. Поля родные. Я к вам вернулся. Зачем? Зачем? Кто хочет жертвы? Ее несу я. Кто хочет крови? Мою пролей. Но дай мне счастья и поцелуя. Хоть на мгновенье. Лишь с ней. С моей.По настроению печали, грусти, тоски это стихотворение перекликается и с циклом стихов Бальмонта «В деревне», который навеян впечатлениями от деревень Подмосковья, увиденных летом 1913 года: «Те же дряхлые деревни…» (стихотворение «Те же»). В письме из Наро-Фоминска от 6 июня 1913 года, адресованном в Мюнхен известному переводчику русской литературы на немецкий язык А. С. Элиасбергу, поэт писал: «Я не слишком очарован Россией». Вместе с тем в стихотворении «Лишь с ней» силен мотив жертвенности, готовности оставаться с родиной и в страдании.
Вероятно, это стихотворение было прочитано Бальмонтом в Риге. Рижские газеты отмечали, что особое впечатление произвели на слушателей стихи поэта о родине, от которой он долгое время был оторван. О том, как в целом проходило выступление Бальмонта в Риге, оставила воспоминания Эльга Турланова, пришедшая на лекцию с отцом, который учился вместе с Бальмонтом в Шуйской гимназии.
Мемуаристка пишет, что лекция состоялась в Коммерческом клубе и делилась на две части: первая — «Поэзия как волшебство», вторая — чтение стихов. Она вспоминает, что первая часть была скучной и непонятной. «Поэт говорил о поэзии и музыке слов, цвете букв и пр. Говорил вычурно, такой речью, к которой слушатели были непривычны, и многие дремали и зевали слушая. Но вот он начал читать свои стихи, и его чтение действительно являлось подтверждением его слов. Вся скука исчезла, зевки прекратились. Когда удалился в комнату, раздались аплодисменты и вызовы. Выходил три раза и снова читал стихи». Далее она рассказывает, как с отцом подошла к Бальмонту, отец напомнил о себе, Бальмонт трижды его поцеловал, вспомнил Шую: «Хоть весь мир земной люблю, а мне всегда желанна Шуя».
Среди слушателей Бальмонта в Киеве был молодой в ту пору журналист, а позднее известный литературовед, переводчик, исследователь Гейне Александр Иосифович Дейч. Много лет спустя в книге «День нынешний и день минувший» он передаст свои впечатления от лекции «Поэзия как волшебство», которая проходила 22 марта в здании Купеческого клуба: «О чем же была лекция? Поэт доказывал недоказуемое: он утверждал, что смысл поэзии заключается вне мысли, в словосочетаниях и созвучиях отдельных слов, вплоть до заумных. Быть может, в этом он бессознательно смыкается с теориями футуристов-речетворцев, которые в самом звучании гласных и согласных находили затаенный колдовской смысл. Но поклонники поэта, наполнившие зал, приняли на веру научно шаткие утверждения Бальмонта, и сама лекция его прозвучала поэтически даже для таких „прозаических“ душ, как газетные репортеры».
Дейч ссылается на отчет о выступлении поэта, напечатанный в «Киевской мысли», и приводит из него довольно пространную цитату: «От стремительных красок и радужно-мелькающих брызг немного кружилась голова. Казалось, в золотой карете с большими зеркальными окнами, запряженной восьмеркой белых лошадей, мчится кто-то буйный, опьяненный солнцем и морем, и без счета разбрасывает по пути самоцветные камни, мозаичные сердолики, овальные амулеты и спиральные раковины, похожие на звенящие трубы, в которых через даль столетий еще сохранился „тайнолелеемый шепот морских валов“. В такие минуты Бальмонт был действительно похож на волшебника, а его причудливая лекция превращалась в поэму».
Посещение Тифлиса для Бальмонта имело особый смысл. Еще весной 1913 года в Париже его неоднократно навещал лидер грузинских символистов и переводчик его стихов Паоло Яшвили. Он подарил Бальмонту поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», великолепно изданную на родине с иллюстрациями М. Зичи, читал по-грузински отрывки из нее, объяснял особенности грузинского языка и страстно убеждал перевести поэму на русский. В Тифлис Бальмонт приехал 10 апреля и пробыл там две недели.
По случаю его приезда в театре была организована встреча с грузинской публикой и писателями. Первым его приветствовал старейшина грузинской поэзии Акакий Церетели. Обращаясь к Бальмонту, как к «истинно русскому интеллигенту и выдающемуся поэту», Церетели напомнил о давних связях двух народов: «Когда наши предки приглашали вас, русских, они нам, правнукам своим, завещали: не забывайте законов гостеприимства, любить русских, дружить с ними и неразлучно идти одной дорогой». С речами, обращенными к Бальмонту, выступили поэт Александр Канчели, литературовед Константин Додашвили, другие литераторы. Бальмонт прочел свое стихотворение, посвященное родине Руставели, а в конце встречи произнес экспромт:
Мне в поэзии многое знакомо, Но здесь я понял в первый раз, При звуке слов, при блеске глаз, Что вдруг я на чужбине — дома.Грузинское гостеприимство тронуло поэта. С семьей Канчели у Бальмонта завязалась сердечная дружба. Грузины помогали Бальмонту освоить начала их языка, одним из учителей Бальмонта спустя некоторое время стал поэт Тициан Табидзе, в то время московский студент. В Тифлисе и других местах Грузии поэт побывал еще несколько раз.
После возвращения из эмиграции Бальмонт некоторое время жил в Москве в районе Арбата, недалеко от выдающегося композитора и пианиста Александра Николаевича Скрябина. Со Скрябиным поэт вплоть до его кончины (в 1915 году) часто встречался. Познакомились они весной 1913 года в доме Юргиса Балтрушайтиса, жена которого, Мария Ивановна, была пианисткой. В мемуарном очерке «Звуковой зазыв» Бальмонт описывает эту встречу, впечатления от концерта Скрябина в Благородном собрании, говорит о нем как о художнике-музыканте, «которому хотелось музыкой объять весь мир». «Чудилось, что не человек это, хотя бы и гениальный, а лесной дух, очутившийся в странном для него человеческом зале; где ему, движущемуся в ином окружении и по иным законам, и неловко, и неуютно», — писал Бальмонт о Скрябине. Среди книг композитора оказались и книги «читанные и перечитанные с карандашом» — «Будем как Солнце» и «Зеленый вертоград». Скрябин любил поэзию Бальмонта, советовался с ним по поводу текста к «Предварительному Действу», говорил с ним о «световой симфонии» в «Прометее. Поэме огня», о цветомузыке, о мистерии и синтезе искусств. Еще до встречи, пишет Бальмонт, он «угадывал в Скрябине свершителя», который, конечно, откроет ему «тончайшие тайнодейства музыки». Это была короткая (всего три года), но содержательная дружба родственных по темпераменту и по духу художников. Скрябина Бальмонт позднее в одной из работ включит в ряд национальных «гениев охраняющих», наряду с Толстым, Достоевским, Врубелем (эссе «Гении Охраняющие» в книге «Где мой дом»).
Отклик на свои художественные искания Бальмонт нашел и у основателя Камерного театра Александра Яковлевича Таирова, который стремился создать новые формы театрального искусства, отойти от бытового правдоподобия на сцене. Во время встреч и бесед с Таировым Бальмонт обращал его внимание на большие возможности индийской драматургии и театра, на использование их опыта в новаторских поисках режиссера. Его поддерживал Балтрушайтис, привлеченный в театр заведовать литературной частью. В результате этих бесед для открытия театра Таиров избрал пьесу Калидасы «Сакунтала» (в современном прочтении «Шакунтала»), над переводом которой работал Бальмонт. Ему предстояло продолжить эту работу и совершенствовать текст перевода.
Спустя некоторое время после возвращения из Грузии Бальмонт побывал в Париже. Там он консультировался у С. Леви не только по переводу «Сакунталы», но и других пьес Калидасы. Кстати, и Таиров выезжал во Францию и Англию, подбирая материал для оформления будущего спектакля. Художником был приглашен П. Кузнецов. Начавшаяся мировая война застала Бальмонта во Франции, и он долго не мог выехать на родину. Открытие Камерного театра состоялось без него — 14 декабря 1914 года. На сцене шла «Сакунтала», главную роль исполняла Алиса Коонен (с ней поэт позднее познакомился). На премьере спектакля присутствовали известная актриса Мария Николаевна Ермолова, Александр Николаевич Скрябин, Леонид Витальевич Собинов, Антонина Васильевна Нежданова, сестра писателя Мария Павловна Чехова. Бальмонт был рад успеху театра, о чем его известила жена.
Глава седьмая «МЕД ВЕКОВ»
Известие о начале мировой войны Бальмонт получил в Сулаке. Через некоторое время он вернулся в Париж и стал свидетелем патриотического воодушевления французов. Ему, как и многим другим, казалось, что война скоро кончится.
Вступление России в войну он приветствовал. Его уже несколько лет тревожила милитаризация Германии. «Все последние годы, — писал он Екатерине Алексеевне, — были чудовищной подготовкой бедствия. Если человек готовится к убийству и заранее предвосхищает его — по-моему, это хуже самого убийства». На этом основании, признается Бальмонт, изменилось его отношение к немцам и немецкому, хотя еще не так давно, в 1907 году, он писал Георгу Бахману о том, сколько великих людей, которым он многим обязан, дала Германия. Тогда же в письме А. С. Элиасбергу он утверждал: «Немцы и русские суть два народа ближайшего исторического будущего». Теперь в нем заговорило чувство славянина: «Славяне должны выдвинуться на первое место в Европе и сказать свое верное, певучее, славянское слово».
На первых порах Бальмонту самому хотелось принять участие в событиях. Он даже пытался устроиться на фронте братом милосердия, так как к настоящей воинской службе не был пригоден из-за перелома обеих ног, больной руки и близорукости. Со временем пришло более трезвое понимание событий. В письме жене от 15 января 1915 года войну он определяет как «злое колдовство». «Лично я, — говорил Бальмонт спустя четыре месяца корреспонденту „Биржевых ведомостей“, — откликнулся на войну не более как десятком стихотворений, часть из которых была напечатана в Москве. Это скорее религиозно-философские думы о войне с зарисовками ее чудовищных ликов».
Все его думы, все его мысли были связаны с Россией. Он хотел как можно скорее вернуться на родину, но сделать это было весьма не просто, тем более что на его попечении в Париже оставались Елена Цветковская с Миррой и племянница Екатерины Алексеевны Нюша. С Еленой была также ее близкая подруга Рондинелли (домашнее прозвище Елены Юстиниановны Григорович). Все жили в Пасси в доме на улице Тур. Зимой к ним присоединился Макс Волошин, чему поэт был очень рад. «Он по-прежнему мне мил, — признавался Бальмонт в письме Екатерине Алексеевне, — <…> сразу колыхнул в моей душе какие-то молчаливые области и <…> обратил меня к стихам. Я написал за это время поэму „Кристалл“, сонет „Кольцо“ и венок сонетов „Адам“, который посылаю тебе <…> передай его, пожалуйста, Вячеславу Иванову».
С Вячеславом Ивановым у Бальмонта оставались близкие отношения. В январе 1912 года, собираясь послать ему «Зарево зорь», поэт писал Алексею Ремизову: «Я неизменно ценю и люблю его». В письме жене от 9 марта 1915 года он благодарит Вячеслава Иванова «за бесподобный, пленительный сонет», ему посвященный. Бальмонтовский венок сонетов «Адам» появился в журнале «Русская мысль» (1915. № 5) с посвящением Иванову. Так поэты поддерживали друг друга.
Между тем парижские друзья Бальмонта Александра Васильевна Гольштейн и Рене Гиль готовили ему свой подарок. Они и раньше популяризировали его творчество во Франции, а в 1915 году перевели его стихи на французский язык. Книга с их переводами вышла в свет в начале следующего года (Balmont К. Quelques poèmes / Trad, du russe par A. de Holstein et René Ghil).
Война уже продолжалась более пяти месяцев, жить становилось все труднее, многие русские люди, оказавшись во Франции, нуждались в помощи, голодали. Бальмонт участвовал в благотворительных вечерах, концертах, читал безвозмездно лекции. У самого поэта со средствами было тоже туго, заработки резко сократились. С одной стороны, он усиленно трудится, чтобы привезти с собой в Россию то, что можно издать: переводит драмы Калидасы «Малявика и Агнимитра» и «Урваши», пишет очерки для книги «Океания» и, конечно, стихи. С другой — он настойчиво ищет возможность возвращения на родину.
Во Франции Бальмонт вел размеренный образ жизни, придерживался распорядка дня. Он просил Екатерину Алексеевну прислать ему русскую грамматику санскритского языка, книги по сравнительному языкознанию и другую литературу, много читал материалов по истории и естественным наукам, писал, переводил и с воодушевлением сообщал ей 9 марта 1915 года: «Решил спокойно, без колебаний и твердо никогда более <…> не пить никакого вина. Я за эти полгода вообще мало прикасался к вину, но теперь уже не прикасаюсь совершенно, я считаю это благословением».
В конце концов хлопоты Бальмонта об отъезде из Франции увенчались успехом: удалось достать билеты на норвежский пароход, отбывающий в середине мая по маршруту Лондон — Ньюкестль — Берген — Осло. Далее дорога открывалась на Петербург, который, из-за войны с немцами, стал именоваться на русский лад Петроградом. Поездка была небезопасной: незадолго до отплытия немцы потопили корабль-великан «Лузитания», а через несколько часов после отхода из Ньюкестля немецкая подводная лодка взорвала датский пароход.
Петроградская газета «Биржевые ведомости» 28 мая 1915 года в утреннем выпуске поместила беседу с Бальмонтом в гостинице «Северная» о его жизни и планах. В завершение Бальмонт сказал: «На чужбине я жил напряженной внутренней жизнью и за зиму написал новый том стихов. Я чувствовал себя сосредоточенным, как бы замкнутым в башне. Мои литературные знакомые находят, что этот том совершенно нов по построению. В прямом смысле война вошла сюда незначительными элементами <…>. Я назову книгу „Ясень. Видение Древа“. По значительности она мне кажется идущей за моей книгой „Будем как Солнце“. Личного стихотворения здесь нет ни одного».
В последних числах мая Бальмонт вместе с Еленой Цветковской, Миррой, Нюшей и Рондинелли вернулся в Москву. В первую очередь ему пришлось заняться здоровьем Елены: в дороге она сильно простудилась, очень ослабла. Поэт нашел хороших врачей и после лечения, в конце июня, снял для нее с дочерью и Рондинелли дачу в деревне близ Лесного городка по Брянской железной дороге, где неоднократно их навешал. Жить постоянно Елена стала в квартире матери, которая после смерти мужа переехала в Москву.
Сам Бальмонт поселился в Брюсовском переулке в доме свояченицы, Александры Алексеевны Андреевой. Приезжая в Москву, там всегда жила Екатерина Алексеевна, и он раньше часто останавливался, так как любил этот родительский дом жены. Александра Алексеевна, ее сестра, была гостеприимна, приветлива. Писательница, литературовед, переводчица, она была умной собеседницей, в ее богатой библиотеке поэт находил нужные ему книги.
В Москве Бальмонт возобновил встречи с Таировым, познакомился с Алисой Коонен, встречался с Мейерхольдом, которому еще из Парижа послал экземпляры переведенных пьес Калидасы. Всех их поэт увлекал идеей индийского театра, постановкой на сцене других пьес Калидасы. Мейерхольд предполагал поставить одну из них в петроградской Александринке, но из этого ничего не получилось. А в Камерном театре в следующем сезоне возобновили постановку «Сакунталы». 9 января 1916 года перед началом спектакля Бальмонт выступил со «Словом о Калидасе» — это был доклад о его творчестве. Вторая половина 1915 года и 1916 год, можно сказать, прошли у поэта под знаком Калидасы и дружбы с Камерным театром. В 1915 году отдельной книгой в издательстве Сабашниковых вышел его перевод «Сакунталы», а в следующем году — всех трех пьес Калидасы с предисловием известного востоковеда академика С. Ф. Ольденбурга. В Камерном театре Бальмонт выступил со словом об Иннокентии Анненском перед постановкой его пьесы «Фамира-кифаред» по древнегреческим мотивам.
С женой Бальмонт встретился не сразу после возвращения из Франции: ее в Москве не было. Они условились провести лето вместе в Ладыжине близ Тарусы, где Александра Андреевна Андреева сняла усадьбу маркизы М. Л. Кампанари. Большую часть лета и начало сентября Бальмонт работал и отдыхал там. Ему очень нравилось это место. «Меня совершенно опьянили лесные и луговые пространства, полные душистых желтых, красных, синих и белых цветов, — писал он Елене Цветковской 22 июля 1915 года после первой краткой поездки в Ладыжино. — Здесь волшебно хорошо. Синяя Ока, дали, чудесный сад, поля с колосьями выше человеческого роста».
В большом доме в Ладыжине, кроме Александры Алексеевны, Екатерины Алексеевны и Нины, часто гостили Татьяна Алексеевна Полиевктова, друзья Нины — Аня и Мария Полиевктовы, художник Лев Бруни (будущий муж Нины), художник Федор Константинов. Все лето пробыл в Ладыжине сын Бальмонта Николай, который воспитывался в семье Энгельгардтов вместе с детьми Ларисы Михайловны от второго брака. Бальмонт охотно общался с молодыми людьми, читал им стихи из будущей книги «Ясень», находил, что они их хорошо воспринимают. В Ладыжине он продолжал работать над структурой этой книги. «Я опять пленен „Ясенью“ очень, — сообщал он Елене Цветковской. — Какой выдержанный уровень всех настроений и выражения их».
С сыном поэт впервые встретился еще до Ладыжина — в ноябре 1913 года. Николаю в это время шел двадцать второй год. «Я счастлив, что тебя увидел, — писал Бальмонт сыну 19 ноября. — <…> Много раз за эти годы я вспоминал лик ребенка, думал, что юноша — уж вот. И я сомневался в нашей встрече, и я болел ею, — и ты подарил мне радость душевной красоты и полной душевной свободы». 23 июня 1915 года поэт сообщал Елене: «Коля на все лето остается со мной. Он, как всегда, весь — музыка <…>. Играл свои фантазии в манере Скрябина». Учился Николай на филологическом факультете и серьезно занимался музыкой — посещал музыкальные классы консерватории. Играл на пианино, сочинял музыку, писал стихи. Бальмонт был им очарован, помогал ему; когда переехал в Петроград — Коля жил с ним. Их отношения стали дружескими, поэт нередко называл сына «братишкой». Летом 1916 года Николай съездил в Шую, побывал на могилах бабушки и деда в селе Якиманна, в письме отцу он написал: «Я не обманулся, что мне нужно было увидеть Гумнищи. Я как-то лучше многое вижу и в себе, и в ином. Точно круг замкнулся, означив центр. Будто сразу защита и обязательство». Из писем поэта жене 1918 года можно узнать, что Николай какое-то время жил у отца в Москве, тогда же обнаружились признаки нервно-душевного расстройства сына, и он был отправлен на лечение в Иваново-Вознесенск. После некоторого улучшения самочувствия Николай Бальмонт переехал в Петроград, но приезжал погостить в Москву, а в 1920 году переселился окончательно. О последних годах жизни сына поэта почти ничего не известно. Правда, есть свидетельства о том, что в его судьбе принимала доброе участие Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт. В апреле 1926 года Екатерина Алексеевна известит Ларису Михайловну о «тихой христианской кончине» ее сына. Николай Бальмонт умер от туберкулеза, осложненного «душевной болезнью». К этому времени его отца давно не было в России.
В 1915–1916 годах творческие интересы и занятия Бальмонта были разнообразными: он продолжал увлекаться индийским театром и драматургией, писал статьи, много читал (особенно из китайской философии и мифологии), усиленно работал над переводом Руставели. 13 июля 1915 года Бальмонт писал А. Н. Ивановой: «У меня сидит студент-грузин Табидзе. Мой поклонник и переводчик». Как уже говорилось, Тициан Табидзе помогал ему в освоении грузинского языка.
В сущности, все лето и часть осени 1915 года у Бальмонта продолжалась «жизнь втроем на два дома». Ни Екатерину Алексеевну, ни Елену это не устраивало. Екатерина Алексеевна ни в коем случае не хотела, чтобы Елена находилась рядом с ней, в Москве. В мартовском письме, отправленном в Париж, она настаивала, чтобы местом жизни Бальмонта с Еленой стал Петербург. На это Бальмонт ответил: «Я этого не хочу, я буду делить время более или менее поровну между Москвой и Петербургом». Но к плану Екатерины Алексеевны отселиться с Еленой в Северную столицу он вернулся сразу же после окончания дачного сезона: в Петрограде он и Цветковская стали подыскивать квартиру. При этом поэт все более склонялся к тому, чтобы разделить дальнейшую свою судьбу с Еленой.
Восемь лет назад, 9 июля 1907 года, в письме Софье Александровне, матери Елены, Бальмонт уверял ее, что Елена для него не «временная спутница», что он любит ее, что она для него совершенство. И он был безусловно искренен. «Так понимать друг друга, как она понимает меня и я ее, — писал он, — могут только люди, которые уже знали друг друга в иной жизни до жизни этой и будут снова вместе за пределами этой жизни». Бальмонта Елена покоряла самозабвенной любовью к нему, бесконечной преданностью, тем, что растворилась в нем полностью, готовая забыть себя даже в моменты очередных его «отпадений». Один из таких моментов с грустью и состраданием по отношению к Елене запечатлен в парижском дневнике М. Волошина 3 ноября 1911 года. Волошин пишет, что Бальмонт и Цветковская явились к нему в четыре часа утра. «Она рядом с ним, маленькая, иссохшая, почти старая <…>. За 5 лет она стала такой <…>. Она была измучена. Она кинула дома ребенка одного». Конечно, в жизни Елены и Бальмонта были не только такие моменты. Обычно он был «кроток и нежен».
Сняв квартиру в Петрограде, Бальмонт стал планировать новое литературное турне по городам России. Для этой цели, кроме лекции «Поэзия как волшебство», он подготовил новую программу «Океания». Та и другая сопровождалась чтением стихов. Цель поездки оставалась та же, что и весной 1914 года: узнать ближе родную страну и народ, проверить, как он воспринимает его творчество. Но прибавилось и еще одно немаловажное обстоятельство: в связи с войной издательские возможности уменьшались, а расходы, связанные с оплатой квартиры в Петрограде, росли.
Литературные турне в это время стали обычным явлением. Ездили по России Куприн, Сологуб (случалось, что пути Бальмонта и Сологуба пересекались), Чуковский, другие писатели. Колесили по стране Северянин, Маяковский с футуристами-будетлянами, не стесняясь рекламы и эксцентричных выходок, чтобы «завоевать» публику.
Но прежде поездки по России Бальмонт совершил целевой вояж в Грузию. К этому времени он перевел часть поэмы Руставели, назвал ее «Носящий барсову шкуру». Ему хотелось проверить, как воспримут перевод на родине поэта. В Тифлис он прибыл 30 сентября 1915 года.
В письме, написанном Екатерине Алексеевне «близ Дербента», Бальмонт сообщал, что читает книгу Винклера «Духовная культура Вавилона». Это было характерно для него: в поездки он брал с собой много книг и даже в вагоне не просто читал, а работал над переводами, писал стихи. В Тифлисе Бальмонт уточнял со специалистами отдельные места перевода, а в целом перевод грузины восприняли восторженно. По словам Тициана Табидзе, Бальмонту в переводе помогало «магическое чувство слова».
Первое выступление в Тифлисе состоялось 3 октября. Вот как описывает эту встречу Бальмонт в письме жене на следующий день: «Мой труд был не напрасен. Большая зала, в которой я читал Руставели и о нем, была битком набита, одних стоящих было 300 человек, да сидевших 400. И несмотря на то, что Канчели и я не захотели повышать цены, мои друзья, устроившие этот вечер, вручили мне 600 рублей. Слушатели слушали не только внимательно, но поглощенно. Среди публики было много молодежи, было грузинское дворянство, было простонародье, вплоть до слуг моей гостиницы. Старшие, знавшие Руставели наизусть, восторгались звучностью перевода, близостью к тексту и меткостью в передаче тех мест, которые вошли в жизнь как поговорки».
Из полученных за выступление денег Бальмонт 60 рублей передал в лазарет Святой Нины. Во время войны часть гонорара поэт почти всегда отчислял для помощи пострадавшим от нее: раненым, русским пленным, беженцам, детям-сиротам, эвакуированным полякам и т. д., а также в пользу местных общественных комитетов и организаций. Вместе с другими писателями он участвовал в таких благотворительных изданиях, как «В помощь пленным русским воинам», «Невский альманах жертвам войны» и др.
Кроме Тифлиса поэт выступал в Кутаиси, «стране золотого руна». Это были «праздники сердца» — так отозвался Бальмонт о встречах с читателями Руставели. А о самом поэте говорил его соотечественникам: «Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть — Грузия».
Из Тифлиса Бальмонт выехал 11 октября в Москву. Там 15 октября участвовал в вечере армянской поэзии, где читал свои переводы. Вечер проходил под председательством Брюсова, выступали Вяч. Иванов, Ю. Верховский, другие поэты-переводчики. Переводы Бальмонта вошли в подготовленную Брюсовым антологию «Поэзия Армении».
В Петрограде, куда после Москвы отправился поэт, он продолжал работу над новыми программами для литературных турне, апробировал их на столичной публике, а также уточнял с импресарио маршруты поездки.
Очередное турне по России началось с северных городов: 20 и 22 октября 1915 года состоялись выступления в Вологде и Ярославле. В первом случае поэт остался доволен, во втором отметил плохую организацию. 23 октября с пометкой «5 ч. вечера. Вагон. Между Нерехтой и Иваново-Вознесенском» Бальмонт пишет очередное послание жене: «Вот где я через несколько часов буду: там, где впервые полюбил, и там, где я родился. В Иваново приезжаю в 7 часов вечера, через час в Шую. Если б я знал заранее свой путь, я выступил бы и там и тут. Как жаль! А теперь я только выйду на вокзале и вряд ли встречу кого». Лишь через полтора года, в середине марта 1917 года, осуществит поэт свое намерение приехать в Иваново и Шую, посетить родные места и познакомить земляков со своим творчеством.
Перед выступлением в Нижнем Новгороде местная газета поместила лестную заметку о Бальмонте, но встречей в этом городе, как и в Ярославле, он остался недоволен. Впечатление от Нижнего скрасила его беседа с князем Андреем Владимировичем Звенигородским, поэтом и земцем, который давно обожал стихи Бальмонта и множество знал наизусть.
Как видно из писем, большинство литературных вечеров и встреч Бальмонта прошли успешно. Поэт умел устанавливать контакт со слушателями и зрителями, чутко реагировал на поведение аудитории, и вечер завершался овациями. Однако в редких случаях «магизм» с аудиторией не возникал, и поэт это болезненно переживал. Возможно, виной тому бывала и тема лекции, в частности «Поэзия как волшебство», далеко не всем доступная по содержанию. В связи с впечатлениями от встреч в Ярославле и Нижнем Новгороде он сетовал на то, что в поволжских городах «много зловредного влияния той противной интеллигенции, которая причинила много зла России своим односторонним доктринерством».
Дальнейший путь Бальмонта пролегал через Казань, Пензу, Саратов. О неоднократных и горячо принятых выступлениях поэта в Казани и Саратове он рассказал в письмах жене от 27 октября и 1 ноября 1915 года. В последнем читаем: «Казань и Саратов два ярких пятна, два розовых цветника в саду. Мне радостно видеть размах моей славы и глубину влияния, работу этого влияния в отдельных сердцах. Я не напрасно так люблю свои строки:
Свита моя — альбатросы морей, Волны — дорога моя!Я люблю эти отдельности, отъединенные, тоскующие, влюбленные в Красоту, пронзенные сердца. Для них стоит странствовать».
Столь же успешными были встречи в Самаре. Особенно тронули Бальмонта посвященные ему стихи тринадцатилетнего гимназиста Пети Карасика, которые поэт переслал Елене Цветковской:
Звезда полумира, Поэтов поэт, Твоя вдохновенная лира Гремит на весь свет…Приятные встречи ожидали Бальмонта в Уфе. В письме жене от 9 ноября он сообщает, что к нему пришел молодой татарин Саахидо Сюнчелей («какой красивый звук», — замечает он по поводу его имени с фамилией), заведующий библиотекой мусульманских книг. Он читал переводы стихов поэта на татарский язык, и Бальмонту интересно было слушать их звучание.
Далее, после Челябинска, была Пермь, очаровавшая поэта: «Сегодняшний день фантастичен. Вот где среди снежных просторов, над широкой Камой, над равнинами, за которыми тянется на 15 верст сосновый бор, — я один. Я бродил над застывшей рекой. Я смотрел на янтарно-хризолитные дали, где когда-то вот так бродили варяги. Я чувствовал, быть может, впервые все безмерное величие России, всю красоту ее судьбинную, предназначенную». Именно в Перми Бальмонт загорелся планом совершить по России новую поездку и с новой программой. Начать с Петрограда, побывать в южных городах России и Украины и повернуть на восток: Урал — Сибирь — Владивосток.
Но вернемся в Пермь, откуда Бальмонт отправился в Екатеринбург и Тюмень. О его пребывании в Тюмени впоследствии появилась статья, написанная по материалам старых газетных заметок и озаглавленная «Бальмонт и… козы»[19]. Название связано с забавным тюменским курьезом: расклеенные по городу афиши о выступлении Бальмонта пропитались мучным клейстером и козы их съели. Узнав об этом, поэт шутил: «Меня знает вся Россия, а в Тюмени даже козы отъявленные бальмонистки».
В статье описана встреча поэта с тюменской публикой, которую составляли местная интеллигенция, гимназисты, семинаристы, молодые рабочие. Встреча эта несомненно походила в общих чертах на выступления поэта и в других городах, потому приведем ее описание:
«Все оказалось в нем <Бальмонте> выходящим за рамки установившихся представлений. Внешность: длинные, до плеч пышные рыжие кудри, быстрые зеленоватые глаза, стремительная походка… Манера держаться: появился на сцене, слегка прихрамывая, с цветком в петлице, за кафедрой принял эффектную позу. Особенно вызывала недоумение его декламация стихов. Непривычно он произносил их. Медленно, с намеренной однотонностью…
Вообще приезд в Тюмень Бальмонта — толкователя волшебных звуков — в военную годину кое-кто из сидевших в зале… посчитал неуместным. „Можно ли говорить сейчас о поэзии, когда на поле сражений льется кровь? — вдруг спросил сам себя поэт и ответил: — Я видел солдат в окопах, суровых французских солдат, и они говорили мне, что, когда весной над ними пролетали жаворонки, певшие свои тихие песни, людям в окопах было легче. Мне всегда казалось, и теперь кажется, что жаворонки тоже нужны“.
Слушали Бальмонта с повышенным вниманием, однако не переставали удивляться. И стихи, и лекцию, которая называлась „Поэзия как волшебство“, он читал по книжечке своей же, выпущенной накануне… <…> Как же тюменцы восприняли столичную знаменитость? Исключительно тепло. Конечно, в бурном почитании поэта-символиста преобладала дань моде. Но мода модой, а талант талантом. Бальмонт подкупал своим редкостным поэтическим даром…»
После Тюмени Бальмонт направился в Омск, где жил его брат Михаил, служивший мировым судьей. В письме Екатерине Алексеевне от 23 ноября 1915 года поэт ничего не сообщает о своем литературном вечере в этом городе, зато подробно рассказывает о встрече с братом.
«Катя, милая, я в тишине, снеге и ледовых узорах. Вчера было 30 Р (по Реомюру. — П. К., Н. М.). Это есть ощущение. Хороши были дымы, которые низко стелились. К счастью, ветра почти не было. Но, знаешь, Миша, брат мой, живущий в Омске, замерзал, а я даже не поднимал воротника. Я воистину солнечник, хоть он моложе на десять лет, сам заявил, что моя кровь горячее.
Встреча с Мишей на вокзале и потом у него дома, и потом с ним и его женой за ужином (мы ужинали лишь вчетвером, я отверг адвокатскую компанию провинциальных блудодеев слова) так взволновала меня, что я не мог заснуть до 4-х часов ночи. Воспоминания дней Шуи и Гумнищ. Миша такой же славный медведь, какой был в студенческие времена… <…> Он похож на отца и еще страшно стал похож на татарина. И он, и его жена хохотали все время, говоря, что я как бы копия Веры Николаевны в лице, в ухватках, в маленьких выходках. Иду сейчас к нему обедать. Скажи Нинике (о ней тоже было много речи и моих влюбленных рассказов о ее детстве): поедаю здесь стерлядь, рябчиков и зайцев. Сибиряки тяжеловаты. Уж очень хочется вернуться».
Интерес представляет и другое письмо из Омска, связанное с дальнейшими литературными планами Бальмонта и адресованное в Петроград Елене Цветковской. Он просит ее приготовить к его приезду — с помощью преподавателя университета A. А. Смирнова и сына Коли — ряд книг, которые могут найтись в университетской библиотеке: 1) о нисхождении Истар; 2) Адонис, Аттис, Озирис; 3) сказания о Солнце, Луне (особенно литовские); 4) о китайской и японской поэзии; 5) о древней Грузии; 6) о провансальцах; 7) о рыцарской поэзии; 8) о любви у Данте и других дантовских итальянских поэтов.
Бальмонт 25 ноября вернулся в Екатеринбург, и там прошло еще несколько его выступлений. Кроме того, он побывал в гостях у директора художественно-промышленной школы B. Н. Анастасьева, которого он и Екатерина Алексеевна знали еще с 1897 года по Парижу. «Не пропадают живые встречи», — замечает поэт по этому поводу в письме жене от 26 ноября. С Анастасьевым судьба сведет Бальмонта еще раз, но заочно: в 1937 году он поможет издать в эмигрантском Харбине последнюю книгу стихов поэта «Светослужение».
Последний литературный вечер в Екатеринбурге поэт провел в неожиданной форме и так описал его: «3-й вечер здесь был зерном того, что я намерен устроить в Питере и в Москве. Без какой-либо подготовки я говорил вчера в прозе импровизации о связи света Солнца и Луны с теми или иными, или, вернее, с одними и совсем разными другими Ликами чувств, мыслей и настроений. Читал страницы из „Будем как Солнце“, „Ясеня“ и других книг. Построил воздушный мост от Луны к Смерти. Тоскующие „Камыши“, „Лебедь“ и пламенно торжествующее — „Гимн Огню“. Спутал волшебством все величины рассуждения…»
На обратном пути в Петроград Бальмонт сделал только одну остановку, в Вятке, где тоже состоялся литературный вечер. В первых числах декабря он прибыл в столицу и поселился в уже снятой квартире, где жили Елена с Миррой и Рондинелли и сын Коля. Сравнивая свое «вольное странствование» со столичной жизнью, Бальмонт резюмировал: «Это такое чувство, точно я был альбатросом и лишился Океании». Альбатроса, напомним, он воспел в одноименном стихотворении как символ гордой свободы, а Океан для него был синонимом могучей природной и первородной стихии. Так он воспринимал и необъятную Россию, к которой приобщился во время странствий по ней.
Конец 1915 года и начало 1916-го Бальмонт делит между Петроградом и Москвой. Петроградскую семикомнатную квартиру (Васильевский остров, 22-я линия, дом 5, квартира 20), где он поселился по возвращении, предстояло обустроить. Поэт радовался, что среди его соседей были старый знакомый филолог А. А. Смирнов (снабжавший его книгами из университетской библиотеки), известный языковед Н. Я. Марр (он консультировал поэта по грузинскому языку), композитор и дирижер Мариинского театра А. Коутс, писательница Н. А. Тэффи, актер А. А. Мгебров, музыкант Н. А. Бруни. Со временем квартира Бальмонта превратилась в гостеприимный дом, куда на вечера, журфиксы собирались поэты, романисты, художники, музыканты. Спустя много лет, вспоминая об этом времени, среди близких петроградских знакомых Бальмонт называет Федора Сологуба, Иеронима Ясинского, профессора Петербургского университета филолога-классика Федора Францевича Зелинского, Сергея Городецкого, Николая Бруни, его брата художника Льва, особо выделяя молодого тогда композитора Сергея Прокофьева.
Одним из самых близких Бальмонту людей становится Федор Сологуб, с которым он общался и раньше. Сологуб подарил ему свое Полное собрание сочинений с надписью: «Сердечно любимому К. Д. Бальмонту, очарователю поэтов». Бальмонт охарактеризовал его как «очаровательного поэта, очаровательного хозяина и человека с острым проницательным умом» в воспоминаниях о Блоке. В квартире Сологуба произошла одна из наиболее запомнившихся Бальмонту встреч с Блоком. Блок читал, по словам Бальмонта, «замечательные стихи о России», которые не могли его не тронуть, так как в них было многое из того, что носил в своей душе он сам, думая о России. В стихах о России Блок ему «казался подавленным этой любовью целой жизни, он был похож на рыцаря, который любит Недосяжимую…» («Три встречи с Блоком»). Не такой ли загадочной, недосягаемой была Россия и для самого Бальмонта?..
В первое время по приезде в Петроград поэт был занят выступлениями на литературных вечерах на темы о Руставели, Океании и «Поэзии как волшебстве». Знакомил также столичную публику и с темами из его новой программы: «Лики женщины» (в мировой литературе, религиях, образ русской женщины), «Любовь и Смерть в мировой поэзии». Кроме того, читал «Слово об Уайльде» и свой перевод его «Баллады Редингской тюрьмы».
Бывая в Москве, Бальмонт и там проводил вечера на эти темы, но были вечера и другого порядка. Так, например, 23 декабря 1915 года в Большой аудитории Политехнического музея состоялся его вечер, содержание которого в афише представлено так: «Литературное отделение: 1. Слово Бальмонта о творчестве. 2. Свет Солнца и Луны. 3. Гимн Огню и Белая страна. 4. От темных пропастей к дереву Ясень. Музыкальное отделение: произведения Скрябина <в> исп. И. А. Добровейнн. Чтение будет сопровождаться многочисленными отрывками из еще не напечатанной книги „Ясень. Видение Древа“». В афише отмечалось, что «весь вечер носит благотворительный характер для беспризорных детей и девочек-беженок». Значительным благотворительным актом Бальмонта было его участие в издании книги «Париж накануне войны в монотипиях Е. С. Кругликовой», вышедшей в начале 1916 года. Кроме прекрасных работ художницы в книге был и литературный отдел, представленный произведениями Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, А. Н. Толстого, А. Ремизова и других писателей. Среди них центральное место занимал большой цикл Бальмонта «Париж», состоящий из пяти сонетов, обрамленных пятистишиями. Париж представлен в этом цикле в несколько эстетизированном виде как «стройная баллада», «законченный сонет», место, где поэт чувствует себя братом разных народов и пленен умом и искусством французов.
Сбор от этой великолепно изданной книги (500 нумерованных экземпляров) предназначался для перевода в Париж в пользу страдающих от голода и нищеты русских художников (и вообще русских), оказавшихся во время войны во Франции. Бальмонт сам был свидетелем этих страданий и не мог остаться равнодушным к предложению художницы принять участие в издании. Он хорошо помнил, что в Париже — вплоть до начала лета 1914 года, когда Елизавета Сергеевна Кругликова на время приехала в Россию (вернуться в Париж она так и не смогла), — ее мастерская в течение пятнадцати лет являлась центром притяжения людей, интересующихся искусством, а художники из России всегда находили там совет и содействие. Известный искусствовед и художник С. Яремич в рецензии на книгу писал, что мастерскую Елизаветы Кругликовой посещали не только русские, но и французы, в их числе такие знаменитости, как Ромен Роллан, Рене Гиль, Дени Рош, Шарль Герен и др. «Здесь же, — отмечал Яремич, — читал свои стихи Бальмонт, а иногда поэт отдавал предпочтение беседе о дорогих его сердцу предметах» (Биржевые ведомости. 1916. 18 марта).
В очередной приезд в Москву — в середине февраля 1916 года — Бальмонт прочитал лекцию «Любовь и Смерть в мировой поэзии» и выступил на польском вечере, где говорил о поэтах Адаме Мицкевиче и Юлии (Юлиуше) Словацком. Кроме того, 13 февраля Общество А. Н. Островского устроило чествование Бальмонта в Политехническом музее, приуроченное, судя по всему, к тридцатилетию его литературной деятельности. Говоря об этом «грандиозном чествовании» (а к нему были привлечены и актеры), Бальмонт шутливо заметил: «Москва определенно не хочет меня уступать городу на Неве».
Вскоре Бальмонт отправился из Петрограда в задуманную поездку — от юга России до Дальнего Востока, — самую длительную и весьма нелегкую, которая длилась более четырех месяцев.
Сначала, 28 февраля, поэт прибыл в Харьков, затем посетил Полтаву, Сумы и вернулся в Харьков. В каждом из городов выступал неоднократно, а в Харькове даже пять раз — там прошла «Неделя Бальмонта». В Полтаве спустя много-много лет состоялась его встреча с Владимиром Галактионовичем Короленко (которую тот описал в письме дочери Наталье и зятю Константину Ляховичам). Везде поэта хорошо принимали, особенно в Харькове, где нашлись старые добрые знакомые. Особо впечатлила Бальмонта встреча с 22-летним поэтом Григорием Петниковым, который подарил ему перевод «Фрагментов» немецкого поэта-романтика, певца Голубого цветка Новалиса. По этому поводу Бальмонт писал Екатерине Алексеевне 11 марта 1916 года: «Я поражен, как я близок к Новалису. Многие места из „Поэзии как волшебства“ как будто прямо повторены из Новалиса». На экземпляре своей книги «Звенья» он сделал такую надпись Петникову:
Я вовлечен в такие звенья, Что если встретимся с тобой, В душе обоих будут пенья Из той же Сказки Голубой.Вообще Бальмонт очень хвалил «южную молодежь» и отмечал в одном из писем, что «у ней много горячности».
В планах поездки намечались выступления в Николаеве и Одессе, но из-за ряда причин их пришлось отменить, и Бальмонт поспешил к главной цели турне — знакомству с Сибирью. В Туле он пересел на поезд, идущий в Новониколаевск (теперь Новосибирск), в Челябинске сделал остановку и 12 марта провел литературный вечер, а спустя три дня, находясь за Уралом, пишет: «Впервые узнаю уже не мысленно, но ощутительно-телесно, как непомерно велика Россия».
Бальмонт провел по намеченному плану литературные вечера в Новониколаевске, Томске, Иркутске, Чите. В письмах жене он отмечал, что в Томске выступления вызвали «бурный триумф» (22 марта), а от Читы получил впечатление «настоящего Востока» (31 марта). Иркутск его принимал равнодушно. Более подробно он описал один из литературных вечеров в Новониколаевске (письмо от 18 марта): «Вчера я испытал редкое для меня чувство: я как новичок волновался перед началом выступления. Надо сказать, что здесь ни один лектор и ни один концертант не мог собрать полную аудиторию. Ко мне собралось 700 человек и встретили меня рукоплесканиями. Это все новости для меня. Конечно, понять — ничего не поняли слушатели в моей „Любви и Смерти“, но слушали внимательно, как сказку, как грезу музыки. И это хорошо. Этих людей нужно понемногу приучать к Красоте. Смутно они всё же ее чувствуют».
В целом Сибирь, ее люди не вызвали особой симпатии Бальмонта, он писал, что Сибирь — не его страна. Но всё же считал поездку важной: «Сибирь должна быть мною увидена целиком, это будет настоящая новая страница моей жизни». Из писем жене видно, что там встречали его сдержаннее и холоднее, чем в южных городах, это его раздражало. К тому же он устал «жить на колесах», разъезжая по необъятным просторам Сибири. В письме из Иркутска (от 29 марта) он заявляет, что в Сибирь больше никогда не поедет, если только его туда не сошлют. Жителей временами находит «тупыми», «не дай бог с ними жить», «увянешь быстро». «И от природы здешней веет грустью», — добавляет он. О Байкале пишет: «Дорога живописная. Чувствуется мощь Байкала. И тоска в воздухе мне чудится везде. Тени замученных. И привезу отсюда ларец горьких слов». Во многом высказывания эти субъективны, навеяны однообразием, утомительностью поездки и выступлений, которые ему надоели, стали «нестерпимы, отвратны, постылы». Однако он продолжал фиксировать в письмах новые впечатления и встречи, а их было много, и они разнообразны.
Тридцатого марта, подъезжая к Чите, он пишет дочери Нине: «Здесь уже давно нет ничего русского. Ни в природе, ни в людях. Много бурят, киргизов, китайцев. И в природе, более суровой, чем у нас, нет той кроткой трогательности, которая пленяет в русской природе». В нескольких письмах Екатерине Алексеевне от 31 марта он делится впечатлениями о Чите: «Я наконец доехал до интересных мест, где всё уже говорит о настоящем Востоке — лица, одежды, краски неба. Катался за город, и закат был точно на японской картине»; «Вчера убедился, что здешняя публика стоит того, чтобы перед ней выступать… <…> Здесь публики меньше, но я чувствую настоящих людей».
В Чите к нему присоединилась Елена Цветковская, и они направились в Харбин. Это уже территория Китая, но Харбин был русским городом — центром Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), построенной и обслуживаемой русскими. 6 апреля 1916 года Бальмонт пишет из Харбина: «Я радуюсь на новые впечатления Дальнего Востока — маленькие беглые услады глаз и души. Все китайцы, проходящие по улицам, похожи на изваяния, их лица — непроницаемые маски, и достаточно одного дня с ними, чтобы видеть, как непроходима пропасть между нами и ими, как различны должны быть у китайской и арийской расы все явления мироощущения, все понятия Красоты и Гармонии. Радостно забавны и японки, кошачья порода. Но здесь их еще мало. С другой стороны, я огорчен весьма малыми сборами. Не время сейчас выступлений, и слишком для этих людей мудрено то, что я даю. Это огорчительно и внутренне важно».
Дополнительные сведения о выступлениях в Харбине можно встретить в письме поэта Анне Николаевне Ивановой (Нюше) от 7 апреля: «Боже мой, до чего здешняя русская публика, бывшая на моем первом вечере в другой части города, глупа, пошла, груба и неотзывчива в сравнении с здешней еврейской публикой (речь идет о публике в Железнодорожном собрании, в центре города, где жили главным образом интеллигенция, коммерсанты, специалисты, служащие. — П. К., Н. М.). Который раз на этой планете Земля я убеждаюсь, что мне легче говорить по-родному с людьми иной расы и трудно и неприятно говорить с людьми моей расы, что я все-таки воистину люблю Россию и проникаюсь ненавистью к тем, кто не хочет ее любить».
Из Харбина Бальмонт выехал 9 апреля и вскоре прибыл во Владивосток — конечный пункт поездки. Из Владивостока выезжал для выступлений в Уссурийск и Хабаровск. Владивосток очаровал его морем, которое он любил, русским говором и приветливостью людей. О нем писали в местной газете «Дальняя окраина», печатали там его стихи, переводы с японского, а также стихи, ему посвященные. Встречался с замечательной семьей Янковских (Маргарита Михайловна Янковская, в девичестве Шевелева, — старая знакомая Бальмонта). «Она, как я узнал, много содействовала моей славе в Японии, — сообщал он в письме. — Ее приятель Моичи Ямагути — лучший в Японии знаток русского языка и литературы». Юрий Михайлович Янковский, ее муж, был известным ученым и предпринимателем в Приморье, владельцем процветающего имения Сидами, где вырастил огромное стадо благородных оленей. В этом «сказочном», по слову Бальмонта, имении он побывал, что известно из цитировавшегося выше письма А. Н. Ивановой.
Поэт известил жену в письме от 26 апреля о предстоящем отплытии в Японию. Там он пробыл две недели и 14 мая вернулся во Владивосток. Итог этого путешествия поэт подвел словами: «Японией пленен безмерно».
Цуруга, Йокогама, Камакура, Токио, Никко, Киото, Нара — таким в основном был его японский маршрут. «Я всегда испытывал по отношению к Японии предубеждение, — признавался поэт в письме от 19 мая 1916 года. — Оно было ошибочным… <…> Японцы именно один из немногих народов на земле, которые обладают особой, притягательной для меня силой. Воплощение трудолюбия, любви к земле, любви благоговейной к своей работе и к своей родине, внимательности изящной, деликатности безукоризненной… Что касается японской женщины, мне кажется, что любить ее — великое и высокое счастье, ибо она совершенство красоты, изящества, мягкости, ритма… <…> Японская природа — воздушная греза… <…> В Японии много того, что меня очаровало на Тонга, Самоа и Яве». Позднее Бальмонт написал ряд очерков о Японии, печатавшихся в российских газетах.
Через несколько дней, 21 мая, Бальмонт выехал в Петроград, куда прибыл в первых числах июня. Так завершилось его самое большое турне. Впечатления от Сибири не пропали бесследно: в 1935 году в США выйдет его сборник «Голубая подкова. Стихи о Сибири».
Три поездки по России показали Бальмонту, что его знают и помнят в родной стране, что он по-прежнему популярен. Большинство его выступлений, особенно чтение стихов, заканчивались успехом, что очень поддерживало поэта в то время, когда критика, следуя новой моде, отвернулась от него, а молодые поэты зачастую считали его поэзию устаревшей. Так что эти путешествия, кроме доходов, необходимых для жизни, приносили поэту и моральное удовлетворение.
Вскоре после возвращения Бальмонт приехал в Москву, а лето и начало осени провел в Ладыжине. К этому времени дом в Брюсовском переулке Александра Алексеевна Андреева продала, и Екатерина Алексеевна сняла квартиру в Большом Николопесковском переулке, дом 15. Там у Бальмонта была своя рабочая комната.
Этим же летом, 14 июня 1916 года, Бальмонт познакомился с Мариной Цветаевой, жившей по соседству в Борисоглебском переулке. Знакомство, затем переросшее в тесную дружбу, произошло благодаря поэту и переводчику Владимиру Нилендеру. В одном из писем Бальмонт дал ему такую характеристику: «В Нилендере нашел преданного друга, как Ал. Ал. Смирнов. Он переводчик Гераклита (полуполяк, полуангличанин). Он достал мне гору книг и достает еще оккультный материал». Некоторое время Нилендер консультировал поэта в его занятиях древнегреческим языком, а более всего был ему полезен как библиограф и библиофил.
В Ладыжине у Бальмонта сложился большой и разнообразный круг чтения. В одном из писем он просил жену привезти на дачу побольше книг, в частности, «Историю Израиля» и «Историю христианства» Ренана, «Историю России» С. М. Соловьева, всё, что можно достать о Японии и Китае: религия, мифы, поэзия. Но главное — поэт много и напряженно там работал, причем в разных направлениях, переходя от одного занятия к другому, — таков был стиль его работы. Сочинял стихи для будущей книги «Сонеты Солнца, Меда и Луны», писал очерки о Японии для газеты «Биржевые ведомости», изучал творчество Рабиндраната Тагора (полюбил за «Читру» и «Садовника») и написал предисловие к его книге, редактировал переводы Елены Цветковской и Елены Григорович (Рондинелли) «Египетских сказок», настойчиво переводил Руставели. Составил также книгу своих путевых очерков об Океании «От острова к острову» и договорился с М. В. Сабашниковым о ее издании.
Обо всем этом Бальмонт рассказывал в письмах Цветковской, которая находилась на даче в селе Образцове на Клязьме. По ее просьбе описал свой распорядок дня в Ладыжине (письмо от 14 сентября): «Он размеренно одинаков. Я встаю около 10-ти, ибо часто ночью просыпаюсь и утомляюсь этим. После кофе иду в малую прогулку с Нюшей или Машей (Полиевктовой. — П. К., Н. М.). От 11 до часу немного читаю и перевожу Руставели. Раза два за это время выбегаю на минутку в сад. Сажусь с газетами и письмами на лавочку, если есть солнце, мечтаю и курю. После завтрака чуть-чуть валяюсь, и снова малая прогулка. До 4-х опять Руставели. И после чая до 6-го часа он же. Затем до обеда пишу письма и читаю, когда в состоянии, а то в пустоте уходят миги. В половине 12-го искуряю в постели предсонные папиросы и уношусь мыслью в дали…»
Осенью и зимой поэт в основном жил в Петрограде, который казался ему чужим и холодным; Москва была ему милее. Жизнь «на две столицы» все больше представлялась Бальмонту ненужной, обременительной, хотя в Северной столице он не без успеха продолжал заниматься своими делами: писал сонеты, переводил Руставели, участвовал в литературных вечерах.
Так, 19 ноября 1916 года на вечере в университете поэт читал «Сонеты Солнца, Меда и Луны». Вечер он назвал «стихотворным радением», так как, помимо него, со стихами выступали многие молодые поэты, чье творчество он не одобрял. «Председательствовал Венгеров, — рассказывал Бальмонт о вечере в письме А. Н. Ивановой. — Он говорил обо мне как возродившем русскую поэзию <…> что я создал культ поэта и поэзии <…> что я vater, т. е. поэт-вещун, прорицатель. И пр. и пр. Я отвечал, отрекся от молодых поэтов».
Дважды — в октябре и ноябре — Бальмонт приезжал в Москву: по издательским делам и на вечер памяти А. Н. Скрябина, которому посвятил цикл из десяти сонетов «Преображение музыкой». «Вчера был скрябинский вечер, — пишет Бальмонт Цветковской 12 ноября 1916 года. — Красивый зал, избранная публика. Но я был холоден, и что-то мне помешало сказать то блестящее слово о Музыке, о котором я думал, идя на вечер. Я сказал лишь незначительную часть из него и прочел 10 сонетов о Музыке и, кроме того, „Рассвет“ и „Полдень“ (как пример музыкальных состояний природы). На слушателей, видимо, произвел глубокое впечатление. Особенно на музыкальную часть публики».
Основной творческий итог 1916 года: в московском издательстве К. Ф. Некрасова (племянника поэта Некрасова) вышла книга стихотворений «Ясень. Видение Древа», в издательство В. В. Пашуканиса сдана книга «Сонеты Солнца, Меда и Луны», а в издательство М. и С. Сабашниковых — книга «Надевший барсову шкуру». Обе эти книги выйдут в начале 1917 года.
Книга «Ясень. Видение Древа» была задумана Бальмонтом как своего рода «энциклопедия» собственного творчества. «Это самая благородная книга, которую я написал», — утверждал поэт в письме Е. Цветковской от 5 сентября 1915 года, а издателю К. Ф. Некрасову сообщал: «…она является завершающим звеном длинной цепи, возникшей ровно 25 лет назад в Ярославле».
В «Ясене» действительно представлены все основные мотивы, темы, идеи, образы предшествующего творчества поэта. Кроме того, в этой книге Бальмонт отказался от дробления на разделы, что дает эффект единого лирико-мифологического сюжета, воссоздающего панораму истории человеческой цивилизации от «утра вселенной» до апокалипсиса. Причем в развитии этого сюжета активно задействованы не только характерные для творчества поэта архаические поверья, древние мифы, христианские идеи, но и естественно-научные и философские концепции XIX–XX веков.
К примеру, в стихотворениях «Тот предок» и «Рука» Бальмонт неожиданно отрекается от всех богов и воспевает дарвинистскую теорию эволюции:
От предка ли я отрекаться буду, Пусть был четверорук он и мохнат? Рука есть воплощенный в ощупь взгляд, Рука есть мост к свершению и чуду. (Рука)Ключевыми в «Ясене» являются первое и последнее стихотворения («Навек» и «Полночь»). Первое, «Навек», — своеобразный бальмонтовский «Памятник», в котором поэт выражает надежду на непреходящую ценность своего творчества (по аналогии с пушкинским: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа…»):
Как мыши точат корни Игдразила, Но Ясень вечно ясен в бездне дней, — Как дым течет из звонкого кадила, Но счета нет для ладанных огней… …………………………………… Как в камне скал есть звонкий водоем, И будет петь, копя ключи для жажды, Так буду петь о царствии твоем, — Любовь, что я узнал во сне однажды.Последнее, завершающее книгу «Ясень. Видение Древа» стихотворение «Полночь» представляет собой апокалиптическую картину («видение», предчувствие, вещий сон?) гибели мирового древа, однако исполненное поэтом в оптимистическом «музыкальном» ритме, оно открывает широкий простор для раздумий. Процитируем полностью это редкое, не переиздававшееся около сотни лет стихотворение:
Зеленое древо нездешнего сева, быть может с Венеры, быть может с Луны, Цвело, расцветало, качалось, качало, и птицами пело, и реяли сны. Топор был веселый, жужжащие пчелы летели, бросая свой улей навек. Удар был упорный, припевно-повторный, и звонкую песню пропел дровосек. Мы все это знали из дыма печали, из пенья и тленья пылающих дров. Так будет и с нами, с горящими в Храме, так будет с мирами во веки веков.Следующая книга «Сонеты Солнца, Меда и Луны» (1917) завершила творческий период, начатый «Заревом зорь», и была отмечена новым взлетом бальмонтовского лиризма.
К сонету поэт впервые обратился в 1890-е годы (в частности, в книге «Тишина»), немало сонетов, в том числе известное стихотворение «Хвала сонету», вошли в «Горящие здания», присутствуют они в «Будем как Солнце».
«Сонеты Солнца, Меда и Луны» явились свидетельством выхода Бальмонта из кризиса, пережитого в 1909–1911 годах:
Что сделалось со мной? Я весь пою. Свиваю мысли в тонкий слой сонета. Ласкаю зорким взором то и это, Всю вечность принимаю как мою. Из черных глыб я белое кую. И повесть чувства в сталь и свет одета. Во всем я ощущаю только лето, Ветров пьянящих теплую струю. О, что со мной? Я счастлив непонятно. Ведь боль я знаю так же, как и все. Хожу босой по стеклам и в росе Ищу душой того, что невозвратно. Я знаю: это — солнце ароматно Во мне поет. Я весь в его красе. (Что со мной)Проведя «в сладком рабстве у сонета» «две долгие зимы, два жарких лета» (1916–1917 годов), поэт, по-видимому, действительно — и здесь трудно не согласиться с литературоведом Владимиром Орловым — «рассматривал эту строжайшую стихотворную форму как средство самодисциплины, позволяющее преодолеть растекающийся поток музыкальной речи»[20].
Философская проблематика «Сонетов Солнца, Меда и Луны» сближает эту книгу с «Ясенем», недаром поэт с новой силой ощущает свою «кровную» связь с «древом жизни»:
Как каждый лист, светясь, живет отдельным Восторгом влаги, воздуха, тепла И рад, когда за зноем льется мгла, Но с древом слит существованьем цельным, — Так я один в пространстве беспредельном, Но с миром я, во мне ему хвала. (Мир)Бальмонт постепенно приходит в сонетах к выстраданной мысли, что «лучший стих — где очень мало слов» (сонет «Лучший стих»), и создает совершенный по лаконичности и изысканности цикл сонетов — «медальонов» — о Микеланджело, Леонардо да Винчи, Марло, Шекспире, Кальдероне, Эдгаре По, Шелли, Лермонтове, Скрябине. И здесь, может быть, наиболее показателен (и современен по смыслу!) четвертый сонет из цикла «Лермонтов»:
Мы убиваем гения стократно, Когда, рукой его убивши раз, Вновь затеваем скучный наш рассказ, Что нам мечта чужда и непонятна. Есть в мире розы. Дышат ароматно. Цветут везде. Желают светлых глаз. Но заняты собой мы каждый час, — Миг встречи душ уходит безвозвратно. За то, что он, кто был и горд и смел, Блуждая сам над сумрачною бездной, Нам в детстве в душу ангела напел[21], — Свершим сейчас же сто прекрасных дел: Он нам блеснет улыбкой многозвездной, Не покидая вышний свой предел.«Сонеты Солнца, Меда и Луны» по-своему перекликаются с известным венком сонетов М. Волошина «Corona astralis», в котором развиваются другие воззрения на назначение поэта в мире. Еще более ощутимы в книге точки соприкосновения, полемические подчас, с сонетами Вяч. Иванова. В 1915 году теоретик символизма посвятил Бальмонту сонет, где были такие строки:
Весь пытка, ты горишь — и я сгораю; Весь музыка, звучишь — и я пою. Пей розу, пей медвяную мою! Живой, чье слово «вечно умираю», Чей Бог — Любовь, пчела в его рою, Ты по цветам найдешь дорогу к Раю. (Бальмонту)На этот сонет поэт ответил триптихом «Вязь». Пророчествование Иванова «Ты по цветам найдешь дорогу к Раю» «желанно», но в то же время «непонятно» Бальмонту. Грустные размышления о «возврате повторений» жизни склоняют его к христианской кротости желаний. Весь «мед» своей поэзии «многобожник» готов принести на «алтарь» единой веры:
У пчел есть тайны вне досягновенья. Мой мед — не мне. Мой воск — на алтари. Себе хочу лишь одного: Смиренья.Последние слова о «смиренье» окажутся весьма симптоматичными в контексте дальнейшей судьбы поэта. «Сонеты Солнца, Меда и Луны» подвели своеобразную черту под всей дореволюционной лирикой Бальмонта.
Четвертый период творчества Константина Бальмонта (1912–1917) в целом ознаменовался не «упадком», а, напротив, новым поворотом его поэтического дара. «Стихийный гений» неожиданно предстал перед читателем как поэт-философ, «неустанный искатель Бога», размышляющий о трагичности судеб человеческой цивилизации. Этот «лик» поэта не получил признания у современников и не был по достоинству оценен. Преобладавшую тогда оценку «нового» Бальмонта можно выразить словами Эллиса: «Философия в стихах вообще плохая вещь, у Бальмонта же в особенности <…>. Дар созидания идей, творчество в области разума вообще не даны ему». Из последующих исследователей творчества поэта один В. Ф. Марков с сожалением отмечал тот факт, что «„знатоки“, с улыбкой превосходства сбрасывающие Бальмонта со счетов, просто не знают, чего они лишены». Действительно, книги поэта 1910-х годов в сущности до сих пор остаются «непрочитанными». На наш взгляд, можно согласиться с мнением ученого: «Сонеты Бальмонта стоят в ряду лучших книг двадцатого века, которые можно счесть по пальцам обеих рук. А любителям „непонятных стихов“ <…> мой совет — почитать Ясень…»
Глава восьмая «РЕВОЛЮЦИОНЕР Я ИЛИ НЕТ?»
1917 год, переломный в судьбе России, стал переломным и в жизни Бальмонта. Две революции — Февральскую и Октябрьскую — поэт воспринял по-разному. Падение самодержавия, к которому, как помним, Бальмонт предъявлял счеты в 1905–1907 годах, он считал явлением закономерным и чаемым, потому приветствовал Февральскую революцию «Гимном Свободной России» и другими стихотворениями. Александр Гречанинов, написавший музыку на текст «Гимна Свободной России», вспоминал в книге «Моя жизнь», изданной в Нью-Йорке в 1954 году: «Весть о февральской революции была встречена в Москве с большим энтузиазмом. <…> Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова? Первые две строки: „Да здравствует Россия, Свободная страна…“ я взял из Сологуба, дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит, и через несколько минут готов текст гимна… <…> Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн… был исполнен хором и оркестром наряду с Марсельезой»:
Да здравствует Россия, свободная страна! Свободная стихия великой суждена! Могучая держава, безбрежный океан! Борцам за волю слава, развеявшим туман! Да здравствует Россия, свободная страна! Свободная стихия великой суждена! Леса, поля и нивы, и степи, и моря, Мы вольны и счастливы, нам всем горит заря!Через несколько недель после свержения самодержца Бальмонт приехал на родину и пробыл в Иваново-Вознесенске и Шуе с 13 по 19 марта. Это было его последнее посещение земли, где он родился, рос, набирал силу и знания. В Иванове Бальмонт написал «Вольный стих», в котором революция рисуется как пришествие долгожданной свободы и единения людей, и посвятил его иваново-вознесенским рабочим. Стихотворение было напечатано в газете «Известия Иваново-Вознесенского революционного комитета общественной безопасности» (1917. 17 марта) и завершалось такими словами:
Какое счастье знать, что ты нужен людям, Чуять, что можешь прочесть стих, доходящий до сердца.В духе этого стихотворения и проходили выступления поэта на родине. В этой же газете к его приезду была опубликована статья рабочего поэта и революционно-общественного деятеля Авенира Ноздрина с красноречивым названием «Мой привет поэту-гражданину К. Д. Бальмонту» (1917. 16 марта).
В Иваново-Вознесенске Бальмонт провел «Вечер поэзии» (присутствовало более семисот человек), прочел лекцию «Лики женщины» и выступил в зале музея с впечатлениями, полученными во время путешествия в Океанию и Японию. Вечер поэзии поэт определил как русско-польский, поскольку на его выступлении присутствовало много поляков, давно живших в городе или эвакуированных туда во время войны. «Я читал в 1-м отделении целый ряд стихов, — пишет Бальмонт Елене Цветковской, — „Двенадцатый час“, „В единении сила“, „Слава крестьянину“, „Славянский язык“ и др. В 1-м ряду сидели рабочие депутаты, я волновался в меру. Перед стихами говорил небольшую речь о роли крестьян и рабочих в совершившемся. Во 2-м отделении я сказал яркую и длинную речь о Польше, рабочие и поляки несколько раз прерывали меня взрывом аплодисментов». «Больше всего меня тронуло, что рабочим я понравился», — замечает поэт в письме Анне Николаевне Ивановой (Нюше, племяннице жены).
В Шуе, кроме проведения «Вечера поэзии», Бальмонт встретился с братьями, съездил в Гумнищи и село Якиманна, где похоронены родители. Побывал также в гимназии, где с одобрением отозвался о стихах, прочитанных в его честь шестнадцатилетним гимназистом Ефимом Вихревым, будущим писателем (который известен своими книгами о Палехе и художниках-палешанах).
В дневнике Ефима Федоровича Вихрева (его архив хранится в Москве) есть любопытная заметка о пребывании Бальмонта на родине «Маленький штрих», сделанная 3 января 1924 года: «Когда он <Бальмонт> в 1917 г. <…> приехал в Шую, то сразу же поссорился со своим братом Александром, заявив ему: „Ты эксплуататор, буржуй, а я пролетарий“. Это передал мне племянник К. Бальмонта А<лександр> А<лександрович> Б<альмонт>». Насколько глубока была их ссора, сказать трудно, но такое высказывание Бальмонта вполне вероятно. Он не раз сравнивал в стихах свой труд поэта с трудом рабочего («Кузнец», «Поэт — рабочему», «Песня рабочего молота») и мог считать себя «умственным пролетарием». К тому же брат Александр после смерти родителей владел имением Гумнищи и жил как помещик (но пользовался уважением работников, так как вводил всякие технические новшества для обработки земли), а Бальмонт в основном кормился литературным трудом.
Спустя четыре недели после посещения Иваново-Вознесенска и Шуи поэт отправился в месячное турне по городам центра и юга России. Программа его выступлений была та же, что и в Иванове. Если в прежних поездках он избегал бесед на политические темы, то теперь нередко к ним обращается, а в его письмах появляются оценки событий в России. Начавшись литературным вечером в Туле при тысячной аудитории, турне продолжилось в городах Орел, Курск, Воронеж, Харьков, Екатеринослав (где одно выступление состоялось в солдатской казарме), Ростов-на-Дону, Новочеркасск, снова Ростов-на-Дону и несколько вечеров в Харькове. 15 апреля Бальмонт вернулся в Москву; куда к этому времени переселился окончательно, сдав квартиру в Петрограде.
Поездки 1917 года в известной мере были вызваны и материальными соображениями из-за растущей дороговизны, чтобы иметь более-менее сносные условия для жизни и работы. В апреле поэт писал А. Н. Ивановой из Воронежа: «Сейчас мне нужно зарабатывать деньги, чтобы иметь свободные руки, и я зарабатываю». В Воронеже Бальмонт пробыл два дня, 23 и 24 апреля, прочитав две лекции: «Лики Женщины» и «Любовь и Смерть в мировой поэзии», не встретившие большого внимания, а главное — понимания у местной публики.
Лето Бальмонт провел в Закавказье и на Северном Кавказе. Поездка туда, сопровождавшаяся встречами с читателями, в основном была вызвана тем, что вышел его перевод избранных песен из поэмы Руставели, и он повез книгу в Тифлис, где ее особенно ждали. Там ему оказали самый горячий прием. У него была приготовлены программа лекций о Руставели и чтение отдельных песен поэмы. Он неоднократно и с большим успехом выступал в Тифлисе, на курортах и в городах Грузии — Гори, Боржоми, Кутаисе и др. Состоялись выступления и на другие темы, в том числе специально для солдат. С 17 июня по 31 июля Бальмонт провел восемь встреч с читателями на курортах Северного Кавказа: в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске. В августе прошли вечера в Пятигорске и Екатеринодаре. Однако преимущественно он находился в Тифлисе и в Боржоми, где отдыхала Елена Цветковская с Миррой.
За время своих поездок по Кавказу Бальмонт пережил два романа, причем, по воспоминаниям Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт, «оба печально для него кончились». Сначала умерла от чахотки красавица Тамара Канчели, «с которой его связывала уже второй год нежная дружба». А через две-три недели в Кисловодске после неожиданной ссоры сбросилась с обрыва девушка Кира, которой Бальмонт был увлечен, как и она им. К счастью, девушка осталась жива, долго лечилась, и ее сломанная нога срослась. Пылкая влюбленность поэта, всеми силами поддерживавшего Киру во время ее пребывания в больнице, плавно перешла в дружеские отношения. 17 августа, после двухмесячного отсутствия, Бальмонт вернулся в Москву.
Екатерины Алексеевны в это время в Москве не было. В конце мая вместе с дочерью Ниной и подругой Ольгой Николаевной Анненковой (близкая родственница художника М. Врубеля) она уехала на Урал, куда их пригласили погостить и провести лето на чудесном озере Тургояк. Дочь, воспитывавшаяся в основном во Франции, мало знала Россию, главным образом Подмосковье, и общение с уральской природой, новыми людьми, по мнению Екатерины Алексеевны, обогатит ее представления о родной стране. На Урале задержались до осени, а потом наступили и вовсе смутные времена — Октябрьская революция, Гражданская война, и возвращение в Москву затянулось до 1921 года. Все это время они жили в небольшом городке Миасс (возле Челябинска), где Екатерина Алексеевна работала в библиотеке, а Нина училась в местной гимназии.
Поначалу Екатерина Алексеевна и Бальмонт воспринимали эту разлуку как временную. Бальмонт собирался приехать в Миасс, но осуществить этого по условиям того времени не смог. Он часто писал жене и дочери, и его письма читаются как дневник поэта: в них отразились многие подробности его жизни в Москве, переживавшей беды и трудности 1917–1920 годов.
Лето 1917 года в России — время углубления кризиса власти, государства, армии. На фронте — одно поражение за другим, дезертирство, предательство. Бальмонт болезненно переживает за судьбу России, ему кажется, что происходит что-то похожее на пришествие Батыя, что лег срам на имя русское, он чувствует себя «висящим в воздухе» (письмо жене от 16 июля 1917 года). «События на фронте, — пишет он ей несколько ранее, — т. е. позор наш и бегство предателей <…> меняет все — и более ничего нельзя знать даже о ближайших днях. Россия, Россия! Много бурь она знала. Может быть, вынесет и этот грозный смерч, этот ураган сумасшествия».
Эти же чувства патриота, горячо болеющего за Россию, выражены и в его летних письмах Анне Николаевне Ивановой. Поэтом владеют мрачные предчувствия: «Мне тяжело все, что творится в России. Много еще будет злого — целое море» (письмо из Тифлиса от 5 июля 1917 года). «В сердце моем глубокое спокойствие от доверия Богу и Судьбе. Три-четыре дня тому назад — или когда? — узнав, что русские начали бегство, я пережил такую боль, что уже ничто меня, кажется, не взволнует. Вся наша Армия дрогнула. Что будет, не знаю. Кровавый пожар начался и придет» (письмо из Тифлиса от 14 июля).
Пятого августа Бальмонт пересылает А. Н. Ивановой из Пятигорска только что написанное стихотворение «Этим летом», которое 2 сентября появится в московской газете «Утро России». Вот строки из него, вызвавшие тогда же полемические отклики:
Этим летом — униженье нашей воли, Этим летом — расточенье наших сил, Этим летом — я один в пустынной доле, Этим летом — я Россию разлюбил.Последние строки не стоит понимать буквально, они вызваны оскорбленным национальным чувством, в котором соединены любовь и ненависть: любовь к России и ненависть к тем, кто довел ее до унижения и позора. Судя по всему, во время выступлений он заражал этим чувством слушателей. Екатерине Алексеевне он сообщает, что 13 августа в Екатеринодаре читал обличительную речь, встреченную рукоплесканиями, и отмечает: «Большой поворот в настроениях всех» (письмо от 14 августа 1917 года).
Можно сказать, что в многочисленных поездках по взвихренной России 1914–1917 годов Бальмонт познакомился со страной в ее разнообразных «ликах» (любимое слово поэта) и состояниях. И конечно же сравнивал увиденное в России с другими странами мира, где побывал. Он видел, как она проигрывает по комфортности, устроенности жизни Европе (недаром в его письмах не раз говорится о желательности уехать из России или жить зимой в Париже, а летом в России). Из Японии он пишет А. Н. Ивановой: «Как скучно и серо в России. И все же я ее люблю. А Япония — лучезарный сон» — и далее использует в определении России некрасовское слово: «Но она убогая». Именно в некрасовских контрастах — великая и убогая, могучая и бессильная — предстала матушка-Русь перед Бальмонтом во время его путешествий по городам и весям. Эти впечатления во многом определят позицию поэта в отношении к тому, что произойдет с Россией в дальнейшем и так или иначе отразится в его творчестве.
Восторженно-эмоциональный порыв и надежды на Февральскую революцию как «чашу пьянящего счастья» («Вольный стих») у Бальмонта скоро выветрились. Это видно по публицистическим статьям и стихам, которые во второй половине 1917 года печатались в газетах «Утро России», «Русское слово», «Республика», «Русская воля» (основана Л. Андреевым). Многие из этих публикаций войдут в публицистическую брошюру Бальмонта «Революционер я или нет?» (М., 1918). Так, в статье «Три меры» он говорит о трех ошибках Февральской революции: во-первых, она «лишена свойств всенародности», разожгла ненависть и вызвала распрю сословий и общественных групп; во-вторых, она затоптала воинскую честь и долг, привела армию к разложению; в-третьих, «власть не чувствовала себя властью», пассивно относилась к тем, кто сеял смуту в стране и тем самым подстрекал к гражданской войне.
В статье «Воля народа» Бальмонт писал, что революция должна выражать народную волю, а не интересы отдельных классов в ущерб другим, ибо воля народа — «сложное единство», включающее в себя «не только крестьян и не только рабочих». Он против тех, кто преследовал в революции корыстные или классовые интересы, кто натравливал русских людей друг на друга, сеял вражду между ними. Призыв к единению («Скрепись за Россию, о русский народ»), выраженный в стихотворении «К русскому народу», сменяется у него нотами сомнения, так как народ может быть обманут и развращен насилием, ложью и кровью:
Когда напоишь его кровью и ложью, Он низкий и алчный распутный дракон. Но светит он силой пшеничной и рожью И любит он подвиг и радостный звон, Когда благовестью в душе озарен.Развитие событий, неспособность Временного правительства преодолеть глубокий кризис в стране подтвердили худшие опасения Бальмонта. «Россия вся охвачена <…> судорожной дрожью внутренних сил», — отмечал он в статье «Вращенье колеса». В его стихах звучит горечь разочарования в родном народе, поэту даже кажется, что в нем «человек в человеке умолк» (стихотворение «Маятник»):
Ты ошибся во всем. Твой родимый народ Он не тот, что мечтал ты. Не тот.В еще более резкой форме разочарование выражено в стихотворении «Этим летом». В это же время он создает стихотворение «Прощание», которое соотносится с цитировавшимися письмами Екатерине Алексеевне и Анне Николаевне Ивановой. Вместе эти стихотворения составили микроцикл «В России», проникнутый горестным чувством боли за Россию.
Патриотическое чувство Бальмонта было оскорблено. В отличие от многих, зараженных капитулянтскими настроениями, он стоял за продолжение войны и защиту отечества. Осенью 1917 года поэта преследовало ощущение надвигающейся катастрофы. Этим предчувствием проникнуто стихотворение «Российская держава» (написано в октябре). Спасти державу, надеялся он, может лишь «твердая рука» — так появилось стихотворение, обращенное к генералу Лавру Георгиевичу Корнилову: «Твой лик твердит: „Нам нужно твердости, / Любовь к России нам нужна“» (Утро России. 1917. 15 октября)[22].
После Октябрьской революции тяжелые переживания и предчувствия Бальмонта усилились. Дни переворота он пережил в Москве, не раз попадал под обстрел. 6 ноября (ст. ст.) он сообщал жене: «Я жив и все мы живы, хотя эту истекшую неделю ежеминутно могли быть расстреляны или, по крайней мере, застрелены. Стрельба была чудовищной, бессмысленной и непрерывной. <…> Я не в силах ничего говорить, да и что говорить? Все очевидно. Я читаю „Историю России“ Сергея Соловьева, прочел о начальных временах Руси, о Стеньке Разине, о Смутном времени, о начале царствования Петра — русские всегда были одинаковы, и подлость их родной воздух». Далее следует приписка об издателе М. В. Сабашникове: «Миша Сабашников погорел целиком, лишь сам жив и семья. Они пережили обстрел гранатами, от снарядов и загорелось. Весь исполинский дом сгорел».
Такова была реакция Бальмонта на события Октябрьской революции. Он ее явно не принял, хотя сдерживался в оценках, открыто против новой власти не выступал. Внешне, в условиях развязанного террора, он сохранял лояльность, печатно о происшедших событиях не высказывался, к тому же газеты, с которыми он сотрудничал, были вскоре закрыты. Правда, моментами во всем свершившемся поэт усматривал акт справедливого возмездия «грабителям сверху» и выражал веру «в преобразующую силу времени и творческие способности русского народа». Он хотел верить «лучшему, а не худшему». Однако действительность опрокидывала эти надежды. В письмах жене 1918–1920 годов Бальмонт не раз пишет о «красном ужасе», «мертвой петле», наброшенной на Россию, о голоде и холоде, о преследованиях и нравственном унижении, творимых новыми хозяевами жизни. В декабре 1919 года по ложному поводу он подвергнется кратковременному аресту. Во время допроса в ЧК на вопрос, к какой политической партии он принадлежит, Бальмонт ответит: «Поэт».
Опыт революций 1917 года — и Февраля, и Октября — заставил поэта не только решительно пересмотреть свое отношение к революционным методам борьбы, но также свое прошлое, что он и сделал в брошюре «Революционер я или нет?», вышедшей, напомним, в мае 1918 года. В ней нет ни слова об Октябрьском перевороте и действиях советской власти, а есть раздумья о себе и своем пути. К слову, в этой книжке Бальмонт уподобил поэта неуправляемой комете и заявил: «Поэт выше всяких партий».
В первой части этого публицистического издания — автобиографической — Бальмонт рассказывает о своей жизни, былом увлечении революционными идеями и утверждает, что настоящие революционеры не те, кто с помощью оружия и насилия совершает перевороты, а великие умы науки и культуры, которые своими открытиями и мыслями совершенствуют и преображают мир. Вторая часть — «1905 год» — состоит из двенадцати стихотворений той поры; автор как бы говорит: смотрите — было время, и я призывал бурю-революцию. Третья часть — «1917 год» — объединяет шесть публицистических статей и 13 стихотворений, написанных при Временном правительстве (за исключением стихотворения «Кровь и Огонь»), Пафос этой части — отказ от революции как способа переустройства жизни; в ней не говорится о большевиках, но картины насилия, крови, террора, мрачные предчувствия, естественно, ассоциировались с тем, что происходило после Октябрьской революции. Уже в статье «Воля народа» Бальмонт приходит к выводу, что «не революцией, а эволюцией жив мир».
Бальмонт сравнивает революцию с грозой в природе как явлением освежающим и обновляющим, но в природе гроза приходит и уходит, а превращение «грозы-революции», предупреждает поэт, в непрерывную становится «сатанинским вихрем разрушения». Именно так и случилось после октября 1917 года. Террор, грабежи, разгул классовой ненависти, темных криминальных сил — и все это под обманчивыми лозунгами свободы и равенства. Показательно в этом смысле его пророческое стихотворение «Неизбежность» с намеком на пугачевщину: «Каждый, кто бесчестен, тот Емелька — / Грабит, режет, жжет и рвет на части».
Драматические переживания общественных событий в России соединились у Бальмонта с неменьшим драматизмом в его личной судьбе. И дело не только в холоде, голоде, болезнях, унижении, которые пережили поэт и его близкие. Обо всем этом можно прочесть в его письмах жене, в воспоминаниях, которые вошли в книгу «Где мой дом» (Прага, 1924), в «Слове о Бальмонте» Марины Цветаевой, где она рассказывает о дружбе с Бальмонтом и совместных переживаниях бед. Дело и в том, что драматично складывалась семейная жизнь поэта. Из-за обстоятельств смутного времени жена и дочь Ниника не могли возвратиться в Москву.
Екатерина Алексеевна, несмотря ни на что, продолжала оставаться для поэта его Беатриче. Об этом красноречиво говорит обращенное к ней стихотворение «Катерина», которое войдет в книгу Бальмонта «Дар земли» (1921):
За то, что ты всегда меня любила, За то, что я тебя всегда любил, Твой лик мечте невыразимо мил, Ты власть души и огненная сила. …………………………………… Пронзенный, пред тобой склоняюсь в прах. Лобзаю долго милые колени. На образе единственном ни тени. Расцветы дышат в розовых кустах, Движенью чувства нет ограничений. Я храм тебе построю на холмах.Однако судьба сделала за него окончательный выбор. В Москве на его попечении оставались Елена Цветковская с дочерью Миррой и Анна Николаевна Иванова, Нюша, которая давно стала членом семьи Бальмонтов, бескорыстно любила поэта и была ему заботливым другом. С ними потом он и уедет во Францию. С Екатериной Алексеевной сохранится лишь переписка, пока это будет возможно, — до 1934 года. Женой Бальмонта станет Елена. Правда, гражданской, что будет создавать в жизни разного рода юридические сложности.
Екатерина Алексеевна, размышляя обо всем произошедшем в начале 1940-х годов, когда писала мемуары, в одном из вариантов признается, что, может быть, и к лучшему всё сложилось, поскольку ее борьба с его недугом («отпадениями») ни к чему не привела. «Теперь я думаю, — пишет она, — что если было ему суждено прожить такую жизнь, как он прожил, встреча его с Еленой была для него счастьем. Никогда у меня не хватило бы сил и выдержки так неизменно и неутомимо ходить за ним, отказываясь от всякой личной жизни, как это делала Елена и делает до сих пор».
Вероятно, к этому выводу Екатерина Алексеевна пришла раньше, но ее всю жизнь связывало с Бальмонтом чувство былой любви к нему и память о нем — об этом свидетельствуют ее «Воспоминания». И конечно, их связывала дочь Ниника, Нина, которую оба любили.
В ноябре 1917 года Бальмонт узнал, что дочь собирается выходить замуж и ее жених — Лев Бруни. Его Бальмонт знал. Знал и то, что он из рода обрусевших итальянских художников, получил художественное образование в Париже, старше Нины (которой до семнадцатилетия оставалось более месяца) на семь лет. Он не был против Левы, он был против ее столь раннего брака, о чем и отправил ей большое письмо.
«Дитя мое, — пишет Бальмонт дочери 14 ноября, — со мной дважды говорил Лева (Л. Бруни навестил Бальмонта в Москве. — П. К., Н. М.). Сперва он сказал мне, очень волнуясь, что ты его невеста, потом мы говорили подробно о любви, ревности и браке. Ты знаешь, я не столько отец твой, сколько братишка. Мы оба, скорее всего, дети, ибо мы существа мечты, окруженные любовью близких, дорогих, заботливых. Я не могу и не буду говорить о любви, твоей и Левы. Скажу только, глубоко убежден, что он тебя любит, а ты лишь увлекаешься… <…>
О чем я хочу говорить — это о браке. Если Леве пора жениться, и в этом его одобряет какой-то старец Оптиной пустыни, тебе вовсе не пора выходить замуж. Лева уже знал жизнь, а ты ее еще не знаешь. В этом неравенстве нет правды. Я так и сказал Леве: в этом есть если не прямое воровство, то хищение. Если ты, увидя жизнь и людей, захочешь выйти замуж за Леву Бруни, я тебе в этом друг и помощник.
Если же ребенка 17 лет (ибо ты еще дитя, моя Ниника) он вовлечет в скороспелый брак, на это нет моего солнечного благословения».
В этом же духе были и другие письма дочери. Однако в 1919 году замужество состоялось. Лев Александрович Бруни стал преподавать рисование в гимназии, а Нина к этому времени ее заканчивала в Миассе. Брак оказался на редкость счастливым, и 22 марта 1920 года Бальмонт поздравил дочь с рождением сына. Это был Иван Бруни, будущий народный художник СССР (умер в 1994 году). Позднее появятся на свет другие дети: Нина (1922), Лаврентий (1924–1943), Андрей (1929–1931), Наталья (1933–1937), Василий (1935), Марьяна (1940). 15 октября 1924 года Бальмонт писал дочери из Шателейона: «Через твои строки и подробные описания Кати я вижу Ваню, Ниночку и Лаврика воочию. Какое драгоценное сокровище Ваня, он наверное будет художником, поэтом или музыкантом». Нина Константиновна Бруни-Бальмонт прожила долгую трудную жизнь (она умерла в 1989 году), успев сделать очень многое для сохранения памяти о своем отце. В частности, она передала в ЦГАЛИ многие письма отца, обнаруженные не только в России, но и за ее пределами, а также рукопись «Воспоминаний» матери, Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт.
В пореволюционной Москве Бальмонту жилось трудно. Борис Зайцев свидетельствует в воспоминаниях: «Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таская дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой „пшенкой“ без сахара и масла».
С продуктами в Миассе было значительно лучше, и Екатерина Алексеевна посылала Бальмонту «драгоценные сухарики», муку и даже колбасу. Бальмонт переводил ей и дочери деньги. Но почта и «оказии» срабатывали не всегда. Даже в переписке случались длительные перерывы: Урал оказался по другую сторону линии фронта. При разрухе и растущей дороговизне все силы поэта зачастую уходили на заботы о куске хлеба. Он зарабатывал на литературных вечерах, лекциях (выступал довольно часто перед разной аудиторией, в том числе перед рабочими, мелкими служащими), получал кое-какие гонорары за переводы, переиздание книг, консультации в театрах, авансы под готовящиеся издания, но литературного заработка хватало лишь на полуголодное существование. В феврале 1919 года он вынужден был поехать на заработки и за хлебом в Саратов. Елена с Миррой переехала к Бальмонту, так как со смертью матери потеряла право жить в ее квартире (в Машковом переулке). Лето и осень провели в деревне Новогиреево на окраине Москвы, где, казалось, легче выжить и прокормиться.
С пребыванием там связана странная «мистическая» история, позднее описанная Бальмонтом в рассказе «Шорох жути» (впервые опубликован в рижской газете «Сегодня» в 1928 году). Выяснилось, что на снятой даче водилась «нечистая сила» — «вещи срывались с мест, летали по воздуху и разбивались вдребезги». После очередного ночного «погрома» посуда оказалась перебитой «до последней чашки», со стены в спальне сорвалось и упало на умывальное ведро зеркало. Перепуганные «дачники», собрав нехитрые пожитки, пешком отправились в Москву за десять верст, так как пригородные поезда отменили.
Особенно ужасной станет зима 1919/20 года: от голода, холода, болезней страдали все четверо (поэт болел «испанкой» — гриппом). Это побудит Бальмонта хлопотать о командировке за границу для работы над книгой для Госиздата. Разрешение, при содействии А. В. Луначарского, будет получено. Луначарский всегда ценил «большой талант» Бальмонта и старался вовлечь его в культурное строительство новой, Советской России.
Начиная с лета 1917 года у Бальмонта не раз возникала мысль уехать во Францию, в обжитой им Париж. Когда эта возможность откроется, накануне отъезда он напишет жене: «Но нет радости в моем сердце. Одно лишь ощущение, что я принес крайние жертвы, чтобы эта поездка осуществилась, ибо так должно. У Нюши настоящая чахотка <…>. О Елене <врач> Селивановский сказал, что от смертельной болезни ее отделяет муравьиный шаг (у нее было воспаление в легком. — П. К., Н. М.). Миррочка всю зиму хворала <…>. Новой зимы в Москве им вовсе не выдержать».
А в 1918 году было конфисковано родовое гнездо Бальмонтов в Гумнищах, и брат поэта Александр два года безуспешно искал справедливости у новых властей, обращаясь даже в Москву в Совет народных комиссаров.
Период 1917–1920 годов в жизни Бальмонта был не только временем борьбы за существование, но и временем глубоких раздумий о жизни. Он, славивший любовь, бывший кумиром женщин и нередко бравировавший этим, 9 сентября 1917 года пишет Екатерине Алексеевне, что «устал от чувств», устал от любви: «Нет, я ни к кому бы сейчас не стал спешить, побуждаемый любовью. Если я не так устал от чувств, как ты, все же я устал. И если бы все мои любви вдруг волею Бога превратились в сестер моих, любящих друг друга, а ко мне, не считаясь, устремили лишь сестрину любовь, я, вероятно, вздохнул бы с безмерным облегчением. Больше яда в любви, чем меда. Или нужно любить, как Дон Жуан. А этого последнего мне, в сердце, что-то давно уже не позволяет».
Впрочем, Бальмонт напрасно зарекался. Весной 1920 года он познакомится с княгиней Дагмарой Эрнестовной Шаховской, которую звал просто Дагмар. Родом из Эстонии, баронесса Лиленфельд, по матери она имела русские корни, воспитывалась на русской культуре. Бальмонт считал ее полушведкой, полуполькой. Знакомство с ней обернется настоящей длительной любовью — об этом говорят его письма к ней. От Бальмонта Дагмар родит двоих детей: Георгия (1922–1941) и Светлану (родилась в 1925 году). Но о ней пойдет речь дальше.
Заметно усилилась в эти годы тяга Бальмонта к религии. Всегда подчеркивавший пантеизм, «всебожие», он и теперь говорил о своей многогранности, о готовности быть с мусульманином мусульманином, с индусом — брахманом, но, посещая православные храмы, признавался, что все более «захвачен красотой христианства». «Пасха здесь была совсем печальная, холодная и без торжественности, — сообщает Бальмонт жене 30 апреля 1918 года, — но зато Пасхальная ночь была светлым торжеством всех сколько-нибудь религиозно настроенных. Такой искренний подъем, такие искренние восклицания, торжествующая вера в ответном „Воистину Воскресе!“. Я еще никогда в православной церкви не чувствовал такого красивого душевного единства между священником и молящимися, которых было очень-очень много».
Бальмонт обращается к Библии, перечитывает Евангелие, особенно — Деяния апостолов. «Сейчас только что прочел с наслаждением 1-е и 2-е послания Петра. В них много красоты и внутренней силы. Петр с детства мой любимый в Евангельской повести». Много созвучного себе находит он в Евангелии от Иоанна, о чем пишет Екатерине Алексеевне: «И хорошо, что Христос в благовестии Иоанна — единственном благовестии, сказал: „Я есть дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и выйдет, и пажить найдет“. И всего лучше Его слова: „В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: Я иду подготовить место вам“».
Несмотря на невзгоды, главным в жизни Бальмонта все это время оставалась Поэзия — то, что было его призванием и судьбой в высоком смысле слова. «Не поддаюсь мутным туманам и упорно дышу золотым воздухом Поэзии», — читаем в письме жене от 22 апреля 1918 года. По письмам к ней можно восстановить творческую жизнь поэта и связанную с ней литературную деятельность.
«Воздух поэта» — это в первую очередь жизнь духа: искусство, литература, наука, религия, философия, история, постоянный интерес к которым отражается в широком круге чтения Бальмонта. Поэт продолжал изучать языки и старался читать на языке оригинала. Так, 29 октября 1919 года он сообщает Екатерине Алексеевне, что в последнее время по-гречески читал Евангелие, по-латински — Саллюстия, по-испански — Кальдерона и других испанских авторов, по-итальянски — романы Фогаццаро, по-французски — драмы Гюго и «Историю провансальской литературы», по-немецки — Новалиса, по-английски — книгу «некоего знатока Достоевского», по-шведски — Сельму Лагерлёф и т. д. Много и охотно читал он книги по естественным наукам. Увлекался религиозно-философской литературой, возвращался к трудам по теософии Е. Блаватской и по антропософии Р. Штейнера. «Читал немецкие книги о Христе, — пишет Бальмонт 4 февраля 1920 года. — Но мне не нравится та форма синкретизма, которая меня отталкивает в книгах Штейнера и у Блаватской. Я беру, брать хочу всякое явление в его единственной отдельности. Все остальное есть мертвящая схема, умственный гербарий, религиозно-философская схоластика. Сколько бы ни было связи и сходства явлений с другими явлениями, лишь степенью его отдельной единственности оправдана жизнь и Вселенная».
От политики Бальмонт отвернулся, ушел в себя, как он выразился, «в свой атом». Конечно, совсем отгородиться от реальной жизни он не мог. Ему приходилось выступать на вечерах поэзии, участвовать, говоря современным языком, в разного рода общественно-культурных мероприятиях, встречаться с другими поэтами и писателями. Так, к примеру, 14 января 1918 года на вечере у Михаила Осиповича Цетлина (поэт, выступавший под псевдонимом Амари), где встретились представители «старых» и «новых» течений, Маяковский читал поэму «Человек». От символистов, кроме Бальмонта (в конце вечера он прочел сонет), присутствовали Вяч. Иванов, Ю. Балтрушайтис, А. Белый, от футуристов, кроме Маяковского, Д. Бурлюк, В. Каменский, среди других — М. Цветаева, Б. Пастернак, П. Антокольский, И. Эренбург и еще несколько человек. В сентябре 1918 года Бальмонт вместе с другими писателями в Обществе любителей российской словесности занимался подготовкой 100-летнего юбилея И. С. Тургенева, написал статью и стихотворение «Тургенев — первая влюбленность». 20 декабря его избрали почетным членом этого общества.
Среди тех, с кем поэта связывало «какое-то скрытое духовное родство» и от встречи с которыми радость его была «остра и велика», Бальмонт называет в воспоминаниях о Блоке Юргиса Балтрушайтиса, Вячеслава Иванова и Марину Цветаеву.
Балтрушайтис всегда оставался преданным другом Бальмонта, но после Октябрьской революции он постепенно отходит от литературы. Правда, в декабре 1918 года в Москве был организован вечер Балтрушайтиса в связи с двадцатилетием его творческой работы, на котором среди других писателей выступал Бальмонт. С образованием Литовской республики в 1921 году Балтрушайтис стал ее чрезвычайным посланником и полномочным представителем в РСФСР. В 1939 году, выйдя на пенсию, он приехал в Париж и там встретился с Бальмонтом.
Вячеслав Иванов во время мировой войны, как и Бальмонт, был настроен патриотически, во время революции был близок к группе «Народоправство», заседания которой посещал и Бальмонт. В их позициях, при отдельных несовпадениях (Иванов делал акцент на религиозном самосознании народа), оставалось общее основание: в статьях 1917 года оба утверждали, что истинная революция — это творчество, а не насилие, иначе восторжествует демон разрушения и произойдет взрыв темных сил. «Ураган, — писал Вяч. Иванов в статье „Революция и самосознание народа“, — выкорчует сады и рощи и нетронутым оставит глухие дебри, где ютится мрак и водится лютое зверье». В одном из осенних писем 1917 года Бальмонт сообщил жене: «Видел Вячеслава Иванова. Очарован им. Но он мудрый Лис с пушистым хвостом».
И Бальмонт, и Марина Цветаева, несмотря на тяжелую обстановку тех лет, чувствовали себя рыцарями культуры, много и напряженно работали, часто встречались, читали друг другу стихи, вместе выступали на литературно-художественных вечерах и концертах. О главном их чувстве — гордой свободы — выразительно сказано в стихотворении Цветаевой «Бальмонту», написанном в ноябре 1919 года:
Пышно и бесстрастно вянут Розы нашего румянца. Лишь камзол теснее стянут: Голодаем как испанцы. Ничего не можем даром Взять — скорее гору сдвинем! И ко всем гордыням старым — Голод: новая гордыня. В вывернутой наизнанку Мантии Врагов Народа Утверждаем всей осанкой: Луковица — и свобода. Будет наш ответ у входа В Рай, под деревцем миндальным: — Царь! На пиршестве народа Голодали — как гидальго![23]Ариадна Сергеевна Эфрон в «Воспоминаниях дочери» писала: «Как возникла дружба Марины с Бальмонтом — не помню: казалось, она была всегда». И отмечала, что такая бесконечная дружба вообще-то не была свойственна ее матери, Бальмонт являл собой исключение. Она свидетельствовала еще об одной особенности: «Бальмонт принадлежал к тем редчайшим людям, с которыми взрослая Марина стала на „ты“… Перейдя на „ты“ с Бальмонтом, Марина стала на „ты“ и с его трудностями и неустройствами, помогать другому ей было всегда легче, чем себе, для других она — горы ворочала».
В первые годы Гражданской войны Бальмонт и Цветаева встречались особенно часто. Они жили тогда рядом, в районе Арбата: Бальмонт снимал квартиру в Николопесковском переулке, а дом Цветаевой находился в Борисоглебском переулке, 6. Они бывали друг у друга, навещали вдову композитора Скрябина, у которой собирался кружок людей, причастных к искусству. «Жили Бальмонты в двух шагах от Скрябиных, — вспоминала Ариадна Эфрон, — и неподалеку от нас… Зайдешь к ним — Елена вся в саже, копошится у сопротивляющейся печурки. Бальмонт пишет стихи. Зайдут Бальмонты к нам — Марина пишет стихи. Марина же и печку топит».
Бальмонт не был приспособлен к житейским трудностям, а жизнь становилась все тяжелее. Цветаева то и дело приходила к нему на помощь, хотя сама испытывала не меньшие лишения. Об этом поэт вспоминал с признательностью: «В голодные годы Марина, если у ней было шесть картофелин, приносила мне три». А в очерке «Где мой дом», вошедшем в книгу под тем же названием, писал: «…все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с нею быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу». Он относил Цветаеву к тем немногим людям, к которым его «душевное устремление» было так же сильно, как «остра и велика радость от каждой встречи с ними».
В свою очередь Цветаева вспоминала: «Бальмонт всегда отдавал мне последнее. Не только мне, всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнее полено. Последнюю спичку. И не из жалости, а из великодушия. Из врожденного благородства… Поэт не может не дать. Но еще меньше он умел брать». И еще: «С Бальмонтом мы, игрой случая, чаще делили тяготы, нежели радости жизни, — может быть, для того, чтобы превратить их в радость?»
Отношения Бальмонта и Брюсова сложились так, что о былой дружбе не могло быть и речи, осталось чисто формальное знакомство. Правда, узнав от кого-то о болезни сына Бальмонта (у Николая появились первые признаки психического заболевания), Брюсов 24 января 1918 года написал Бальмонту сочувственное письмо, «ибо за наши дни больше, чем за всю жизнь, научился понимать горести других». В 1919 году в журнале «Москва» (№ 3 и 4) Брюсов и Бальмонт последовательно обменялись стихотворными посланиями друг к другу, в которых каждый по-своему подвел итог их многолетних взаимоотношений.
В отличие от Брюсова, который активно сотрудничал с новой властью и много работал в советских учреждениях, Бальмонт нигде не служил. Побывал раз или два на заседаниях Театрального отдела Наркомпроса. Как-то нарком просвещения Луначарский пригласил его на заседание по организации Литературного отдела (Лито) Наркомпроса, но поэт высказался явно не в тон тому, что требовалось, заявив о «независимости литературы от политики». Однако с ним считались в литературно-художественных кругах, ценили его незаурядные знания, высокую культуру и часто приглашали выступать на разные темы, не только о поэзии. В апреле 1918 года по инициативе известного искусствоведа И. П. Муратова и писателя Б. К. Зайцева было организовано русско-итальянское общество по изучению и пропаганде итальянской культуры. В числе подписавших обращение о создании этого общества есть и фамилия Бальмонта. Общество носило разные названия: то «Studio Italiano», то «Общество Данте». 22 апреля Бальмонт пишет жене об открытии в этот день Русско-итальянского общества и о том, что он произнесет речь «Что мне дает Италия».
В Доме свободного искусства (бывший «Эрмитаж») поэт проводил испанские вечера, рассказывая о Сервантесе, испанском театре, народном творчестве и образе жизни испанцев. По поводу пятидесятилетней годовщины со дня смерти А. И. Герцена, широко отмечавшейся тогда, он выступил со словом о писателе и прочел стихи о нем в Малом театре; аналогичное его выступление состоялось и в честь пятидесятилетия артистической деятельности М. Н. Ермоловой. 1 марта 1918 года Бальмонт выступал в Доме народов им. П. А. Алексеева на диспуте «Что дали символисты русской литературе». Выступления Бальмонта носили культурно-просветительский характер. По поводу одного из них он писал, что оно было направлено «против той человеконенавистнической философии, которая проповедует волчью логику вражды человека к человеку».
Одно из сильнейших увлечений Бальмонта тех лет — музыка и театр. Он бывал на музыкальных вечерах С. А. Кусевицкого, И. А. Добровейна, А. К. Боровского, певицы Нины Кошиц, сам принимал участие в них как поэт. 19 апреля 1920 года Бальмонт выступил в Большом зале Московской консерватории на вечере памяти родственного ему по духу А. Н. Скрябина. С контрабасистом, дирижером и композитором Сергеем Кусевицким у него завязалась настоящая дружба (впоследствии они вместе выехали за границу).
Особенно близко Бальмонт сошелся с молодым Сергеем Прокофьевым, ему он посвятил сонет «Ребенку богов, Прокофьеву». Поэзией Бальмонта Прокофьев увлекся еще в юности, написав музыку для женского хора на тексты стихотворений «Белый лебедь» и «Волна». Наибольшую известность получил его фортепьянный цикл «Мимолетности» (1915–1917), состоящий из двадцати пьес. А любимым музыкальным произведением Прокофьева для самого Бальмонта надолго стала «Скифская сюита» (1915). В 1918 году на слова халдейского сказания «Семеро их», переведенного поэтом (и вошедшего в книгу «Зовы древности»), Прокофьев сочинил кантату, в которой своеобразно передал свое восприятие революции как трагического хаоса и вихря. «Кого бы я хотел видеть своим сыном, так это музыканта Прокофьева, — писал Бальмонт Екатерине Алексеевне 29 марта 1918 года. — Да он и любит меня как сын. Мы с ним тут пировали четыре дня художественно. Он <…> написал ряд произведений, главное из них симфония „Семеро их“ — халдейское сказание, слова мои. Это какой-то огненный вихрь, это вулканическое безумие. Кусевицкий сказал мне, что такой партитуры еще не было на Земном Шаре. <…> Прокофьев уезжает сегодня во Владивосток, оттуда в Японию и Америку». Дружба поэта и композитора продолжится и в эмиграции, вплоть до возвращения Сергея Прокофьева на родину в 1933 году.
Театром Бальмонт увлекался не только как зритель, он сотрудничал с Малым и Камерным театрами, Театром Корша, Студией Художественного театра, Новым театром в Петербурге. На сцене шли или готовились к постановке пьесы в его переводах: «Саломея» Уайльда, «Сакунтала» Калидасы, «Ваятель масок» Кроммелинка, «Волшебный маг» Кальдерона. Бальмонт консультировал постановки, произносил вступительные речи перед спектаклями и продолжал работать над переводами пьес, в том числе Шекспира, Лопе де Вега, Кальдерона, Стриндберга. Особый успех сопутствовал драме «Саломея» в постановке Камерного театра, премьера которой состоялась 22 октября 1917 года, главную героиню с ее «мятежной, бунтующей стихией страсти» играла А. Коонен.
Авторитет Бальмонта-переводчика был прочен. Но и как поэт он сохранял свое значение, несмотря на то, что немалая часть критиков, в их числе и Брюсов, считала, что он «исписался». Правда, на состоявшемся 27 февраля 1918 года вечере поэтов в Политехническом музее Бальмонту досталось лишь третье место («королем поэтов» был избран Игорь Северянин, вторым стал Владимир Маяковский). К вечеру Бальмонт приготовил стихотворения «Венец» и «Птицы», но на успех мало надеялся. «Мне в сущности нравится мысль такого турнира, если бы это было устроено благородно. Но благородство менее всего присутствует в текущих днях», — отмечал Бальмонт. И хотя «мода на Бальмонта» прошла, в поэзии появились новые кумиры, популярность его оставалась большой. Ему подражали пролетарские поэты (например, Михаил Герасимов), к нему тянулись молодые поэты. Некоторых Бальмонт стремился «вывести в люди» через издательство Всероссийского союза поэтов «Чихи-пихи»: в 1919 году под одной обложкой с Александром Кусиковым и Антонием Случановским он опубликовал 15 своих стихотворений в сборнике «Жемчужный коврик»; тогда же с его стихотворным предисловием был издан сборник Вячеслава Ковалевского «Некий час». О сохранившейся популярности Бальмонта свидетельствует и переиздание в 1917–1918 годах в издательстве В. В. Пашуканиса собрания его лирики: «Под северным небом», «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как Солнце», «Только Любовь» (издание прекратилось из-за ареста и расстрела издателя).
Бальмонт совершенно не принял новой, «идиотской», по его выражению, орфографии. По поводу проводившейся в стране реформы языка он писал в одной газете: «Как возможно ломать какой угодно язык, тем паче великий русский! Ведь язык — это же не случайное сцепление звуков в случайном порядке, язык вырабатывается исторически, вместе с характером и душой народа. Может ли один человек упростить или же изменить во имя каких угодно принципов результат долгих веков? И во имя чего вся эта ломка!»
Вместе с тем Бальмонт не прекращал творческой работы как поэт и прозаик. Он подготовил несколько стихотворных книг, продолжал работать над книгой очерков об Океании, но многое осталось неизданным, в том числе стихотворный сборник «Тропинкой огня». В 1920 году вышли из печати сборники поэта «Перстень» и «Семь поэм». Об одной из «поэм» — «Воздушный остров» — он заметил, что «всё это не имеет ни малейшей связи с Россией». Бальмонт уходил от всего, что напоминало современность. Примечательны такие признания, которые по-своему характеризуют содержание сборников «Перстень» и «Семь поэм»: «Мне хочется написать новую книгу стихов, совершенно не связанную с Россией и действительностью. Мои новые стихи могли быть написаны скорее на планете Венера, чем на планете Земля». И чуть раньше: «Я совсем <…> в своей законной области — чистой лирике».
Сборник «Перстень» (издательство «Творчество»), включивший 45 стихотворений, во многом варьирует излюбленные бальмонтовские мотивы: «солнечности», любовного «пения грез», самоценности каждого «мгновения» жизни, «всевыразительности» стиха как способа проникновения в «тайну» мироздания. Не нов и сам образ «черного перстня с красным камнем» (давший название книге), который наделялся магической силой и выполнял функцию оберега. Поэта и раньше привлекала символика драгоценных камней, «красный камень» (рубин) стал для него знаком Солнца еще в 1900-е годы. Уместно вспомнить и название одного из разделов сборника «Литургия красоты» — «Черная оправа». Более всего в «Перстне» перекличек с «Сонетами Солнца, Меда и Луны»: обе книги сближает идея равновеликости большого и малого, человеческого и природного перед «Единым предвечным Лицом»:
Пред творческой мечтой ширококрылой Равны — цветок лужайки, горный скат, Орел и тигр, и мотылек, и гад. …………………………………… Что бьется выразительней для слуха, Мое ли сердце, взятое стрелой, Или в прозрачной паутине муха?Кроме того, «Перстень» (содержащий немало сонетов) завершал венок сонетов с одноименным названием, а среди «лучших стихов», «где очень мало слов», выделялся цикл «Паутинки», в котором Бальмонт впервые использовал форму моностиха.
Однако, если в «Сонетах Солнца, Меда и Луны» преобладала возвышенная, жизнеутверждающая интонация, «Перстень» выдержан в элегическом ключе, по признанию поэта, здесь «смешал красоту я с тоской». Обращаясь к главному символу веры — Солнцу, лирический герой как никогда остро ощущает свое одиночество:
Вот я один. Клад утрачен мой ценный. И хоть целое солнце заключаю я в сердце, Разлюбив человека, я лишился Вселенной, Нет больше веры в единоверца. (Солнце)Печатью «усталости» отмечена интимная лирика («стократно я ранен любовью»), полнота любовного чувства представляется уже невозможной.
Но божески прекрасны мы лишь раз, Когда весною любим мы впервые, Мы на земле, но небом мы живые. Тот пламень вдруг блеснул и вдруг погас. Позднее — тьмы и света в нас смешенье. (Перстень)Теперь, умудренный опытом, он стремится передать «юному поэту», а также всем «детям мира» свое выстраданное знание того, «как возникает стих»:
Из черной глубины колодца Воды испьешь ты самой свежей, И самый звонкий возглас сердца Из самой тягостной тоски. Так возникает стих певучий… (Как возникает стих)Пожалуй, впервые появляется в поэтическом мире Бальмонта мысль о «творческом покое».
Ощущение призрачности жизни, существование на грани сна и яви — основной эмоциональный тон книги «Семь поэм» (издательство «Задруга»). Жанровые рамки большинства поэм по сути условны. Если «Встреча» и «Воздушный остров» — лирические поэмы, то «Оконце», «Зеркало», «Невеста», «Сказка» представляют собой циклы стихотворений, а «Змей» — венок сонетов. Сам Бальмонт, по-видимому, наиболее дорожил двумя поэмами, перепечатав их впоследствии в парижском журнале «Современные записки», — «Змей» (1920) и «Воздушный остров» (1921).
В поэме «Змей» слышится «эхо» прежних философско-эстетических раздумий Бальмонта, знакомых по сборникам «Будем как Солнце», «Злые чары» и другим книгам. «Змеиное» начало со всем комплексом его неоднозначной символики осмысляется теперь как основа развития природного и человеческого мира:
Змеится травка к Солнцу. И вздохнуть Не может лес не змейно в вешнем часе. Отлив змеи — в играющем атласе. Волна змеей спешит переплеснуть. Когда огонь любви чарует в теле, В живой и мудрой храмине твоей, Не Змей ли ворожит на том пределе…Мотив ухода в мир «грез» с особой силой звучит в поэме «Воздушный остров», оформленной как «Семь сновидений». Кальдероновское утверждение «жизнь есть сон», запавшее в сознание Бальмонта еще в юности, здесь достигает кульминационной точки. Творческий «сад» поэта оказывается «островом», на котором он «один в безбрежном мире», и высшая реальность для него — сон:
В синеве безграничной, на ковре-самолете, Выше царств и людей, Я лечу озаренный, весь в ночной позолоте. Я во сне. Я ли сон? Сон — и чей?Книгу «Семь поэм» завершал лирический цикл «Сказка», в котором поэт как бы возвращается в мир детства, чистоты и гармонии с природой («все мы цветы», «все благовонны мы в час бытия»).
Разумеется, и «Перстень», и «Семь поэм» не имели сколько-нибудь заметного критического резонанса, в них скорее всего увидели «перепевы» прошлого, несозвучность поэзии Бальмонта новой эпохе.
Иное впечатление произвела его небольшая книжка в 30 страниц «Песня рабочего молота», сданная в Госиздат за полгода до отъезда во Францию и увидевшая свет в 1922 году.
При встрече с наркомом просвещения Луначарским в ноябре 1919 года Бальмонт в состоянии отчаяния пожаловался, что его дочь просит есть, а накормить ее нечем. 26 ноября Луначарский пишет заведующему Госиздатом В. В. Воровскому: «Мне кажется, что Бальмонт, написавший ряд превосходных сочинений, заслужил, по крайней мере, того, чтобы иметь кусок хлеба для своего ребенка». По предложению наркома Бальмонту увеличили гонорар, авансировали ряд изданий, в том числе сборники «Революционная поэзия Европы и Америки» и книжку «Песня рабочего молота», отдельные стихи из которой Бальмонт прочел Луначарскому. «Как ни странно, — пишет нарком в цитировавшемся письме Воровскому, — в них есть нити глубокого раздумья над совершившимся, которые нельзя назвать враждебными по отношению к перевороту. А рядом есть очень много превосходных стихов, так сказать, нейтрального живописующего или глубоко лирического характера».
Луначарский верно подметил, что ничего враждебного по отношению к новому строю в «Песне рабочего молота» нет. Более того, по названию книга становилась в один ряд с пролеткультовской поэзией, воспевающей индустриальный труд. Горький даже находил, что в ней поэт «громко прославлял большевиков, коммунизм и выражал восторг по поводу победы рабочего класса». На самом деле ни пролеткультовщины, ни прославления большевиков в книжке не было. В ней собраны стихи, прославляющие труд рабочего и крестьянина (стихотворение «Слава крестьянину»), выражающие сочувствие им, что было традиционным для Бальмонта. В сборник включены в основном ранние тексты, начиная со стихотворения 1899 года «Кузнец». Некоторые стихи написаны еще в 1905 году или как отклик на Февральскую революцию. В стихотворениях, помеченных 1919–1920 годами («Поэт — рабочему», «Имени Герцена», «Песня рабочего молота»), Бальмонт сопоставляет труд поэта с трудом рабочего и находит в них много общего. Молот должен ковать, созидать, творить — вот смысл названия сборника «Песня рабочего молота».
Не без определенного смысла Бальмонт включил в сборник два стихотворения с одним и тем же названием: «Поэт — рабочему». В стихотворении 1905 года поэт обращается к революционному пролетарию: «Я с тобой. Бурю я твою — пою». В стихотворении 1919 года под тем же названием никакого воспевания революционной бури уже нет. Теперь поэта тревожат классовая рознь, разделение, вражда, посеянная революцией между соотечественниками (шла Гражданская война), и он обращается к рабочему с укором:
И час пришел, чтоб творчество начать, Чтоб счастье всем удвоить и утроить. Так для чего ж раздельности печать На том дворце, который хочешь строить?Бальмонт не приемлет гегемонизма носителей «пролетарской крови» над другими. Еще в начале 1920 года в речи, посвященной памяти Герцена, он говорил «на тему о том, что как неосновательно было когда-то рассуждать о „белой“ и „черной“ кости, так и теперь нельзя говорить особливо — „пролетарская кровь“, ибо всякая кровь — алая и ищет счастья, кровь ли кузнеца, стоящего с молотом у огня, или кровь поэта». Эти слова — своего рода реакция поэта на пролетарскую диктатуру — могут служить комментарием к «Песне рабочего молота».
В 1919–1920 годах Бальмонт подготовил к изданию еще одну книгу — «Дар земле», но увидела свет она уже в 1921 году в Париже, явившись своеобразным «пограничным» звеном между московской послереволюционной и эмигрантской лирикой поэта.
Получив разрешение на заграничную командировку, в мае и июне 1920 года Бальмонт готовился к отъезду, хлопотал о визе.
Четырнадцатого мая 1920 года литературная общественность организовала во Дворце искусств на Поварской юбилейное чествование поэта: вспомнили, что 30 лет назад в Ярославле вышла его первая поэтическая книга «Сборник стихотворений», а в декабре исполнится 35 лет со времени первой публикации стихов в журнале «Живописное обозрение». Юбилейное торжество живо обрисовано в записи Марины Цветаевой, выполненной в свойственной ей манере: в виде сжатых, отрывочных предложений переданы речи Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, японской поэтессы Инаме, многочисленные приветствия, собственные впечатления. Особый интерес представляет запись о Бальмонте: «Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви к слову Интернационал и о замене его словом „всенародный“… Я никогда не был поэтом рабочих, — не пришлось, — всегда уводили какие-то другие пути. Но, может быть, это еще будет, ибо поэт — больше всего: завтрашний день. О несправедливости накрытого стола жизни для одних и объедков для других. Просто, человечески. Обеими руками подписываюсь».
Юбилей по сути превратился в прощание Москвы с поэтом. 21 июня он написал большое прощальное письмо Екатерине Алексеевне, обратив к ней такие слова: «заря, озарившая меня на всю жизнь». В письме сообщал: «Завтра вечером наш поезд уходит в Ревель» (ныне Таллин). Однако из-за потребовавшейся эстонской визы отъезд задержался. Выехали из Москвы 25 июня. На вокзале Бальмонта и его домочадцев — Елену Цветковскую, Мирру и Нюшу — провожали Юргис Балтрушайтис, Марина Цветаева, Борис Зайцев и несколько других близких людей. 26 июня со станции Чудово поэт отправил жене последнюю весточку с родной земли. Он сообщал, что, выполнив работу для Госиздата, вернется в Москву и будет хлопотать о новой командировке и о визе для нее. Письмо заканчивалось словами: «Я вернусь».
Глава девятая «СВЕТИШЬ МНЕ, РОССИЯ, ТОЛЬКО ТЫ…»
Имея эстонскую визу, Бальмонт через Петроград благополучно прибыл в Ревель, чтобы оттуда следовать дальше, но неожиданно задержался там на целый месяц. Он быстро получил ответ из Франции, готовой его принять, а вот немецкий консул в Эстонии отказал ему в транзитной визе на въезд в Германию. Он то приводил какие-то бюрократические доводы, то попросту, как показалось Бальмонту, «водил за нос». И только вмешательство вице-президента германского рейхстага, находившегося в Ревеле, — с ним поэт познакомился случайно — помогло преодолеть бюрократические проволочки консула. Но произошло это после того, как пароход с оплаченной каютой на четырех человек отплыл в немецкий порт Штеттин. Пропали немалые деньги, и предстояло месячное ожидание очередного рейса.
В очерке «Завтра», вошедшем в пражскую книгу «Где мой дом» (1924), Бальмонт подробно описывает свои впечатления от первого знакомства с послевоенной Европой. Буржуазная Эстония, отошедшая от России, стала хоть маленькой, но частью Европы. Поэт глотнул воздуха свободы, впервые за последние месяцы он и его близкие вкусили настоящей пищи и ощутили состояние сытости. Однако Бальмонт почувствовал и другое: Европа стала — увы! — не такой «благочестной», какой он ее знал раньше. Мировая война и последующие два года резко изменили общеевропейскую атмосферу: появилось слишком много «розни» во всем и в отношениях людей друг к другу.
Пребывание в Ревеле запомнилось встречами с Игорем Северянином, который приезжал туда из своей дачной Тойлы. В память об этом Северянин написал «Сонет Бальмонту» с подзаголовком «9–11 июля в Ревеле». Позднее Северянин встречался с Бальмонтом в Париже, и Бальмонт тоже посвятил ему стихотворение, датированное 17 февраля 1927 года (с эпиграфом из Северянина: «…Мне взгрустнулось о всех, кому вовремя я не ответил…»):
Тебе, созвонный, родственный, напевный, Пою мой стих. На землю пал туман. Ты был — я был — всегда — везде — с Царевной. Но в выстрелы врывался барабан. ……………………………………… Наш час свиданья — помнишь? — был желанен. Там, в Ревеле. Мы оба — из огня. Люблю тебя, мой Игорь Северянин. Ты говоришь свое — и за меня! (Игорю Северянину)Бальмонт выехал в Штеттин 31 июля и вскоре через Берлин прибыл в Париж. В эмигрантском дневнике Ивана Бунина за 15 августа 1920 года есть короткая запись: «Приехал Бальмонт». Поселился Бальмонт в том же доме, где жили Бунин и Алексей Толстой, — на улице Рейнуар. 22 августа состоялась встреча русских эмигрантов в квартире Бунина, где присутствовали А. Куприн, А. Толстой, бывший секретарь «Аполлона» Е. Зноско-Боровский. Об этом есть запись в дневнике Веры Николаевны Муромцевой-Буниной: «Бальмонт бледен, одутловат. Он очень деликатно передал мне о смерти Севы (брата Веры Николаевны. — П. К., Н. М.)». О чем могли говорить писатели во время встречи? Бальмонт с горечью рассказывал о покинутой России, Бунин, Куприн и другие, уже давно расставшиеся с родиной, — о нелегкой жизни в эмиграции. К ней надо было привыкать и Бальмонту, приспосабливаясь к новым условиям и обстоятельствам.
Бальмонт очень скоро почувствовал разницу между своей эмиграцией в 1906–1913 годах и теперешней. Тогда он был популярен, желанен в газетах, журналах, издательствах, много печатался и издавался, на руках был крепкий конвертируемый российский рубль, и поэт мог жить в достатке, даже совершил длительное, дорогостоящее путешествие почти вокруг света. Царская Россия, в которой не было свободы слова, охотно печатала поэта-эмигранта. Теперь между ним и родной страной возникла непроходимая стена. В 1921 году в издательстве М. и С. Сабашниковых еще вышел составленный поэтом изборник «Солнечная пряжа», в 1922 году в издательстве «Задруга» — «Поэзия как волшебство», а в Госиздате — книга переводов из Уитмена и «Песня рабочего молота». Затем имя Бальмонта стало сопровождаться определением «белоэмигрант» со всеми вытекающими из этого последствиями. Более всего он страдал из-за того, что потерял русского читателя.
Был ли Бальмонт «белоэмигрантом»? Он никак не был связан с «белыми» в годы Гражданской войны. В эмиграции он не примыкал ни к каким политическим группировкам и партиям. «Мне с партийными группами делать нечего, каковы бы они не были», — говорил поэт. Он не был политиком, он оставался свободным художником и свою человеческую и общественную позицию выражал прямо. Как многие русские люди, оказавшиеся после революции за рубежом (а их было от двух до трех миллионов по общим подсчетам), Бальмонт скорее чувствовал себя изгнанником, нежели эмигрантом.
Источников существования, кроме литературного труда, у Бальмонта не было. С первых дней во Франции приходилось думать о том, чтобы что-то напечатать или издать. Он стал публиковаться в парижских эмигрантских газетах, особенно часто в популярных «Последних новостях», издававшихся историком, политиком, кратковременным министром иностранных дел Временного правительства Павлом Николаевичем Милюковым. В журнале «Современные записки» поэт печатался с первого номера (ноябрь 1920 года) — там появился очерк «Мысли о творчестве», по его протекции опубликовали стихи Марины Цветаевой, привезенные им, а в седьмом номере вышла его статья о Цветаевой, в которой ей дана такая характеристика: «Наряду с Анной Ахматовой Марина Цветаева занимает в данное время первенствующее место среди русских поэтесс. Ее своеобразный стих, полная внутренняя свобода, лирическая сила, неподдельная искренность и настоящая женственность настроений — качества, никогда ей не изменяющие». В 1921 году в издательстве «Русская земля» Бальмонту удалось выпустить поэтическую книгу «Дар земле», а в издательстве Я. Поволоцкого — сборник избранных стихов «Светлый час» (серия «Миниатюрная библиотека»). Гонорар за эти книги и оставшиеся командировочные деньги на первых порах обеспечивали существование.
Стихи, составившие сборник «Дар земле», были написаны в основном в Москве — в него вошли стихотворения из «Перстня», неизданной книги «Тропинки огня» и некоторые тексты из «Семи поэм». Эта книга должна была выйти в московском издательстве в конце января 1920 года (о чем Бальмонт сообщал Е. А. Андреевой в письме от 27 декабря 1919 года), но вышла уже в Париже. В контексте бальмонтовской эмигрантской лирики «Дар земле» рассматривать нельзя, однако уже заявлена тема, которая отныне станет для поэта главной, — Россия. В программном втором стихотворении книги как заклинание повторяются слова:
Так не меняй предназначенья, — Будь верен Родине своей.В «Даре земле» начинается и метафизическое осмысление пролитой крови в революционных мятежах:
Бойтесь, убившие! Честь убиенным! Смена в станке есть бессменном. Кровь возвратится. Луна возродится. Мстителю месть отомстится. (Тайна праха)Заметно усиливается в сборнике автобиографическое начало лирики Бальмонта. В венке сонетов «Имена» поэт создает символизированные «портреты» любимых женщин:
Алее ягод барбариса, Сгустилась раной греза вновь, Когда весенняя Лариса Вонзила в сердце мне любовь. Красней, чем горькая калина, И слаще меда, и светла, Вся в брызгах молний, Катерина Судьбою в сердце мне вошла. Вещуньей сказок, снов и плена, Свивая душу в пелену, Возникла лунная Елена, И до сих пор веду войну…Одно из последних стихотворений сборника, очевидно, написанное уже в Париже, «Примиренье», целиком приводит в своих эмигрантских воспоминаниях «На берегах Сены» Ирина Одоевцева как стихи о России, которые особенно «трогали и волновали»:
От тебя труднейшую обиду Принял я, родимая страна, И о том пропел я панихиду, Чем всегда в душе была весна. Слово этой пытки повторю ли? Боль была. Я боль в себе храню. Но в набатном бешенстве и гуле Всё, не дрогнув, отдал я огню. Слава жизни. Есть прорывы злого. Долгие страницы слепоты. Но нельзя отречься от родного, Светишь мне, Россия, только ты.Последняя строка может служить эпиграфом ко всей эмигрантской лирике поэта.
Бальмонт старался изыскать и другие возможности заработка, хлопотал о переиздании своих книг в русских издательствах Берлина, который в начале 1920-х годов был литературным центром русской эмиграции. Там в издании Сергея Эфрона, мужа Марины Цветаевой, вышли «Сонеты Солнца, Меда и Луны» (1921), в издательстве «Слово» — переводы поэта «Из мировой поэзии» (1921); через год это же издательство выпустило «Зовы древности». В Берлине в эти годы выходило много русских журналов, газет, и свои произведения, главным образом стихи, Бальмонт публиковал в журналах «Сполохи», «Жар-птица», альманахе «Грани», газетах «Дни» (издатель А. Ф. Керенский), «Руль», «Голос России» и др. Однако гонорары везде были мизерные.
В декабре 1920 года Бальмонт обратился к профессору Евгению Александровичу Ляцкому. Его, литературоведа, фольклориста, этнографа, не чуждавшегося журналистики, поэт знал еще с начала 1900-х годов. В 1917-м Ляцкий находился в Финляндии, откуда переехал в Швецию и основал в Стокгольме издательство «Северные огни», выпускавшее русскую классику. 15 декабря 1920 года Бальмонт писал ему: «Вы красиво издаете книги, и если „Северным огням“ интересно, я был бы рад увидеть в Вашем издании несколько своих книг. Я послал Вам сегодня для начала книгу избранных своих стихов „Гамаюн“, где я собрал из своих томов те стихи, которые близки славянскому сознанию».
Сборник «Гамаюн» вышел в «Северных огнях» в 1921 году и положил начало близкому общению поэта с издателем на протяжении всех 1920-х годов. Переехав в Прагу по приглашению президента Чехии Масарика в 1922 году, Ляцкий стал профессором Карлова университета и одним из организаторов Русского свободного университета. Кроме того, он организовал в Праге издательство «Пламя», возглавил газету «Огни» и привлек Бальмонта к сотрудничеству.
В первое время эмиграции Бальмонт не терял надежды вернуться в Россию. О своей жизни в Париже он так писал Екатерине Алексеевне 26 декабря 1920 года: «Внешне жизнь идет ровно и на вид хорошо. От лекций, книг, газетных статей и стихов в газетах притекают монеты, но их едва хватает на текущие расходы. Полгода вертелся и вывернулся. Хочу думать, что не провалюсь и в следующие полгода. Но все это скучно и утомительно. Конечно, мы едим лучше вас и живем в теплых, освещенных комнатах и читаем пошлейшие, будто бы свободные парижские газеты <…> но это все отдельные подробности… <…> Я знал, уезжая, что еду на душевную пытку. Так оно и продлится… <…> Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного… <…> Духа нет в Европе. Он только в мученической России».
Кончился срок командировки (полугодовой), и иногда у Бальмонта возникало желание вернуться в Россию, приняв там любые лишения. В посылаемых жене стихотворениях Россия грезится ему «снежной сказкой» («В звездной сказке»), для него она — «Избранница», «единственная страсть» («Завет глубины»), «Жар-птица», в которой жив его дух («Она»), «бессмертная Родная земля» («Колыбельная»).
В переписке они многое узнавали друг о друге. Екатерина Алексеевна сообщала ему о стесненных условиях жизни, в которых оказалась, вернувшись в Москву (маленькая комнатка за кухней), о тяжелом положении с продовольствием, трудности получить работу, преследовании инакомыслящих, гонении на Церковь, страхе быть арестованными за переписку с заграницей. Она просит Бальмонта «не ругать родину», так как это может сказаться на судьбе родных в России. Письма Екатерины Алексеевны не сохранились, но их содержание Бальмонт часто пересказывал в письмах Дагмар Шаховской, с которой находился в это время в интимных, доверительных отношениях.
Благодаря сохранившимся письмам Бальмонта и «Воспоминаниям» Е. А. Андреевой-Бальмонт известны многие стороны жизни Бальмонта в эмиграции. Он продолжал по-своему любить свою Беатриче и старался ей чем-то помочь из своих скудных средств: послал доверенность на получение гонораров за издания в России, пересылал книги на иностранных языках для переводов и так называемую «Ару»[24], а потом «нансеновские посылки», пока эта форма помощи существовала.
Однако и жизнь поэта всецело зависела от случайных гонораров или меценатских подачек. Нередко он сам с семьей оказывался на грани голода, о чем говорят его красноречивые признания в письмах Дагмар Шаховской: «У Нюши оказалось 5 сант<имов>. Она купила булку. И это был мой обед. Как в Москве» (2 февраля 1923 года); «Мы завтракали с Нюшенькой вдвоем одной тарелкой манной каши и одним апельсином» (14 апреля 1923 года). Но Бальмонт всегда верил в «чудо» и редко впадал в отчаяние. Долгое время его утешением была надежда вернуться в Россию. «В Москву мне хочется всегда, — пишет он Екатерине Алексеевне 12 марта 1923 года, — <…> думаю о тебе, о Нинике, о великой радости слышать везде русский язык, о том, что я русский, а все-таки не гражданин Вселенной».
О том, что Бальмонт вернется, появлялись иногда сообщения и в советской печати. Однако своими публичными высказываниями в апреле — мае 1921 года Бальмонт по существу отрезал себе путь в Россию.
Так, 23 апреля 1921 года Бальмонт прочел в Париже лекцию на французском языке «Три года при большевиках (лично пережитое)». Содержание ее, изложенное в газетных репортажах, представляло собой прямое обвинение советской власти в бедах, которые постигли Россию и ее граждан. 22 мая 1921 года в газете «Воля России» (Прага) вышла статья Бальмонта «Кровавые лгуны», в которой поэт отвергал появившиеся в большевистской печати обвинения его в том, что он изменил России. В статье он рассказал о жизни в Москве и о своем отъезде за границу. Вернуться на родину, утверждал он, можно лишь тогда, когда у власти не будет большевиков, которые «обратили все русское население в рабство и восстановили крепостное право», и с их режимом ему не по пути: «Коммунизм я ненавижу, коммунистов считаю врагами всего человеческого, всего честного, всего достойного». Эта статья Бальмонта получила известность, в извлечениях была перепечатана рядом газет, а в рижской газете «Сегодня» (1921. 31 мая) под заголовком «Ответ Бальмонта большевикам» ее воспроизвели полностью.
Эти антибольшевистские выпады дополнило его стихотворение-сонет «Открытое письмо Максиму Горькому», напечатанное в 1922 году в «Последних новостях». Незадолго до отъезда за границу Бальмонт встречался с Горьким, выразил ему благодарность за позицию в газете «Новая жизнь» и за то, что он своим заступничеством перед властями спасает жизни людей. Но в 1922 году в Берлине Горький выпустил брошюру «О русском крестьянстве», в которой выразилось его традиционно негативное отношение к крестьянству. Корни всех бед и эксцессов в революции Горький видел в национальных чертах русского народа, в преобладании темного, дикого, пассивного начала, идущего с Востока. Брошюру «О русском крестьянстве» Бальмонт расценил как переход Горького на сторону большевиков, измену тому, что он привнес в литературу на рубеже XIX–XX веков. Горький в его глазах стал «приспешником» «палачей» и тех, кто «растоптал свободу». Это обвинение звучит уже в первой строфе:
Ты бросил камень в лик Родимого народа. Предательски твоя преступная рука Слагает свой же грех на плечи мужика. Твои приспешники подрыли камни свода.Сонет, проникнутый чувством гнева, слишком публицистически прямолинеен, но он характерен для настроений Бальмонта начала 1920-х годов.
Жизнь в Париже из-за бешеной инфляции дорожала с каждым днем. К тому же Бальмонту казалось, что там много шума, сутолоки, а русские эмигранты, писатели, журналисты, с которыми он общался, заняты исключительно собой и мелкими интересами, не было главного — «соучастия душ». Не обольщала его и буржуазная свобода. Вырвавшись из «коммунистической блокады мысли» в России, поэт находил, что в Европе он попал в «буржуазную блокаду художественного творчества». Писатель был зависим от подачек меценатов, от воли редакторов и издателей, от политической конъюнктуры и т. п.
Пережитое и передуманное в революционной России и в первый год эмиграции требовало от поэта отозваться на все это, творчески сосредоточиться. Как всегда в таких случаях, Бальмонт искал уединения. Он поселился на берегу Атлантического океана в деревушке Сен-Бревен-Сосны, близ Сен-Назара, что в провинции Вандея. «Мы все у Океана, — сообщал поэт в письме от 17 февраля 1922 года. — И хотя я тем самым, что не в Париже, теряю многие возможности, но я здесь другой человек. Не могу достаточно насытиться красотой Океана, сосен, полей и виноградников, благородной тишиной и безлюдьем, своей творческой пряжей».
Уехал Бальмонт из Парижа в Бретань в середине июля 1921 года и вернулся оттуда 17 октября 1922 года. В Сен-Бревене он написал книгу стихов «Марево» и роман «Под новым серпом».
По литературным делам поэт не раз выезжал в Париж. Одна из первых поездок связана с празднованием столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского. Д. С. Мережковский, занимавшийся организацией юбилея, пригласил Бальмонта выступить с речью. Отвечая ему, Бальмонт писал: «Конечно, я с наслаждением приеду в Париж на праздник Достоевского, которого считаю провидцем и не только величайшим писателем, но и величайшим человеком, звездной вехой не только целого народа, но и целой эпохи». Он принял участие в вечере памяти Достоевского 24 декабря 1921 года. Кроме Бальмонта речи произнесли Мережковский и французский писатель Андре Жид.
Речь Бальмонта под названием «О Достоевском» вошла в его книгу «Где мой дом». С Достоевским, по его мнению, люди приобщились «к небесной правде»: «Одно явление на свете Достоевского означает, что все прежние пути художественного приближения к правде душ опрокинуты и указана совершенно новая дорога».
Тринадцатого января 1922 года в Париже состоялся творческий вечер самого Бальмонта, на котором он выступил с лекцией и новыми стихами. А 17 апреля поэт прочел лекцию «Мысли гениев о любви». Объявление о ней сопровождалось таким пояснением: «Лекция проводит параллель между поэтически-философским мировоззрением Данте, Петрарки, Микельанджело, испанских мистиков и Шота Руставели, родственного духовно провансальским трубадурам, параллели между поэмой Руставели „Носящий барсову шкуру“ и бретонской поэмой „Тристан и Изольда“». После лекции поэт, как всегда, читал новые стихи.
Известно, что в Сен-Бревене у Бальмонта не раз гостил Сергей Прокофьев, живший по соседству, но в основном поэт жил уединенно, что отразилось в стихотворении «Забытый»:
Отъединен пространствами чужими Ото всего, что дорого мечте, Я провожу все дни, как в сером дыме, Один. Один. В бесчасье. На черте. ……………………………… Мой траур не на месяцы означен. Он будет длиться много страшных лет. Последний пламень будет мной растрачен, И вовсе буду пеплом я одет.Это стихотворение с мрачными, близкими к трагизму переживаниями, является своеобразным камертоном содержания его поэтического сборника «Марево», который вышел в конце 1922 года. В него вошли стихи, написанные в 1917 году, их основная тема — разрушение старой России, революция, а также стихотворения 1920 года, когда поэт видел родную страну в новых оковах, и 1921 года, когда он испытал среди «чужих» весь драматизм изгойного существования.
Широко известная мысль М. Цветаевой — «Ни одного крупного поэта современности, у которого после революции не дрогнул и не вырос голос, — нет» — в определенной степени относится и к эмигрантской лирике Бальмонта.
Название «Марево» вызывает близкие ассоциации с блоковскими строками «Что же маячишь ты, сонное марево? / Вольным играешься духом моим?» из стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..», дальние — со славянским мифологическим словом «мара». «Мара — туман, тьма и мара — призрак», — читаем у А. Н. Афанасьева (в современном значении — наваждение, привидение). Лейтмотив бальмонтовской книги — «в мареве родимая земля» (стихотворение «Из ночи»). Этот же мотив звучал и в «Песнях смутного времени» Вяч. Иванова, судя по всему, знакомых Бальмонту.
«Марево», пожалуй, впервые заставило говорить о Бальмонте как поэте трагическом. Суровый в оценке личности и поэзии Бальмонта Иван Бунин, в «Литературных заметках» 1922 года с удивлением обнаруживший созвучность бальмонтовской книги своим «Окаянным дням», писал: «„Марево“ Бальмонта (много истинно чудесных вещей)».
Правда, Бальмонт хорошо понимал, что «гнев совсем не мой удел, / Сладкопевец я, создатель дум, не воин», однако и у него после Октября «дрогнул» и «вырос» голос:
Петь, как раньше пел, сейчас нельзя, нет сил… (Упрекающему меня)Бальмонт, в 1905 году призывавший «бурю»-революцию и имевший основания считать себя «старым революционером», после 1917 года приходит к ясному выводу: «Никакая революция не дает ничего, кроме того, что было бы в свой час достигнуто и без нее. А проклятия, которые всегда приводит с собой и за собой каждая революция, неисчислимы» («Где мой дом»). Революция трагически осознается в «Мареве» как разгул сатанинских сил. «Злой сказкой» обернулись для него все мечты о свободе, в его душе неотступно, подобно маятнику часов, бьется страшная мысль:
Окликни всю Русь. Кличь всю ночь напролет, И на помощь никто не придет. Там над ямою волчьей ощерился волк, Человек в человеке умолк. (Маятник)Отсюда — явственный стилевой «сдвиг» в сторону обнаженной публицистичности, особенно ощутимый в первом разделе «Марева», написанном в Москве в 1917 году.
В том же 1922 году, когда в Париже появилось «Марево», в Москве, как уже говорилось, вышел сборник Бальмонта «Песня рабочего молота» с жизнеутверждающими мотивами раннего стихотворения «Кузнец». Пафос «Марева» откровенно противоположен ему:
Исполинский наш молот расколот, Приближается бешенство вьюг. (К безумной)Мотив «безумия» («святого безумия») родной страны по-разному осмыслялся в послеоктябрьской лирике З. Гиппиус, М. Волошина. В стихотворении «К безумной» Бальмонта сливаются воедино темы всеобщей «вины», «греха» и «мести»:
Мы отвергли своих побратимов, Опрокинули совесть и честь. Ядовитыми хлопьями дымов Подойдет достоверная месть.В свое время молодой поэт громко заявлял о своем антиурбанизме: «Я ненавижу гул гигантских городов» («Под северным небом»). В «Горящих зданиях» неприятие городской цивилизации принимало космический характер. В «Мареве» город предстает как «чужой» («В чужом городе»), как «призрак жизни и страстей» («Остывший город») — в противоположность родному:
Мне не поют заветные слова, — И мне в Париже ничего не надо, Одно лишь слово нужно мне: «Москва». (Только)«В Париже дымном» он обречен смотреть «на мир в окно чужое», и ему сопутствует в этом новый в его поэтическом мире иронически окрашенный персонаж — «попугай»:
В соседнем доме такой же узник, Как я, утративший родимый край, Крылатый в клетке, Весь изумрудный Попугай. (Узник)«Солнечное» сердце поэта сожжено тоской, остался только лик «ущербной луны», и сердце поэта готово к встрече с Белой Невестой — смертью:
Мне нигде нет в мире больше места, В каждом миге новый звон оков. Приходи же, Белая Невеста, У которой много женихов. (Меж четырех ветров)Позднее образ Белой Невесты появится в автобиографическом рассказе Бальмонта «Белая Невеста» (книга «Воздушный путь»).
Во «сне» поэту является гоголевская птица-тройка (стихотворение «Сон»), и он не может ответить на извечный русский вопрос «Что делать?»:
У меня в моих протянутых руках Лишь крутящийся дорожный серый прах. И не Солнцем зажигаются зрачки, А одним недоумением тоски. Я ни вправо, я ни влево не пойду. Я лишь веха для блуждающих в бреду. (Злая сказка)Бессильный заклясть злобу, голод, людскую слепоту поэт обращается к пророчествам Библии (стихотворения «Забытая притча», «Неизбежное», «Возмездие», «Актеры Сатаны»). Ему кажется, что бесовские силы, воцарившиеся в родном краю, — страшное испытание, предсказанное Книгой Бытия:
Это праздник Сатаны, Коготь зверского ума. Для растерзанной страны Голод, казни и чума… Апокалипсис раскрыл Ту страницу, где в огне Саранча со звоном крыл, Бледный всадник на коне. (Актеры Сатаны)Сквозные символы бальмонтовской лирики — Земля и Бездна — в завершающих стихах «Марева» приобретают апокалиптический смысл:
Земля сошла с ума. Она упилась кровью, Пролитой бочками. ……………………………… Дух благостный засох. Сгорели все растенья. И если есть еще движенье жестких губ, Молись, чтоб колос встал из бездны запустенья. (Сумасшествие)Первая эмигрантская книга Бальмонта «Марево» лишена была оптимистического заряда, но он с новой силой заявит о себе в его следующих сборниках.
В Бретани поэт пережил творческий подъем. Это сказалось в написанном там автобиографическом романе «Под новым серпом». По тональности роман — прямая противоположность книге «Марево». Воспроизводя в романе картины усадебной жизни 60–70-х годов XIX века, Бальмонт погружается в воспоминания своего детства и будто зовет читателя оглянуться на старую Россию, где было так много красоты и доброты. «Это — видение далекого прошлого, усадьба времен уничтожения крепостного права, — писал Бальмонт Екатерине Алексеевне. — Дальнейшие главы — мое детство. Во второй и третьей частях я хочу нарисовать провинциальное захолустье и Москву последних двадцати лет 19-го столетия, и предчувствия революции. <…> Мне доставляет большую радость отдаваться художественному ясновидению, и многое в самом себе мне становится впервые понятно, после того, как я вызвал в своей душе юные лики моей матери, моего отца, и картину всей их обстановки».
«Роман-автобиография» — так определял сам автор жанр произведения «Под новым серпом». В нем легко угадываются прототипы персонажей (о чем уже говорилось в первой главе). Природа, быт, характерные типы эпохи выписаны с убедительной достоверностью. Но любовный треугольник в романе наивно традиционен, сюжет растворен в подробных описаниях, в произведении господствуют «поток сознания», лирико-импрессионистическая стихия. Это верно подметил в рецензии А. Бахрах (Дни. 1923. 9 сентября), который писал, что «Под новым серпом» — «большая без малого лирическая поэма, вся насквозь пропитанная вольным, а должно быть еще чаще и невольным поэтизированием автора-поэта». Однако с рецензентом трудно согласиться в том, что Бальмонту чужда проза. Нет, это проза, но написанная в стилистике поэта-лирика.
Проза заняла в эмигрантский период творчества Бальмонта не менее заметное место, чем поэзия. Он пишет рассказы, очерки, эссе, мемуары, критические статьи, литературные портреты, рецензии, создает своеобразный жанр интервью у самого себя и т. д. Роман «Под новым серпом», выпущенный берлинским издательством «Слово» в середине 1923 года, стал одним из первых автобиографических жизнеописаний в послереволюционной эмигрантской русской литературе. Этот жанр вскоре приобрел необычную популярность, так как память прошлого оставалась для эмигрантов единственной связью с Россией. Однако в контекст более или менее изученных «мемуарных рефлексий» Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Михаила Осоргина, Алексея Ремизова роман Бальмонта пока не включен.
В Бретани Бальмонт подготовил и сборник рассказов «Воздушный путь». Он вышел в берлинском издательстве «Огоньки» в том же 1923 году. В сборник включено большинство произведений, написанных до революции: «Воздушный путь», «Ревность», «Крик в ночи», «Ливерпуль», «Васенька», «На волчьей шкуре», «Солнечное дитя». Все они, кроме рассказа «На волчьей шкуре», были напечатаны. По-видимому, тогда же была написана «летопись» «Простота» (публикация неизвестна). К ним Бальмонт присоединил еще четыре рассказа, два из которых были опубликованы в эмигрантских изданиях: «Лунная гостья» (Сполохи. 1922. № 4) и «Белая Невеста» (Современные записки. 1922. № 7). Места публикации рассказов «Дети» и «Почему идет снег» нам, к сожалению, незнакомы. Бальмонт этой книгой впервые заявил о себе как рассказчик, она стала фактом эмигрантской литературы.
В рассказах отчетливо проявились две особенности: тяготение автора к символистско-декадентской тематике (предопределение рока, смерть, власть инстинкта, виде́ния) и таинственному миру детской души. Всё это, так или иначе, проецируется на моменты из жизни автора. Автобиографизм рассказов присущ именно лирическому поэту. Это хорошо подметил в рецензии эмигрантский критик С. Яблоновский (Руль. 1923. 13 мая). Он писал, что название «Воздушный путь» наиболее точно выражает жизнь, дух и творчество Бальмонта. Его проза — это «не беллетристика, не фабула», читая книгу, «вы узнаете глубокую нежную тайну», о которой поэт рассказывает простодушно, как ребенок. «Спокойно и ясно рассказывает Бальмонт свою душу, открывает себя, окружающих. Здесь он прост, любит людей, детей, животных, цветы, насекомых и „в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду“». Это — «автобиография крупного, своеобразного художника, индивидуальнейшего из индивидуалистов», — делает заключение Яблоновский.
После чтения корректуры рассказов Бальмонт писал Екатерине Алексеевне 21 ноября 1921 года: «Я читаю корректуры, и мне странно видеть себя в лике рассказчика. Это совсем не мой лик как поэта и не мой лик как рассказывающего свою душу в романе. Это какой-то третий лик, немного мне чужой и для меня любопытный. Это — тот второй „я“, который был во мне и пугал меня в моей юности, когда я так часто испытывал мучительное душевное раздвоение. Один „я“ что-то делает, другой „я“ все время за ним следит, смотрит, видит, и с первым совсем не сливается. Это — чудовищная пытка. Я уже много более ее не знал. Я целен…»
Над прозой Бальмонт работал с увлечением. С нею он связывал далекоидущие планы, надеялся перевести на другие языки, издать роман по-французски, но из этого ничего не получилось. Бальмонт хотел узнать мнение о романе, которым особенно дорожил, 1, 2, 4, 6 февраля 1923 года читал роман в Русском народном университете. Еще раньше, 27 марта 1922 года, отрывки из романа Бальмонт читал на вечере у Цетлиных. Михаил Осипович Цетлин (поэт Амари) и его жена Мария Самойловна, весьма состоятельные люди, нередко устраивали домашние литературные вечера с угощениями. На этот раз среди присутствующих был Бунин. Судя по дневниковой записи жены писателя Веры Николаевны, Бунин к прочитанному Бальмонтом отнесся прохладно: «Бальмонт спросил Яна о его мнении. Ян похвалил что можно было, а затем сказал: „А то, что не понравилось, вам, конечно, не интересно?“ — Да, отвечал Бальмонт, вы правы, это совершенно не интересно». Несмотря на взаимную ироничность диалога, мнение Бунина о первом и единственном романе поэта было для него важно. Из недавно опубликованных Р. Дэвисом и Ж. Шероном писем К. Д. Бальмонта И. А. Бунину 1920–1930-х годов стало известно, что Бальмонт неоднократно извещал Ивана Алексеевича о том, как продвигается работа над романом, советовался относительно некоторых деталей.
К возвращению из Сен-Бревена в Париж Бальмонтом была снята новая квартира на улице Беллани недалеко от Латинского квартала. Квартира «во 2-м этаже, четыре комнаты, чистые и даже нарядные, солнечные, ванна, электричество, 600 франков в месяц. При падении франка в 5 раз против прежних его это так недорого», — сообщал он Екатерине Алексеевне в письме от 26 октября 1921 года.
В Париже Бальмонт с головой ушел в литературно-художественную жизнь. Его избрали в правление Союза русских писателей и журналистов, он завел широкие знакомства среди французских писателей, его стихи и статьи для французских газет и журналов переводила Люси Савицкая. В них ему печататься было интереснее, так как русскую прессу он находит пресной. Особой удачей он считал выход на французском языке книги «Visions solairs» («Солнечные видения»). Она появилась в серии произведений русских писателей, выпущенных известным издателем Боссаром: «Господин из Сан-Франциско» и «Деревня» И. Бунина, «Поединок» и «Гранатовый браслет» А. Куприна, «Четырнадцатое декабря» Д. Мережковского, «Чураевы» Г. Гребенщикова и др. Издание русских книг было вызвано усилившимся интересом к русской литературе в связи с появлением во Франции писателей-эмигрантов.
«Солнечные видения» — это сборник очерков о путешествиях Бальмонта в Мексику, Египет, Индию, Японию и Океанию, совершенных в 1905–1916 годах. Ранее очерки печатались в газетах и журналах, отдельные книги были изданы. Бальмонт доработал их для французского издания. Большую помощь ему оказала Люси Савицкая, к этому времени хорошо известная в Париже поэтесса и переводчица. К книге «Солнечные видения» Савицкая написала предисловие, где представила французскому читателю Бальмонта как блестящего поэта-лирика и переводчика произведений мировой литературы на русский язык. Кроме того, она тонко отметила особенности его путевого очеркового жанра: «…во всем, что он пишет, будь то стихи или проза, Бальмонт остается мечтателем, поэтом, в экстазе взирающим на мир».
Книга «Солнечные видения» вышла в конце 1922 года (на титуле — 1923 год). Уже 5 декабря поэт сообщает в письме Дагмар Шаховской: «После завтрака я несколько часов провел в издательстве Боссара… <…> подписывая экземпляры». И далее упоминает имена французских писателей Анатоля Франса, Мориса Барреса, Жана Жироду, Франсуа Мориака, Анри де Ренье, отметив, что надписал 50 книг. Среди тех, кто получил его автограф, были и некоторые другие писатели: он продолжал дружить с Рене Гилем, встречался с Андре Жидом, переписывался с Роменом Ролланом (в письме Д. Шаховской от 15 марта 1923 года поэт замечает: «Прилагаю письмо Ромена Роллана. Мне нравится, как он ко мне относится»). Появились новые знакомства, перешедшие в близкое общение, — это Поль Моран и Эдмон Жалю, о чьем творчестве он пишет в газетах, очерк о Моране включает в книгу «Где мой дом».
Книга «Солнечные видения», получившая хорошие отзывы во французской прессе, содействовала известности Бальмонта во Франции. А дочери Нине он писал 24 июня 1923 года: «…моя книга включена в боссаровский каталог основных книг по Востоку, рядом с индийскими легендами и учеными переводами „Апокалипсиса“».
Бальмонта во Франции многие весьма ценили как писателя и широко эрудированного знатока в области культуры. Его не однажды приглашали читать лекции в Сорбонну, что, кстати, пополняло его доходы. В декабре 1922 года он читал для французских студентов лекцию «Образ женщины в поэзии и жизни» (вступительное слово о поэте сказал профессор Э. Оман). В январе 1923 года там же прошла его лекция «Любовь и Смерть в мировой поэзии», в марте 1924 года — «Русский язык (Воля как основа творчества)». Приглашениями в Сорбонну поэт был обязан профессору Николаю Карловичу Кульману, декану русского факультета, которого в одном из писем охарактеризовал так: «новгородский русак с немецкой фамилией, но со скифско-татарским лицом», а в другом отмечал: «Кульман ласковее ко мне, чем кто-либо из моих парижских знакомых».
В первые годы эмиграции, когда интерес к русским писателям был особенно высок, Бальмонту, пожалуй, выпал самый большой успех. Его приглашали на вечера в аристократические дома, устраивали ему публичные чествования. Таким был январский вечер 1923 года в Парижском литературном клубе под председательством Рене Гиля и с докладом Люси Савицкой «К. Д. Бальмонт — певец весны и солнца», с выступлениями французских поэтов и артистов. В феврале того же года Международный литературный клуб устроил завтрак в честь Бальмонта. В мае состоялся русско-французский вечер Бальмонта, на котором звучали стихи и романсы по-русски и по-французски. В ноябре он был избран почетным председателем на открытом вечере монпарнасской богемы под руководством А. Мерсеро.
Конечно, это немного кружило голову, как и успех на лекциях и вечерах в русских аудиториях (от студентов до сибирского землячества), но не могло отвлечь от творчества и забот о хлебе насущном. То и другое объединяло и в то же время разъединяло его с другими писателями-эмигрантами. Взаимоотношения с ними складывались по-разному.
Пожалуй, наиболее острыми они были с Мережковскими. Бальмонт не принимал их мрачного, как он считал, всеотрицания, озлобленности. Особенно откровенно это проявилось на вечере у Цетлиных, когда Зинаида Гиппиус читала воспоминания о Блоке и Белом. «Было человек двадцать гостей. <…> Зина Мережковская читала злобные страницы. Я заступился за память Блока, заступился даже за поэму „Двенадцать“, которую нельзя же рассматривать в ее предосудительном применении, но должно в ней видеть блестящее отображение страшного исторического мига, которым тогда был полон весь воздух. Блок слышал дьявольскую музыку и дал ей словесную одежду. В этом есть жертвенность, и Блок запечатлел это своей смертью, которой предшествовала его смертельная ненависть к большевикам… <…> слушатели все были на моей стороне» — так описывал Бальмонт это столкновение Д. Шаховской в письме от 3 ноября 1922 года.
В 1921 году Бальмонт откликнулся на смерть Блока циклом стихов «Памяти Блока». Теперь, вскоре после спора с Зинаидой Гиппиус, он написал воспоминания о поэте «Три встречи с Блоком», которые опубликовал в парижской газете «Звено» в марте 1923 года.
Сложно складывались взаимоотношения Бальмонта с Иваном Буниным. С ним в 1920–1923 годах поэт часто встречался, когда их отношения возобновились после длительного перерыва. Бальмонт, доброжелательный по природе, готов был пойти на более тесное сближение, о чем свидетельствуют его письма Дагмар Шаховской: «Приходил Бунин с Верой Николаевной. <…> Бунину я всегда рад. Он мил и остроумен» (11 ноября 1922 года); «Бунина люблю, независимо ни от чего» (1 декабря 1922 года). Из Бретани он посылал писателю теплые стихотворные послания, приглашал к себе. В октябре 1921 года поэт посвятил Бунину первый сонет, в котором встречаются реминисценции из ранних бунинских стихов («Ты ласковая грусть родимого затона…», «Ты щебет ласточки…», «Ты тонкая резьба осенних листьев клена…»), что говорит об интересе к его поэзии (а Бунина прежде всего воспринимали как прозаика, и это писателя злило) и понимании поэтического мировидения Бунина: «Ты острый взгляд и резкий крик совы…», «Ты бросил дух свой в даль, и знал свой час в пустыне…». В стихотворении, написанном зимой 1922 года и приложенном в письме Вере Николаевне Буниной, Бальмонт выражает то, что, по его мнению, составляет «формулу художественной души Яна»:
Мой друг, мой брат, в ком Русь, не погибая, Прозрачна, как апрель, и как ручей вскипая, Поит узлы корней и легкую траву.Несколько позднее поэт адресует Бунину еще одно стихотворное послание, где вновь называет его «братом», «чья тонкая мечта в играньи творческом красива». Он уверяет самого себя: «Люблю Ивана. Мы двое. В Солнце. Утром. Рано». Вместе с тем Бальмонт нескрываемо обижен на отсутствие ответных изъяснений в дружеских чувствах собрата по перу, сетует на то, что у того «рука вполне ленива, / Ленивей сонного кота и черепашьего хвоста…».
Желаемого Бальмонтом «соучастия душ» у него с Буниным явно не получалось, хотя Иван Алексеевич неоднократно оказывал ему денежную помощь и из своих средств, и за счет разных благотворительных организаций. Возможно, поэтому, несмотря на продолжавшуюся переписку делового характера (в частности, по поводу совместного «Письма Ромену Роллану»), в лирических стихотворных посланиях наступает пауза почти в десять лет.
Четырнадцатого июня 1933 года Бальмонт послал Бунину свою поэтическую книгу «Северное сияние» с такой надписью: «Издавна дорогому мне Ивану Алексеевичу Бунину, мастеру Русского стиха и Русской повести, на память о нашей встрече на rue de Passy, теперь напомнившей мне, мгновенной своей сердечностью, солнечное наше прощание на Невском Проспекте, — почти сорок лет назад, — „Ковыль“, а ковыль не стареет».
Бунинского отклика на «Северное сияние» Бальмонт не дождался, однако ему был подарен вышедший в Париже еще в 1929 году сборник «Избранные стихи» И. А. Бунина. «Завороженный» бунинскими стихами «солнечный поэт» в письме от 6 июля 1933 года восторженно отзывается о сборнике: «И такие, будто маленькие <стихи>, как „Пора“, Звон пустыни, „Настанет день“, и такие могучие, как Бег оленя и Могол, совершенны, великолепны и навсегда останутся в Русской Поэзии. Давно не знал я дрогнувшей зыби восторга от Стиха, — Вы ее дали мне». Он посвящает автору сборника сонеты «Два поэта» и «Ты — следопыт, голубоглазый брат…». В первом, написанном 5 июля 1933 года, Бальмонт обыгрывает любимую им и раньше «звериную» символику:
Мы — тигр и лев, мы — два царя земные. Кто лев, кто тигр, не знаю, право, я. В обоих — блеск и роскошь бытия, И наш наряд — узоры расписные…Бунин иронически отреагировал на «царственную» образность этого сонета. В дневниковой записи от 10 июля 1933 года он заметил:
«Бальмонт прислал мне сонет, в котором сравнивает себя и меня с львом и тигром. Я написал в ответ:
Милый! Пусть мы только псы — Все равно: как много шавок, У которых только навык Заменяет все красы».Понятно, почему в письмах поэта Д. Шаховской встречаются и слова обиды, и нелестные оценки Бунина (ведет себя «недостойно»). Дружить с Буниным было нелегко: слишком самолюбивый, не в меру обидчивый и в обиде, в отличие от Бальмонта, не отходчив. Особенно это заметно в бунинских «Автобиографических записках» (1950), писавшихся в конце 1940-х годов. Характеристики Бальмонта в них напоминают коллекцию анекдотов, курьезов и фактов, тенденциозно подобранных, и поэт выглядит в карикатурном виде. Личные и чужие воспоминания и свидетельства, в том числе бальмонтовские, используются Буниным лишь в негативной интерпретации. Даже в таких чертах Бальмонта, как детскость, простодушие, наивность, Бунин видит скрытое бесовство и хитрость, а в высказываниях политического толка — расчетливость. По мнению Бунина, Бальмонт, знаменитый переводчик, не знал по-настоящему ни одного иностранного языка и работал с подстрочником; уехав в 1920 году из Советской России, он «перешел в лагерь белогвардейской эмиграции», хотя поэт, как и Бунин, которого в Советской России тоже числили по этому лагерю, чуждался политических партий и группировок. Словом, всё в Бальмонте кажется Бунину ходульным, лживым, неискренним. Дневниковые заметки Буниных начала 1920-х годов более сдержанны, встречаются сочувственные записи. Например, 27 марта 1922 года Вера Николаевна, выражая и чувства мужа, записала: «Эти дни часто виделись с Бальмонтами. Почему в этом году его богатые друзья так к нему пренебрежительны? Он никому не нужен… а помогать бескорыстно никто не хочет». С другой стороны, Бунин, замечая, что Зинаида Гиппиус много знает и многим интересуется, подчеркивает, что с Бальмонтом говорить нельзя, с ним не возникает взаимопонимания, а от стихов, которыми Бальмонт всех «зачитывает», «большинство изнемогало». Справедливости ради надо сказать, что таланта у Бальмонта-поэта Бунин все же никогда не отрицал. Он, к примеру, считал, что как поэт Бальмонт несравненно талантливее Есенина, хотя в целом и того и другого не жаловал. Сказывались, конечно, разные художественные ориентации поэтов.
В 1923 году Бальмонт, Бунин и Горький были выдвинуты на соискание Нобелевской премии по литературе. Все трое конкурс не прошли, только десять лет спустя Бунин стал лауреатом этой премии, с чем Бальмонт его поздравил специальным сонетом 10 ноября 1933 года:
Ты победил — своею волей, Мечтая, мысля и творя. Привет путям, среди раздолий, В сапфирно-синие моря!Ответил ли Бунин на это поздравление, неизвестно. Все письма Бунина Бальмонту оказались утраченными в 1930-е годы вместе с пропавшим при невыясненных обстоятельствах бальмонтовским архивом.
Пожалуй, самым близким из писателей-эмигрантов стал для Бальмонта Александр Иванович Куприн. Они часто виделись, испытывая друг к другу чувство дружеской приязни. Об этом вспоминает и дочь писателя Ксения Куприна в мемуарной книге «Куприн — мой отец» (М., 1971), где есть глава, посвященная Бальмонту. Не случайно Куприн стал крестным отцом сына Бальмонта и Дагмар Шаховской Жоржа. Бальмонт восторженно встретил переиздание в 1921 году рассказа Куприна «Суламифь», а его рассказ «Золотой петух» находил «гениальным». Об этих купринских произведениях он написал статьи «Горячий цветок» и «Золотая птица», вошедшие в книгу «Где мой дом» (изданную, напомним, в 1924 году и включавшую очерки 1920–1923 годов). В очерке «Золотая птица» Бальмонт ставит «художественно скупое» творчество И. А. Бунина значительно ниже, чем прозу «чистого сердцем» романтика А. И. Куприна: «Бунин часто очарователен, иногда силен, но никогда не могуч. <…> О нем говорят, любят повторять, что он скуп в выборе слов. <…> Но нет, это не так. Часто он скуп художественно. Он вовсе не может так, ни с того ни с сего, опустить руку в богатый старинный сундук, вынуть оттуда, не жалея, целую пригоршню яхонтов и разбросать их, чтоб они горели и светились. Куприн — благорастворенный воздух весны… <…> Бунин — терпкий воздух осени».
Свои выступления на творческом вечере Александра Куприна 15 апреля 1923 года, а также на литературном утреннике для детей 6 мая Бальмонт закончил приветственными стихами в адрес писателя, который способен вызывать самые добрые чувства у читателя:
Если зимний день тягучий Заменила нам весна, Прочитай на этот случай Две страницы Куприна… ………………………… Здесь, в чужбинных днях, в Париже, Затомлюсь, что я один, — И Россию чуять ближе Мне всегда дает Куприн.Стихотворение завершалось признанием: «Ты — родной и всем нам милый, / Все мы любим Куприна».
В 1922 году, получив разрешение на лечение за границей, уехал из России и Борис Константинович Зайцев. Встретились Бальмонт и Зайцев уже в Париже, куда Зайцевы переехали из Берлина в 1924 году. Как вспоминает дочь Зайцева Наталья (по мужу Соллогуб) в книге «Устные рассказы» (М., 1996), по совету Бальмонта они сняли хорошую четырехкомнатную квартиру, где поэт бывал с Еленой Константиновной. Между ними установились дружеские отношения. Зайцев нередко помогал Бальмонту, способствовал публикации его произведений.
Человек чести и высокой нравственности, Борис Константинович быстро стал авторитетом среди писателей-эмигрантов, его избрали председателем Союза писателей и журналистов. Он также возглавил еженедельный литературно-художественный журнал «Перезвоны» (1925–1929), выходивший в Риге. Это хорошо поставленное издание много и охотно печатало Бальмонта, поместило статьи и фотографии к сорокалетию его литературной деятельности (1925. № 6) и к шестидесятилетию со дня рождения (1927. № 33).
О теплых отношениях с Зайцевыми свидетельствует и переписка. Бальмонт часто жил вне Парижа, уединяясь где-нибудь на берегу Океана, в Бретани или других местах, откуда писал Зайцевым. В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ) хранятся восемь писем Бальмонта Борису Зайцеву, одно письмо Зайцева ему, пять писем поэта Вере Алексеевне Зайцевой, жене писателя, а также переписка В. А. Зайцевой и Е. К. Цветковской. Весь этот эпистолярий охватывает 1925–1940 годы, что говорит о постоянном общении двух семейств. Бальмонт относился к Зайцеву как к другу и нередко начинал письмо словами «Дорогой Боря». В письмах содержатся факты и сведения личного и семейного свойства, есть обращения к Зайцеву как редактору «Перезвонов», затрагиваются вопросы, имеющие отношение к литературе. Так, в декабрьском письме 1926 года Бальмонт сообщает, что посылает Зайцеву свой «первый дар» — речь идет о его статье «Легкозвучный стебель», где поэт в свойственной ему лирико-импрессионистической манере высоко оценивает творчество Бориса Зайцева.
Круг общения Бальмонта в первые четыре года эмиграции был необычайно широк. Он встречался с Георгием Гребенщиковым, автором романа о Сибири «Чураевы» (находя в нем художника, близкого Куприну), с Надеждой Тэффи, Иваном Шмелевым, молодыми поэтами Георгием Ивановым, Измаилом Жибером (сыном Мирры Лохвицкой), Александром Кусиковым (который сопровождал в зарубежной поездке С. Есенина и А. Дункан и не вернулся в Россию). В 1925 году приехала из Праги в Париж Марина Цветаева, и дружба с ней скрашивала тяготы эмигрантской жизни.
Часто виделся Бальмонт и с другими людьми искусства. В первую очередь это Сергей Прокофьев, о котором не раз говорилось, а также учитель Прокофьева композитор Николай Черепнин, автор музыки к бальмонтовским «Фейным сказкам». Встречался поэт с композитором Александром Гречаниновым, дирижером Сергеем Кусевицким (пока он не уехал в Америку), с художниками Львом Бакстом, Константином Коровиным, Натальей Гончаровой и ее мужем Михаилом Ларионовым, а также со многими другими.
Большой радостью для русских эмигрантов стала встреча с Московским Художественным театром в декабре 1922 года и Камерным театром в марте 1923 года. На приеме артистов Художественного театра Бальмонт произнес речь, в которой, как он писал Дагмар Шаховской, «говорил о том, что мы не можем вызывать в памяти художественников, не вспоминая собственную юность. И о том, что Станиславский — воля, которая умеет достигать». Свои чувства поэт выразил в стихотворении «К. Станиславскому», написанному тогда же. Во время гастролей Камерного театра он посещал его спектакли с трепетным чувством, так как рождение этого театра было, как помним, связано с переведенной им пьесой Калидасы «Сакунтала», а в репертуаре гастролей значилась «Саломея» Уайльда в переводе Бальмонта и Екатерины Алексеевны. «Шла „Суламифь“, — делится впечатлениями Бальмонт в письме, — и я еще под очарованием зрелища. Хороша была Коонен, хороша вся постановка». Во время чествования Александра Таирова он выступил с речью, в которой выделил роль режиссера в создании поэтического театра.
Бальмонт в эмиграции чувствовал себя полпредом и пропагандистом русской культуры, о чем говорят его многочисленные статьи в газетах и журналах. Обращаясь к молодым читателям, поэтам, он напоминал о роли в русской жизни Толстого и Достоевского, Тургенева и Аксакова, Тютчева и Фета, Лермонтова и Баратынского, других писателей и поэтов. Исключительное место в сознании Бальмонта занял Пушкин. На этом следует остановиться подробнее.
Пушкин в дооктябрьский период находился на периферии поэтических интересов Бальмонта. Великий поэт, конечно, не был ему безразличен, жил в нем «подспудно», что иногда интуитивно отражалось в его творчестве.
Кардинальное переосмысление Пушкина происходило у Бальмонта в период Октябрьской революции и особенно в последующие годы эмиграции. В брошюре «Революционер я или нет?» он утверждал, что истинную революционность Пушкина следует видеть не в его дружбе с декабристами и политических стихотворениях, а во всем пафосе его творчества, зовущего к гармонии и свободе личности. В дальнейшем осмыслении Пушкина на первый план выходит воплощение национальной темы — Россия, ее судьба, история, язык, культура. Эта тема стала ведущей у Бальмонта. В ее свете он уясняет и значение Пушкина, который становится для поэта олицетворением Родины. В статье «О поэзии Фета» Бальмонт писал: «Пушкин стал моей настоящей и уже навсегдашней безмерной любовью и преклонением сердца, лишь когда я потерял Россию. То есть с 20-х годов этого столетия. Здесь, в подневольном Париже <…> в Бретани <…> когда лишен вольности и самого заветного и самого любимого <…> я, кажется, впервые увидел Пушкина во всем его величии, детско-юношеское увлечение им вернулось, обостренное и углубленное таким преклонением и такой любовью, что чувствую и говорю без колебания: Пушкин — самый русский и самый не только гениальный, но и божественный русский поэт. Столько России и столько русского, сколько запечатлелось в каждом поступке Пушкина, в каждом его восклицании, душевном движении, в каждом песнопении, столько целостно-русского не найдешь ни у одного русского писателя, будь то поэт или прозаик».
Начиная с романа «Под новым серпом» и сонета «Пушкин», опубликованного в газете «Последние новости» 1 февраля 1922 года, имя Пушкина постоянно возникает в его прозе и стихах — часто в виде цитат и эпиграфов из пушкинских произведений или упоминаний. Назовем здесь очерки «Ветер», «Страницы воспоминаний», «Весна» из пражской книги «Где мой дом», стихотворения «Мое — Ей», «Русский язык», «Москва», статьи «Звездный вестник», «Русский язык», этюд «Осень» и др. В статье «Русский язык» поэт относит Пушкина к «создателям самой чистой, первородной русской речи», к тем, «чей поэтический язык наиболее перед другими близок к народному говору, к народному словесному пути и напевной поводке». Более развернутые суждения Бальмонта о Пушкине содержатся в статье «Мысли о творчестве. Тургенев», где Бальмонт утверждает, что из всех русских писателей Пушкин и Тургенев «самые русские»: Пушкин глубже всех постиг стихию русского языка и судьбу России, а Тургенев лучше других усвоил «речевой разлив» русской речи, «основные черты нашего народа и прихотливый ход нашей истории».
Целиком посвящена Пушкину статья «О звуках сладких и молитвах». Как и другие статьи — это лирическая проза поэта. Он сразу же предупреждает читателя, что ему хочется «рассказать что-нибудь совершенно личное». Начиная со своего впечатления от стихов Пушкина, прочитанных матерью в детстве, он останавливается на постижении творчества великого поэта в годы юности и зрелую пору и подчеркивает, что «воспоминание» Пушкина ведет «к строгому взгляду внутрь себя, к очистительной беседе с самим собой». Заканчивается статья такими словами: «Юноша, носивший звучное имя — Лермонтов, хорошо сказал о крови Пушкина, что она — праведная, правильная, во всем верная, это горячая русская кровь, понимающая все…»
Эта статья была написана 29 мая 1924 года, накануне 125-летия со дня рождения Пушкина, и опубликована 8 июня 1924 года в газете «Дни». Все 12 страниц этого воскресного номера были посвящены юбилею великого поэта. Кроме статьи газета напечатала три стихотворения Бальмонта под общим названием «Пушкин» и его стихотворение 1922 года «Кому судьба».
Бальмонт в это время называл себя «пушкинистом», заново перечитывал поэта, писал о нем. 8 июня 1924 года он сообщал Дагмар Шаховской из Шателейона: «Я поглощен Пушкиным. В „Днях“ и „Последних новостях“ (№ 1265) и 12-го в Сорбонне буду, к сожалению, заочно, — с другими славить его имя…» В письме от 25 июля признавался ей: «Вчера и все эти дни пишу стихи. Сегодня еще не приходили. Может быть, все силы ушли на Пушкина. Вчера начал около полуночи читать „Дубровского“, да и не мог оторваться, читал до половины 4-го». И еще одно признание (25 августа): «Я читал вслух „Руслана и Людмилу“, обливался над Пушкиным слезами».
Кроме статьи и трех стихотворений под заглавием «Пушкин» Бальмонт сочинил к юбилею и опубликовал еще четыре стихотворения на пушкинскую тему: «Огнепламенный» (Последние новости. 1924. 8 июня), «Русский язык», «Заветная рифма», «Отчего» (Современные записки. 1924. № 32).
С этого года русская эмиграция ежегодно стала отмечать 6 июня день рождения Пушкина как День русской культуры. Праздник не только утолял у русских изгнанников ностальгическую тоску по родине, но и напоминал о славе и величии России, укреплял веру в ее будущее.
1924 год для Бальмонта был памятен и тем, что в пражском издательстве «Пламя» благодаря содействию Е. А. Ляцкого (он приезжал в Париж в сентябре 1923 года и неоднократно встречался с поэтом) вышли две его книги: не раз уже упоминавшийся сборник очерков «Где мой дом» и стихотворный сборник «Мое — Ей. Россия».
Содержание книги «Где мой дом», насыщенное переживаниями и раздумьями личного свойства, поднимается до широкого обобщения судьбы русского человека, ставшего бесприютным бродягой-эмигрантом, ищущим ответы на коренные вопросы: где правда, как жить? Пестрая в жанровом отношении — статьи, очерки, эссе, мемуары, подборка цитат «Мысли Словацкого» — книга объединена личностью ее автора, большого художника слова. Доминирующий образ книги — Россия как Дом, греющий душу изгнанника, человека «без русла». В статье, так и названной — «Без русла», Бальмонт говорит о России языком поэта, утверждает веру в ее историческое предназначение: «Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получили на время верх и неограниченное господство. <…> Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы и шуршат камыши… <…> Там везде говорят по-русски, это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви…»
Рассыпанные по очерковой книге приметы, образы родины обретают вторую жизнь в лирических стихах сборника «Мое — Ей» с подзаголовком «Россия», первоначально называвшегося «Видение родного». Эти книги дополняют одна другую и тесно связаны общим для них сквозным чувством одиночества, покинутости, ненужности. «Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, — писал Бальмонт. — …Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен».
Книга «Мое — Ей. Россия» была встречена эмигрантской критикой довольно сдержанно, потому, видимо, что не оправдала надежд на новые «кинжальные слова» Бальмонта, заявленные в «Мареве». Юрий Айхенвальд (под псевдонимом Б. Каменецкий) писал, что вошедшие в «Мое — Ей» стихотворения «ни внешне, ни внутренне, ни своим звучанием, ни своим содержанием» «к прежнему Бальмонту ничего не прибавляют» (Руль. 1924. 5 ноября). Более благосклонная к поэту Вера Лурье, утверждая, что в новом сборнике «перед нами снова прежний Бальмонт», отмечала: «Он видит Россию вне политики, вражды и усобиц, даже больше — вне людей» (Дни. 1925. 15 марта).
В письме редактору «Последних новостей» П. Н. Милюкову от 10 декабря 1923 года Бальмонт так писал о своем стихотворении «Россия»: «Стихи мои — восхваление того вечного лика России, который у нас был еще при Ольге и Святославе и много ранее».
Посвящая сборник России, Бальмонт сознательно декларировал в нем и преданность своим творческим принципам. Недаром книга открывалась стихотворением «Моя твердыня», в котором поэт утверждал незыблемость прославившего его в начале века призыва «Будем как Солнце»:
Вседневность Солнца — моя твердыня. Настанет утро — оно взойдет. Так было древле. Так будет ныне. И тьме, и свету сужден черед.Если в первой эмигрантской книге поэта символом бескрайнего пространства России было «марево» («Мутное марево, чертово варево, / Кухня бесовская в топи болот»), то теперь она видится ему просветленной везде и во всем:
В мгновенной прорези зарниц, В крыле перелетевшей птицы, В чуть слышном шелесте страницы, В немом лице, склоненном ниц, В глазке лазурном незабудки, В веселом всклике ямщика, Когда качель саней легка На свеже-белом первопутке. В мерцанье восковой свечи, Зажженной трепетной рукою, В простых словах «Христос с тобою», Струящих кроткие лучи… …………………………… В лесах, где папортник, взвив Свой веер, манит к тайне клада, — Она одна, другой не надо, Лишь ей, жар-птицей, дух мой жив. И все пройдя пути морские, И все земные царства дней, Я слова не найду нежней, Чем имя звучное: Россия. (Она)Символами России вновь становятся привычные образы жар-птицы, «града подводного Китежа», к ним добавляется еще один, очень важный — «старинный крепкий стих»:
Приветствую тебя, старинный крепкий стих, Не мною созданный, но мною расцвечённый, Весь переплавленный огнем души влюбленной, Обрызганный росой и пеной волн морских. ……………………………………… Ты полон прихотей лесного аромата, Весенних щебетов и сговора зарниц. Мной пересозданный, ты весь из крыльев птиц. И рифма, завязь грез, в тебе рукой не смята. От Фета к Пушкину сверкни путем возврата И брызни в даль времен дорогой огневиц. (Мое — Ей)В статье «Воля России» Бальмонт утверждал: «Носители воли каждой страны… суть ея поэты и писатели». Недаром в стихотворении, давшем название всей книге, он ставит рядом имена двух самых дорогих для него русских поэтов: «От Фета к Пушкину…»
На лето и осень Бальмонт всегда стремился уехать из Парижа к Океану. В 1924 году уже в апреле он отправился в Шателейон, где сохранились развалины старинного замка, окутанного легендами и историческими преданиями. Их отзвуки слышатся в стихотворении, озаглавленном «Шателейон». Бальмонт пробыл там семь месяцев. Все это время он активно переписывался с Дагмар Шаховской и в письмах откровенно рассказывал о своей личной жизни, о конфликтах в семье (которую, напомним, в эмиграции составляли Елена Цветковская, дочь Мирра и Анна Николаевна Иванова, или Нюша — племянница Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт). Большинство страниц бальмонтовских писем посвящено любви к Дагмар и драматической ситуации выбора, в которой он оказался.
О Дагмар Шаховской Бальмонт отзывался как о «сильном, прекрасном существе, способном на величайшее самопожертвование и душевную высоту». В другом случае он признавался: «Мне она очень дорога, у нее редкое сердце и удивительная самостоятельность нрава и сила воли. У нее есть что-то общее с Катей». Чувства к ней он не скрывал от Елены. Поэт часто встречался с Дагмар, когда она приехала во Францию и жила то в Париже, то в городах неподалеку.
В образовавшемся «треугольнике» Елена очутилась в положении, в котором когда-то из-за нее находилась Екатерина Алексеевна. Бальмонт, став узлом образовавшегося сплетения, уверял, что, полюбив, не может разлюбить, — такова его натура. Дагмар он писал: «Если я, полюбив Елену, не разлюбил Катю и, полюбив Нюшу, не разлюбил ни Елену, ни Катю, и, полюбив тебя, не разлюбил ни ту, ни другую, ни третью, в этом безумная трудность, а вовсе не слабость. Поверь. Не сила, а слабость — разрывать узлы, которые держат, хотя и мучают, разрывать, убивая. Этого я не могу по чувству и по убеждению…» Занятая Бальмонтом позиция не могла не драматизировать чувства двух любимых и любящих его женщин. Разумеется, и сам Бальмонт не без терзаний и мучительных переживаний оставался в этой раздвоенности…
Летом 1924 года Дагмар с двухлетним сыном Жоржиком приехала отдыхать на остров Олерон, находившийся близко от Шателейона. Бальмонт и Дагмар договорились, что определенное время проведут на острове вместе. Пребывание там отражено в его творчестве — в стихотворении «Олерон (Дагмар)» и превосходном лирическом очерке «Осень». А в письме Т. А. Полиевктовой от 17 августа 1924 года Бальмонт сообщал: «Дагмар счастлива и мною, и мальчиком, как я счастлив ими обоими. Мальчишка мой совсем особенный. Он красавчик, задорный, самостоятельный и трогательно приникает к чаше бытия, завлеченно любуясь, ненасытимо, кошками и собаками, коровами и цветами, всем живым».
Радость свидания с Дагмар и сыном дополнялась еще и тем, что на острове в окружении Дагмар оказалось много русских людей, и поэт «почувствовал себя опять в России». На лесном пригорке он читал русским стихи, и это был для него праздник. Поэт Сергей Френкель на следующий день подарил ему сонет «Тот остров Франции зовется Олерон…», включенный Бальмонтом в очерк «Осень».
Спустя девять месяцев после счастливых дней на Олероне у Дагмар Шаховской родилась дочь Светлана (ныне Светлана Константиновна Шаль, живущая на два дома: во Франции и в США). Судя по письму Бальмонта от 4 октября 1924 года Ляцкому, поэт в это время еще не раз побывал на полюбившемся ему острове.
В начале 1925 года Бальмонт из Шателейона вернулся в Париж и напомнил о себе литературным вечером, который состоялся 16 февраля. Поэт познакомил публику со своими стихами из двух неизданных книг — «Пронзенное облако» и «В раздвинутой дали», — а также произнес слово на тему «Пророки Библии и судьбы русского народа». Артистка Шошана Авивит параллельно читала по-древнееврейски откровения Исайи и псалмы Давида. Читала, разумеется, по-русски и стихи Бальмонта, а сам поэт прочел новые стихи, среди них и поэму, посвященную Шошане Авивит, которую знал еще в Москве как артистку еврейского театра. Свидетельством дружбы с ней в 1924–1926 годах осталось большое количество адресованных ей писем и стихов, находящихся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки.
В феврале и марте 1925 года Бальмонт неоднократно встречался с молодыми поэтами, надеясь найти с ними взаимопонимание. В клубе молодых литераторов он выступил с докладами «Слово и поэзия Фета» (27 февраля) и «Высокий викинг» — о Баратынском (1 марта). 28 марта там же молодые поэты устроили чествование Бальмонта по поводу 35-летия выхода его первой книги стихов (ярославский сборник 1890 года). От имени Союза писателей и журналистов его приветствовали И. Шмелев, Н. Тэффи, М. Гофман и др. Поэт прочел свои ранние стихи. «Бальмонт, — свидетельствует поэт и критик Юрий Терапиано, — священнодействовал, всерьез совершая служение Поэзии, и его искренний подъем передавался присутствующим. Читал он очень своеобразно, растягивая некоторые слова, часто выделяя цезуры посреди строки, подчеркивая напевность».
Терапиано встречался с Бальмонтом неоднократно, будучи к нему расположен. И другие молодые поэты относились к нему с почтением, однако Бальмонт, с его романтическим парением и пафосом эмоций, их любимцем не стал. «Наше положение — строже и суше; наша манера читать стихи была в резком контрасте с чтением Бальмонта. Но его манера читать влияла на публику», — писал Терапиано в мемуарной книге «Встречи» и отмечал, что любимыми поэтами их поколения были Блок, Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Пастернак. «Невнимание к нему и его поэзии, — продолжал автор воспоминаний, — усиливало страдание… <…> Бальмонт замкнулся в себе, не хотел измениться — и это, практически, означало для него полную изоляцию».
В середине 1920-х годов у Бальмонта не складывались отношения не только с молодой литературной порослью, но и в целом с эмигрантской средой, с издательскими и литературно-художественными кругами Парижа. Париж к этому времени заметно изменился. Он наполнился эмигрантами, приехавшими из других мест, и стал центром русского зарубежья, в том числе литературного, так как из Берлина во французскую столицу переехали большинство русских писателей и журналистов. В Париже открылись новые издательства, появились новые газеты, журналы. Однако показательно, что у Бальмонта после «Марева» и «Vision solairs» до 1931 года в Париже не вышло ни одной книги. Он печатался как в старых, так и в новых периодических изданиях, но публиковалось далеко не всё, что он предлагал. На этой почве нередко складывались напряженные отношения. Например, Павел Николаевич Милюков, лидер партии кадетов и руководитель «Последних новостей», отказал в печатании статьи «Золотая птица» на том основании, что Куприн, фигурирующий в статье, публикуется в монархических газетах. Для Бальмонта, отрицавшего партийность, это выглядело как вмешательство политики в святая святых — в искусство. В архиве П. Н. Милюкова хранится ряд стихотворений поэта, не пропущенных им на страницы газеты. Редакция журнала «Современные записки», вопреки воле Бальмонта, опубликовала его очерк «Русский язык» с большими сокращениями (1924. № 19). В дальнейшем многое из предложенного поэтом редакция не печатала и не считалась с его мнением. Это заставило Бальмонта поставить вопрос о выходе из числа сотрудников журнала, о чем говорят его письма одному из редакторов журнала В. В. Рудневу. Публикаторы писем Бальмонта Милюкову О. Коростелев и Ж. Шерон не без основания замечают, что в Париже поэт страдал «от холодности эмигрантской публики и невнимания редакторов литературных изданий» (Новый журнал [Нью-Йорк], 1999. № 214).
Как ни странно покажется, но гораздо большим вниманием и уважением Бальмонт пользовался в таких эмигрантских центрах, как Прага, Варшава, Белград и особенно Рига. В Риге, где издавна жило много русских, выходило несколько русских газет и журналов. Особой популярностью пользовалась газета «Сегодня» (она не была органом эмигрантов, а существовала как независимое демократическое издание). В этой газете и журнале «Перезвоны» (1925–1929) Бальмонт печатался постоянно. В «Сегодня» его публикации появлялись с 1921 по 1936 год, из них, если говорить о количественном соотношении, 125 — стихи и переводы (преимущественно славянских и литовских поэтов) и 73 — эссе, статьи, публицистика, мемуары и т. п. «Перезвоны» имели в Париже представительство, которым одно время ведал Борис Зайцев и способствовал публикациям поэта в журнале. В том и другом издании были напечатаны почтительные статьи о творчестве Бальмонта, например, поэта и переводчика Виктора Третьякова в «Перезвонах» (1927. № 33) и критика Петра Пильского в «Сегодня» (1927. № 124; 1936. № 110).
Сотрудничеством с газетой «Сегодня» Бальмонт очень дорожил, но публикации там приносили весьма скромные доходы, как и сотрудничество в других газетах и журналах. Поэтому для Бальмонта всегда оставалась насущной помощь со стороны, и он был благодарен за нее, будь она от композитора Сергея Рахманинова, музыканта Сергея Кусевицкого, американского фонда помощи Бальмонту, семьи Нобль из Бостона[25], коммерсанта и мецената Леонарда Розенталя или кого-нибудь другого.
В мае 1925 года Бальмонт получил деньги из Чехии и предложение перевести на русский язык стихи видного чешского поэта Ярослава Врхлицкого (1853–1912). Вероятно, идея о переводе Врхлицкого исходила от Ляцкого, но важно, что ее поддержал доктор Вацлав Гирса, заместитель министра иностранных дел, один из организаторов помощи русским писателям-эмигрантам (среди них помощь получали М. Цветаева, А. Ремизов, в их число был включен и Бальмонт; помощь присылалась до 1929 года).
В письме от 3 апреля 1925 года Бальмонт благодарил С. В. Рахманинова за присланные доллары и сообщал о себе: «Мы живем здесь довольно смутно. Рознь и расколы. Любя гармонию, я не живу в Париже и приехал сюда лишь по делам. Уезжаю вскоре в Бретань». Весьма показательно окончание письма композитору: «Пока пишу Вам, я душой в Москве, в переполненной зале, и упоительно рассыпают Ваши неошибающиеся пальцы алмазный дождь хрустальных созвучий». В 1930 году поэт сказал о себе, что из десяти лет эмиграции шесть он живет вне Парижа. В мае 1925 года он уехал не в Бретань, как писал Рахманинову, а в Вандею, поселившись в местечке Сен-Жиль, где снял за недорогую плату скромную виллу рядом с Океаном и лесом.
До 1930 года включительно Бальмонт жил преимущественно в разных местах Атлантического побережья: в 1926 году — Лаконо (Жиронда, недалеко от Бордо), Капбретон (Ланды), куда переехал из Лаконо и жил вдвоем с Еленой Цветковской больше двух лет, даже зимой, лишь на время, в декабре 1929 года, отселившись в более теплое место Буска (рядом с Бордо). В Париже бывал наездом, останавливаясь в отелях. Дочь Мирра, писавшая стихи, являвшаяся членом Союза молодых поэтов и порой печатавшаяся, к этому времени вышла замуж, став мадам Аутин (в первом браке — Бойченко). Ныне во Франции живут три ее дочери и один сын.
Анна Николаевна Иванова сняла квартирку в Париже и жила одна. Когда-то получившая после смерти родителей хорошее наследство, с революцией она всё потеряла. Бальмонт называл ее художницей, на жизнь она зарабатывала прикладным искусством (вышивкой, раскрашиванием и т. п.). С поэтом связи Нюша не теряла, помогала ему.
Начиная с 1925 года одним из главных направлений творческой работы Бальмонта, кроме писания стихов, очерков, статей, стали изучение славянских языков и переводы с них поэтических произведений. Идея славянского единства — родство языков, культур, мифологии, фольклора, этнографическое сходство — занимала мысль поэта давно. Сейчас она приобрела особый смысл. «Славянское» заменило недоступное ему «русское».
«Все лето я занимался чешским языком, изучаю творчество Врхлицкого и перевел из него несколько десятков стихотворений, — делился Бальмонт планами с Е. А. Ляцким в письме от 11 октября 1925 года. — Хотелось бы приготовить целый томик страниц в 200. Это поэт изумительный, большой силы и тонкости». В поэзии Врхлицкого Бальмонт находил немало родственного себе, в частности, широкий интерес к культурам и литературам народов мира. Переводы из него он печатал в газете «Сегодня» и журнале «Перезвоны»; в журнале опубликована также статья под названием «Поэт славянского сердца Ярослав Врхлицкий» (1926. № 18). В Чехии была создана Комиссия по изданию переводов из этого поэта, и работа Бальмонта рассматривалась как важный пример сближения русской и чешской культур.
Однако замыслы Бальмонта шли дальше. Он начал переводить и других чешских поэтов, таких как Ян Неруда, Иржи Волькер, Ян Рокита, Антонин Сова, написал статью «Чехи о России», в которой показывал особенности поэтического восприятия чехами русской души и России. 31 марта 1927 года в парижском Институте славяноведения Бальмонт прочитал доклад «Чешская поэзия в России через чешскую душу», сопровождая его стихами чешских поэтов в собственных переводах. Вступительное слово произнес известный славист Поль Буайе. В 1928 году вышли «Избранные стихотворения» Я. Врхлицкого в переводе Бальмонта с предисловием Яна Рокиты, который весьма похвально оценивал труд переводчика. В 1930 году Чешская академия наук избрала Бальмонта своим членом-корреспондентом. В начале 1930-х годов он составил книгу статей и эссе о чешской поэзии «Душа Чехии» и послал ее в Прагу. В ней были статьи о поэтах XIX–XX веков. Книга не вышла в свет, о чем Бальмонт очень сожалел.
Наряду с чешской поэзией Бальмонт занялся переводами с польского. Собственно, это было продолжение его прежнего увлечения польской литературой и поэзией, когда он переводил Адама Мицкевича, Юлия Словацкого, «Народные сказания о Твардовском», интересовался творчеством писателя и драматурга Станислава Пшибышевского и т. д. В 1920-е годы он переводил стихи Болислава Лесьмяна, лирику Станислава Выспянского и особенно настойчиво Яна Каспровича. К нему он обращался еще в 1911 году, когда перевел цикл стихотворений «Гимны» под названием «Моя вечерняя песня». Каспрович был известным ученым, профессором Львовского университета, женатым на русской, урожденной Марии Буниной. В 1926 году он ушел из жизни, и когда в 1927 году польские писатели пригласили Бальмонта в Польшу, он решил навестить его вдову, предварительно списавшись с нею.
В Польшу Бальмонт приехал вместе с Еленой Цветковской в середине апреля и пробыл там почти два месяца. В Варшаве состоялось несколько встреч и выступлений Бальмонта, его приветствовали виднейшие польские поэты, в том числе Станислав Выспянский и Юлиан Тувим, который в своем творчестве испытал влияние русского певца Солнца. Бальмонт свободно общался на польском языке, произносил речи и всех очаровал. Он совершил турне по польским городам, которое в письме Ляцкому назвал «триумфальным»: Белосток, Лодзь, Вильно (Вильнюс, входивший тогда в состав Польши), Гродно, Львов, Краков, Познань, снова Варшава. В Москву Екатерине Алексеевне Бальмонт писал:
«…Уже более двух недель в Польше… <…> Я боялся ехать в Польшу, боялся разочарований, а приехал — к родным людям, в родной дом. Ласка, вежливость, гостеприимство, понимание и отличное знание всего, что я сделал, и всего, что я люблю <…>.
Я провел обворожительную неделю в Харенде, в Закопане, в Татрах, у Марии Каспрович (она русская, изрядно подзабывшая русский язык). Я приехал в ее дом в горах, над потоком, как приехал бы в Гумнищи. Она сразу вошла в мою душу. <…> Там в три дня я написал по-польски очерк о Каспровиче как поэте польской народной души, и поляки восхищались моим польским языком». Книга К. Бальмонта «Ян Каспрович. Поэт польской души» вышла в 1928 году в Ченстохове, а «Книга смиренных» Я. Каспровича в переводе Бальмонта — в том же году в Варшаве.
Из Польши по приглашению чешского ПЕН-клуба Бальмонт направился в Прагу, куда, очевидно, прибыл 11 или 12 июня. 14 июня он был гостем ПЕН-клуба, 18-го присутствовал на приеме, устроенном президентом республики в честь делегации чешских женщин из США. В тот же день поэт сделал доклад в Общественном клубе на тему «Чешская поэзия и славянская душа», а 21 июня отбыл в Париж. Таким образом, в Чехии Бальмонт находился больше недели. За это время прошло еще несколько его выступлений, он встречался с поэтами, с которыми переписывался или был знаком заочно как переводчик их стихов, тогда же познакомился с известным чешским писателем, публицистом и переводчиком с русского Франтишеком Кубкой, о книге которого «Звезда волхвов», вернувшись во Францию, написал статью-рецензию «Чехи о России».
Поездки в Польшу и Чехию на время «встряхнули» Бальмонта, в какой-то мере утолили его давнюю страсть путешествовать. «Если бы человечество не сошло с ума (вот уже 12 лет, как длится это сумасшествие), я бы беспрерывно путешествовал», — писал Бальмонт своему заокеанскому другу, молодой поэтессе Лилли Нобль. Перечисляя, где он еще не был, поэт восклицал: «Если бы не проклятая Война и трижды проклятая Революция, я уже за эти 12 лет увидел бы все перечисленное!» Конечно, Польша и Чехия не Перу или Северный полюс, о которых он мечтал, а то, что он знал по книгам, еще не видел воочию…
Из Чехии Бальмонт вернулся в обжитый им Капбретон. «Я радуюсь возможности жить не в городе, особенно не в Париже», — писал Бальмонт в одном из писем, отправленном из Капбретона. Его радовали простор Океана, полей, лесные прогулки, постоянное общение с природой. Около арендованного им домика он сажал любимые цветы и обязательно подсолнух — символ солнечного мира. Бродя по окраинам леса, находил рыжики, которые любил с детства, иногда приносил с собой кошелку сухих сучьев, обломки деревьев — запасал топливо на осеннее и зимнее время. Он, всегда проповедовавший необходимость жить в единстве с природой, теперь осуществлял это на деле, будто возвращался к первоосновам человеческого существования и находил в этом моральное удовлетворение.
Бальмонт перевез в Капбретон книги, перечитывал любимые, постоянно обращался к словарю Даля: каждое слово в нем вызывало у него ассоциации с Россией, картины русской жизни. Основным его занятием был труд: изучение языков, переводы, сочинение стихов, писание статей, составление книг. По его признанию, к 1930 году в чемоданах у него накопились рукописи для десятка задуманных книг, но книги не выходили, их не издавали, поскольку они не расходились: у русских беженцев не было денег, чтобы их купить[26], а стихи, казалось ему, стали никому не нужны. Тем не менее творчество оставалось его потребностью, и он жил напряженной духовной жизнью.
Иногда Бальмонт смирялся с тем, что забыт, не востребован, но подчас напоминал о себе. В 1928 году нашумела его переписка с Роменом Ролланом, который по поводу десятилетия Октябрьской революции обратился с приветствием к советскому правительству, отмечая достижения России при новом строе. Бальмонт возмутился и через газету «Авенир» решил ответить Роллану открытым письмом. К письму присоединился Бунин, и 12 января «Обращение к Ромену Роллану» за подписью двух русских писателей появилось в этой газете. Роллан отреагировал в журнале «Европа», его статью перепечатали в Советской России, на сторону Роллана встал Горький. Тому и другому ответил Бальмонт (уже без Бунина). Смысл его полемики с Ролланом и Горьким заключался в том, что нельзя защищать бесчеловечный режим, установленный большевиками. Это было последнее публичное выступление Бальмонта, касающееся политики, от которой в эмиграции он обычно стоял в стороне.
Правда, в том же 1928 году в советском журнале «Огонек» была опубликована статья «Бальмонт и убийцы», автор которой Борис Волин (И. Фрадкин) обвинял поэта в пособничестве террористам, покушавшимся на жизнь советских руководителей. Поводом послужила публикация Бальмонтом в парижской газете «Единение» (1928. 21 марта) стихотворения «Кремень» («Мила моя мне буква „К“…»), где поэт, обыгрывая начальную букву собственного имени, воспевал четырех «бойцов»: Ф. Каплан, Л. Каннегисера, Б. Коверду и М. Конради:
Мила моя мне буква «К», Вокруг нее мерцает бисер. И да получат свет венка Бойцы — Каплан и Каннегисер…Художественные качества этого стихотворения весьма спорны, однако текст публицистически обнаженно говорил о гражданской позиции Бальмонта в то время.
Своеобразным напоминанием о себе были и письма-интервью, которые Бальмонт публиковал под псевдонимом Мстислав в газете «Сегодня»: «Разговор с К. Д. Бальмонтом» (1926. № 246), «Час у Бальмонта» (1928. № 237), «Профессор Н. К. Кульман в Капбретоне» (1930. № 297). В этих «интервью» содержится много биографических подробностей, реально рисуется жизнь поэта в Капбретоне, интересно рассказывается о встречах с И. С. Шмелевым, Н. К. Кульманом, генералом А. И. Деникиным, когда те приезжали туда на лето. Именно в Капбретоне возникла и закрепилась дружба Бальмонта с замечательным русским писателем Иваном Шмелевым, оказавшим на него определенное влияние.
С декабря 1928 года в Париже начала выходить еженедельная газета «Россия и славянство», которую редактировал П. Б. Струве. Заявленная задача газеты — «осуществление междуславянской взаимности на основе сближения России и славянства» — вполне отвечала устремлениям Бальмонта. Он стал постоянным сотрудником газеты и на ее страницах нашел поддержку своей деятельности.
После Чехии и Польши внимание поэта переключилось на славянские страны Юго-Восточной Европы — Югославию, Болгарию. Он начал изучать сербский и болгарский языки, фольклор и поэзию этих народов, занялся переводами. Бальмонт признавался, что поэты Южной Славии — Словении, Хорватии, Сербии, Болгарии — дали ему «высокую радость узнать в каждом народе много творческой силы и душевного достоинства» (Россия и славянство. 1931. 18 апреля). Поэт задумал издать сборники народных песен, а также творчества славянских поэтов Балканского полуострова и в газете «Россия и славянство» напечатал ряд переводов: «Из сербских народных песен», «Сербские народные песни о Марко Кралевиче», «Болгарские народные песни», «Хорватские песни», «Новая явь» Ивана Шайкевича и др. Надо заметить, что в это же время Бальмонт занимался изучением литовского языка и фольклора, пытаясь найти в них общие корни со славянством.
В начале 1929 года Русский научный институт в Белграде пригласил Бальмонта как энтузиаста славянского единства и переводчика славянской литературы для чтения лекций. По дороге туда, выехав из Капбретона, поэт на короткое время остановился в Париже и прочел лекцию «Народные песни Литвы и славян». Ее содержание подробно пересказано в статье Л. Львова «На лекции К. Д. Бальмонта» (Россия и славянство. 1929. 9 марта). Судя по статье, поэт анализировал и сопоставлял песни литовские, русские, сербские, хорватские, болгарские. Эту лекцию он прочитал и в Белграде наряду с другими: «Русский язык», «Лики женщины в мировой литературе», «О связи науки с поэзией». Поездка не ограничилась Сербией, Бальмонт побывал также в Болгарии, Хорватии, Словении (Любляне), всюду выступая с лекциями и знакомясь с местными поэтами и учеными-славистами. В Белграде он сошелся с профессором А. Беличем, в Софии — с профессором Е. Димитровым (он же — один из крупнейших болгарских поэтов), в Любляне — с профессором Н. Преображенским. Поездка заняла март, апрель, май, июнь. Как всегда, в это время он писал стихи, занимался переводами, выступая перед широкой аудиторией, читал свои стихи на русском языке и находил понимание у слушателей-славян. Наибольшим успехом поэт пользовался в Болгарии.
Результатом работы последних лет и поездки в славянские страны стали три книги: в Белграде вышел поэтический сборник Бальмонта «В раздвинутой дали. Поэма о России» (1929, на обложке — 1930), в Софии — сборник его переводов «Золотой сноп болгарской поэзии» (1930) и книга очерков о славянских поэтах «Соучастие душ» (1930).
Подзаголовок книги «В раздвинутой дали» — «Поэма о России» — вызвал недоумение у Георгия Адамовича: «Я добросовестно искал в книге поэмы, но, к сожалению, ее не нашел» (Последние новости. 1930. 27 марта), как и у Глеба Струве: «…это не поэма в обычном смысле слова» (Россия и славянство. 1930. 29 марта). Видимо, Бальмонт вкладывал в определение «поэма» свой собственный смысл, идущий не столько от жанра поэмы, сколько от ее пафоса, восходящего к древним героико-историческим произведениям («Илиада», «Махабхарата», «Песнь о Нибелунгах»).
Сквозной мотив этой самой «русской» книги поэта — мечта о возвращении «в Отчий Дом». Он звучит уже в первом стихотворении-запеве «Уйти туда»:
Уйти туда, где бьются струи, знакомый брег, Где знал впервые поцелуи И первый снег. Где первый раз взошел подснежник На крутоем, Где, под ногой хрустя, валежник Пропел стихом. …………………………… Уйти туда — хоть на мгновенье, Хотя мечтой.Тот же мотив проскальзывает в стихотворениях «Я русский», «Над зыбью незыблемое», «Зарубежным братьям» и особенно, как исток запева, в «Здесь и там»:
Здесь гулкий Париж и повторны погудки, Хотя и на новый, но ве́домый лад. А там на черте бочагов — незабудки, И в чаще — давнишний алкаемый клад. Здесь вихри и рокоты слова и славы, Но душами правит летучая мышь. Там в пряном цветенье болотные травы, Безбрежное поле, бездонная тишь. Здесь вежливо-холодны к бесу и к Богу, И путь по земным направляют звездам. Молю Тебя, Вышний, построй мне дорогу, Чтоб быть мне хоть мертвым в желаемом там.В 1900-е годы Бальмонт сотворил миф о себе — «стихийном гении», «избранном, мудром, посвященном». В новой книге по-прежнему пробивается мотив избранничества — в стихотворениях «Семизвездие», «Водоворот», «Судьба» («Судьба дала мне, в бурях страсти, / Вскричать, шепнуть, пропеть: „Люблю!“ / Но я, на зыби сопричастий, / Брал ветер кормчим к кораблю…»). И вместе с тем у вечного «огнепоклонника», «многобожника» — «И не знаю, дойду ли до Бога» («Одной») — появились новые черты:
Я русский, я русый, я рыжий. Под солнцем рожден и возрос. Не ночью. Не веришь? Гляди же В волну золотистых волос. Я рыжий, я русый, я русский. Я знаю и мудрость и бред. Иду я — тропинкою узкой, Приду — как широкий рассвет. (Я русский)Здесь прежде всего останавливает внимание неожиданный для Бальмонта образ: «Иду я — тропинкою узкой…», невольно отсылающий к словам Христовым: «…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 14). И может показаться, что поэт «находит их». Однако мотив избранничества вновь берет верх, и в стихотворении «Я» разговор с «Вышним» идет уже на ином языке: «Пребудь лобзаемой, Господь, рука твоя, / Дозволь мне полностью пройти твой мир безбрежный».
Бальмонт снова (после поэмы «Белый Лебедь» из книги «Хоровод времен») пытается воспроизвести в «Поэме о России» свою «родословную», в которой элементы автобиографизма причудливо переплетаются с мифотворчеством. Так, в стихотворении «К казакам», обнаружив общие корни с «властителями вольных степей», Бальмонт с гордостью восклицает:
Бесстрашным был ратником, смелый, Мой прадед, херсонец, Балмут.Однако в другом стихотворении «Морской сказ» (с посвящением «Людасу Гире и всем друзьям в Литве») Бальмонт называет своим предком неведомого прибалтийца Вельмуда:
Молился предок мой! И к Утренней Звезде Не он ли песнь пропел, под именем Вельмуда…И наконец, в венке сонетов «Имя-знаменье» ведет свою родословную от мифических пращуров: «Баал и Бэл был пламень Вавилона… <…>/ А Монту — бог Луны, бог нежных чар… <…> / Бальмунгом звался светлый меч Зигфрида…»
Лучшие автобиографические стихи в книге «В раздвинутой дали» навеяны воспоминаниями детства, мифотворчество в них отступает на второй план, поэт отдает дань любви и благодарности родителям. В стихотворении «Мать» радостно отмечает общие черты:
Птицебыстрая, как я, И еще быстрее, В ней был вспевный звон ручья И всегда затея. ………………………… Утром, чуть в лугах светло, Мне еще так спится, А она, вскочив в седло, На коне умчится. ………………………… Сонной грезой счастье длю, Чуть дрожат ресницы. «Ах, как маму я люблю, Сад наш — сад жар-птицы!»К отцу обращается с естественными для зрелого, помудревшего человека словами сожаления и покаяния («Отец»):
О, мой единственный, в лесных возросший чащах, До белой старости, всех дней испив фиал, Средь проклинающих, среди всегда кричащих, Ни на кого лишь ты ни разу не кричал. …………………………… И я горю сейчас тоской неутолимой, Как брошенный моряк тоской по кораблю, Что не успел я в днях, единственный, любимый, Сказать тебе, отец, как я тебя люблю.В процитированных строках можно найти прямые переклички с бальмонтовским мемуарным очерком «На заре» (1929).
Показательно, что вся книга завершается венком сонетов «Основа». «Раздвинутая даль» памяти уносит Бальмонта в историческое прошлое России, в котором он хочет найти «основные» символические события: «щит Олега», «святого Сергия завет», «слово Курбского», «взор Петра и бег Мазепы», «двенадцатый год» (стихотворения «Знак», «Быль», «Русь», «Двенадцатый год» и др.). В стихотворении «Быль» поэт признается:
Чем я ближе к корню русских наших дней, Зов славянского дерзанья мне сложней.Бальмонт осознавал, что обращение к исторической тематике потребует от него эпического размаха. Возможно, называя книгу «поэмой», он думал о Гоголе (эпиграфом к стихотворению «Русь» были взяты слова из «Тараса Бульбы»), однако совсем преодолеть свой природный лиризм, конечно, не мог.
Образ России раскрывается в ее «вечном лике», духовнопросветленном, «вольном», «нежном», причем преобладающая интонация здесь уже не элегическая, а возвышенно-риторическая, «славословная»:
Узнай все страны в мире, Измерь пути морские, Но нет вольней и шире, Но нет нежней — России. (Хочу)Или:
Придет наш час. Погнутся вражьи выи. И волю слив с волной колоколов, Россия — с нами — станет — Русь — впервые. (Русь)И все же главным божеством для Бальмонта всегда была природа. Поэтому в них «даль» русской истории и «родословная» поэта растворены в космическом бытии, почти все стихотворения пронизаны духом пантеизма. В утверждении неразрывности личностного, исторического и природного начал поэт видел залог восстановления национального духа и воскресение России, прошедшей через «мутное марево»:
Верь в Солнечную Литургию, Весна лучом разит по льдам, И вешнюю вернет Россию Неизменяющим сынам. (Солнечные зарубки)Пантеистический пафос бальмонтовской книги «В раздвинутой дали» вызвал неприятие у Георгия Адамовича. «Россия для него — одна из частей прекрасного мира — и только, — писал критик. — Но после всего, что в России случилось <…> эти славословия читаешь с недоумением. Все прежнее… Русь васнецовско-билибинская».
Думается, что Г. Адамович был слишком суров к Бальмонту. «Славословия» поэта явились не простым перепевом «прежнего» — они были выстраданы, прошли через серьезные размышления о «доле» и «воле» России и собственной судьбе «блудного сына», что, может быть, наиболее ярко выражено в стихотворении «Я»:
Но, мир поцеловав и весь его крестом В четырекратности пройдя необозримый, Не как заморский гость вступаю в Отчий Дом, И нет, не блудный сын, а любяще-любимый.В название книги очерков о славянских поэтах — «Соучастие душ» — Бальмонт вкладывал широкий смысл. По его мысли, «соучастие душ» славянских народов может сыграть важную историческую роль в мире, наполнив его присущей славянам духовностью. «Славяне, — писал Бальмонт в статье „Душа Чехии“ (Россия и славянство. 1930. 12 июля), — мало изучают язык, историю и творчество братских народов. Об этом нужно глубоко сожалеть, и, во имя новых исторических путей, это равнодушие и эта рознь должны быть преодолены. Если б, взаимосочувствием, взаимосоприкосновением и взаимоподчинением, великое царство славян — внутренне сколько-нибудь объединилось, это была бы самая светлая на земле Духовная Держава».
Эти слова, сказанные поэтом более восьмидесяти лет тому назад, не потеряли своего значения и теперь. А в 1931 году в рецензии на книгу «Соучастие душ», опубликованной в газете «Россия и славянство», профессор Николай Карлович Кульман так оценил его подвижнический труд: «Никто из русских писателей не сделал так много для литературного сближения славянских миров, как К. Д. Бальмонт».
Глава десятая «СОУЧАСТИЕ ДУШ»
«Соучастие душ» в жизни и творчестве Бальмонта приобретало разные формы. Поэтический эгоцентризм сочетался у него с пониманием боли и страдания людей, с готовностью прийти на помощь. Он был наделен даром сопереживания. Может быть, наиболее ярко это проявилось в заочной дружбе с больной юной поэтессой Таней Осиповой, жившей в Финляндии. Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт назвала эту дружбу «последним романом» поэта. В ней необычным образом сказалась его влюбчивая натура.
Два года обменивались Бальмонт и Таня письмами, стихами, цветами. Проникновенные письма и стихи Бальмонта, выражавшие искреннее душевное расположение, поддерживали волю двадцатилетней девушки в борьбе за жизнь. «Год назад ей чахотка указывала скорую смерть, — рассказывал поэт историю своих отношений с Таней Осиповой. — Целый год моя любовь к ней и ее любовь ко мне заколдовали смерть. Моя воля, моя любовь побеждали ее недуг. Это я знаю из писем ее матери. И казалось, что, победив весну, она спасена. Но внезапно ей стало худо, и она закрыла глаза навсегда… Мое сердце пробито и опустошено».
Подробно эта история описана в очерке Бальмонта «Весна прошла», в котором опубликованы и некоторые стихи Тани Осиповой (Перезвоны. 1929. № 42). Несколько стихотворений поэта о Тане Осиповой вошло в сборник «В раздвинутой дали. Поэма о России».
По-своему проявилось «соучастие душ» и во взаимоотношениях Бальмонта с семейством Нобль из Бостона. Старшая дочь Лилли, одно время жившая в Петербурге и владевшая русским языком, на английском писала стихи, в них поэт уловил дарование автора. Он переводил их на русский, Лилли переводила его стихи на английский, печатала о нем статьи в бостонской газете. Однако это был не просто «обмен любезностями». Бальмонт верил в талант Лилли Нобль, у них нашлись общие интересы. В одном из писем поэт деликатно просил Лилли поискать для него в Америке «какие-нибудь интересные книги о легендах и нравах Океании <…> а также о памятниках Мексики и Майи». Он признавался: «Если бы человечество не сошло с ума <…> я бы беспрерывно путешествовал. Я видел многое, но сколько еще осталось неувиденным и непережитым, Центральная Африка, Перу, Южная Америка, Китай, Сиам, Индокитай, Южный полюс и Северный полюс. Ах, горько об этом думать. Если бы не проклятая Война и трижды проклятая Революция, я уже за эти 12 лет увидел бы все перечисленное». Внезапно в декабре 1929 года Лилли Нобль умерла. Письма поэта ее матери Лидии Львовне Нобль, в девичестве Пименовой, полны понимания ее горя и сочувствия ему. Утешая ее, он писал: «Я потерял в Лилли ласковую добрую сестру. Ее отец потерял в ней любящую дочь и верного друга. Но Вы, утратив ее, потеряли свет очей». С матерью он переписывался вплоть до ее кончины в 1934 году, их связывала память о Лилли.
Любопытен такой факт из общения с семьей Нобль. В 1927 году Бальмонт получил от Лилли пять долларов, чтобы иметь возможность купить нужные книги. Поэт, сам нуждавшийся, решил передать их в приют русских детей. Узнав об этом, Борис Зайцев написал ему: «Радостно видеть, что Вы все такой же, как лет двадцать пять тому назад, и так же обращаетесь с долларами, как некогда с русскими империалами (Вы называли их „позлащенными возможностями“)».
Между тем материальное положение самого Бальмонта почти всегда оставляло желать лучшего. В январе 1929 года он обращается к тому же Борису Зайцеву, в то время председателю Союза писателей и журналистов, с просьбой похлопотать за дочь Мирру при «дележе литературной добычи». При этом сообщает, что все они мерзнут, «совсем как в Москве после революции», а Мирра и Елена ходят в рваной одежде и худых башмаках. «Я, увы, бессилен помочь в одежной беде», — заключает поэт письмо. В книге «Воспоминания» (Париж, 1931) Надежда Тэффи с сочувственной улыбкой описывает некоторые особенности семейного быта Бальмонтов:
«Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И потому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего обещанного гонорара, он называл „убийца лебедей“. Деньги называл „звенящие возможности“.
„Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине“, — говорил он своей Елене.
Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал: „Елена была еще в своем ночном лике“.
Звенящих возможностей было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно…»
С 1929 года Америка и Европа вступили в полосу жесточайшего экономического кризиса. Кризис больно ударил по эмигрантам. «Русским очень плохо сейчас во Франции, где тоже кризис, — сообщает Бальмонт Л. Л. Нобль 19 апреля 1931 года. — Все стало случайно, шатко и трудно».
Постоянная нужда, чувство безвыходности не могли не действовать на поэта, приводили его временами в депрессивное состояние. В письме от 8 сентября 1931 года Владимиру Феофиловичу Зеелеру, генеральному секретарю Союза русских писателей и журналистов, Бальмонт жаловался: «Солнца нет. Откликов нет. Надежды — иссохшие призраки. Неведомо мысли, как жить дальше. Лишь песня осталась». Зеелер не раз оказывал финансовую помощь поэту, за что тот называл его в письмах «Душевин». Борис Зайцев вспоминал, что при встрече в 1931 году Бальмонт сказал ему, что не хочет жить, всё погибло, не нужно ему даже солнце. В статье, опубликованной в «Современных записках» (1936. № 61), он приводит слова поэта: «Я не люблю сейчас солнечного света, мне милее лунная ночь и молчание. Лишь Луну я могу признать» — и так комментирует их: «Бальмонт отказался от солнца. Он стал читать стихи. Да, это были стихи о Луне и против солнца, даже против жизни».
Мрачное настроение Бальмонта Зайцев подтверждает, цитируя в статье стихотворение «Косогор», не вошедшее ни в один сборник поэта (оно написано в декабре 1932 года):
Как пойду я на далекий косогор, Как взгляну я на беду свою в упор, Придорожные ракиты шелестят, Пил я счастье, вместе с медом выпил яд.Несмотря на приступы пессимизма, упадка воли у Бальмонта, все же нельзя сказать, что в 1930-е годы поэт не выходил из депрессии, как иногда утверждают, и в творческом отношении был бесплоден. Такие утверждения свидетельствуют о поверхностном представлении о реальной жизни Бальмонта в это время. На самом деле до 1935 года болезненные состояния безысходности у поэта были временным явлением и сменялись периодами творческой активности. Сильнейшая депрессия началась у Бальмонта в 1935 году, и даже из нее в середине 1936 года он выбрался.
Так, в 1930 году он перевел с древнерусского «Слово о полку Игореве», и его перевод был опубликован 14 июля в газете «Россия и славянство». Почти 40 лет спустя Д. С. Лихачев нашел его перевод достойным, чтобы быть включенным в книгу переводов «Слова», сделанных русскими поэтами (книга вышла в Большой серии «Библиотеки поэта»). В этом же году Бальмонт подготовил новый поэтический сборник «Северное сияние. Стихи о Литве и Руси», который в 1931 году выпустило издательство «Родник» в Париже.
Сборник вышел после того, как летом 1930 года поэт побывал в Литве (с 21 июня до 6 июля). В одном из писем он сообщал: «Литва пригласила меня, как друга и поэта Литвы, участвовать в великом празднике Музыки и Песни, в котором, кроме всех литовских поэтов, будут участвовать несколько тысяч певцов и певиц Литвы». Там Бальмонт выступал с лекциями, а 1 июля в летнем театре Ковно состоялся его литературный вечер. Отзыв о вечере, опубликованный в газете «Наше эхо» 3 июля, стоит процитировать, поскольку он дает представление о бальмонтовской манере чтения стихов: «Он, конечно, не актер. В его чтении нет декламаторской выразительности, в его дикции нет четкости. Но в его чтении есть какая-то исключительная, непередаваемая напевность. Не понятие слова, не содержание его, а образность его подчеркивал Бальмонт в своем чтении. Красота сочетания форм была руководящим законом чтения».
Слова Бальмонта «друг и поэт Литвы» из письма точно характеризуют его отношение к этой стране. Дружба эта началась давно, еще с тех пор, когда он познакомился с поэтом Юргисом Балтрушайтисом и подружился с ним. В 1908 году Бальмонт опубликовал цикл стихотворений «Литва», посвятив их другу. Стихи на литовскую тему Бальмонт писал и позднее, интересовался мифологией и фольклором Литвы. Как уже говорилось, одновременно с изучением славянских языков он заинтересовался и литовским. 7 мая 1908 года Бальмонт писал Екатерине Алексеевне: «Это древнейший язык, брат санскритского. Ни с русским, ни с польским по основе своей он никак несравним… <…> А по напевности и по страсти к мелодии гласных (по шести гласных рядом) я могу его сравнить только с самоанским. Литовский язык для меня — это сладкая загадка. Я утопаю в нем».
Осенью 1928 года Бальмонта пригласили в тогдашнюю столицу Литвы Ковно (ныне Каунас) для чтения лекций о мировой литературе, но он считал, что прежде надо овладеть языком. К тому же в то время вспыхнул конфликт между Литвой и Польшей, готовый перерасти в войну из-за земель Виленского края, отнятых Польшей в 1920 году. В этом споре поэт был на стороне Литвы, о чем свидетельствуют отзвуки тех событий в некоторых «литовских» стихотворениях «Северного сияния».
Начиная с 1928 года Бальмонт стал переводить на русский литовские народные песни и стихи современных поэтов. У него завязались близкие творческие отношения с виднейшим литовским поэтом Людасом Гирой, которого с тех пор он много переводил и с кем с 1928 года переписывался. Письма поэта впоследствии были частично опубликованы Н. К. Бруни в журнале «Вопросы литературы» (1975. № 3). Только в газете «Сегодня» было 15 публикаций бальмонтовских переводов из литовской поэзии. Кроме того, там напечатано семь его статей на литовскую тему: «Многоочитая мудрость. О литовских сказках» (1929. № 354), «Об изучении литовского языка» (1930. № 44), «За здоровье Литвы» (1931. № 25), «Литовская дайна перевоплощения» (1934. № 200) и др. По словам литовского поэта и драматурга Балиса Сруоги, который в 1930 году встречался с Бальмонтом (и, к слову, нашел его «сломленным эмиграцией, исхудавшим»), в общении с литовскими поэтами наглядно выразилась его «влюбленность в поэзию всех народов». Не случайно первый и пока единственный памятник Константину Бальмонту поставлен 14 мая 2011 года именно в Вильнюсе, усилиями родственников поэта и при поддержке министерства культуры Литвы.
Сборник «Северное сияние. Стихи о Литве и Руси» появился не только под впечатлением поездки Бальмонта в Литву, это — итог давнего увлечения поэта «янтарной страной», где, по семейным преданиям, жили его предки. В сборник включены некоторые стихотворения из книги «Птицы в воздухе», отрывок эссе из «Морского свечения», а также стихотворение «Морской сказ» из книги «В раздвинутой дали». «Северное сияние» открывалось десятью стихотворениями-сонетами Людаса Гиры, посвященными Бальмонту и им переведенными на русский язык. Певец Солнца, «второй Баян» славян воспринят в них сквозь призму «соучастия душ»: «Ты больше мне, чем друг, / Родней, чем брат».
«Опорными» в сборнике являлись первый и последний разделы — «Литва» и «Русь», в них выражена бальмонтовская идея близости двух народов.
Образ «Лесной Царевны» — Литвы создан в манере лирической идеализации. В облике «сестры любимой» Бальмонт находил органический сплав язычества и христианства, столь родственный его собственной душе:
За то, что я в христовой вере Свое язычество храню, За то, что мы чрез те же двери Ходили к вещему огню, За то, что мы к одной стихии С тобой привержены — к лесной, — Тебе поет певец России: Ты не во мне, но ты со мной. («За то, что я в христовой вере…»)Ряд стихотворений в сборнике Бальмонт посвящает литовским поэтам-друзьям: Людасу Гире, Виндасу Крэве, Казису Пуйде, «написавшему летопись дуба» Юлиану Эйсмонду, О. В. де Л. Милошу, «литвину, утонченному французскому поэту». Обращаясь к творчеству этих поэтов, Бальмонт помнит о их «странной близости» русской душе. Так, в стихотворение «Земля моя», посвященное Казису Пуйде, неожиданно входят образы из произведений Ивана Шмелева:
Из смертной тьмы восстанье наше, Ты светишь ночью, Солнце мертвых, Неупиваемая чаша.В завершающих «литовский» раздел стихотворениях слышатся нравоучительно-укоризненные интонации, адресованные Польше, поправшей законы «сестринской» дружбы народов. В стихотворении «В последний раз» Бальмонт восклицает:
Расслышь! Я указательное слово, Не брань, тебе с печалью говорю…Видимо, сам поэт сознавал неуместность подобных дидактических сентенций в лирике, поскольку несколько позднее признается:
Вселюбящей душой ввергаюсь я в смущенье, Я не пастух народов и я не пастырь стад. Лишь одного хочу я — всемерного цветенья, Люблю я только пенье, весну и мир как сад. (Златовоздух)Символом-предвестником «мира-сада» является в книге «северное сияние», осеняющее самые разные народы, — в его «разбеге пламекруга» поэт видит прообраз будущего «храма Всемирности».
Анализируя «русский» раздел «Северного сияния», критик Петр Пильский в рецензии на сборник Бальмонта отмечал: «Его чувство любви к России приобрело новый, особый оттенок» (Сегодня. 1931. № 355). Несказанная красота северной природы, затмевающая все прелести юга («Северный венец»), «великолепный наш язык» («Русский язык»), православная Пасха («Грядущая Россия»), надежда на освобождение «моей избранницы, России» «из страшного вертепа» соединяются в «Северном сиянии» с мечтами о будущей «Великой Державе» с всеобщим правом «быть вольным и счастливым»:
Все страны, что теснила зловражьей чарой уза, Литва, Суоми, много тех стран — великий круг, С Россией будут слиты лишь верностью союза Той светловольной дружбы, где с другом равен друг. (Грядущая Россия)В художественных и, возможно, утопических мечтаниях Бальмонта можно обнаружить сходство не только с пророчествами духовно близких ему поэтов (в частности, М. Волошина в «Неопалимой Купине»), но и с социальными утопиями ранней советской лирики.
Тема России в центре и небольшого (19 стихотворений) сборника «Голубая подкова. Стихи о Сибири», вышедшего в 1935 году в Америке в издательстве «Алатас», основанном Георгием Гребенщиковым (автором, напомним, многотомного романа о Сибири «Чураевы»). Уехав в 1924 году в США, Гребенщиков, будучи в дружеских отношениях с Бальмонтом, хлопотал там об издании его книги «Линия лада». Однако книга не вышла, хотя частично была оплачена. Изданием сборника «Голубая подкова» Гребенщиков, зная нужду Бальмонта, надеялся ему помочь.
Стихи, вошедшие в сборник, написаны в разное время и в разных местах, причем поэт придает особое значение хронотопу[27]. Основу «Голубой подковы» составили стихотворения, навеянные впечатлениями от путешествия по Сибири в 1916 году. Первое стихотворение, датированное 13 апреля 1916 года, было написано в Хабаровске. Тогда Сибирь показалась Бальмонту «чужой», «холодной». «Сибирь не моя страна», — писал он Екатерине Алексеевне 1 апреля 1916 года. В стихотворении, опубликованном в газете «Северный луч» 6 ноября того же года, поэт так «символизирует» эту землю:
Свободные степи И глуби, и синяя ширь. Но души здесь в склепе, И лик твой холодный, Сибирь.Позднее, в эмигрантской лирике Бальмонта 1920–1930-х годов, лик Сибири переосмысляется, включается в общий, но стальгически окрашенный контекст. Возможно, не без влияния сибирской прозы Гребенщикова появляется центральный символ нового сборника — «голубая подкова небосклона», где вечно горит «вещий пламень». Теперь «синяя ширь» Сибири, как всё утраченное, видится идеализированной:
В фиалках, в ландышах, невестна, хлебосольна. Простором исполин, великая Сибирь… (Голубая подкова)В это время Бальмонт продолжал заниматься и славянской темой. Вплоть до 1932 года в газете «Россия и славянство» печатались его переводы славянских поэтов, статьи о славянской поэзии. 30 апреля 1931 года по его инициативе состоялся большой славянский вечер (под председательством профессора Эмиля Омана). В нем участвовали Л. Савицкая, композитор Н. Черепнин, французский поэт Филеас Лебег (его, выходца из крестьян, Бальмонт особенно ценил и переводил), другие литераторы, а также артисты, русские, болгарские, сербские, чешские, польские. Однако вскоре к славянской теме Бальмонт охладел, как, впрочем, и к литовской. «Недавнее мое увлечение славянскими странами и Литвой, увы, исчерпалось», — замечал он в одном из писем и находил, что, по сравнению с Индией и Египтом, это «мелководье». Кроме того, что в его положении было немаловажно, и «заработать» на этих темах почти не удавалось. В это время он очень обижался, что подготовленные им сборники «Чешские поэты XIX–XX веков» и «Югославские народные песни (Сербия, Хорватия, Словения)» так и не вышли.
Зато порадовало Бальмонта издание в 1933 году поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», хотя и не принесшее ему никаких доходов. Это было первое издание полного текста поэмы на русском языке. Вышла поэма отдельной книгой под названием «Носящий барсову шкуру» с предисловием Бальмонта. Полный перевод поэмы был им завершен еще до отъезда во Францию. В 1920 году он написал киносценарий по поэме Руставели, но снимать картину отказались: нашли это несвоевременным. В эмиграции попытки реализовать сценарий или издать перевод ни к чему не привели. «Последние новости» 15 сентября 1938 года писали так о появлении книги: «Она бы, вероятно, до сих пор не увидела света за отсутствием средств на издание. Опубликовать русский перевод „Носящего барсову шкуру“ взял на себя — на собственный страх и риск — скромный труженик Д. Келадзе, наборщик одной из русских типографий. В течение пяти лет набирал он собственными руками поэму, отдавая ей воскресный отдых и вечера, вырывая из трудового заработка франки на покупку клише и бумаги, делая долги. В результате появилось роскошное издание с иллюстрациями акад. Зичи, сделанное любовно и тщательно. Но в эмигрантских условиях такая книга не могла ни разойтись полностью, ни окупиться. Из потраченных самоотверженным „издателем“ денег вернулась лишь небольшая часть».
Известно, что Бальмонт принимал живое участие в издании поэмы, неоднократно встречался с Давидом Келадзе (Хеладзе). Вскоре после выхода книги поэт нашел возможность переправить ее родным в Москву. В России бальмонтовский перевод под названием «Витязь в тигровой шкуре» появился в не менее роскошном издании, выпущенном издательством «Художественная литература» в 1936 году не без указания самого И. В. Сталина к 750-летию со дня рождения Руставели. Этот юбилей широко отмечался в Советской стране. Известно, что с предложением издать поэму Руставели и с просьбой от имени Нины Константиновны Бруни-Бальмонт (дочери поэта) помочь переводчику к Сталину обращался его старый знакомый, ученый и общественный деятель В. А. Сванидзе. Издание состоялось. Однако на вопрос автора настоящей книги к Нине Константиновне о гонораре был получен ответ, что ни Бальмонт, ни его московская семья вознаграждения не получили.
Осенью 1932 года, по окончании курортного сезона, Бальмонт покинул Капбретон и больше ни разу уже не побывал на берегу Океана. Прекратились и его публикации в рижской газете «Сегодня» с пометкой «Письмо из Франции» (в первой половине 1920-х годов присылаемые им материалы публиковались как «Письма из Парижа»), Чаще всего это были очерки, эссе, заметки, иногда включавшие стихи, с личными впечатлениями и размышлениями.
Бальмонт поселился в пригороде Парижа Кламар, сняв скромную двухкомнатную квартиру. Отсюда, при необходимости, он выезжал в столицу.
Согласно данным «хроники» в книге «Русское зарубежье», которая упоминалась выше, Бальмонт, живя в Кламаре, принимал деятельное участие в литературной жизни русской эмиграции в Париже. Приведем некоторые факты.
26 мая 1932 года — доклад М. И. Цветаевой «Искусство при свете совести», среди приглашенных оппонентов (Г. Адамович, Н. Оцуп, С. Волконский, М. Слоним) значится и Бальмонт.
14 марта 1933 года — вечер поэзии, устроенный журналом «Числа». Среди выступающих назван Бальмонт, наряду с З. Гиппиус, Д. Мережковским, Г. Адамовичем, А. Ладинским, Ю. Терапиано и др.
6 мая — вечер Бальмонта с его вступительным словом «Как возникает стих (Стих и музыка — слияние двух начал. Руставели. Гоголь. Мицкевич. Достоевский о слове и музыке. Власть стиха)». Во втором отделении — стихи о любви, новые стихи (из неизданной книги «Светослужение»), песни о родине.
21 мая — литературный вечер, приуроченный к пятидесятилетней годовщине со дня смерти И. С. Тургенева. Вступительные слова Б. Зайцева и А. Ремизова, чтение произведений Тургенева, выступления писателей, в том числе выступление Бальмонта на тему «Тургенев как поэт» (напечатанное как статья в «Последних новостях» 15 июня 1933 года).
28 ноября — чествование лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина, устроенное редакцией газеты «Россия и славянство» и другими организациями. С поздравительным словом среди других выступил Бальмонт.
24 апреля 1934 года — лекция Бальмонта «Любовь и ненависть — два в сердце острия» (Испания, Россия, архаический Восток, классическая Эллада, итальянское и грузинское средневековье).
3 ноября — вечер, посвященный поэзии 1934 года. Бальмонт назван в ряду поэтов, читающих свои новые стихи (З. Гиппиус, Г. Иванов, Н. Оцуп, Ю. Терапиано, Б. Поплавский и др.).
26 февраля 1935 года — собрание Пушкинского комитета, образованного к столетней годовщине гибели А. С. Пушкина. Бальмонт присутствует как член комитета.
Конечно, по сравнению с первым пятилетием парижской эмигрантской жизни поэт был не так активен, возможно, и не так привлекателен, но серьезные литераторы, такие как И. Шмелев, М. Цветаева, Г. Струве, некоторые другие, не спешили списывать его в архив. Сам он, как явствует из «хроники», не выключал себя из современной поэзии, интересовался новыми поэтами, теми, кто пришел в литературу после символизма. Андрей Седых вспоминал, что «Бальмонт охотно декламировал Есенина, Ахматову, Цветаеву». Часто Бальмонт оценивал поэтов с точки зрения того, чем дорожил у себя, поэтому не без гордости говорил: «…певучесть моего стиха стала общей чертой позднейших поэтов: Блока, Белого, Северянина, Кузмина, Анненского, Есенина».
По-прежнему заветной темой творчества Бальмонта оставалась Россия. На этой почве, напомним, завязалась его дружба с Иваном Сергеевичем Шмелевым. Их отношения развивались постепенно, а уже со второй половины 1920-х годов они выступали как единомышленники.
Шмелев как писатель был известен Бальмонту и до революции, но знакомство с его творчеством началось уже во Франции, когда Бунин принес ему шмелевскую повесть «Неупиваемая Чаша», написанную в 1918 году. Свои первые впечатления от чтения некоторых произведений писателя поэт выразил в статье «Золотая птица»: «Шмелев производит на меня впечатление в хорошем смысле одержимого. Что-то глубоко его поразило, и, пока он одержим этой пронзенностью, он находит сильные слова и образы. Но вот одержимость покидает его, и он становится мелководным, слова становятся ненужными и бесцветными. Отсутствует некий внутренний стержень».
«Внутренний стержень» писателя Бальмонт почувствовал лишь при близком общении со Шмелевым-человеком. Начиная с 1926 года лето и осень нескольких сезонов они провели рядом, в Капбретоне, и в 1930 году Бальмонт не без основания назвал свою статью о писателе «Шмелев, которого никто не знает» (Сегодня. 1930. № 345). В октябре 1933 года он написал статью «И. С. Шмелев (Ко дню его 60-летия)» для газеты «Последние новости», где дал проникновенную характеристику его творчества, подчеркнув главное: «Среди зарубежных русских писателей Иван Сергеевич Шмелев — самый русский». И далее обосновал свой взгляд подробно: «Шмелев великолепно изучил народный язык и душу русского крестьянина, русского работника. Когда он рассказывает о прежней Москве, о себе, о своих странствиях по России, о своей жизни во Владимирской губернии и в далеких краях русского Севера, это упоительная радость погружения в великолепную стихию русского языка. Эта особенная русскость Шмелева, сказывающаяся во всех его произведениях, создала ему большую славу не только в России». Поэт отметил, что его книги близки ему «чарами русской природы» и тем, что в них «устои, уставность исконной русской жизни, крепкий земной дух и устремленность русской души к праведному, к Божьему» — в этом «неизменное очарование и светлые достоинства писателя Шмелева».
В разные годы Бальмонт посвятил Шмелеву до двух десятков стихотворений, среди них «Неупиваемая Чаша», «Написавшему „Лето Господне“». В разных архивах хранится множество его писем писателю, в одном из них он называет Шмелева «милым, родным, Ваничкой, братом». Значение личности и творчества Шмелева для Бальмонта было велико. «С ним помнишь, что Россия вновь будет Россия», — отмечал поэт в очерке о Шмелеве в 1933 году. Взаимоотношения Бальмонта и Шмелева в эмиграции обстоятельно освещены в книге К. М. Азадовского и Г. М. Бонгард-Левина «Константин Бальмонт Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения. 1926–1936» (М., 2005).
Шмелев укреплял Бальмонта в его стремлении вернуться к исторически сложившимся устоям русской жизни, а у писателя русские устои прочно связаны с православием. Не случайно, при всем «многобожестве» Бальмонта в его стихах, посвященных Шмелеву, появляются стихотворения с названиями «Алтарь», «Подвижники Руси» и особенно показательное в этом смысле стихотворение «Церковь» (1930), в центре которого — православный храм (а не вообще храм, часто встречающийся у Бальмонта):
Душе одна в беде есть радость — Церковь! Легко вздохнуть пришедшим с ношей грусти, Синеет ладан, в сердце смотрят свечи, Иконы, гуды звонов, свет и сумрак, И радостно сияет Матерь Божья, Когда поют «Воистину воскресе!».Строку Бальмонта «Душе одна в беде есть радость — Церковь!» могли бы повторить многие его современники, прошедшие через богоискательство, поклонение кумирам, идолам и под конец жизни пришедшие «с ношей грусти» в Церковь.
В последнем письме Екатерине Алексеевне от 28 декабря 1933 года Бальмонт писал о себе: «Какой я сейчас? Да все тот же. Новые мои знакомые и даже прежние смеются, когда я говорю, сколько мне лет, и не верят. Вечно любить мечту, мысль и творчество — это вечная молодость. В этом мы одинаковы с тобой, мой милый Черноглаз. Бородка моя, правда, беловата и на висках инея довольно, но все еще волосы вьются и русые они, а не седые. Мой внешний лик все тот же, но в сердце много грусти».
Всё же кажется, что Бальмонт здесь несколько «прихорашивается». В действительности «вечной молодости» уже не было, здоровье было подорвано и многолетним пристрастием к вину (мемуаристы-эмигранты уверяют, что он пьянел от одной рюмки), и постоянной нуждой последних лет, и тоской по родине, и творческой невостребованностью, и всей тяжестью изгойного существования. Здесь и надо искать причины той депрессии, которая то сжимала его, то отпускала. В светлые моменты он запомнился тем, кто с ним встречался, необычайно интересным собеседником, поражавшим колоссальными знаниями из разных областей науки и искусства, умением увлекательно, вдохновенно рассказывать о своей жизни. Именно в такой момент просветления однажды застала Бальмонта Марина Цветаева, навестив его в Кламаре, — об этом она рассказала в «Слове о Бальмонте». В Кламаре Цветаева и Бальмонт довольно часто встречались. В сущности, оба они были одиноки в эмигрантской среде, не сжились с ней.
Весной 1935 года депрессия у Бальмонта переросла в тяжелейшую болезнь нервно-психического характера с проявлениями бреда и фантастических видений, что иногда сопровождалось приступами буйного помешательства. Елена и Нюша отчаянно боролись с его болезнью, обращались к разным врачам. Для лечения пришлось распродавать всё, что можно, даже книги, любовно собиравшиеся поэтом, а их было порядочно, на двенадцати языках.
В начале апреля Бальмонта поместили в госпиталь. Елена Цветковская писала в это время секретарю Союза писателей и журналистов Владимиру Феофиловичу Зеелеру: «Мы в беде великой и нищете полной… <…> У К. Д. нет ни одной рубашки приличной, ни новых туфель, ни пижамы — таким он попал в госпиталь… <…> Помогите вырвать из тьмы Солнечника» (письмо от 6 апреля 1935 года).
Союз принял деятельное участие в судьбе Бальмонта. В. Зеелер вспоминал, что в конце концов его удалось поместить в дорогую частную лечебницу для душевнобольных в Эпиней под Парижем. Поэт жил там в отдельном флигельке в саду. «Добрый профессор по нервным болезням, тоже эмигрант, русский, — пишет Зеелер, — больше года посещал и лечил Бальмонта… бесплатно, но содержание надо было оплачивать…<…> За время болезни все скромное имущество — обстановка, библиотека — все ушло с молотка на оплату накопившихся долгов».
В декабре 1935 года исполнилось 50 лет со дня публикации первых стихов Бальмонта в «Живописном обозрении». В Париже и других городах русского рассеяния появились статьи, подводившие итог его творческой жизни. Поэт и ведущий критик русского зарубежья Георгий Адамович, не раз придирчиво писавший о поэте, авторитетно заявил: «Кому дорога русская поэзия, тому навсегда дорого будет имя, „певучее имя“ Бальмонта» (Последние новости. 1935. 19 декабря). Владимир Зеелер в связи с юбилеем напомнил собратьям по перу о взаимопомощи: «Мы можем, должны помочь одному, должны не оставить его, поддержать, вернуть его к нам, к его песням. В этом будет наше юбилейное чествование поэта… Только захотеть — и будет вновь поэт за своей работой» (Иллюстрированная Россия. 1935. № 51).
Владимир Зеелер и Борис Зайцев проявляли постоянную заботу о Бальмонте, навещали его, изыскивали средства для лечения, обращаясь к меценатам за помощью. Зайцев 30 марта 1936 года писал И. А. Бунину о посещении знакомой меценатки: «Мы с Алдановым были на днях у А. С. Цетлин (видимо, речь идет не о А. С. Цетлин, а о Марии Соломоновне Цетлин. — П. К., Н. М.) в виде гангстеров для Бальмонта („солнечника“). Она была оч<ень> любезна и обещала послать чек Зеелеру. Но сейчас от Елены письмо: „Чека нет! А солнечник висит на волоске в лечебнице, завтра надо платить ‘монеты’…<…> Платить-то за него решительно нечем“».
Возможно, это отчаянное положение подтолкнуло писателей к проведению благотворительного вечера в пользу Бальмонта. Организацией в основном занимались Борис Зайцев, Марина Цветаева, Иван Шмелев. Вечер под лозунгом «Писатели — поэту» состоялся в зале Музея социальных наук 24 апреля 1936 года и был приурочен к пятидесятилетию литературной деятельности Бальмонта, хотя эта дата была отмечена в газетах публикациями еще в декабре прошлого года.
В программе вечера значились «Слово-приветствие Бальмонту» И. Шмелева, выступления Н. Тэффи («О магии стиха»), М. Цветаевой (о творчестве поэта); воспоминаниями о встречах с Бальмонтом поделились Б. Зайцев и журналист С. Поляков-Литовцев, А. Ремизов прочитал любимые страницы поэта из Гоголя. На вечере организовали «Фонд помощи Бальмонту», в который включили, помимо писателей, и тех, кто хорошо знал поэта: художников А. Бенуа и К. Коровина, композиторов А. Гречанинова и С. Рахманинова.
В «Слове-приветствии» Иван Шмелев говорил: «Десять лет тому назад, здесь, на чужой земле, в Париже, я, по земле ходящий, братски приветствовал словами бытовика-прозаика нашего славного Поэта Солнца. Я подошел к нему душевно, взял за руку и сказал: „Пойдем, на родину, в твое родное, во Владимирскую твою губернию, в Шуйский уезд твой“ <…> и поэт внял прозаика, и бытовик-прозаик внял поэта. <…> Я находил слова и чувства, и эти чувства были общи нам, мы поняли один другого и обнялись по-братски. <…> И мы беседуем, читаем. Он — сонеты, песни… все та же полнозвучность, яркость, но… звуки грустны, вдохновенно грустны, тихость в них, молитва. Я — „Богомолье“: приоткрываю детство, вызываю… Мы забывались, вместе шли… в далекое Святой дорогой… <…> Мы познали, что мы едины, как ни разнозвучны искания и нахождения наши».
Страстное «Слово о Бальмонте» произнесла Марина Цветаева: «На каждом бальмонтовском жесте, слове — клеймо — печать — звезда — поэта». Но «Бальмонт, — продолжала Цветаева, — кроме того, что он божьей милостью лирический поэт, — еще и великий труженик». И назвала 35 книг стихов, 20 книг прозы, более десяти тысяч печатных страниц переводов из мировой литературы не менее чем с пятнадцати языков. Свое «Слово» она заключила обращением: «Господа. Пройдут годы. Бальмонт есть литература, и литература есть история. И пусть не останется на русской эмиграции несмываемым пятном равнодушия, с которым она позволяет страдать больному великому поэту». Незадолго до возвращения на родину (в июне 1939 года) Цветаева навестила Бальмонта в последний раз.
Бальмонт поправился, вернулся к творчеству — написал книгу стихов «Светослужение», которая была им задумана в 1933 году, тогда же было написано несколько стихотворений, два появились в газете «Сегодня» (1933. № 144) под заглавием «Из книги „Светослужение“»: «Колдун» и «Верная стезя». Но в сборник «Светослужение» они не вошли, его составили исключительно новые стихи, созданные в августе 1936-го — январе 1937 года.
Книга «Светослужение» увидела свет благодаря эмигранту Всеволоду Владимировичу Обольянинову, жившему в Харбине. Он принадлежал к той части дворянской интеллигенции, которая дорожила отечественной культурой. С Бальмонтом его связывало давнее знакомство, не близкое, но памятное: он бывал в Сабынине, когда поэт находился там в ссылке. В эмиграции, узнав о тяжелой болезни Бальмонта, Обольянинов послал ему письмо с предложением издать сборник стихов.
Завязавшаяся между ними переписка дает возможность полнее представить жизнь Бальмонта после выздоровления, в период последнего творческого подъема. Письма поэта по содержанию, стилю, тону ничем не отличаются от тех, которые он писал, будучи здоровым. Они написаны четким почерком, ясны по изложению, не лишены чувства юмора. Отвечая на вопросы Обольянинова, Бальмонт сообщает некоторые биографические подробности (о родословной, произношении фамилии, отношении к революции), любопытные случаи из текущей жизни. Некоторые свои стихотворения, приложенные к письмам в машинописном виде, Бальмонт комментирует. Например, стихотворение «Давно» — о Екатерине Алексеевне Андреевой-Бальмонт: «Писать ей, — она в Москве, — ни Нинике, Нине Бруни, — в Москве же, — нельзя, — могут поплатиться — беседой в Чека. — Они благополучны. Сведения имею только окольными путями. Sapienti sat[28]». К стихотворению «Белый цветок» поэт дает такое пояснение: «Княжна 15-и лет Светлана Константиновна Шаховская-Бальмонт, дочь моей жены, княжны Дагмар Шаховской, — живет в Пасси, в Париже».
Последняя поэтическая книга К. Бальмонта «Светослужение» в силу ряда причин долгое время не привлекала внимания исследователей. Вышедшая в 1937 году в Харбине небольшим тиражом, она осталась почти неизвестной, не получив откликов в европейских и американских русских изданиях. Появились рецензии лишь в харбинской печати: в журнале «Рубеж» (1937. № 48) напечатана рецензия поэта и прозаика Наталии Резниковой, а в газете «Харбинское время» (1937. 7 декабря) — В. В. Обольянинова, воспользовавшегося псевдонимом Тотемов.
Из пятидесяти стихотворений книги в России в разных изданиях перепечатано всего лишь восемь стихотворений — все они есть в книге Бальмонта «Избранное» (М., 1980). В сборнике «Светлый час», который подготовил Вадим Крейд в 1992 году, «Светослужение» представлено семью стихотворениями. Еще 15 стихотворений были ошибочно включены издателем в раздел «Из архива» (подразумевается архив А. В. Амфитеатрова) как впервые публикуемые. По установившейся точке зрения, творческий путь Бальмонта оборвался его душевной болезнью 1935–1936 годов и ничего значительного позднее он не писал. Книга «Светослужение» опровергает это мнение — в ней отразился последний творческий подъем поэта.
Что же представляла собой книга Бальмонта? Прежде всего в ней поэт остался верен символистским принципам выстраивания лирических текстов. В одном из последних писем В. В. Обольянинову он так охарактеризовал книгу: «„Светослужение“… одна световая поэма, где один стих ведет к другому, как строфа к строфе». Несмотря на усилия издателя книги и его друзей, все же качество издания не вполне удовлетворяло Бальмонта. К тому были объективные причины: в оккупированном японскими войсками Харбине трудно было выполнить требования поэта об обязательной двойной корректуре и непременном личном прочтении верстки. Видимо, присутствовали и субъективные моменты: к пятидесяти стихотворениям, присланным Бальмонтом, Обольянинов присоединил два ранее полученных в письмах стихотворения, посвященных его дочерям Ирине и Веронике. Они стоят в книге последними и в определенной мере нарушают ее цельность. Справедливости ради надо признать, что цельность «единой световой поэмы» не вполне удалась и самому автору, некоторые вставленные им стихотворения тоже выпадают из лирического контекста «Светослужения».
Характеризуя основной эмоциональный тон книги, Обольянинов отмечал, что в ней «больше тени, чем света». Трагические интонации, появившиеся в эмигрантской лирике Бальмонта, в «Светослужении» прозвучали с особой силой:
Осень брошенная, Грусть непрошенная, Распотрошенная, Пыль — слепит!.. Где же радостная — Моя благостная, Песня сладостная? Спит… Молчит… (Осень брошенная)Бальмонтовский стиль в эмигрантский период с годами утрачивал обычную для него «цветистость», становился значительно сдержаннее, а в «Светослужении» порой настолько лапидарен, что смыкается с творческими новациями поэтов так называемой «парижской ноты»[29]. Вот, например, начало стихотворения «Ночной мотылек»:
Смерилось. Сумрак. Смерть, летая, Смотрится в окно. Смерть ли? Греза ль? Мысль? Боль? Злая? Знать нам не дано…Конечно, радикального обновления поэтики Бальмонта в «Светослужении», как и в предыдущих эмигрантских книгах, не произошло, он варьирует свои прежние символические мотивы.
Книгу, по замыслу поэта, завершало стихотворение «Солнце поющее», в котором Бальмонт сдержал известное поэтическое обещание своей молодости: «А если день угас, я буду петь… Я буду петь о Солнце в предсмертный час!» Он вновь и вновь утверждает:
Солнце, ты сон наш и ты пробужденье, Солнце, ты колокол, башня и звон. Солнце поющее — сердце — кажденье, Ты же движенье, в сверканье знамен.В «давно отзвучавшей» жизни поэта остались две точки опоры: любовь и творчество. В «грезах влюбленного сердца» лирический герой опять предстает «жаждущим Юношей» (стихотворение «Золотые просветы»). В большинстве стихотворений, воспевающих в «Светослужении» любовь, звучат два основных мотива: стремление к вечной новизне чувств и тоска по утраченной «тонкостанной» «красавице призрачных дней», которая была «желанней из всех, столь желанных моих». Образ «тонкостанной», несомненно, навеян воспоминаниями о Екатерине Алексеевне Андреевой-Бальмонт, ей посвящены стихотворения «Давно», «Но я люблю тебя…», к ним можно присоединить и стихотворение «Газель», завершающееся строками:
Где б ни был я, с тобой я сердцем вновь, Страстная меж страстных, в таинствах пленений, Ты одна моя — бессмертная любовь!Однако непостижимая «тайна любви» (стихотворение «Кветцаль») в том и состоит, что женская героиня лирики Бальмонта не может быть сведена к одному конкретному прототипу, ибо «солнечнику» необходимо —
Захватить тебя, как в плащ широковеющий, В перепутанность всех стран и всех веков, Чтобы в той голубизне, тебя лелеющей, Век была бы новой ты, я — вечно нов!Весьма показательно, что, вновь осмысляя тему творчества, Бальмонт в последней книге выделяет только два изначально близких ему имени — Пушкин и Фет.
Цикл «Памяти Пушкина», в который вошло четыре стихотворения («Как весело цветущее растенье…», «Ты слышишь в высоте паденье…», «Как иве хочется печали…», «Какою девой молодой…»), — это своего рода прощание поэта с Пушкиным и родиной:
Мне снится вечер на пруду… О, сторона моя родная! О, я опять хочу — быть — там!В смысле развития поэтом пушкинских мотивов интересно стихотворение «Лист Анчара» (три сонета), не вошедшее в цикл, но непосредственно предшествующее ему в «Светослужении». Смертоносный Анчар предстает как «горячий сердца яд», погубивший «светлорожденного» поэта:
О, я узнал, — то жгучий яд Анчара, — Так значит, я недаром был убит… Прощай, моя разбившаяся чара…Мотив «отравленности» звучит и в стихотворении «Как мы живем» с эпиграфом из Фета:
Мы так живем, что с нами вечно слава, Хмельная кровь, безумство, бред, И, может быть, в том жгучая отрава, Но слаще той отравы в мире нет.В целом «Светослужение» стало достойным итогом, поэтическим завещанием, в котором Бальмонт остался верен светлым «солнечным» началам своего мироощущения.
Эта книга, вышедшая в июле 1937 года, совпала с семидесятилетием Бальмонта, которое отмечалось в газетах русского зарубежья. «Последние новости» опубликовали статью Г. А. (Георгия Адамовича) «70-летие К. Д. Бальмонта», в которой его поэзия оценивалась с точки зрения того нового, что она внесла в литературу и в жизнь: «Люди, которые лишь в послевоенные годы начали жить, не поймут всего, что принес с собой Бальмонт головокружительного нового и почему иногда казалось, что действительно перед ним „все поэты предтечи“… <…> Была новизна тона, новизна настроений, буйный скачок от чеховской сумеречной меланхолии к радостному слиянию со всем безграничным миром, было живущее в каждой бальмонтовской строке утверждение о мире, который „должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить!“. Бальмонт не писал стихов, Бальмонт пел песни, и ликующий голос его слушала вся Россия… <…> Нельзя забыть волны, которая как будто несла Бальмонта на своем гребне и обещала всей стране „весну“, по-разному каждым толкуемую». Юбилей Бальмонта отмечался и в Харбине, где прошел литературный вечер в честь поэта. Переписка Бальмонта с Обольяниновым оборвалась в январе 1938 года, когда поэт снова заболел. Ответное письмо к издателю написано уже Е. К. Цветковской.
Следует сказать, что в 1937 году, юбилейном для Бальмонта, широко отмечалось столетие со дня гибели русского национального гения А. С. Пушкина. Именно к этой дате Бальмонт создал цикл стихов «Памяти Пушкина», который до «Светослужения» был напечатан в однодневной газете «Пушкин», выпущенной в Париже к печально памятной дате. Весьма показательно, что последний этап творчества поэта прошел под знаком Пушкина.
С января 1937 года Бальмонт жил в городе Нуази-ле-Гран (департамент Сена и Уаза), расположенном недалеко от Парижа. О последнем, шестилетнем периоде его жизни известно очень мало. Сначала он поселился в Русском доме — своего рода общежитии для бедных русских эмигрантов, организованном матерью Марией (поэтессой Елизаветой Юрьевной Кузьминой-Караваевой), которая была известна благотворительной деятельностью, а во время фашистской оккупации Парижа стала активной участницей французского Сопротивления и погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк.
Жил Бальмонт на весьма скромную «сербскую пенсию» и пожертвования. Так, грузинские рабочие завода «Пежо» собрали и послали больному поэту в сентябре 1938 года 415 франков, помня о нем как о переводчике Руставели. В 1939 году, узнав о тяжелом положении Бальмонта, Бунин в письме Г. Гребенщикову сетовал: «Не думайте, что в Европе кому-нибудь нужны русские писатели. Никого не печатают и не читают даже самые русские! И „старые“ писатели живут подачками (грошовыми), и „молодые“ несут всяческий черный труд (и тоже берут подаяния с благотворительных вечеринок!). Больному (душевно) Бальмонту помогли в прошлом году щедро, но кто? Иностранцы и главное — американцы».
Жизнь в Русском доме Бальмонта удручала, к тому же здоровье его опять резко ухудшилось. Письма Елены Константиновны Цветковской Анне Николаевне Ивановой начиная с 28 января 1938 года вплоть до июля — своего рода бюллетень недугов поэта. «Состояние Бальмонта приводит меня в полное отчаяние, — жалуется Елена Цветковская Нюше 30 марта 1938 года. — Он исхудал невероятно. Почти ничего не ест».
Летом поэту стало несколько лучше. В сентябре он переехал в новое жилье неподалеку от Русского дома. 22 сентября Елена Цветковская сообщает Анне Николаевне, находящейся в больнице: «Гнездо наше очень мило». Это был двухэтажный домик в садике, наверху располагались хозяева, внизу, в двух небольших комнатах с кухней, — Бальмонты. В письме Елены Цветковской от 1 января 1939 года читаем: «Что до Поэта, то телесно он более или менее ничем не страдает… <…> Вчера он говорил, что очень бы ему хотелось узнать, живы ли Лариса, брат Александр и брат Аркадий и где они». Надо сказать, что братья Александр и Аркадий к этому времени уже ушли из жизни и были похоронены в Шуе. Братья Владимир и Михаил умерли во время Гражданской войны от сыпного тифа. Брат Дмитрий скончался в июне 1916 года в Москве и похоронен на Ваганьковском кладбище. Так что в живых к 1938 году никого из братьев не осталось. Лариса Гарелина умерла в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде.
Бальмонт давно перестал мечтать о возвращении в Россию, но мысленно всегда оставался с нею, жил памятью о ней и близких ему людях. Вместе с тем Цветковская отмечала в письмах, что его угнетает ужас перед жизнью, а также неприязнь к миру и к себе. В письме от 16 октября 1938 года она передала такой разговор с Бальмонтом: «Сегодня я спросила его, что, если бы ему предложили за миллион, ну, написать, например, свое жизнеописание, стал ли он писать. Он сказал: „Увы, как ни сладостно было бы получить миллион, я думаю, что я даже 10 страниц не мог бы написать. Или написал бы вздор. Мой мозг погиб!“ Вот эта полная потеря веры в себя более всего терзает меня и его самого, конечно».
Это было последнее письмо Елены Цветковской Нюше — через несколько дней Анна Николаевна умерла от туберкулеза. По-видимому, самое последнее письмо, написанное Бальмонтом, было обращено именно к Анне Николаевне. 23 января 1938 года Бальмонт с грустью писал ей: «Анна, Мушка, Любовь, спасибо за ласковое письмо и за милую открытку от Кати, которую возвращаю. Ты — героиня, что легла в больницу. Но для меня потерялась моя последняя связь с внешним миром. Ты была моей радостью, усладой и защитой». В лице Нюши Бальмонт потерял самого нежного, самого преданного друга. Он и Елена Цветковская выезжали из своего городка на ее похороны.
Выезды из Нуази-ле-Гран были чрезвычайно редкими, только к врачам и только вместе с Еленой, которую он боялся потерять. Елена разрывалась на части, ухаживая за больным Бальмонтом и стараясь помочь дочери, у которой один за другим рождались дети, и ее семья также бедствовала.
Жизнь Бальмонтов с годами только ухудшалась, к тому же в нее ворвались такие грозные события, как Вторая мировая война и оккупация Франции. Известно, что Бальмонт с негодованием встретил нападение Германии на Польшу, а затем аннексию Чехословакии. С захватом Югославии перестала поступать «сербская пенсия». Не на что стало жить, приобретать топливо — осенью и зимой Бальмонты мерзли — повторялось то, что в свое время они пережили в Москве.
Беспомощного, больного русского поэта немцы не трогали. Он же их ненавидел за вероломное вторжение в Россию, боль за которую не утихала у него никогда.
Большей частью поэт жил замкнуто, в собственном мире, при обострении болезни его помещали в больницу. В периоды, когда болезнь «отпускала», он мог кое-что читать из оставшихся, нераспроданных книг. Чаще читала по его просьбе Елена Константиновна — книги и его собственные стихи. Она же иногда переписывалась с Иваном Шмелевым, Борисом Зайцевым и Верой Алексеевной, его женой. Известно, что Бальмонтам помогали Якимовы — Андрей Васильевич и Марина Николаевна, простые русские люди, ставшие в 1940 году их соседями.
На запрос Иванова-Разумника о судьбе русских писателей, в том числе Бальмонта, Борис Зайцев писал ему 13 мая 1942 года: «Бальмонт совсем ramolli[30]… <…> Был в психиатрической лечебнице, его вылечили от безумия… да жизни-то в нем не осталось. То, что называется „живой труп“. Лежит целый день на постели — ужасно Елена надрывается над ним. Вот тебе и „Будем как солнце“».
По воспоминаниям Владимира Зеелера, картина физического и психического угасания Бальмонта, потеря памяти и всякой способности что-либо творить была страшной — особенно по контрасту с тем, каким его знали в былые времена.
Племянница жены Ивана Шмелева Юлия Кутырина в статье «Из переписки К. Д. Бальмонта и И. С. Шмелева» оставила описание последних часов жизни поэта, приводя воспоминания одного из близких ему людей:
«В маленькой квартире, в одной из двух комнат ее, окруженный книгами лежит умирающий поэт. Его голова с длинными седыми волосами откинута назад. Он что-то шепчет, напевает отрывки из своих стихотворений, замолкает, мучительно вспоминая, жмурится. Тогда жена его, Елена Константиновна, верная спутница, друг, раскрывает томик его стихов и читает, читает, читает… и лицо поэта просветлело, оживает, — он весь в звуках, в воспоминаниях о звуках… В этот последний вечер, вернее, в ночь под 23 декабря 42 года поэт попросил прочесть ему из книги И. С. Шмелева „Богомолье“. Это было как бы последнее паломничество поэта в Россию» (Возрождение. [Париж]. 1960. № 108).
Константин Дмитриевич Бальмонт умер 23 декабря 1942 года. Перед этим он исповедался как православный христианин. По словам Бориса Зайцева из его воспоминаний, поэт скончался «в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым. Но вот черта: этот, казалось бы язычески поклонявшийся жизни, утехам и блеску человек, исповедуясь перед кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния — считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».
Похороны Бальмонта — с отпеванием, совершенным священником из церкви при Русском доме отцом Димитрием Клепининым (вскоре погибшим в концентрационном лагере в Германии), — состоявшиеся 26 декабря, были весьма скромными. Провожали поэта русские, жившие в Нуази, в том числе добрые соседи Акимовы, помогавшие Бальмонтам; из писателей присутствовали Борис Константинович Зайцев с женой Верой Алексеевной и старый друг поэт-символист Юргис Казимирович Балтрушайтис с женой Марией Ивановной. Марина Николаевна Акимова так передает слова отца Димитрия, произнесенные у гроба Бальмонта: «Да простятся ему все прегрешения вольные и невольные, во веки веков. Ведь его прегрешения были следствием его слишком сильного стремления вперед. Он, как птица, взлетел на крыльях творчества. Еще и еще. Все выше и выше. Он горел в творчестве, в нем искал Красоту, в нем искал Правду. И главное в нем искал неустанно, всегда и везде и во всем, — дорогу к Солнцу. Мир праху твоему, дорогой Константин Дмитриевич, тебе, понявшему душой так верно Смысл жизни…»
При погребении шел дождь, в могиле, куда опускали гроб, стояла вода. Прах поэта покоится на католическом кладбище в Нуази. 12 февраля 1943 года умерла Елена Константиновна Цветковская, похоронили ее рядом с ним. Причина ее смерти та же, что и у Бальмонта, — воспаление в легких.
Усилиями Зайцевых и Балтрушайтисов на могиле сооружен памятник в виде креста с надписью по-французски: «Constantin Balmont, poéte russe (1867–1942). Helena Balmont (1880–1943)».
Некролог о смерти Бальмонта, написанный журналистом и прозаиком Владимиром Унковским, появился в «Парижском вестнике» 3 января 1943 года. Это была единственная русская газета в Париже, выходившая тогда под присмотром немцев. Большой и содержательной некрологической статьей отозвался на смерть поэта Михаил Цетлин в издаваемом им в Нью-Йорке «Новом журнале» (1943. № 5). Характеризуя вклад Бальмонта в мировую культуру, он отмечал, что сделанного поэтом достало бы не на одну человеческую жизнь, а «на целую литературу небольшого народа».
«Русская литература, русская поэзия, — признавал М. Цетлин, — были бы беднее и монотоннее без его яркой фигуры». Запомнились автору статьи поэту Амори, близко знавшему Бальмонта, и его «подлинно большие человеческие качества». «В памяти всех, знавших его, запечатлелся его высокий „башенный“ лоб, при волнении покрывавшийся красными пятнами, его карие глаза, его гордая, испанская, испанского гранда постановка головы, его немного по-детски лукавая улыбка, его быстрая прихрамывающая, „альбатросовская“ походка», — писал М. Цетлин.
Весть о смерти Константина Бальмонта пришла в Россию только в конце войны. Никакого отклика в печати не было. Не сбылось и то, что в шутливой форме завещал друзьям молодой цветущий Бальмонт в 1896 году: «Завещаю похоронить в Москве в Новодевичьем монастыре». Запись сопровождалась цитатой из Пушкина:
И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать, Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать.Поэт и ныне покоится во Франции, на «второй родине», как он ее называл.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
У поэтов эпилогов не бывает. Поэт, истинный, остается с нами навсегда. Вместо эпилога приведем стихотворные посвящения Константину Бальмонту некоторых его современников — друзей, соперников, почитателей[31]. А завершим подборку озорным, но вместе и провидческим автопортретом в стихах, которые Бальмонт опубликовал под таинственным псевдонимом «Мстислав» в рижской газете «Сегодня» в 1927 году.
Иван Бунин «Ни песен, ни солнца… О, сердце мое!..»
Посв. К. Д. Бальмонту
Ни песен, ни солнца… О, сердце мое! Ты песней звенело, ты солнцем дышало, Ты жаждало веры, чтоб верить любви… — И все навсегда, навсегда миновало… Забвенья, покоя!.. В душе тишина, Но сном благодатным забыться — нет мочи; Печально мерцает свеча до утра И медленно тянутся скорбные ночи… И только порой — на мгновенье одно — Поникнув в раздумьи в молчаньи глубоком, Я слышу — опять эта песня звучит О чем-то родимом… далеком-далеком… И только порой в ней надежду ловлю, Что ветер внезапный развеет ненастье, И дверь распахну я на солнечный блеск Для новой работы, для нового счастья! 1895Валерий Брюсов К. Д. БАЛЬМОНТУ
Вечно вольный, вечно юный, Ты как ветер, как волна, Речь твоя поет, как струны, Входит в души, как весна. Веет ветер быстролетный, И кругом дрожат цветы, Он ласкает, безотчетный, Все вокруг — таков и ты! Ты как звезды — близок к небу, Да, ты — избранный, поэт! Дара высшего не требуй! Дара высшего и нет. «Высшим знаком ты отмечен», Чти свою святыню сам, Будь покорен, будь беспечен, Будь подобен облакам. Все равно, куда их двинет Ветер, веющий кругом. Пусть туман как град застынет, Пусть обрушится дождем, И над полем, и над бездной Облака зарей горят. Будь же тучкой бесполезной, Как она, лови закат! Не ищи, где жаждет поле, На раздумья снов не трать. Нам забота. Ты на воле! На тебе ее печать! Может: наши сны глубоки, Голос наш — векам завет, Как и ты, мы одиноки, Мы — пророки… Ты — поэт! Ты не наш — ты только божий. Мы весь год — ты краткий май! Будь — единый, непохожий, Нашей силы не желай. Ты сильней нас! Будь поэтом, Верь мгновенью и мечте. Стой, своим овеян светом, Где-то там, на высоте. Тщетны дерзкие усилья, Нам к тебе не досягнуть! Ты же, вдруг раскинув крылья, В небесах направишь путь. 1902Андрей Белый К. Д. БАЛЬМОНТУ
1
В золотистой дали облака, как рубины,— облака, как рубины прошли, как тяжелые, красные льдины. Но зеркальную гладь пелена из туманов закрыла, и душа неземную печать тех огней — сохранила. И, закрытые тьмой, горизонтов сомкнулись объятья. Ты сказал: «Океан голубой еще с нами, о братья!» Не боялся луны, прожигавшей туманные сети, улыбались — священной весны все задумчиво грустные дети. Древний хаос, как встарь, в душу крался смятеньем неясным. И луна, как фонарь, озаряла нас отсветом красным. Но ты руку воздел к небесам и тонул в ликовании мира. И заластился к нам голубеющий бархат эфира.2
Огонечки небесных свечей снова борются с горестным мраком. И ручей чуть сверкает серебряным знаком. О поэт — говори о неслышном полете столетий. Голубые восторги твои Ловят дети. Говори: о безумьи миров, завертевшихся в танцах, о смеющейся грусти веков, о пьянящих багрянцах. Говори — о полёте столетий: голубые восторги твои чутко слышат притихшие дети.3
Поэт, — ты не понят людьми. В глазах не сияет беспечность. Глаза к небесам подними: с тобой бирюзовая Вечность. С тобой, над тобою она, Ласкает, целует беззвучно. Омыта лазурью, весна над ухом звенит однозвучно. С тобой, над тобою она. Ласкает, целует беззвучно. Хоть те же все люди кругом. Ты — вечный, свободный, могучий. О, смейся и плачь: в голубом как бисер, рассыпаны тучи. Закат догорел полосой, огонь там для сердца не нужен: там матовой, узкой каймой протянута нитка жемчужин. Там матовой, узкой каймой протянута нитка жемчужин. 1903Максимилиан Волошин БАЛЬМОНТ
Огромный лоб, клейменный шрамом, Безбровый взгляд зеленых глаз, — В часы тоски подобных ямам, — И хмельных локонов экстаз. Смесь воли и капризов детских, И мужеской фигуры стать — Веласкес мог бы написать На тусклом фоне гор Толедских. Тебе к лицу шелка и меч, И темный плащ — оттенка сливы; Узорно-вычурная речь Таит круженья и отливы, Как сварка стали на клинке, Зажатом в замшевой руке. А голос твой, стихом играя, Сверкает плавно, напрягая Упругий и звенящий звук… Но в нем живет не рокот лиры, А пенье стали, свист рапиры И меткость неизбежных рук, И о твоих испанских предках Победоносно говорят Отрывистость рипостов редких И рифм стремительный парад. 1915Илья Эренбург ИЗ ЦИКЛА «РОДНЫЕ ТЕНИ»
Пляши вкруг жара его волос! Не пытай, как он нёс Постами Этот легкий звенящий пламень. Но иди домой и отдай подруге Один утаенный и стынущий уголь. Когда же средь бед и горя Он станет уныл и чёрен, Скажи, но только негромко: «Прости, я сегодня видел Бальмонта…» 1915Вячеслав Иванов К. БАЛЬМОНТУ Сонет
Не все назвал я, но одно пристрастье Как умолчу? Тебе мой вздох, Бальмонт!.. Мне вспомнился тот бард, что Геллеспонт Переплывал: он ведал безучастье. Ему презренно было самовластье, Как Антигоне был презрен Креонт. Страны чужой волшебный горизонт Его томил… Изгнанника злосчастье — Твой рок! И твой — пловца отважный хмель! О, кто из нас в лирические бури Бросался наг, как нежный Лионель? Любовника луны, дитя лазури, Тебя любовь свела в кромешный ад — А ты нам пел «Зеленый вертоград». 1909Вячеслав Иванов «Бальмонт! Не юбилейный панегирик…»
Ha 6.XII.1917
Бальмонт! Не юбилейный панегирик Моя тебе, высокий брат, хвала, Ремесленник святого ремесла, Безумью песен обреченный лирик! Пал не один очередной кумирик, Что гением в свой час толпа звала, За тридцать лет: сменилось без числа На зыбкой чаше легковесных гирек. И золота литого тяжкий груз Порой ложится даром щедрых муз На правосудья чуткие качели. Но с той поры, как на весы метнул Свой жребий ты, его ничей доселе Певучей силой не перетянул. 1917Игорь Северянин БАЛЬМОНТУ
Мы обкрадены своей эпохой, Искусство променявшей на фокстрот. Но как бы ни было с тобой нам плохо, В нас то, чего другим недостает. Талантов наших время не украло. Не смело. Не сумело. Не смогло. Мы — голоса надземного хорала. Нам радостно. Нам гордо. Нам светло. С презреньем благодушным на двуногих Взираем, справедливо свысока, Довольствуясь сочувствием немногих, Кто золото отсеял от песка. Поэт и брат! Мы двое многих стоим И вправе каждому сказать в лицо: — Во всей стране нас только двое-трое Последних Божьей милостью певцов! 1927Юргис Балтрушайтис БАЛЬМОНТУ
Быть вновь уже не в здешнем цвете Судьба земли тебе дала, И копит мёд тысячелетий Твоя бездрёмная пчела… Да бодрствует твой дух безбольный В юдоли скорби, зла, обид… Досель ты — бард надменно-вольный, Отсель — молящийся друид! 1930Мстислав БАЛЬМОНТ
Он был как чайка, тоска и нежность, Как челн томленья он плыл в Безбрежность. Но псы завыли в ночном тумане, Увидя отблеск Горящих Зданий. Он был как Солнце. Одна цесарка Клохтала нежно: «Но с Солнцем жарко?» Не удивленный таким вопросом, Помчал на полюс он альбатросом. Миры хотел он замкнуть во взгляде И жил в Зеленом он Вертограде. В сонеты пролил немало мёду, Супругой сделал он всю Природу. Ах, многоликий Неосторожный! Уж возраст — зимний. Ты все тревожный? И ты всебожный! Ты невозможный! Умрешь с котомкой во мгле дорожной! 1927ИЛЛЮСТРАЦИИ
Дмитрий Константинович Бальмонт, отец поэта. 1890-е гг.
Вера Николаевна Бальмонт, мать поэта. 1880-е гг.
Костя Бальмонт. Москва
Аня Энгельгардт и Коля Бальмонт, сын поэта
Здание мужской гимназии в городе Шуе, где в 1876–1884 годах учился поэт. Ныне школа № 2 имени К. Д. Бальмонта
Памятник родителям поэта и его брату Николаю, установленный в 2010 году в Якиманне
Школа, построенная на средства матери поэта в селе Якиманна. Фото Б. А. Сидорова. 1990-е гг.
Дом Бальмонтов в Шуе на Малой Соборной улице (ныне Садовая). Фото 1960-х гг.
Общий вид центра Шуи. Конец XIX в.
Автограф стихотворения, посвященного и посланного Бальмонтом немецкому поэту, переводчику и другу Георгу Бахману. 1898 г.
Константин Бальмонт, основатель издательства «Скорпион» Сергей Поляков и художник Модест Дурнов. Москва. 1899 г.
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт, жена поэта
Константин Бальмонт. Начало 1900-х гг.
Валерий Брюсов
Юргис Балтрушайтис
Максимилиан Волошин
Обложка книги К. Бальмонта «Будем как Солнце». Художник Фидус (Г. Хеппенер). 1903 г.
Письмо из Парижа Г. Бахману: «Георг! Ты сделался совсем русским? Тебе нужно писать по три письма, чтобы получить одно? Вот, в наказание, — напоминание об утраченной нами Аркадии… С новым годом, старый друг! Не будь новым, а будь старым! Твой К. Бальмонт». 1 января 1900 г.
Открытка из Люцерна со стихотворным посланием Г. Бахману. Швейцария. 1904 г.
Дом в Париже, где останавливались Екатерина и Константин Бальмонты
Константин Бальмонт. Портрет работы Н. П. Ульянова.1909 г.
Обложки журналов «Весы» и «Золотое руно», в которых активно публиковался поэт
Портрет К. Бальмонта работы В. Серова (1905) с автографом стихотворения «Хочешь ли?» (1913)
Дом на улице Tur в Париже (второй справа), в котором жил Бальмонт с семьей в 1908–1915 годах. На первом плане отель Bellini, где часто останавливались друзья и знакомые поэта
Бальмонты в имении Плесенское близ Наро-Фоминска. Сидят в первом ряду справа налево: К. Д. Бальмонт, А. И. Иванова (Нюша), писательница А. А. Андреева — сестра жены поэта. Лето 1913 г.
К. Бальмонт. Шарж Мака
Константин Бальмонт. Портрет работы М. Сабашниковой
Силуэт К. Д. Бальмонта. Художник Е. С. Кругликова. 1915 г.(?)
Бальмонт. Рисунок М. Волошина.1910-е гг.
Поэт во время кругосветного путешествия. 1912 г.
К. Д. Бальмонт. Открытка, выпущенная в 1915 году
Константин Бальмонт с дочерью Ниной после возвращения на родину в мае 1913 года
Константин Бальмонт в 1917 году
Капбретон, центральная улица. Франция. Почтовая открытка 1920-х гг.
Париж в 1920-х годах
К. Д. Бальмонт в эмиграции. На фото надпись поэта жене: «Мидзу. 1926. 14 сентября. Кате родной и всегда любимой ее Рыжан»
Константин Бальмонт и Иван Шмелев. Капбретон
Автограф посвящения Ивану Сергеевичу Шмелеву
К. Д. Бальмонт. Фото П. И. Шумова. 1920-е гг.
К. Д. Бальмонт на острове Олерон в Бискайском заливе. Франция. 1924 г.
Дагмар Шаховская с детьми Светланой и Жоржем. Франция
Бальмонт, собирающий хворост. Капбретон. 1927 г.
К. Д. Бальмонт. Юбилейная открытка, выпущенная к 40-летию литературной деятельности. Опубликована в рижском журнале «Перезвоны» с автографом поэта: «„Перезвонам“ — Русскому голосу Неумирающей России (Шуя, Владимирской губ. 1885 — Париж. 1925)…»
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт. Москва. 1940-е гг.
Обложка книги К. Бальмонта «Северное сияние. Стихи о Литве и Руси». Париж. 1931 г.
Константин Бальмонт и Елена Цветковская. Вторая половина 1930-х гг.
Берег Марны в городе Нуази-ле-Гран, где прошли последние годы жизни поэта. Почтовая открытка
Место упокоения Константина Бальмонта и Елены Цветковской на католическом кладбище в Нуази-ле-Гран. Надпись на надгробном кресте: «Constantin Baimont, poete russe. 1867–1942. Helen Baimont. 1880–1943»
Памятный знак в честь поэта в сквере имени К. Д. Бальмонта в Нуази-ле-Гран. Фото 2005 г.
Портрет К. Бальмонта работы Ивана Львовича Бруни, опубликованный в книге поэта «Солнечная пряжа» (1989), с автографом художника: «Павлу Вячеславовичу Куприяновскому от внука поэта с благодарностью за его прекрасный труд. И. Л. Бруни. Лето 1990 г. Москва»
Из последних фотографий Константина Бальмонта. 1938 г.
Родственники, исследователи творчества и издатели поэта у памятного знака в Гумнищах: профессор Роберт Берд (США), издатель Ольга Епишева, внучатая племянница Татьяна Владимировна Петрова-Бальмонт, доцент Шуйского педагогического университета Татьяна Сергеевна Петрова, правнучатый племянник Михаил Юрьевич Бальмонт. 2011 г.
Выставка работ художника Лаврентия Бруни, правнука поэта, в Шуйском краеведческом музее имени К. Д. Бальмонта. Второй слева внук поэта Василий Львович Бруни, в центре авторы книги П. В. Куприяновский, за ним справа Н. А. Молчанова. Июнь 2001 г.
Светлана Константиновна Шаль, дочь К. Бальмонта и Д. Шаховской, с внуком поэта Василием Львовичем Бруни в шуйской школе имени К. Д. Бальмонта. Июнь 2007 г.
Памятник Константину Дмитриевичу Бальмонту, установленный в Вильнюсе в 2011 году
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. Д. БАЛЬМОНТА
1867, 3 июня — рождение К. Д. Бальмонта в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии.
1876, сентябрь — поступление на учебу в Шуйскую мужскую прогимназию.
1885, сентябрь — исключение из Шуйской прогимназии за участие в противоправительственном кружке.
Осень — знакомство с В. Г. Короленко. Поступление в гимназию города Владимира.
Декабрь — первая публикация стихотворений и переводов в журнале «Живописное обозрение»; по этой дате К. Д. Бальмонт впоследствии отмечал юбилеи своей литературной деятельности.
1886, осень — поступление на юридический факультет Московского университета.
1887, ноябрь — высылка в Шую под надзор полиции за участие в студенческих беспорядках.
1888, осень — знакомство в Шуе с Ларисой Михайловной Гарелиной. Возобновление учебы в Московском университете.
Декабрь — добровольное отчисление из Московского университета.
1889, 10 февраля — бракосочетание с Л. М. Гарелиной в Иваново-Вознесенске.
Осень — поступление в Демидовский лицей юридических наук в Ярославле.
1890, январь — выход в свет первой книги «Сборник стихотворений» в Ярославле.
13 марта — попытка самоубийства из-за сложных отношений с женой.
1891, весна — переезд в Москву.
Сентябрь — знакомство в Петербурге с Д. С. Мережковским, Н. М. Минским, З. Н. Гиппиус, установление контактов с редакцией журнала «Северный вестник».
Декабрь — рождение сына Николая.
1891–1893 — первые публикации в журналах «Артист», «Мир Божий», газете «Русские ведомости».
1892–1893 — поездки в Скандинавию и Германию.
1893 — в типографии М. М. Стасюлевича выходит двухтомник Шелли в переводе К. Д. Бальмонта.
Встреча с князем А. И. Урусовым.
Апрель — знакомство с Екатериной Алексеевной Андреевой.
1894, апрель — в Петербурге выходит в свет стихотворный сборник «Под северным небом».
Сентябрь — первая встреча с В. Я. Брюсовым.
1895 — выход в Москве книги стихов «В безбрежности». Знакомство с А. П. Чеховым.
1896, июль — развод с Л. М. Гарелиной.
Сентябрь — бракосочетание с Е. А. Андреевой. Поездка с женой во Францию, Германию, Испанию.
1897, апрель — поездка в Англию по приглашению Оксфордского университета; чтение лекций о русской литературе.
Август — путешествие в Италию.
1898, май — в Петербурге выходит книга стихотворений «Тишина», завершившая ранний период творчества поэта. Начало работы над переводами пьес Кальдерона.
1899 — установление дружеских отношений с С. Поляковым и Ю. Балтрушайтисом.
1900 — работа над статьей-лекцией «Элементарные слова о символической поэзии».
Май — в Москве выходит в свет книга стихотворений «Горящие здания».
25 декабря — рождение дочери Нины.
1901, март — публичное чтение политического стихотворения «Маленький султан».
Май — высылка К. Д. Бальмонта под надзор полиции с запрещением проживать в столичных и университетских городах.
Июнь — переезд в село Никольское Курской губернии (имение Сабашниковых). Посещение Ялты, общение с А. П. Чеховым, М. Горьким; встреча с Л. Н. Толстым в Гаспре.
Осень — жизнь в деревне Сабынино Курской губернии; знакомство с Люси Савицкой.
1902, март — поездки в Париж, Оксфорд, по городам Германии.
Осень — начало дружбы с М. А. Волошиным.
1903, зима — знакомство в Париже с Еленой Константиновной Цветковской.
Январь — возвращение в Москву; отмена властями ссылки К. Д. Бальмонта.
Июнь — в Москве выходит «звездная» поэтическая книга «Будем как Солнце».
Ноябрь — издание книги стихотворений «Только Любовь».
1904, весна — знакомство с Вячеславом Ивановым.
Издание в Москве книги статей и эссе «Горные вершины».
Декабрь — выход поэтической книги «Литургия красоты».
1905, февраль — путешествие К. Д. Бальмонта в Мексику.
Июнь — посещение США; возвращение поэта в Москву.
Осень — издание поэтической книги «Фейные сказки».
Осень — зима — публикация революционных стихотворений в газете «Новая жизнь».
1906, 1 января — выезд с семьей во Францию из-за угрозы ареста за участие в революционных событиях 1905 года.
Издание сборника «Стихотворения».
Выпуск поэтической книги «Злые чары».
1907 — издание в Париже поэтической книги «Песни мстителя», запрещенной в России. Выход в издательстве «Знание» трехтомного собрания сочинений Шелли в переводе К. Д. Бальмонта.
Декабрь — рождение дочери Мирры от Е. К. Цветковской.
1908, январь — попытка самоубийства К. Д. Бальмонта в состоянии глубокой депрессии в Брюсселе.
Весна — выход книги «Зовы древности».
Осень — издание в Петербурге поэтической книги «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные». Публикация рассказов в журналах «Русская мысль», «Золотое руно», альманахе «Шиповник».
1909, ноябрь — 1910, январь — путешествие с Е. К. Цветковской в Египет.
1910 — выход книги очерков «Змеиные цветы».
1912 — издание в Москве поэтической книги «Зарево зорь».
1912–1913 — «кругосветное путешествие» К. Д. Бальмонта в Африку, Австралию, Индонезию, Океанию, Индию.
1913, март — заочное чествование К. Д. Бальмонта по поводу 25-летия литературной деятельности в Неофилологическом обществе при Петербургском университете.
Май — возвращение К. Д. Бальмонта в Россию в связи с амнистией по случаю трехсотлетия Дома Романовых. Знакомство с А. И. Скрябиным.
1914 — выход в Петербурге поэтической книги «Белый Зодчий». Издание книги о Египте «Край Озириса».
Весна — поездка К. Д. Бальмонта в Грузию.
1914–1915 — первая поездка по России с чтением лекций и стихов.
1915 — издание в Москве статьи-лекции «Поэзия как волшебство».
1916 — выход пьес Калидасы в переводах К. Д. Бальмонта.
Апрель — поездка в Японию.
Июнь — знакомство с М. И. Цветаевой. Издание в Москве поэтической книги «Ясень. Видение Древа».
1916–1917 — турне по городам России.
1917 — выход поэтической книги «Сонеты Солнца, Меда и Луны».
Март — последняя поездка поэта на «малую родину» в Шую.
1918, май — издание брошюры «Революционер я или нет».
1920 — знакомство с Дагмарой Эрнестовной Шаховской. Выход в Москве книг «Перстень» и «Семь поэм».
25 июня — начало последней эмиграции К. Д. Бальмонта.
1921 — издание в Москве изборника «Солнечная пряжа». Выход в Париже книги «Дар земле».
1922 — издание в Москве книги «Песня рабочего молота». Выход в Париже книги «Марево».
Февраль — издание книги на французском языке «Visions solairs» («Солнечные видения») с предисловием Люси Савицкой.
Декабрь — рождение сына Жоржа от Д. Э. Шаховской.
1923 — выход в Берлине автобиографического романа «Под новым серпом» и сборника рассказов «Воздушный путь».
1924 — издание в Праге поэтической книги «Мое — Ей. Россия» и сборника очерков «Где мой дом».
1925 — рождение дочери Светланы от Д. Э. Шаховской.
1926, лето — начало дружбы с И. С. Шмелевым.
1927, апрель — июнь — поездка в Польшу и Чехию, работа над переводами Яна Каспровича.
1928, январь — совместное с И. А. Буниным «Обращение к Ромену Роллану», последнее политическое выступление К. Д. Бальмонта. Издание в Праге «Избранных стихов» Ярослава Вхлицкого в переводе К. Д. Бальмонта; выход в Варшаве «Книги смиренных» Яна Каспровича в переводе К. Д. Бальмонта.
1929 — чтение лекций в Белграде по приглашению Русского научного института. Поездки в Болгарию, Хорватию, Словению. Издание в Белграде поэтической книги «В раздвинутой дали. Поэма о России».
1930 — избрание К. Д. Бальмонта членом-корреспондентом Чешской академии наук. Выход книги о славянских поэтах «Соучастие душ». Перевод К. Д. Бальмонтом «Слова о полку Игореве».
Лето — поездка в Литву.
1931 — издание в Париже книги «Северное сияние: Стихи о Литве и Руси».
1933 — выход в Париже поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» («Носящий барсову шкуру») в переводе К. Д. Бальмонта.
1935 — издание книги «Голубая подкова. Стихи о Сибири». Тяжелая болезнь К. Д. Бальмонта, лечение в госпитале и в частной клинике.
1936, 24 апреля — благотворительный вечер в Музее социальных наук в Париже, приуроченный к пятидесятилетию литературной деятельности К. Д. Бальмонта.
1937, январь — переезд в Нуази-ле-Гран, где прошли последние годы жизни поэта.
Июль — выход в Харбине поэтической книги «Светослужение».
1942, 23 декабря — кончина Константина Дмитриевича Бальмонта.
26 декабря — погребение на кладбище в Нуази-ле-Гран.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Поэтические издания К. Д. Бальмонта
Полное собрание стихов (ПСС): В 10 т. М.: Скорпион, 1907–1914.
Сборник стихотворений. Ярославль, 1890.
Стихотворения. М., 1906.
Песни мстителя. Париж, 1907.
Зовы древности. СПб., 1908.
Зарево зорь. М., 1912.
Звенья. Избранные стихи. М., 1912.
Белый Зодчий. Таинство четырех светильников. СПб., 1914.
Ясень. Видение Древа. М., 1916.
Сонеты Солнца, Меда и Луны. Песни миров. М., 1917.
Перстень. М., 1920.
Семь поэм. М., 1920.
Дар земле. Париж, 1921.
Марево. Париж, 1922.
Песня рабочего молота. М., 1922.
Моё — Ей. Россия. Прага, 1924.
В раздвинутой дали. Поэма о России. Белград, 1929.
Северное сияние. Стихи о Литве и Руси. Париж, 1931.
Голубая подкова. Стихи о Сибири. США, 1935.
Светослужение. 1936. Август. 1937. Январь. Стихи. Харбин, 1937.
Стихотворения / Вступ. ст., сост. и прим. Вл. Орлова. Л., 1969.
Избранное. Стихотворения. Переводы. Статьи / Сост. В. Бальмонт. Вступ. ст. Л. Озерова. М., 1983.
Стихотворения / Вступ. ст., коммент. Д. Г. Макогоненко. М., 1989.
Светлый час. Стихотворения и переводы / Сост., автор предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1992.
Где мой дом. Стихотворения, художественная проза, статьи, очерки, письма / Сост., автор предисл. и коммент. В. Крейд. М., 1992.
Собрание сочинений: В 7 т. М., 2010.
Прозаические издания К. Д. Бальмонта
Горные вершины. Сборник статей. М., 1904.
Белые зарницы. СПб., 1908.
Змеиные цветы. Путевые письма из Мексики. М., 1910.
Морское свечение. СПб., 1910.
Край Озириса. Египетские очерки. М., 1914.
Поэзия как волшебство. М., 1916.
Революционер я или нет. М., 1918.
Воздушный путь. Рассказы. Берлин, 1923.
Под новым серпом. Берлин, 1923.
Где мой дом. Очерки. 1920–1923. Прага, 1924.
Автобиографическая проза / Сост., вступ. ст., прим. А. Романенко. М.,2001.
Автобиографии. Письма
Автобиографическое письмо (17 мая 1903 г.)//Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. С. А. Венгерова. М., 1915. Т. I.
Автобиография [Автограф] (27 июля 1907 г.) // Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М. Гофмана. СПб.; М., 1909.
Письма к В. С. Миролюбову / Публ. А. Б. Муратова //Литературный архив; Материалы по истории литературы и общественного движения / Под ред. К. Д. Муратовой. М.; Л., 1960. Вып. 5.
Письма Людасу Гире / Публ. Н. К. Бруни-Бальмонт// Вопросы литературы. 1975. № 3.
Из переписки М. В. и С. В. Сабашниковых с авторами / Публ. С. В. Белова // Книга: Исследования и материалы. Т. 38. М., 1979.
Письма К. Д. Бальмонта к М. А. Волошину / Публ. З. Д. Давыдова, В. П. Купченко// Памятники культуры. Новые открытия. М., 1990.
Переписка [В. Я. Брюсова] с К. Д. Бальмонтом (1904–1918) / Вступ. ст. и подг. текстов А. А. Нинова; коммент. А. А. Нинова, Р. Л. Щербакова // Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991 (Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1).
Письма К. Д. Бальмонта к Н. М. Минскому / Публ., вступ. ст. и прим. П. В. Куприяновского, Н. А. Молчановой // Русская литература. 1993. № 2.
Американские письма К. Д. Бальмонта / Публ. и вступ. ст. Ж. Шерона // Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 13.
Константин Бальмонт. Письма к Георгу Бахману //Anzeiger für slavistische philologie. — Graz / Austria [1999] В. XXVI.
Письма К. Д. Бальмонта к В. В. Обольянинову / Публ., вступ. ст. и прим. П. Куприяновского, Н. Молчановой // Вопросы литературы. 1997. № 3.
Письма К. Д. Бальмонта к Д. Шаховской / Публ. и прим. Ж. Шерона // Звезда. 1997. № 8, 9.
Письма К. Д. Бальмонта к П. Н. Милюкову / Публ. О. Коростелева, Ж. Шерона // Новый журнал [Нью-Йорк], 1999. № 214.
Письма К. Д. Бальмонта И. А. Бунину / Публ. Р. Дэвиса, Ж. Шерона // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом. М., 2002.
Азадовский К. М, Бонгард-Левин Г. М. Константин Бальмонт Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения. 1926–1936. М., 2005.
Письмо В. Г. Короленко к К. Д. Бальмонту / Публ. А. В. Храбровицкого // Молодая гвардия. 1957. № 6.
Литература о К. Д. Бальмонте
Азадовский К. М. Бальмонт Константин Дмитриевич // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
Азадовский К. М., Дьяконова Е. М. Бальмонт и Япония. М., 1991.
Аничков Е. В. Константин Дмитриевич Бальмонт // Русская литература XX века: 1890–1910 / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. М., 2000.
Анненский И. Бальмонт-лирик // Анненский И. Избранные произведения. Л., 1988.
Балтрушайтис Ю. О внутреннем пути К. Бальмонта // Заветы. 1914. № 6.
Батюшков Ф. Поэзия К. Д. Бальмонта: К 25-летию деятельности // Записки Неофилологического общества при императорском С.-Петербургском университете. 1914. Вып. VII.
Белый Андрей. Бальмонт // Белый Андрей. Луг зеленый. М., 1910.
Блок А. Бальмонт; Будем как Солнце. Только Любовь; Литургия красоты; О лирике // Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1963.
Бонгард-Левин Г. М. Индийская культура в творчестве К. Д. Бальмонта // Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы / Пер. К. Бальмонта. М.,1990.
Брюсов В. К. Бальмонт. Будем как Солнце; К. Бальмонт. Собрание стихов. Т. 1; К. Бальмонт. Литургия красоты; Новые сборники стихов (К. Д. Бальмонт «Злые чары»); Новые сборники стихов (К. Д. Бальмонт «Жар-птица»); Новые сборники стихов (К. Д. Бальмонт «Зеленый вертоград»); К. Д. Бальмонт. Хоровод времен // Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. М.,1990.
Брюсов В. Я. Дневники: 1891–1910. М., 1927.
Будникова Л. И. Творчество К. Д. Бальмонта в контексте русской синкретической культуры конца XIX — начала XX века. Челябинск, 2006.
Волошин М. А. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991.
Воспоминания о серебряном веке / Сост. и автор вступ. ст. В. Крейд. М.,1983.
Зайцев Б. О Бальмонте // Современные записки. 1936. № 61.
Иванов Вяч. К. Д. Бальмонт// Речь. 1912. 14 марта.
Иванов Вяч. О лиризме Бальмонта // Аполлон. 1912. № 3–4.
Корецкая И. В. Константин Бальмонт // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). М., 2000.
Крейд В. Поэт серебряного века // Бальмонт К. Д. Светлый час: Стихотворения и переводы. М., 1992.
Крейд В. Бальмонт в эмиграции [Предисловие] // Бальмонт К. Д. Где мой дом: Стихотворения, художественная проза, статьи, очерки, письма. М.,1992.
Куприяновский П. В. Ба́льмонт или Бальмо́нт // Литературная газета. 1992. 19 августа.
Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «Поэт с утренней душой»: Жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М., 2003.
Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. К. Д. Бальмонт и его литературное окружение. Воронеж, 2004.
Марьева М. В. Книга К. Д. Бальмонта «Будем как Солнце»: Эклектика, ставшая гармонией | Предисловие] // Бальмонт К. Д. Будем как Солнце. Книга символов. Иваново, 2008.
Молчанова Н. А. Поэзия К. Д. Бальмонта 1890-х — 1910-х годов: Проблемы творческой эволюции. М., 2002.
Молчанова Н. А. «Всю жизнь хочу создать из света, звука…» Вопросы поэтики лирики К. Д. Бальмонта. Воронеж, 2011.
Орлов Вл. Бальмонт. Жизнь и поэзия // Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969.
Петрова Т. С., Хромова С. Ю. Откроем Бальмонта. Творчество К. Д. Бальмонта в школе (На уроке и после урока). М., 2007.
Солнечная пряжа // Научно-популярный и литературно-художественный альманах. Вып. 1–6. Иваново; Шуя, 2007–2012.
Markov V. Kommentar zu den Dichtungen von K. D. Baimont: 1890–1909. Köln. Wien. 1988; Teil II: 1910–1917. Köln. Weimar.Wien. 1992.
Schneider Hildegard. Der frühe Balmont (Untersuchungen zu seiner Metaphorik). München. 1970. Band 16. (Forum Slavicum. Herausgegeben von Dmitrij Tschizewskij).
В книге использованы материалы, хранящиеся в архивах Ивановской и Владимирской областей, в РГАЛИ, рукописных отделах РГБ, НГБ, ИРЛИ, ИМЛИ.
Примечания
1
Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М. Гофмана. СПб.; М., 1909.
(обратно)2
П. Ф. Николаев (1844–1910) в 1866 году проходил по делу Д. В. Каракозова (1840–1866), совершившего покушение на Александра II 4 апреля того же года (стрелял в царя у входа в Летний сад, но промахнулся благодаря крестьянину Осипу Комисарову, по одной из версий, оттолкнувшему руку террориста); вместе с Каракозовым входил в тайное революционное общество «Организация»; Каракозов был приговорен к казни через повешение, Николаев, как и другие члены общества, — к каторге, получив восемь лет; в дальнейшем один из авторов программы эсеров. — Прим. ред.
(обратно)3
Николай Ильич Стороженко (1836–1906) — историк русской и украинской литературы, шекспировед, профессор Московского университета. — Прим. ред.
(обратно)4
Александр Федорович Онегин (1844–1925), по устойчивой версии отпрыск династической фамилии, воспитывался крестной матерью и носил ее фамилию Отто, но с двадцати двух лет подписывался фамилией любимого пушкинского героя (в 1890 году Александр III утвердил его право официально именоваться Онегиным); с 1879 года жил во Франции, в своей парижской квартире создал пушкинский музей (сын В. А. Жуковского передал ему в дар 60 пушкинских рукописей, архив и библиотеку отца), до конца жизни приобретал материалы и реликвии, связанные с Пушкиным; в 1928 году коллекция А. Ф. Онегина возвращена в Россию. — Прим. ред.
(обратно)5
См.: Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М.,1997. С. 328.
(обратно)6
Übermensch (нем.) — сверхчеловек.
(обратно)7
Бальмонт цитирует стихотворение «Бледный воздух», которое войдет в его следующую книгу «Горящие здания».
(обратно)8
Мания величия.
(обратно)9
Sin miedo (исп.) — будь без страха. Город-музей Толедо, бывшая столица Испании, славился производством стальных клинков. — Прим. ред.
(обратно)10
См.: Эллис. Русские символисты. Томск, 1996. С. 93.
(обратно)11
См., к примеру, статьи и рецензии, посвященные творчеству К. Д. Бальмонта: Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 372–375; 528–530; 534–538; 545–552; 581–584; 618–619. — Прим. ред.
(обратно)12
М. Горький с осени 1898 года являлся идейным руководителем упомянутого журнала «Жизнь» (выходил с 1897 года; с 1898-го стал органом «легальных марксистов»; в 1902-м отдельные номера выпускались в Лондоне и Женеве). В сентябре 1900 года становится руководителем петербургского издательского товарищества «Знание» (1898–1913), которое выпускало книги по естествознанию, педагогике, искусству, а также собрания сочинений и избранные произведения русских писателей демократического лагеря; при участии Горького «Знание» под этим же названием издавало сборники новейшей русской литературы того же направления (в 1904–1913 годах вышли 40 сборников). — Прим. ред.
(обратно)13
В древнегреческом эпосе Елена — покровительница моряков. — Прим. ред.
(обратно)14
См.: Топоров В. Н. Мировое древо // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 1. М.,1991.
(обратно)15
Н. И. Петровская (1879–1928) — писательница, первая жена С. А. Соколова (Кречетова), основателя издательства «Гриф». В указанное время у Брюсова и Петровской уже лет пять как развивался бурный роман — по всем законам символизма: с «демоническими соблазнами», оккультными опытами, морфием и т. д., — вылившийся у Брюсова в литературный роман из германского Средневековья «Огненный ангел» (Весы. 1907–1908); прообразом его героини, Ренаты, стала Петровская. — Прим. ред.
(обратно)16
Червяков А. И. Неизвестная рецензия И. Ф. Анненского. Лондон, 1993.
(обратно)17
Письма Бальмонта Д. Н. Анучину приведены в указанной статье Н. Новиковой «Странствующий певец».
(обратно)18
В современном написании гамелан — традиционный индонезийский оркестр; тип музицирования. — Прим. ред.
(обратно)19
См.:Жерновников В. Бальмонт и… козы //Литературная Россия. 1987. № 24. 12 июня.
(обратно)20
См.: Орлов В. Н. Жизнь и поэзия [Предисловие] // Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969 (Библиотека поэта. Большая серия).
(обратно)21
Строка отсылает к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Ангел»: «По небу полуночи ангел летел / И тихую песню он пел; / И месяц, и звезды, и тучи толпой / Внимали той песне святой…» — Прим. ред.
(обратно)22
Л. Г. Корнилов (1870–1918) 18 июля 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим русской армией, разработал программу стабилизации положения в стране (восстановление единоначалия в армии, ограничение полномочий комиссаров, запрещение митингов и забастовок вплоть до введения смертной казни в тылу, перевод военных заводов, шахт, железных дорог на военное положение и т. д.). После падения Риги при наступлении противника (21 августа) было принято решение установить во главе страны Совет народной обороны под председательством Корнилова, который начал переговоры с А. Ф. Керенским о передаче ему всей полноты власти; не добившись этого, 25 августа Корнилов возглавил вооруженное выступление против Временного правительства и направил войска на Петроград; после подавления выступления Красной гвардией и верными Керенскому войсками 2 сентября 1917 года он был арестован и заключен в тюрьму. Во время Гражданской войны Корнилов — один из организаторов Белого движения — погиб в бою под Екатеринодаром. — Прим. ред.
(обратно)23
Гидальго, идальго — дворянин, в средневековой Испании принадлежавший к кругу пришедших в упадок дворянских семей — идальгии, то есть к дворянам, «лишенным состояния, сеньорий, права юрисдикции и высоких общественных постов». После появления романа Сервантеса о Рыцаре Печального Образа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», ставшего всемирно знаменитым, слово «идальго» обрело еще одно значение — рыцарь. — Прим. ред.
(обратно)24
ARA (American Relief Administration — Американская администрация помощи) — благотворительная организация (1919–1923), созданная для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне (снабжение лекарствами и продовольствием госпиталей, рассылка продуктовых пайков). — Прим. ред.
(обратно)25
Семья американского журналиста Эдмунда Нобля (1853–1937); с 1925 года состояла в переписке с К. Д. Бальмонтом.
(обратно)26
К тому же в 1929 году разразился мировой экономический кризис (1929–1933). — Прим. ред.
(обратно)27
Хронотоп (греч. chronos — время, topos — место) — понятие, введенное в литературоведение М. М. Бахтиным для обозначения «существенной взаимосвязи временных и пространственных отношений». — Прим. ред.
(обратно)28
Для понимания достаточно (лат.).
(обратно)29
Поэтическая школа (не оформленная организационно), которая сложилась в эмиграции под впечатлением требований, предъявляемых поэзии Г. Адамовичем; приемы поэтов «парижской ноты» впервые обобщил А. Бем: приглушенные интонации, вопросительные обороты, нарочитая простота словаря, разорванный синтаксис, недоговоренность, оборванность строк. — Прим. ред.
(обратно)30
Одряхлевший (фр.).
(обратно)31
Посвящения взяты из сборника «Венок Бальмонту» (2013), составленного А. Ю. Романовым и выпущенного на родине поэта, в Иванове; в сборнике представлены стихотворения шестидесяти авторов, как ушедших, так и ныне здравствующих.
(обратно)

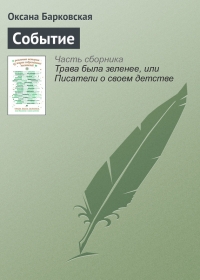


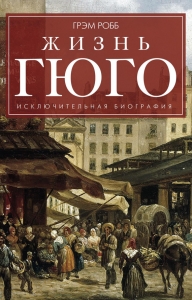



Комментарии к книге «Бальмонт », Павел Вячеславович Куприяновский
Всего 0 комментариев